Айрис Дюбуа СЛОМАННЫЙ КЛИНОК
Книга первая НАВАРРСКАЯ ИНТРИГА
Глава 1
После июльской жары снаружи, темные коридоры Лувра казались еще холоднее. Эхо шагов не умолкало под сводами, шедший позади стражник так топал, так позвякивал железом на каждом шагу, что мессиру Гийому казалось — за ним ведут коня. Да здесь и попахивало конюшней. Зато от сутаны монсеньора веяло восточными благовониями, фиолетовый шелк шуршал и струился, его преосвященство Ле Кок был щеголем. Чем пахнет от почтенного купеческого старшины и его спутников, членов магистрата, барон не улавливал, да и не стремился уловить. Простолюдин, надо полагать, соответственно и благоухает… даже если и разбогател попущением Божьим.
Гийом подавил вздох и неприязненно покосился на Марселя — тот шел не спеша, с хмурым лицом, упрямо выставив короткую черную бородку. Шел спокойно, как мог бы расхаживать по своим складам. Впрочем, не так уж он уверен в себе, если попросил, чтобы при свидании с дофином присутствовали епископ Лаонский и он сам, барон Пикиньи (ни тот ни другой приглашены не были — вызов касался лишь Марселя и нескольких эшевенов).[1]
Этьену, очевидно, захотелось лишний раз напомнить Карлу о единстве сословий, их сплоченности и единодушии. Как будто дофин не осведомлен об истинном положении вещей! Разумнее было бы не идти, но взыграла гордость — не хватало еще, чтобы эти торгаши заподозрили его в боязни бросить вызов престолонаследнику. Хотя чего тут бояться? Карл Валуа еще даже не объявлен регентом, пока он лишь дофин и герцог Нормандский. Всего-навсего! А представитель такого рода, как Пикиньи, мог явиться без приглашения и к самому королю.
Ибо род был древний, знатный, могущественный. Хотя теперь переживал упадок. В последнем поколении генеалогическое древо Пикиньи дало четыре мужских побега, из коих два явно не обещали украсить историю королевства Франции. Младший, Пьер, унаследовал небольшой феод в Аквитании[2] и таким образом оказался ленником[3] Плантагенетов; при дворе Черного принца так обангличанился, что имя свое переиначил в «Питер» и уже не стеснялся уснащать родную речь варварской саксонской божбой. Второй брат, Тибо, напротив, англичан не любил, так же как терпеть не мог и соотечественников. Прозванный Вепрем, он вел в своих нормандских владениях жизнь настолько дикую и беспутную, что соседи боялись его как чумы.
Гийом, третий брат, вырос книгочеем, подобно самому старшему. Но в отличие от Жана Гийом обзавелся еще и склонностью к политике, мнил себя большим ее знатоком. Жан, занимающий высокий, хотя и не на виду, пост в коронной администрации, общения с братьями избегал, встречаясь же изредка с Гийомом, кислым тоном выражал сдержанное удивление, каким образом тот выкрутился после очередной измены.
Тут и впрямь было чему дивиться. Мессир Гийом де Пикиньи, сьёр де Моранвиль,[4] смолоду не вылезал из интриг, и изменить было для него так же просто, как испить воды. Сохраняя верность одной стороне, он умел убедит!) противную, что на самом деле ревностно печется о ее благе; обычно ему это удавалось и, если не всегда приводило к желанной цели, во всяком случае давало приятное чувство превосходства над другими баронами, не столь искушенными в хитроумной политической игре.
А игра эта становилась все более запутанной и опасной. Прошлой осенью, когда в злополучной битве при Пуатье попал в плен добрый король Иоанн (успев незадолго до того обманом упрятать в темницу своего зятя Карла д’Эврё, короля Наваррского), мессиру Гийому пришлось сделать нелегкий выбор.
Как и многие, Пикиньи считал Наварру искусным правителем. Коварный и непомерно честолюбивый, недаром его прозвали Злым, Карл — внук Людовика Сварливого и правнук «Железного короля» Филиппа IV — открыто утверждал, что у него больше легитимных прав на верховную власть, нежели у этих бездарных отпрысков дома Валуа. «Будь моя мать мужчиной, — любил он повторять, — я, и никто другой, носил бы сейчас французскую корону».
Итак, надо было выбирать — Валуа или Эврё. Дофин был молод, неопытен, на скорое освобождение короля надеяться не приходилось; положение Наваррского дома представлялось более обнадеживающим. Карла Злого любили в Лангедоке, его поддерживало нормандское дворянство, за него горой стояли купцы и ремесленники доброго города Парижа во главе со своим старшиной Этьеном Марселем — немалая сила по нынешним диким временам, когда презренное золото оказывается крепче благородной стали. Благосклонно относился к Злому и Эдвард Плантагенет — обоим пришлось претерпеть великую обиду от пресловутого Салического закона.[5] Правда, притязания Наваррца у многих вызывали смех: бабка его, Марго Бургундская, в юности вела себя непотребно, и поди угадай, действительно ли от Сварливого родила она свою Жанну; но этот вопрос волновал мессира Гийома меньше всего. Политика есть политика. И он выбрал Наварру.
Верный своей всегдашней тактике, Пикиньи внешне оставался преданнейшим сторонником дофина, однако сумел создать видимость дружеских отношений и с депутатами от горожан, а на последних Генеральных штатах вместе с Марселем добился утверждения ордонанса,[6] сильно урезавшего королевскую власть, и настоял на учреждении комиссии из уполномоченных от сословий, которой надлежало контролировать действия дофина.
Однако тот изловчился заключить с англичанами перемирие, чем и поспешил воспользоваться в надежде сбросить унизительное иго опеки. Оповещая страну о своем успехе, дофин от имени короля Иоанна издал указ, запрещающий повиноваться Штатам и платить субсидию, собираемую их уполномоченными.
В Париже партия Этьена Марселя подняла смуту и вынудила принца издать от своего имени новый указ, в опровержение предыдущего. Провинции встретили новость с недоумением; один наместник, думая, что повинуется королю, повесил несколько горожан за то, что те отказались платить субсидию в пользу Штатов. Никто уже ничего не понимал, но все чаще раздавались голоса в пользу той стороны, которая больше освобождала от налогов. А затем начались раздоры в самой комиссии…
День за днем внутренний раскол Штатов становился все более явным: откололись дворяне и духовенство, потом от Этьена Марселя начали отходить города, недовольные его налоговой политикой. Дофин радовался этому расколу и исподтишка, пока депутаты спорили, на последние деньги собирал новую армию взамен погибшей под Пуатье…
В июле 1357 года на сторону дофина неожиданно для всех перешел самый видный из князей Церкви, архиепископ Реймсский Жан де Краон. Узнав об этом, Пикиньи задумался. Возможно, партия Наварры не столь уж сильна, если от нее отходят такие люди. Но делать было нечего, сам он уже слишком увяз в своих хитростях, и ему отходить было поздно.
Их вели долго — по мрачным, вырубленным в камне ущельям коридоров, узкими винтовыми лестницами, вверх и вниз. Эту часть дворца Пикиньи знал плохо. Однако он запрятался, этот Карл, забился как мышь в нору! Наконец у одной из дверей, глубоко врезанной в низкую стрельчатую арку, шедший впереди шамбеллан[7] остановился и сделал приглашающий жест. Двое стражников у двери отмахали алебарды, дверь протяжно запела на петлях. Монсеньор епископ с достойным видом вошел первым.
Собираясь к дофину, они в общих чертах обсудили, что и как говорить; однако говорить им не пришлось. Говорить начал дофин, и сразу стало понятно, что вызвал он их к себе отнюдь не для совета. Тощий, бледный, болезненного вида юноша с большим, нависающим над верхней губой фамильным носом Валуа (экий мозгляк, подумал Пикиньи, вспомнив рыцарственный облик Наваррца, и решил, что нет, все-таки он сделал правильный выбор) — герцог Нормандский сидел за большим, заваленным бумагами столом, лицо его было затенено бархатной шляпой, подбитые ватой плечи кафтана делали щуплую фигуру дофина более представительной. Кафтан был теплый, простеганный, Карл Валуа вечно зяб, впрочем, в скриптории тоже было прохладно — хотя в камине трещали дубовые поленья, а через два высоких, в частом свинцовом переплете окна падали косые лучи летнего солнца. Но заговорил мозгляк весьма решительно:
— …на Генеральных штатах последнего созыва я доказал, что всем сердцем стремлюсь к миру, желая положить конец вражде и раздорам между мною и мятежными городами. Господа, я дал вам большинство голосов в Большом королевском совете; по вашему требованию мои ближайшие помощники были отданы под суд, многие лишены должностей; я предоставил вам право распоряжаться государственной казной; я пошел на большие уступки и вправе был ожидать, что вы станете верно служить мне и радеть о благе королевства. Увы, сословия не оправдали моих ожиданий! Я отовсюду получаю жалобы на вашу недобросовестность. — Повысив голос, дофин поворошил свитки на столе, словно собираясь выбрать какой-нибудь и зачитать в подтверждение своих слов. — Вас обвиняют в том же, за что были отданы под суд мои чиновники: хищения, подкупы, злоупотребление властью…
Ле Кок, переглянувшись с Марселем, решительно шагнул вперед, но дофин, словно впервые заметив присутствие епископа, воззрился на него удивленно.
— Как, монсеньор, — спросил он, — вы еще в Париже? Если не ошибаюсь, еще на прошлой неделе вам был передан мой настоятельный совет удалиться в пределы своего диоцеза![8]
В таком тоне дофин говорил не часто, и Ле Кок понял, что спорить сейчас не время.
— Сир, — сказал он с достоинством, — лишь внезапный недуг помешал мне исполнить волю вашего высочества.
— Примите мои соболезнования, монсеньор. Наш лекарь, мэтр Жамблю, будет у вас нынче же вечером.
— В этом нет нужды, сир. Благодарение Господу, я уже чувствую себя почти здоровым. В сущности, я пришел лишь проститься.
— От души желаю вам доброго пути. Когда вы предполагаете отбыть из Парижа?
— Завтра, если Бог того захочет, — смиренно ответил прелат.
— Амен! — Дофин снял шляпу и набожно перекрестился. — Завтра поутру отряд моих лучников будет ждать у дверей вашей резиденции, дабы проводить до Лаона.[9] Дороги нынче небезопасны.
— Сир, вы бесконечно добры…
— А вы, мессир, — дофин обернулся к Пикиньи, — помнится, сетовали на запущенные дела в вашем феоде. Моранвиль-ан-Вексен. Я не ошибаюсь?
— Польщен превосходной памятью вашего высочества. — Пикиньи поклонился низко, но с достоинством.
— И что же удерживает в Париже вас?
— Только лишь желание быть полезным короне, сир, в столь смутное время…
— В столь смутное время лучше всего помогает короне тот, кто занимается — и хорошо занимается! — своим делом, — с расстановкой сказал дофин, переводя взгляд с Пикиньи на Этьена Марселя и его свиту. — Каждого из нас Бог предназначил для чего-то одного: будь то торговать и тем споспешествовать процветанию страны, или оборонять ее от врагов, или думать о разумном устроении государственных дел, или же, — он глянул на монсеньора Ле Кока, — предстоять у алтаря и молиться за нас, грешных. И чем прилежнее каждый занимается тем, к чему он предназначен, тем лучше идут дела у всех. В противном случае возникают смуты и общее нестроение. Господин Марсель, господа эшевены, я освобождаю вас от обязанностей членов Большого королевского совета…
Это была победа. Хотя и не окончательная, дофин это понимал. Когда Марсель и другие вышли, он устало откинулся на высокую резную спинку неудобного кресла и прикрыл глаза. Победа, несомненно, но как нелегко она ему далась! Сейчас, когда все было позади, он почувствовал вдруг, что весь дрожит. Чтобы унять дрожь рук, крепко стиснул дубовые подлокотники. Не так это просто — уметь вести себя по-королевски…
Карл Валуа бесконечно устал за этот год. Собственно, и года еще не прошло с того страшного дня, когда — после проигранной битвы, после воплей раненых и визга обезумевших коней, после лязга и скрежета железа, тошнотворного запаха пота, пыли и крови, от которой земля под копытами превращалась в багровую грязь, — сопровождавшие дофина рыцари окружили его плотным кольцом и повернули коней в сторону Шовиньи. Бежали с поля, где пехотинцы Варвика уже приканчивали раненых, где — он еще не знал об этом тогда — его отец, обезоруженный, потеряв увенчанный короной боевой шлем, уже шел пленником к шатру Черного принца. Это было 19 сентября, в День святого Генария. А теперь конец июля. Почти год лежит на его плечах невыносимое бремя власти, бремя ответственности за королевство, за Францию…
— Поздравляю, ваше высочество, — услышал дофин, — вы становитесь правителем…
Он открыл глаза. Жан де Краон — большой, грузный, с умным спокойным взглядом, — неслышно подойдя, смотрел на него с искренним одобрением. Во время аудиенции архиепископ, как было условлено, находился в соседней комнате, отделенной от скриптория тяжелой тканой завесой.
— Я хорошо говорил?
— Превосходно, сын мой.
— Монсеньор, — спросил дофин, помолчав, — почему вы покинули лагерь парижан?
— Почему? — Архиепископ, поудобнее устраиваясь в кресле, задумчиво оттопырил толстые губы. — Политика подобна шахматной игре, где важно уметь сделать правильный ход в правильно выбранный момент. Впрочем, сир, политика сложнее шахмат. Сейчас, например, на одной доске действуют сразу четыре игрока: Плантагенет, посягнувший на французскую корону; вы сами, легитимный ее наследник; Карл Наварра, столь же алчный, сколь и безумный, ибо рискует слишком многим; и, наконец, города, также, хотя и на свой манер, посягающие на власть в королевстве. Я был сторонником этой четвертой силы. Почему? Это легко объяснить, ваше высочество. Королевская администрация, каковой она была при вашем отце и каковой вы ее получили, нуждается в оздоровлении, и я полагал, что именно сословие горожан может выдвинуть из своей среды людей, способных на это…
— Марсель, Туссак, — усмехнулся дофин. — Этих вы имели в виду?
— Да, прежде всего Марселя, — спокойно ответил Жан де Краон. Это человек крупный, с умом, характером и силой воли. Однако Марсель зарвался. Этой весной, когда его партии удалось добиться стольких успехов, он должен был остановиться на достигнутом, но купеческого старшину ослепило честолюбие — он стал всерьез подумывать о «своем» короле. О короле-пешке в руках горожан.
— Меньше всего мой кузен Наварра подходит для роли пешки. И вы называете Марселя умным человеком?
— Ну, ослепление бывает и у мудрецов, а тут еще азарт… Словом, когда я разгадал замысел старшины, я понял, что он превысил ставку и теперь не может не проиграть.
— Но почему вы избрали меня, а не Наварру? Он тоже ведет родословную от Капетингов.[10]
— К счастью, лишь по материнской линии. Но, даже имей он все права, я предпочел бы ваше высочество, ибо провижу в вас качества великого государя. Кузен же ваш, хотя и одарен смелым умом, всегда будет рабом своих страстей. Руке, которая слишком легко хватается за меч, не удержать скипетра.
Дофин с сомнением повертел перед лицом растопыренными пальцами — тонкими, бледными, перепачканными в чернилах.
— А руке, которая вообще не умеет владеть мечом, — спросил он насмешливо, — удержать? Только откровенно, монсеньор, без лести.
Архиепископ Реймсский благодушно улыбнулся.
— Сир, — сказал он, — если бы я в вас не верил, меня бы сейчас здесь не было. Это ведь, знаете ли, тоже не так просто — бегать из лагеря в лагерь…
Глава 2
Выражая барону Пикиньи свое неудовольствие по поводу затянувшегося пребывания в Париже, дофин посоветовал ему заняться домашними делами, почему-то упустив случай напомнить о служебных обязанностях губернатора Артуа. Скорее всего, это означало, что дофин просто не принимает всерьез его губернаторских полномочий и уже подыскал ему замену. Мысль об этом не огорчила Гийома. Пост не был столь почетным, а уж прибыльным — и того менее. Артуа, разумеется, край богатый, и иной губернатор мог бы за короткий срок озолотиться за счет работящих северян, но мессир Гийом не был таким уж лихим мздоимцем. Да и времена, когда вилланов и горожан можно было беззаботно стричь, как фландрских овец, — увы! — миновали; уполномоченные Генеральных штатов проверяли отчетность любого должностного лица так рьяно и придирчиво, прослеживая по счетам каждый лиар,[11] что прежние контролеры королевской казны казались в сравнении с ними сущими младенцами.
Поэтому губернаторство не приносило Пикиньи ничего, кроме лишних забот, и перспектива свалить с плеч эту обузу была скорее приятной. Но пока он еще считался губернатором, нужно было хотя бы заглянуть в канцелярии, ознакомиться с общим положением дел и заодно пугануть клерков — эта братия, стоит оставить ее без присмотра, наглеет и превращается в сущую банду…
Поэтому на другой же день после аудиенции у дофина оба столпа наваррской партии покинули Париж. Робера Ле Кока выпроводили в Лаон с почетным эскортом, точнее сказать — просто под стражей, дабы зловредный прелат не вздумал снова удрать от места своего апостольского служения. Мессир Гийом выехал менее торжественно, в сопровождении лишь своей охраны, и двигался не спеша, с ночевками в Ножане, Бретейе и Амьене; к вечеру четвертого дня пути благополучно прибыли в Аррас.
Здесь он провел неделю. Клерков пуганул, насколько это отродье Сатаны вообще можно пугать, что само по себе сомнительно, ибо известно, что от долгого общения с перьями и пергаменом человеческая душа усыхает до размеров чернильного орешка и воздействовать на нее обычными способами чрезвычайно трудно. Беседуя же со своими актуариями,[12] Пикиньи сам перестал что-либо соображать и потерял всякую надежду разобраться в делах вверенного ему графства. Талья,[13] насколько он понял, вообще не собиралась, виды на урожай — хотя жатва уже закончилась — были туманны; как ни пытался он выяснить, сколько же, в конце концов, пшеницы собрано в этом году, это оставалось тайной. В утешение ему подсунули смазливую бабенку, и губернатор отдыхал душою хотя бы по вечерам. Дама Луизон, впрочем, тоже оказалась пройдохой — выманила у него два золотых экю, а за что? В Моранвиле он даром имел бы то же самое, нисколько не хуже. Мессир Гийом почувствовал приступ тоски по дому.
Люди его тоже томились в скучном провинциальном Аррасе — после Парижа здесь было не разгуляться. Губернатору принесли жалобу, что двое его арбалетчиков, а именно Пьер Пузан и Жакен Рваная Морда, учинили некое буйство в непотребном доме, после чего орали на всю рыночную площадь, что скоро-де они вызволят из темницы Карла Наварру, — уж он-то наведет порядок в королевстве, он-то разберется, кто добрый француз, а кто прихвостень злых годонов.[14] Слушая доклад бальи,[15] мессир Гийом подавил улыбку: ответить на этот вопрос Карлу д’Эврё было бы не так просто даже в отношении самого себя…
Он вызвал Морду и Пузана и, пригрозив повесить обоих за ноги, если не научатся держать язык за зубами, велел готовить лошадей и припасы в дорогу — пора было возвращаться в Моранвиль. Но в тот же день, поздно вечером, к нему прибыл гонец с приглашением от монсеньора Ле Кока.
Епископский дворец в Лаоне, расположенный рядом с собором (одним из прекраснейших в христианском мире и послужившим образцом для Жана де Шеля, зодчего собора Богоматери в Париже), был еще недостроен. В уже отделанных покоях пахло свежей штукатуркой, через раскрытые по случаю жаркой погоды окна доносились хрипение пил и ритмичный перестук каменотесов. Шум отвлекал Пикиньи, мешал сосредоточиться и обдумать то, что он только что услышал. А обдумать это нужно было очень хорошо.
— Почему, собственно, вы считаете, что Донати может симпатизировать Наварре? — спросил он.
— Не Наварре, — поправил Ле Кок. — Донати симпатизирует тому, что, как ему кажется, стоит за Наваррой. Городам, сын мой. Не забудьте, Донати — флорентиец… К тому же, насколько я мог понять, воспитанный на еретических писаниях Марсилия Падуанского. Вам не попадала в руки книжка, именуемая «Defensor Pacis»?[16] Там проводится мысль, что народ имеет якобы право избирать своих правителей и утверждать — или отвергать — издаваемые ими законы. Государство, по Марсилию, это как бы результат договора между народом и государем…
— Безумная мысль, — пожал плечами Пикиньи.
— Привлекательная, согласитесь. И именно поэтому опасная, — добавил епископ, перебирая четки. — Однако не будем сейчас вспоминать заблуждения еретика, который, благодарение Господу, уже пятнадцать лет как горит в аду. Я просто хотел объяснить вам симпатии молодого Донати. В Париже он встречался с нашим добрым старшиной, и тот, надо полагать, поделился с ним своими мыслями относительно… «короля народной милостью». Донати не был бы сыном безбожной и нечестивой Флоренции, если бы не заинтересовался таким планом. Разумеется, он может остаться лишь заинтересованным наблюдателем… Банкиры — народ хитрый, и симпатии симпатиями, а дело делом; хотя он весьма богат — а мне говорили, что Донати не уступает компаниям Барди или Толомеи, — он может не захотеть вложить в наши дела ни одного лиара. Но может и захотеть! Это уж, сын мой, зависит от нас — помочь ему… сделать выбор.
— От нас?
— Я бы выразился точнее: от вас, мессир. Пикиньи выразил на лице еще большее удивление:
— Объяснитесь, ваше преосвященство.
— Нет ничего проще! Вы славитесь обходительностью, вы умеете убеждать людей, у вас в Моранвиле прекрасные охотничьи угодья, наконец, у вас есть дочь, которая могла бы затмить многих прославленных красавиц при любом дворе…
— Этого еще не хватало! При чем тут она?
— Дамуазель Аэлис поможет вам уговорить Донати… если сами не сумеете это сделать. Не забывайте, он южанин, человек пылких страстей, такие люди легко поддаются соблазнам мира сего…
Пикиньи побагровел.
— Вы что же, мессир епископ, — не сразу выговорил он сдавленным голосом, — хотите, чтобы я уложил свою дочь в постель грязного менялы ради этого займа?! Клянусь терниями, вы храбрый человек, Робер Ле Кок!
— Не настолько, чтобы предложить вам подобную сделку, — спокойно возразил прелат. — Вы дурно истолковали мои слова. Этот молодой банкир, кстати сказать, отнюдь не «грязный меняла», воспитанием и куртуазностью он не уступит никому из придворных. Он любит охоту — почему я и упомянул о ваших охотничьих угодьях. Что касается дамуазель, то мои слова о ней отнюдь не имели того непристойного смысла, который вам угодно было в них вложить. Я лишь хотел сказать, что в присутствии женщины, которая ему нравится, мужчина более сговорчив: склонен проявлять щедрость, избегает поступков, кои могут представить его в невыгодном свете, дать повод для обвинений в трусости или чрезмерной осторожности. Такова человеческая натура, сын мой, и нужно уметь этим пользоваться — ничего другого я вам не предлагаю. Сегодня вы познакомитесь с Донати, он будет ужинать у меня. Пригласите его к себе в Моранвиль. Если откажется — придумаем что-нибудь другое, но, скорее всего, в этом нужды не будет, Донати едва ли упустит случай погостить у одного из ближайших друзей Наварры…
Время приближалось к полуночи, когда оба флорентийца вернулись к себе после ужина у монсеньора епископа. Дом богатого суконщика, давно связанного с Донати деловыми отношениями и предложившего ему свое гостеприимство на время пребывания в Лаоне, расположен был не так далеко от дворца — рядом с капеллой тамплиеров, но епископская стража с факелами проводила их до самых дверей, хотя Донати и сказал, что привык обходиться своими слугами.
— Тебя, друг Франческо, встречают и провожают как принца, — заметил Гвиничелли, когда они остались одни в отведенном им покое.
— Не меня, Джулио, а мои деньги. Ну, какое впечатление оставил у тебя этот ужин?
— Все подтверждается! Помнишь, что я тебе говорил в Париже, после беседы с Марселем? Партия Наварры некредитоспособна, и они будут просить взаймы.
— Разговора об этом пока не было…
— Он будет в Моранвиле. Ты, кстати, думаешь принять приглашение этого лицедея Пикиньи?
— Подумаем, Джулио, подумаем, — рассеянно отозвался Донати.
Подойдя к столу, где заботливая хозяйка дома оставила им легкую закуску на сон грядущий — фрукты и кувшин белого вина, — он взял с блюда гроздь винограда и стал неспешно ее общипывать.
Джулио тоже задумался, присев на подлокотник тяжелого резного кресла. Внешне схожие между собой как братья, худощавые, смуглые, черноглазые, оба друга были людьми очень разными. Это проявлялось не только в поведении и манерах — сдержанных и куртуазно-вкрадчивых у Франческо и по-южному живых у его друга, — но даже и в одежде. Сегодня, наряжаясь к ужину у прелата, Донати надел свободный, почти до коленей камзол тонкого светло-серого бархата, с короткими рукавами, из-под которых выходили другие, василькового шелка, узкие и длинные, застегнутые у запястий мелкими серебряными пуговицами. Широкий пояс чеканного серебра охватывал низко по бедрам это одеяние, несколько напоминающее древнегреческую тунику.
Костюм же Гвиничелли состоял из малиновой, с буфами на плечах, богато расшитой куртки, столь узкой и короткой, что она едва прикрывала части тела, для выставления напоказ отнюдь не предназначенные. Наряд дополняли модные «разделенные» штаны, которые лишь в этом году стали носить щеголи при дворах некоторых алеманских[17] княжеств: одна нога была ярко-оранжевой, другая фиолетовой. Острые носки «польских» башмаков были у Джулио куда длиннее, чем у Франческо, и торчали вперед на добрых пятнадцать дюймов.
Донати часто подсмеивался над пристрастием своего друга к новшествам иноземной моды. «Что делать, дорогой, — не обижаясь, говорил Гвиничелли, — будь у меня твое богатство, я тоже мог бы позволить себе роскошь одеваться скромно. За тебя говорит твое имя, а мне приходится привлекать внимание другим способом…»
Отец Джулио, неудачливый и полуразорившийся компаньон старого Донати, умер вскоре после своей жены, около двадцати лет назад. Джулио вырос вместе с Франческо (они были почти ровесники) и, со временем проявив, не в пример отцу, большие деловые способности, стал не только другом, но и ближайшим сотрудником молодого банкира. Некоторые операции он проводил за свой счет, и настолько удачно, что его скромная доля в капитале компании постепенно росла.
— «Подумаем», говоришь? — сказал он, посмеиваясь. — Пожалуй, тебе уже и думать нечего: услышав про эту, как ее… мону Аэлис, ты сразу стал похож на гончую, которая взяла след.
— А, брось ты. — Франческо зевнул и, бросив полуобщипанную гроздь обратно на блюдо, вытер пальцы о край скатерти. — Хватит с меня варварских женщин.
— Помилуй, ты не пренебрегал даже англичанками, а уж страшнее ничего не придумать.
— От скуки, Джулио, только от скуки. В такой вонючей дыре, как их Лондиниум…
— Вот и в Моранвиле будет то же самое. Думаю, это не самое веселое место.
— Да уж, воображаю. — Донати сделал гримасу. — Какая-нибудь замшелая каменная трущоба. А «прелестная дамуазель», скорее всего, окажется лупоглазой деревенской простушкой… в модном платье, которое ее прадедушка привез прабабушке из Второго крестового похода. И пахнуть от нее будет коровником и прочими буколическими прелестями.
— С другой стороны, и среди поселянок попадаются прехорошенькие. А отец, судя по всему, вряд ли станет проявлять чрезмерную строгость! — Джулио подмигнул и засмеялся.
— Скорее всего, — рассеянно сказал Франческо. — Но в Моранвиль мы все же поедем, и не ради моны Аэлис.
Здесь, Джулио, можно заработать… Если только не ошибешься, когда сделать ставку.
— Когда и на кого!
— Да, и это тоже. Но главное — когда.
— Главное, дорогой, на кого, — упрямо возразил Джулио. — К сожалению, мы с тобой расходимся в оценке Карла Валуа. На тебя он произвел впечатление тугодума, а мне показался человеком тонкого разумения.
На приеме у герцога Нормандского они были месяц назад. Узнав о любви дофина к драгоценностям (фамильная черта, которую Карл разделял со своим братом, герцогом Беррийским), Донати преподнес ему гемму редкой красоты. Дофин был польщен и беседовал с флорентийцами весьма милостиво.
— Может быть, — согласился Франческо. — Но Валуа — династия конченая. А ставя на Эврё, я ставлю на Плантагенета… Но даже не это главное. За Наваррой стоят силы, которым принадлежит будущее.
— Коммуны?
— Да, коммуны.
Гвиничелли запрокинул голову и расхохотался:
— Дорогой мой, ты говоришь о Франции так, словно это цивилизованная страна! Какие здесь коммуны? Триста лет пройдет, прежде чем эти дикари отучатся ползать на брюхе перед своими нобилями! Это тебе не Флоренция.
— Не знаю, не знаю, — задумчиво сказал Донати. — Разумеется, я не сравниваю Париж с Флоренцией. И все же… Марсель, Туссак, Майяр… в уме этим людям не откажешь, как и в опыте политической игры. И все они поддерживают Наварру. Это тебе ни о чем не говорит? Неужели, кроме тебя, чужеземца, никто из них до сих пор не разглядел, что представляет собой дофин?
— Ты забыл архиепископа Реймсского.
— Не знаю. — Донати пожал плечами. — Ошибиться, конечно, может всякий. Я вообще не уверен еще, стоит ли вкладывать деньги в это дырявое королевство. Но если стоит…
— Поддержать можно и Валуа.
— Какой смысл? Эта семейка никогда ничему не научится. Бездарные политики, они не умеют даже воевать… ведь Пуатье — точное повторение того же, что случилось под Креси!
— Военная фортуна переменчива…
— А вот глупость человеческая отличается постоянством. Где этот Моранвиль, ты не спросил?
— Туда, к морю. — Джулио кивнул на темное окно. — По дороге на Руан, около трех дней пути через Компьень. Так ты решил ехать?
— Съездим, это ни к чему не обязывает.
— Только не соглашайся сразу! Сделаем вид, что нас это не очень интересует, иногда лучше не спешить…
— А мы и не будем спешить. Все равно надо заехать в Клермонское аббатство к нашему старому клиенту — долг он пока отдавать не собирается, но приглашал навестить. Теперь-то я понимаю, почему аббат, как мне сказали в Париже, тоже поддерживает Наварру…
— Похоже, обложили нас со всех сторон, а?
— Пусть обкладывают, — усмехнулся Франческо. — Еще не родился человек, который сумеет перехитрить банкира. Почаще бы вспоминали испанскую поговорку «Полез за шерстью, а вылез остриженный».
Глава 3
Среди ночи мессира разбудил петушиный вопль — он вскочил с бьющимся сердцем, кощунственно помянул вслух врага рода человеческого и так же громко поинтересовался, каким образом окаянная птица смогла устроиться прямо под окном опочивальни. Первым порывом было позвать кого-то немедля — сказать сенешалю,[18] чтобы завтра же птичий двор был очищен от петухов. Всех до единого, разрази их гром!
Смелое решение успокоило Гийома, он снова лег, натянул на ухо легкое меховое одеяло, но петух опять заорал — на этот раз не так пугающе.
— Ори, ори, — хмыкнул барон, — скоро ты умолкнешь надолго…
Впрочем, ему уже пришло в голову, что дело с петухами надо бы обдумать получше, крайняя мера может оказаться убыточной. Без цыплят тоже не обойтись. За всеми этими соображениями сон ушел окончательно — забрезжил рассвет, от окна потянуло утренней свежестью, а мессир Гийом все еще разглядывал потолочную балку, взвешивая и перебирая в уме события последних дней.
Собственно, взвешивать было поздно. Монсеньор Ле Кок, этот викарий Сатаны, добился-таки своего — менялу пришлось пригласить, и приглашение было принято. Но с каким видом — раны Христовы! — будто принц крови оказывает внимание захудалому вальвасору…[19]
Почувствовав удушье, мессир Гийом откинул одеяло, сел в постели и потянулся к шесту с переброшенной через него одеждой. Торопливо облачившись в долгополую утреннюю рубаху, дабы не оскорблять видом наготы стоящую напротив кровати статую святого Христофора, он встал, подошел к окну и толкнул наружу массивную дубовую раму в частом свинцовом переплете. Замок уже просыпался, с хозяйственного двора слышались размеренное поскрипывание колодезного колеса, кудахтанье кур, крикливые голоса бранящихся служанок.
Глубоко вдохнув свежий утренний воздух, мессир вернулся к статуе, рассеянно перекрестившись, опустился на колени и, не утруждая себя молитвой, пробормотал вслух то, что было вырезано на каменном свитке, развернутом у ног святого: «Christophori sancti speciem quinque tuetur — isto nempe die non mala murietur».[20] Перекрестился еще раз, поднялся, покряхтывая и опираясь на пьедестал статуи. Может быть, зря он так переживает… В конце концов, что от него требуется? Принять полюбезнее этого флорентийца, съездить вместе на охоту — не такое уж беспокойство. Да и не впервой ему играть в эту игру. Мессир Гийом усмехнулся, вспомнив свою «дружбу» с парижскими эшевенами. Эти болваны действительно считают его «своим бароном»; он-то и внушил им соблазнительную мысль, что Карл Наваррский, получив корону Франции, может стать «буржуазным королем»… Если так ловко удалось провести самого Марселя, то уж польстить тщеславию флорентийского молокососа труда не составит.
Хотелось успокоиться на этой мысли, но тревога не проходила. Выругавшись сквозь зубы, мессир Гийом заходил по комнате, шлепая босыми ногами по прохладным каменным плитам пола. Спавшая возле двери борзая — его любимица Геката — подняла голову и несколько раз вопросительно ударила хвостом, видимо не понимая, что заставляет хозяина метаться из угла в угол, словно он потерял след на охоте.
Дело в Аэлис. Неприятно ее участие в затее с займом. Разумеется, страшного нет ничего, монсеньор прав: отец может приказать дочери принять гостя со всей любезностью, а ей ничего не стоит улыбнуться как-нибудь понежнее, выпить с ним из одного кубка. Да она и сама будет рада, жизнь в замке не балует развлечениями… Смешно расстраиваться из-за такого пустяка. Ну, погостит у них этот проклятый банкир, зато, если расчет окажется верным, они получат заем, необходимый сейчас не только Карлу и Ле Коку, но и ему самому… Пикиньи обвел комнату хмурым взглядом — даже тут чувствуется надвигающееся разорение. Роскошный, когда-то бархатный, балдахин над постелью поистерся, в камине давно пора заменить сломанную решетку, но свой кузнец соорудит нечто уродливое, а заказать в городе… И Аэлис одета неподобающе. В чем ей принимать итальянца?
Гийом снова заходил по комнате из угла в угол. Кровь Христова! Кто подсказал монсеньору мерзкую мысль — сделать из его дочери приманку? Ясно, за это надо благодарить ее крестного отца — досточтимого аббата Сюжера. Епископская митра ему понадобилась, старому честолюбцу! Почему не саван? Он пнул подвернувшийся табурет, Геката вскочила, подошла к хозяину и, словно успокаивая, ткнулась в руку холодным носом. Пикиньи вздохнул, рассеянно погладил собаку по узкой шелковистой морде.
А в общем, не беда. Если девчонке и придется какое-то время побыть любезной с буржуа, поделом ей. Пусть зачтет это как наказание за распущенность. Вспомнив и об этой неприятности, Пикиньи расстроился еще больше, хуже всего было признать, что он и сам виноват в ее вульгарном пристрастии к черни. Надо было отдать девочку на воспитание в монастырь, как советовал братец Жан. И этого нищего попа Мореля нельзя было оставлять в приходе, чтобы она слушала его безумные проповеди…
Сразу вспомнилось, как года два назад он попытался перевоспитывать дочь. Узнав о намерении изгнать деревенского кюре, Аэлис объявила голодовку. Четыре дня отказывалась от еды, на пятый он струсил и уступил. Да, Аэлис избаловалась; потеряв жену, умершую десять лет назад от морового поветрия, он привязался к дочери всем сердцем и стал позволять слишком многое…
К чему, скажем, было давать ей столько знаний? Движимый тщеславием, он доверил Филиппу Бертье, своему нотарию, ее обучение и даже гордился тем, что дочь будет уметь читать и даже писать; бродяга же, занимаясь грамматикой, заодно мог вбить ей в голову что угодно.
Нотария мессир Гийом подобрал в Париже, в сточной канаве, много лет назад, после большой уличной драки между школярами Сорбонны и кокийярами.[21] Он был почти уверен, что спас беглого монаха или попавшего в дурную историю легиста — слишком уж хорошо тот разбирался в законах, — и сначала пытался это выяснить, в чем не преуспел. Как-то незаметно Филипп сумел стать необходимым и с тех пор неотлучно находился при нем, исполняя обязанности нотария, а то и ближайшего советника.
Сейчас Филипп был в отъезде — отправился в Руан переписывать векселя. Еще неизвестно, перепишет ли, эти вампиры рисковать не любят…
Пикиньи хлопнул в ладоши, крикнул, не оборачиваясь:
— Эй, там!
Дверь осторожно скрипнула.
— Мыться, одеваться, — распорядился мессир. — Нотарий не вернулся еще?
— Да вроде не видать было… Хотя врать не буду, насчет нотария не спрашивал.
— Так спроси, дурак! Воды побольше, да погорячее, и пусть позовут Симона. Девкам скажи, чтобы узнали, встала ли дамуазель; если нет — разбудить немедля, и ее тоже сюда. Я вам всем!
Он был уже одет, когда Симон де Берн, начальник замковой стражи, вошел в комнату, по обыкновению не постучавшись. Начав когда-то службу в личной охране господина, Симон однажды отбил его у англичан, доблестно избавив от позорного пленения и, главное, необходимости платить выкуп. Получив за это рыцарские шпоры, Симон стал самым доверенным, после нотария, человеком в замке.
— Рад тебя видеть, друг Симон, — сказал Пикиньи.
— Приветствую вас в Моранвиле, мессир. Сожалею, что не мог сделать это вчера.
— Да, мне сказали, что у тебя там опять какая-то история с баварцами. Что они натворили на сей раз?
— Сожгли мельницу у сира де Луаньи, но это ладно…
— Ничего себе «ладно»! Он же теперь станет требовать возмещения убытков?
— Уже требует — вчера приезжал его писец и говорил нагло. Но послушайте дальше: подпалив мельницу, алеманская сволочь орала во всеуслышание, что то же самое сделают и с Моранвилем, если им, дескать, не заплатят то, что задолжали.
— Вот это, Симон, плохо. — Пикиньи горестно покачал головой. — Ты бы хоть свои веселые новости сообщал как-нибудь… мало-помалу. А сколько мы им задолжали, ты записываешь?
— Чего тут записывать, я и так знаю. Не плачено с Рождества, а на дворе что? Август!
— Ах, мерзавцы, ах, содомиты, черт меня надоумил с ними связаться… Действительно, нет хуже чумы, чем наемная солдатня, особенно из алеманских краев!
— Наши, что ли, лучше…
— Ну, не скажи, с нашими все-таки можно иной раз и договориться. А вот что делать с баварцами?
— Расплатиться, что же еще делать! Этих дикарей опасно доводить до крайности.
— А я не доведен до крайности? — крикнул Пикиньи. — Сам подумай, откуда взять столько денег? У меня их нет! Я и так кругом в долгах! Если Филипп не добьется отсрочки — мы пропали! Ладно, скажешь мерзавцам, что вскорости расплачусь. Собрать, что ли, дополнительный оброк?
— Одумайтесь, — грубо сказал де Берн. — Весной уже брали вторую талью!
— А вот это уж, друг Симон, не моя забота. Виллан для того и существует, чтобы выручать своего сеньора.
— Смотрите, как бы нас не «выручили» на баварский манер! Тут один парень пришел из-под Бовэ — там, говорит, поджоги стали обычным делом. С мужиком тоже надо быть поосмотрительнее, иначе можно и доиграться.
— Ну, это уж ты хватил! Осмотрительным надо быть в любом деле, с этим никто не спорит, но насчет «доиграться»… Не придумывай опасности там, где ее нет! Благодарение Господу, наш здешний виллан — существо смирное и привычное к разного рода тяготам; не знаю, кто там и что поджигает в Бовэзи, но у нас до этого не дойдет. Вот наемники — дело другое, от этих жди чего угодно.
Оставшись один, Пикиньи быстро заходил по комнате, стараясь успокоиться. Да как тут успокоишься? Десять отъявленных висельников, и каждому плати два су в день; в тридцать ливров ежемесячно обходится ему проклятая баварская банда…
Раздобыть где-то двести, хотя бы полтораста экю! Но у кого? Братец Тибо скорее подавится собственной шпорой, Жана просить неловко — и так уже много ему задолжал. Разве послать Бертье к этим торгашам в Париж? Ясное дело, и Марселю, и какому-нибудь Жилю ничего не стоило бы его выручить… Но нет, нет! Нельзя терять лицо; вельможа не может нуждаться в столь мизерной сумме. Гвоздь Господень! Что за подлое время, когда рыцарство нищает, а вонючие горожане разбухают от золота, словно пиявки…
Ища утешения, Пикиньи вошел в глубокую оконную нишу, наподобие узкого алькова, где хранилось в дубовом резном шкапчике главное его сокровище — библиотека, целая полка книг. Вот разве продать что-нибудь? Нет, легче расстаться с пальцем… Да и какой это выход? Продать то, что с любовью собирал годами, можно сказать, всю жизнь! Выбрав ключ из висящей на поясе связки, он открыл шкапчик и осторожно провел пальцем по корешкам. Каждый томик что-то напоминает, с каждым связано какое-то событие в жизни. Вот этот Плутарх с обгоревшими углами переплета добыт в самом начале войны в одном монастыре, где засели англичане. Там был богатый либрарий,[22] но его успели подпалить — Плутарха едва удалось выхватить прямо из пламени. А вот «Ивейн, или Рыцарь Льва», доставшийся ему от дяди, старого Жан-Гийома; тот получил книгу от благодарных еретиков Каркассона, с которыми каноник Пикиньи якшался так долго, что потом сам чуть не угодил под инквизиторский трибунал. Несколько странный подарок: духовному лицу приличнее было бы читать Блаженного Августина, нежели Кретьена де Труа. Впрочем, дядя Жан был человек со странностями, недаром нечестивые альбигойцы души в нем не чаяли… Роскошно переплетенный «Роман о Розе» Жана Ренара — часть выкупа одного английского рыцаря. Пикиньи вздохнул от зависти к самому себе, молодому и удачливому, припомнив богатую добычу: шесть тысяч экю, вот эта книга, три боевых коня и пятнадцать бочек бордосского…
Тут приятные воспоминания были нарушены: в тишине опочивальни грохнула распахнутая с налета дверь, испуганно взвизгнула собака, послышались шум падения и вскрик. Узнав голос дочери, мессир с книгой в руке выглянул из альковчика — Аэлис сидела на полу, морщась от боли и потирая колено.
— Пошла вон, разрази тебя чума! — крикнула она и замахнулась на Гекату. — Вечно разляжется под ногами, тварь, чуть шею из-за тебя не сломала! Отец, ну что это — житья уже нет от этой псарни, блох всюду полно. Мерлин третьего дня чуть не повалил меня на лестнице, а нынче ночью натащили костей мне под дверь и грызлись чуть не до утра — я думала, с ума сойду…
— Аэлис! — строго прикрикнул мессир Гийом.
Дочь поднялась, оправила юбку и подошла к нему, прихрамывая:
— Доброе утро, отец, как почивать изволили? Жаклин сказала, что вы велели прийти, да и у меня к вам дело…
Она поцеловала у него руку, скосив глаза на доверчиво подошедшую Гекату, и, изловчившись, достала ее пинком. Мессир Гийом принял строгий вид:
— Мадам,[23] у вас манеры простолюдинки! Разве вас не учили, как положено ходить девице благородного воспитания?
— Голову держа высоко, глаза опущенными, — затверженно оттарабанила Аэлис, — чтобы пол видеть в двух туазах[24] перед собой. И еще не размахивать руками.
— Ни в коем случае, — подтвердил отец. — А вы врываетесь в комнату, словно борзая в погоне за зайцем! Садись, разговор будет долгий. Кстати, забыл спросить у Симона — мэтр Филипп когда должен вернуться?
— Его ждали еще вчера, задержался, наверное…
Любопытно бы знать — почему. Пикиньи нахмурился. Что может означать эта задержка? Если бы векселя переписали, уже бы приехал. А с другой стороны, если отказано, так тоже нечего там сидеть. Может, улещивает этих кровопийц, торгуется об условиях отсрочки… Да, но это в любом случае всего лишь отсрочка! Ах, как нужен этот флорентийский заем…
Пикиньи внимательно, придирчивым взглядом оглядел дочь. Хороша, ничего не скажешь, очень хороша. Каштановые волосы отливают начищенной медью, темные живые глаза, горящее нежным румянцем круглое личико, стройная осанка, высокая грудь — откуда что взялось у пигалицы; скажите на милость, и это за какие-нибудь полгода… Только вот платье, м-да! В груди чуть не лопается (мать была поменьше), и рукава коротки…
Он подошел, взял дочь за рукав, повернул к себе локтем и недовольно засопел при виде безобразной заплаты.
— Некому зашить? — спросил он. — В замке полно бездельниц, целыми днями сплетничают, орут, как сороки, а проследить за твоим платьем нету времени?
— Ах, при чем тут время, — затараторила Аэлис (тоже сорока не хуже тех), — когда ткань совсем ветхая и не держит нитку! Я уже говорила Томазе, но та сказала, что с этим ничего не сделать, посмотрит другое — зеленое. И еще она сказала: «Пора бы мессиру отцу позаботиться о вашем приданом, он-то на Рождество пошил себе новый камзол, мог и о дочери подумать…»
— Вот велю ей всыпать, чтобы не лезла куда не надо! — пригрозил мессир отец. — Пошил, да! Потому что мне приходится бывать при дворе!
Он обследовал другой рукав, залатанный еще безобразнее; под тканью что-то шуршаще хрустнуло.
— Что у тебя там?
— О, это так… безделица, — быстро ответила Аэлис. — Вы что-то хотели мне сказать?
— Да, хотел! Ты соблюдаешь посты, которые тебе предписаны?
— Что мне еще остается? Только я не понимаю, для чего морить меня голодом.
— Для того, — строго сказал мессир Гийом, — что иначе избыток сил может породить в девушке твоего возраста неподобающие мысли. Я вчера говорил с капелланом, и он тобой недоволен.
— Еще неизвестно, кто кем больше. Ты думаешь, я им довольна?
— Вот уж это, мадам, меня нисколько не занимает!
— О, еще бы! Вам-то это куда как удобно — уезжать на полгода, оставляя меня здесь под присмотром этого старого…
— Аэлис, придержи язык, пока не сказала такого, за что не избежать наказания. Не забывай, что отец Эсташ — твой духовник!
— Увы! Я предпочла бы, чтобы им был отец Морель, и вообще, почему Эсташ запрещает мне у него бывать?
— Вот-вот! Он как раз тем и огорчен, что ты бываешь в деревне слишком часто.
— Ничего не «слишком»! Да, я в деревне бываю, мне ведь, вы отлично знаете, приходится там иногда помогать больным. Но я езжу туда, нарушая запрет этого… ну ладно! И чем же еще я огорчаю отца Эсташа?
— Мадам, он боится за вашу нравственность.
— Что-о-о?
— Ты хорошо знаешь, что согрешить можно и делом, и словом, и помышлением. Насчет «дела» отец Эсташ ни в чем тебя не обвиняет. Ровно ни в чем!
Аэлис низко присела, разведя кончиками пальцев фалды юбки.
— Ах, мессир отец, вы такую тяжесть сняли с моей души, теперь я смогу спать спокойно!
— Перестань дурачиться, я пытаюсь говорить с тобой всерьез. Капеллан не раз заставал тебя шепчущейся со служанками, особенно с этой твоей распутной камеристкой.
— Интересно, с чего ты взял, что Жаклин так уж распутна?
— Да это видно издалека! Ты что, не видела, как она крутит задницей, проходя мимо любого мужчины?
— В отличие от вас, мессир отец, — издевательски ответила Аэлис, — я задницами служанок не любуюсь. Да и вам бы не советовала!
— Тьфу, дура!
— Так что еще наговорил про меня его благочестие отец Эсташ? По-моему, шептаться с прислугой — не такой уж грех. Бывают и хуже.
— Да, бывают. Бывают! Дело не в том с кем, а о чем ты шепчешься. То, что однажды услышал капеллан, было непристойно…
— Ах, так он еще и подслушивает. И что же непристойного ему открылось?
— Ну, как бы тебе сказать… — Пикиньи замялся. — Речь шла об отношениях между супругами.
— А они что, греховны и непристойны? Однако церковь освящает их таинством брака?
— Греховного в них нет, но если девушка твоего возраста чрезмерно ими интересуется — это непристойно.
Аэлис сделала большие наивные глаза:
— Послушайте, что непристойного в послушании и добронравии? Да, я теперь припоминаю. Однажды мы, не помню уж с кем, говорили о том, что если жена злостно перечит мужу, не проявляет к нему уважения и любви, то ей лучше не ждать ничего хорошего… И еще Томаза учила меня, как заготавливать припасы на зиму, — что при этом надо твердо знать вкусы супруга: любит ли он кислое или соленое и какие предпочитает приправы. Некоторые, к примеру, обожают уксус, а иной от одного запаха уксуса начинает корчиться, как нечистый от ладана…
Пикиньи безнадежно махнул рукой, хотя не мог не испытать некоторого тайного удовлетворения: находчивость и умение легко вывернуться дочка явно унаследовала от него — покойная мать была существо скорее простое и бесхитростное. Аэлис же попробуй прищеми — безнадежно, ускользнет как намыленная. Да и что толку? Поди отыщи девку, которая не шепталась бы со сверстницами о самом запретном…
— Ладно, — сказал он, — довольно об этом. Может, отец Эсташ и в самом деле что-то не так понял…
— Или стал туговат на ухо, бедненький!
— Довольно, я сказал! А насчет платья ты права, чинить это нет смысла. А нового пошить уже не успеем, так что придется обойтись зеленым. Пусть Томаза съездит в Жизор и купит золотого позумента, чтобы обшить по краю, — будет выглядеть вполне прилично.
— О, спасибо! — Аэлис захлопала в ладошки. — Но вы сказали «не успеем» — не успеем к чему? Будет какой-нибудь турнир? И где же?
Нет, турнира не будет. Я пригласил одного человека погостить у нас в замке, он скоро приедет.
— Гость! — воскликнула Аэлис. — Я его знаю? Кто он?
— Ну, это… итальянец. Банкир из Флоренции.
— Банкир? — Аэлис приоткрыла рот и торопливо осенила себя крестным знамением. — Но, отец, как можно принимать у себя банкира! Отец Морель говорил, что эту нечисть даже не хоронят в освященной земле!
Мессир Гийом отмахнулся:
— Старый святотатец либо совсем выжил из ума… либо ты что-то напутала. В освященной земле не хоронят ростовщиков!
— Но разве банкир и ростовщик…
— Нет, — раздраженно перебил Пикиньи, — это совсем не одно и то же! Быть банкиром — занятие почетное и достойное христианина, а ростовщиками бывают жиды. Наш гость молод, хорош собой, знает куртуазное обхождение, так что тебе будет приятно с ним общаться.
— Надеюсь, не слишком часто! — Аэлис выразительно наморщила нос.
— Посмотрим. Надо, чтобы он чувствовал себя здесь как дома. Тебя от этого не убудет, если и полюбезничаешь с ним немного.
— Мессир, да вы спятили! Мне любезничать с мерзким банкиром?!
— Сказано же тебе, он не мерзок. А вот ты как смеешь говорить отцу, что он спятил? Что за манеры, разрази меня гром! Что за язык! Больше шепчись со своими подлянками, они тебя еще не такому научат! А этот сатанинский кюре — он куда смотрит? Капеллан тебе не по нраву, предпочитаешь исповедоваться в деревне — так что же ты там рассказываешь, хотел бы я знать! Надеюсь, не врешь в исповедальне, как только что врала здесь передо мной; но если ты созналась, что нарушаешь заповедь «чти отца своего», то как тебя могли допустить к причастию?
Пикиньи стал разжигать в себе ярость против отца Мореля. Не то чтобы он и впрямь увидел в нем главного виновника распущенности Аэлис, просто надо было выплеснуть гнев, но он вовремя сообразил, что с дочерью ссориться неразумно.
— Теперь-то гнусный поп поплатится! — вопил он. — Сегодня же велю вышвырнуть его из прихода, вышвырнуть с позором! Он у меня попляшет! Конюхи будут плетьми гнать мошенника до самого Понтуаза, чтобы ему неповадно было калечить молодые души! У-у-у, проклятое отродье вальденсов![25] Столько лет пользоваться моей добротой!
Аэлис не приняла его крики всерьез, но для приличия постаралась принять испуганный вид:
— Бога ради, не гневайтесь так на отца Мореля! Поверьте, он никогда не нарушал благочестия в своих речах и не учил меня дурному! Не сердитесь, мессир, прошу вас, скажите лучше, как мне принять вашего гостя, чтобы он остался доволен.
Это замечание, как она и предполагала, сразу успокоило разгневанного мессира, и он снова воззвал к совести самой Аэлис:
— Разве я в чем-то утеснял вас, мадам? Как можете вы вести столь дерзновенные речи со своим отцом? Видно, я был слишком мягок! Ведь предупреждал меня Тибо…
— Вы самый добрый отец на свете, и за это я вас люблю и почитаю, — смиренным тоном продолжала Аэлис. — Я догадываюсь, зачем вам нужен банкир, и обещаю не быть помехой в ваших замыслах. Но только обещайте и вы мне исполнить мою просьбу!
— Что еще за просьба?
— Ах, это совершеннейший пустяк… — Аэлис вытащила из рукава свернутый в трубку пергамен. — Вам надо лишь подписать, это такая отпускная грамота…
— Отпускная грамота! Кому?!
— О, вы его не знаете, — небрежным тоном отозвалась Аэлис, разворачивая грамоту на колене. — Это некий Робер, ну… воспитанник Симона! Вы давно обещали освободить этого серва,[26] так что грамота — это уж просто чтоб вы не забыли снова, я же хотела просить о другом: взять юношу в охрану замка. Симон давно обучил его пешему и конному бою, так что солдат он будет отличный, вы не пожалеете! Зачем нам эти безбожные баварцы? — спросила она таким невинным тоном, что Пикиньи догадался: разговор с Симоном был подслушан. — Согласитесь, мессир, чем больше добрых французов будет в охране, тем лучше… С вашего позволения, я прочитаю сама, а то вы не разберете — почерк у меня… Значит, так: «Мы,[27] Гийом барон де Пикиньи, владетельный сеньор Моранвиля что в Вексене, всех кто увидит настоящую грамоту извещаем. Что мы, движимые христианским состраданием к некоему крепостному нашему именем Робер возрастом XVIII лет, не имеющему ни родителей, ни братьев, ни сестер, а также из любви к Богу решили. Отпустить его дабы из личной крепостной зависимости перешел он к свободному вилланскому праву. И еще мы именно Гийом сьёр де Моранвиль тронутые крайней бедностью человека нашего от всякого выкупа за отпускную грамоту вышеозначенного Робера освободить решили. С тем дабы обещался он от своего имени и от имени наследников крепко хранить нам вассальную верность согласно феодальному праву и кутюмам[28] Земли Вексен.[29] Дано в замке Моранвиль в III день августа лета от воплощения Господа и Спасителя нашего MCCCIVII». Вот и все, уф! Прочитать, так вроде немного, а писала вчера с утра и до обеда.
Аэлис направилась к столу, расстелила пергамен, прижав углы чернильницей, песочными часами и свинцовой баночкой с песком, выбрала хорошо очинённое перо сокола и одарила отца обольстительной улыбкой:
— Соблаговолите скрепить грамоту вашей подписью!
— И не подумаю, будь я проклят.
— Неужто у вас хватит жестокосердия отказать дочери, которая смиренно обращается к вам со столь малой просьбой?
— Ничего себе малая просьба! Погоди-ка, — спохватился Пикиньи, — а пергамен у тебя откуда? Кто тебе позволил переводить такую ценность на эту мазню? Где ты его взяла, небось выскоблила старую грамоту? А если это было что-то важное?
— Как вы могли подумать, — обиделась Аэлис. — Я ведь не такая невежда, чтобы пользоваться палимпсестом![30] Это был чистый, почти новый пергамен, я стащила у мэтра Филиппа. Понимаю, что совершила грех, но он был оправдан. Так вы подпишете?
— Бог не допустит меня до такого безумия.
— Ах, вот как! — угрожающе сказала Аэлис, сворачивая грамоту. — Тогда уж пусть Он заодно научит вас любезничать с банкиром! Потому что я, мессир, не стану этого делать! Я вообще не покажусь ему на глаза! Пока он будет торчать в Моранвиле, запрусь в своих покоях, и попробуйте вытащить меня силком! Я вам тут такой устрою миракль,[31] какого и в Жизоре на Рождество не увидишь!
— Что вы себе позволяете, мадам! Совсем уже ополоумели?!
— С вами ополоумеешь! Отказываете дочери в таком пустяке — и не стесняетесь вынуждать ее к непристойному заигрыванию с каким-то ломбардцем! Вот сами с ним и заигрывайте! Или поручите это мэтру Филиппу — уж перед ним-то банкир не устоит. Мне рассказывали, ломбардцы все склонны к содомскому греху, им что девочка, что мальчик…
— Нет, ну на этот раз ты у меня получишь!! — заорал, побагровев, мессир Гийом. — Какой еще, к черту, содомский грех! И кто, разрази меня чума, вынуждает тебя вести себя непристойно — надо уже совсем лишиться ума, чтобы говорить такое отцу!! — Он затопал ногами, задохнулся. — Я тебе покажу! В каменном мешке у меня насидишься!
— Вместе с банкиром? — издевательски поинтересовалась Аэлис, засовывая обратно в рукав свернутую грамоту.
— Нет, с крысами!! Со змеями! С пауками! И не думай, что там тебя будут кормить, неблагодарная дочь!
— Ах, так вы еще и голодом решили меня заморить. Послушайте, хватит вам делать из себя посмешище! Куда проще подписать, а в благодарность за это я буду так любезна с вашим банкиром, что — не пить мне вина до самой Пасхи — он останется доволен!
— Ладно уж. — Поняв, что спорить и угрожать бесполезно, Пикиньи махнул рукой. — Надежные люди в охране нам нужны, тут ты права. Дармоедов в Моранвиле хватает, а воинов мало, так что грамоту я подпишу. Но только если договорюсь с Симоном о выкупе. Почему это я должен отпускать мальчишку даром?
— Побойтесь Бога, мессир, — закричала Аэлис, — что ж вы торгуетесь, как жид!
— Ничего, — ухмыльнулся Пикиньи, — с вами не поторгуешься, так останешься нищим. Не будьте ослицей, мадам, на эти деньги вы себе сошьете новое платье!
Глава 4
К вечеру того же дня Аэлис в сопровождении Симона де Берна отправилась в деревню. Она не спеша ехала рядом со своим провожатым, покачиваясь в седле и рассеянно поглядывая по сторонам. Обсаженная старыми вязами дорога пылила, было жарко, и Аэлис лениво обмахивалась сорванной по пути веткой.
— Скажите, друг Симон, — спросила она небрежным тоном, — случалось вам видеть банкира?
— Про этих пауков вам лучше расскажет Филипп, он чаще с ними якшается. Но мне тоже случалось, когда ездили получать выкуп за годона.
— И вы его видели?
— Еще бы, вместе брали! Здоровый был годон, едва скрутили.
— При чем тут годон, я про банкира спрашиваю!
— А-а-а, банкир. — Симон снял шляпу и рукавом утер блестящий от испарины лоб. — Видел и его, как же. Они с мессиром золотые считали.
— И как он выглядел?
— Тошнотворно! Если такой плюгавец отважится взгромоздиться на коня, его можно сшибить плевком.
— Какая мерзость! — поморщилась Аэлис. — Но он был молод?
— Молод? Мерзавец был стар, как Мафусаил! Где это вы видели молодого банкира, они уже из материнской утробы выползают старцами.
— Как же так? — обескуражено произнесла Аэлис. — А отец говорит, что… ну, что этот вроде молод и куртуазен.
— Про кого это вы?
— Ну, про этого банкира… который к нам приедет.
— Вон оно что! — Симон оглушительно высморкался, деликатно перевесившись в седле на правую сторону, подальше от спутницы, и снова надел шляпу. — К нам едет банкир? Это хорошая новость!
— Что же в ней хорошего, друг Симон?
— А то, что где банкир, там и денежки. Будет чем расплатиться с баварской сволочью. Но чтобы банкир был куртуазным, ха-ха-ха!
— Вы хоть предупреждайте, прежде чем ржать, — с досадой сказала Аэлис, обеими руками натягивая поводья шарахнувшегося иноходца. — Одного баварца, кстати, уже можно выгнать — теперь ведь Робер будет в страже!
— Это отродье по одному не разгонишь — вместе нанимались, вместе и уйдут. Иначе я давно уж спровадил бы самых зловредных…
Когда уже въехали в деревню, Аэлис спросила:
— Отец много с вас содрал за Робера?
— Да уж не продешевил! Но я ведь, мадам, тоже не дурак! Мессир мне давно кое-что задолжал, так что я просто сказал ему, что списываю парнишкин выкуп с его долга; этого он, конечно, не ожидал, его аж перекосило. Предвкушал небось, что я ему так и выложу новенькими флоринами!
— Вот уж не думала, мессир Симон, что вы такой скряга! — заметила Аэлис, сделав гримаску.
— Да вам-то не все равно?
— Отец на эти деньги собирался купить мне платье.
— Во-он оно что! Я не знал, мадам, да только к чему вам новое платье? Вы вон и в старом словно цветочек.
— Да это мое лучшее платье! — возмутилась Аэлис.
Симон хмыкнул.
— Надолго к Морелю?
— Побуду, пока вернетесь от кузнеца, но вы там не торопитесь.
— А скоро его и не уломаешь. Хочу, чтобы поработал в замке, — наш дурень обжегся и теперь не может взять в руки молотка. Деревенщина же наверняка станет отлынивать.
Аэлис ловко спрыгнула на землю и повела коня к дому священника. Тот вышел навстречу, подслеповато всматриваясь, кто приехал.
— А, это ты, дочь моя!
— Благословите, отец…
— In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti, benedictio. Domine sit tecum.[32] — Отец Морель перекрестил ее и ладонью коснулся головы.
— Робер дома?
— Да, в огороде. Ступай, я привяжу. — Кюре взял повод из ее рук. — Что нового в замке?
— Приехал отец, а я привезла Роберу отпускную — он теперь будет служить в замковой страже. Но вы не огорчайтесь, он будет приходить и к вам, а если будет занят, а вам что-нибудь понадобится, я всегда найду кого прислать из челяди.
— Не это меня беспокоит, я сам могу себя обслужить. Меня огорчает, что вы решили сделать из него солдата…
— Боже мой, да кем же ему еще быть! — рассмеялась Аэлис.
Пройдя через темные, прохладные сени, она распахнула заднюю дверь и зажмурилась от ударившего в глаза солнца. Сразу за домом начинались заросли чубушника, которым был обсажен огород; она нырнула в кусты, осторожно раздвигая ветки, густо усыпанные белыми, уже осыпающимися цветами, и тихо свистнула. Робер обернулся, встал, отряхивая руки от земли, и пошел к кустам.
— Ну, где ты там? — позвал он, нарочно глядя мимо нее, и вдруг, быстро обернувшись, схватил радостно завизжавшую Аэлис.
— Пусти, медведь! Чуть плечо не сломал! — Она стала тузить его кулаками, потом изловчилась и укусила за руку.
— Да ты одурела, что ли! У тебя зубы как у хорька!
— Впредь будет наука! И какой же вы противный, друг Робер, у меня, наверное, теперь все плечи в синяках. Идите сюда! — Она расстегнула верхние пуговки платья и оттянула вбок вырез ворота. — Посмотрите, мессир, есть синяки или нет?
— Нету ничего, — смущенно буркнул Робер.
— Ваше счастье! Ах нет, я думаю, на другом плече… Ну?..
— Отстань, нету у тебя никаких синяков. А ты чего сегодня такая нарядная? Даже цепь дедовскую надела!
— Значит, есть причина… — загадочно улыбнулась Аэлис, застегивая пуговки, потом приподняла тяжелую серебряную цепь с медальоном, на котором ярко белели три королевские лилии, с темным боевым клинком у подножья.
Она серьезно посмотрела Роберу в глаза и тихо спросила:
— Ты ведь знаешь историю этого медальона?
— Конечно. Он был подарен твоему деду по материнской линии, коннетаблю Филиппа Красивого, в память о его верном служении короне и самому королю.
— Да. Надеюсь, что и ты когда-нибудь будешь достоин такого подарка!.. Ну а пока вы не заслуживаете даже новости, которую я вам принесла. — Аэлис вздохнула и, застегнувшись, отцепила привешенную к поясу кожаную трубку, в каких возят документы. — Достаньте и прочтите, это касается вас.
Робер прочел и долго молчал. Затем, аккуратно свернув пергамен, снова вложил его в футляр. Аэлис почувствовала беспокойство:
— Что же ты молчишь?
— Я могу сказать лишь одно, — тихо ответил Робер. — Моя жизнь отныне принадлежит тебе, и дай бог, чтобы я смог доказать это делом.
— Сейчас проверим! Я хочу, чтобы ты поступил на службу в замок, в охрану. Согласен?
Он молчал, и ей показалось, что в глазах его мелькнуло смятение.
— Робер… что-то не так? Отвечай, когда тебя спрашивают!
— Я приду в замок, Аэлис. Если ты этого хочешь.
— Еще бы я не хотела этого! — просияла она. — Ах, какой сегодня счастливый день! Вот только если бы не эта пятница… Робер, я просто умираю с голоду!
Он глянул на нее удивленно.
— Ну, правда же, меня совсем замучили этим постом! Два раза в неделю, представляешь? Слушай, принеси мне чего-нибудь поесть, а?
— Поесть — тебе? — Робер растерялся. — Чем же я могу тебя угостить?
— Я ведь не фазана прошу! Неужто куска хлеба не найдется?
— Хлеб есть, только он черствый… Ну и еще вареные бобы.
— Глупый, я их обожаю!
Робер ушел, Аэлис села на приступок возле большого деревянного чана, в котором грелась на солнце вода для поливки огорода, и задумчиво проводила юношу взглядом. Какой из него получится рыцарь! А почему бы и нет? Симон тоже незнатного рода, а будь он честолюбив — вполне мог бы стать владетельным бароном…
— Садись сюда! — велела она, когда Робер вернулся с корзинкой и глиняным кувшином, и похлопала по приступку рядом с собой. — Ближе, ближе…
Робер, помедлив, сел, поставил корзинку и кувшин на землю, достал хлеб и деревянную миску.
— А в кувшине что? — заинтересовалась Аэлис. — Молоко?
— Какое же молоко в пятницу… Я тут захватил немного вина, подумал: может, ты захочешь, а то хлеб совсем черствый.
— Вино! — обрадовалась Аэлис. — Робер, ты прелесть, дома мне никогда не дают вина — позволяют только кларет. Это настоящее вино?
— Да, но… совсем простое.
— Какая разница? Любое вино, если мы выпьем его вместе, друг Робер, будет мне слаще королевского ипокраса.[33] Ты захватил кружку?
— Я захватил для тебя кубок отца Мореля — он пьет из него только на Рождество и на Пасху. А я выпью из кувшина.
— Нет, мы выпьем вместе, но сначала я поем. — Аэлис оторвала корку от краюхи хлеба и принялась уплетать из миски холодные бобы, от усердия помогая себе пальцами. — Мм, как вкусно…
Робер достал завернутый в холстину кубок и, развернув, поставил рядом с Аэлис. Кубок был старый, оловянный, со вмятиной, но хорошей работы. Тщательно начищенный золой, он блестел не хуже серебряного.
— Ты приехала одна?
— С Симоном! Он пошел сказать кузнецу, чтобы тот поработал в замке. Наш обжег руку.
— Кузнец не пойдет, — заметил Робер. — У него сейчас столько работы — натащили старого оружия из трех деревень после ордонанса…
— После чего? — не поняла Аэлис.
— Еще до жатвы приезжал глашатай от жизорского бальи, собрал всех и читал ордонанс, чтобы все люди в королевстве имели дома оружие и могли защищаться от годонов или иных злоумышленников.
— И вилланы? — недоверчиво спросила Аэлис.
— Ясно, и вилланы.
— Воображаю! — Она прыснула от смеха. — Как же это, интересно, может «защищаться» мужик? Вилами, что ли?
— Ты зря смеешься, — укоризненно сказал Робер. — Что вилы, что пика пехотинца — не велика разница.
— Ну, это даже слушать неловко! Замолчи и налей вина. Робер наполнил кубок и подал Аэлис.
— Помнишь, — Аэлис понизила голос, принимая кубок обеими руками, — как мессир Тристан плыл на корабле с дамой Изот, а служанка ошиблась и вместо вина поднесла им приворотного зелья. Помнишь?
— Помню… — тихо сказал Робер.
— Пусть же это вино, — продолжала она, блестящими глазами глядя на него поверх края кубка, — станет для нас напитком Бренганы…
— Не говори так, Аэлис. — Робер вымолвил это с трудом, так пересохло вдруг у него во рту. — Этим шутить не надо, не к добру это.
Аэлис, не сводя с него взгляда, медленно выпила половину кубка и, повернув, подала Роберу.
— Отсюда пей, — шепнула она. — Здесь, где касались мои губы.
Робер нахмурился и не отрываясь допил вино.
— Ну вот, видишь, ничего страшного. — Аэлис улыбнулась, пытаясь преодолеть странное чувство неловкости, или стыда, или…
Она сама не могла бы определить, но что-то вдруг изменилось, и она поняла, что ей хочется побыть одной.
— Симон скоро придет, — сказала она, словно спохватившись, — а мне надо еще отнести мазь жене Ле Боссю. Я пойду, ладно?
— Аэлис… — Робер смотрел в сторону, боясь встретиться с ней глазами, — я тут хотел тебе подарить… Понимаешь, для меня это такой день… я хотел бы, чтобы и для тебя он тоже остался памятным.
Аэлис быстро прикрыла ему рот ладошкой:
— Глупый, разве я не ждала этого дня? Как же я могу его забыть? Особенно теперь, когда мы с тобой испили из одного кубка?
— Да, но… — Он мягко отвел ее руку и снял с шеи шнурок. — Видишь, это самая дорогая для меня вещь — венчальное кольцо моей матери, и если ты не откажешься его взять…
— Как ты мог подумать! Только тогда уж сам и надень мне на палец.
— Ты… хочешь носить его на руке? Но если спросят…
— Кто?! Кому какое дело, что я ношу!
Робер разорвал шнур и надел на нетерпеливо оттопыренный пальчик Аэлис тоненькое, почти совсем стертое оловянное колечко.
— Прекрасно! — воскликнула она, любуясь подарком. — Спасибо тебе, друг Робер, но тогда ты должен еще и поклясться.
— В чем, Аэлис?
— Поклянись вечным спасением, что если когда-нибудь жизнь нас разлучит, то, как бы далеко ты ни был, если я пришлю к тебе человека с этим кольцом, ты бросишь все и поспешишь немедля ко мне, потому что это будет знак, что мне нужна твоя помощь. Клянешься?
Робер помолчал и опустился на одно колено.
— Дай руки, — шепнул он.
Аэлис, побледнев и прикусив губу, протянула к нему руки, и Робер вложил в них свои, прижатые ладонью к ладони.
— Спасением души клянусь, что, когда ты пришлешь это кольцо, ни стены, ни рвы и ни оковы, ни камень и ни железо не помешают мне прийти на твой зов, Аэлис, моя подруга, даже если я буду знать, что рядом с тобой меня ждет смерть…
— Ты знаешь, как называется то, что ты сейчас сделал? — спросила Аэлис дрогнувшим голосом.
— Да, это омаж, — ответил он. — Симон объяснял мне. — Так вассал приносит клятву своему сюзерену.
— Но, Робер…
— Я знаю, у меня нет золотых шпор. Но я люблю тебя и буду любить крепко и вечно, пока бьется сердце.
— Пойдем, Робер, уже поздно, — едва выговорила Аэлис.
Проводив ее до хижины Ле Боссю, он медленно возвращался домой, весь захваченный своими мыслями; шел, ничего не замечая вокруг, рассеянно отвечая на приветствия односельчан. Отец Морель, поджидавший у растворенной двери, окликнул его, и он вздрогнул, словно его разбудили.
Они прошли по темным скрипучим сеням в комнату, сумрачную от маленьких окошек, в которые глядело вечереющее летнее небо. По стенам сушились лекарственные травы, пропитавшие своим горьковатым запахом всю утварь в доме, а в сенях, посаженная в корзину, возилась наседка с цыплятами.
Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, Робер на секунду задержался на пороге, окинув взглядом эту бедную и такую родную обстановку. Скоро всего этого уже не будет.
Отец Морель внимательно смотрел на него, спрятав руки в рукава сутаны.
— Я вижу, ты уже не здесь, — заметил он немного погодя. — Не знаю, можно ли радоваться такой перемене твоей судьбы.
— Но… — Робер глянул на него удивленно. — Почему?
— Как бы это получше растолковать… Ворота замка открывают для тебя путь, полный соблазнов. Робер, ты честолюбив и можешь достичь многого; боюсь только, чтобы ты не ошибся в выборе своего пути. Понимаю, тебя больше тянет к ратным подвигам, нежели к наукам… но подумай, может, это просто увлечение юности?
— Я уже думал, — тихо, но твердо сказал Робер.
— Все же подумай еще. Конечно, после долгих и тяжелых лет службы ты сможешь, если повезет, получить ленное владение. Но все равно останешься аррьер-вассалом…
— Ну и что, — возразил Робер. — Самые могущественные дома королевства когда-то начинали с этого.
— Да, но каким путем? История каждого такого рода написана кровью. Бог тебя сохрани от такого, сын мой… Впрочем, тебе это не грозит, и, хотя ты не из тех, кто захочет оставаться в тени, остаться в ней тебе придется, потому что тебя всегда будут затмевать более знатные. Есть, однако, еще один путь…
— Церковь? — Робер пожал плечами.
— А почему нет? Ты уже кое-чему научен, знания даются тебе легко. С помощью нашего доброго Бертье мог бы записаться в Париже на богословский факультет, а тогда… Вот тут, сынок, никакого значения не имело бы твое происхождение. Конечно, большинство князей Церкви принадлежит к знати, но ведь не все! Папа Иоанн, — отец Морель понизил голос, словно сообщая тайну, — бывший кардинал Досса, родился в семье кагорского ремесленника, а пана Адриан был сыном нищего английского попа. Но я не соблазняю тебя папской тиарой, а вот стать епископом ты бы мог.
Робер, словно просыпаясь, удивленно посмотрел на старого кюре:
— Епископом! Да мне не по душе стать простым клириком. Я хочу проложить себе дорогу мечом, вы же знаете…
Отец Морель вздохнул:
— Что ж, у каждого своя судьба.
Шум в сенях заставил обоих обернуться. В комнату ввалился Симон де Берн, сердито потирая лысину, за ним неслышно скользнула Аэлис, украдкой послав Роберу нежный взгляд.
— Клянусь веригами святого Петра! Я снова чуть не расшибся об эту проклятую притолоку! Мое почтение, отец! Здорово, сынок.
Высокий, плотный, в потертой кожаной безрукавке, Симон сразу заполнил собой тесную горницу. Обычно хмурое, лицо его сияло.
— Ну, что скажете, отец мой? Видите, недаром я обучал мальца бою на любом оружии. Теперь он за себя постоит!
— Что ж, — кюре улыбнулся, — умение постоять за себя — весьма полезно и необходимо в жизни. Хотя я предпочел бы видеть Робера на ином, духовном поприще…
Аэлис прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться, а Симон де Берн изумленно уставился на священника:
— Вот уж безумная мысль, не в обиду вам будь сказано! Да разве на такого парня натянешь поповскую сутану? Не обижайтесь только, вы — дело другое: вы человек святой!
Отец Морель отмахнулся:
— Не суесловь, Симон. А за него не волнуйся. Робер уже принял решение, и мне его не переубедить.
— Правильное решение, парень! Придется мне пожертвовать на свечи мессиру святому Михаилу.
— Пожертвуй лучше на бедных, — посоветовал отец Морель.
— Так ведь я вроде уже пообещал. — Симон неопределенно хмыкнул, с сомнением глядя на священника. — Небось обидится?
— Ах, Симон, Симон. — Отец Морель посмотрел на него с укоризной. — Вспомни, в Писании сказано: «Если накормите голодного, Меня накормите» — так учил Господь. Также и святому Михаилу приятнее будет получить твое доброе деяние, нежели лишний фунт воску!
— Ну, если вы так считаете… — Симон де Берн смущенно поскреб лысину. — Вам, конечно, виднее. Ладно, деньги на бедных я привезу, только тогда уж вы сами объясните ему, как это получилось, — вы к ним поближе… и как-нибудь покуртуазнее, чтобы не обиделся!
— Не бойся, святой поймет тебя, — улыбнулся отец Морель.
— Хороший сегодня день, сынок! — Симон хлопнул Робера по плечу. — Ну-ка, тащи вина, тут грех не выпить!
Робер принес кувшин, и Симон, не дожидаясь, пока подадут кубок, стал пить прямо через край.
— Сир Симон, — не утерпел Робер, — что бы вы сказали, если бы я стал капитаном бригандов?
Глаза Аэлис блеснули любопытством, Морель в страхе перекрестился. Де Берн, опустив кувшин и утираясь рукавом, одобрительно кивнул:
— А что? Неплохое дело! Капитан Реньо де Серволь недавно знатно пограбил Авиньон, самого папу так пуганул, что его святейшество чуть обратно в Рим не удрал…
— Опомнись, Симон! — возмутился кюре. — Как у тебя язык поворачивается произносить нечестивые речи, да еще при молодых людях!
— Что ж тут такого? — изумился старый солдат. — Многие рыцари только этим и живут! Да вы не беспокойтесь. Это ведь только так сказано, к слову. А ты, парень, выкинь из головы свои бредни. Покамест ты никакой не бриганд, а воинский человек — не совсем еще, но вроде того. Ну ничего, с Божьей помощью сделаем из тебя настоящего. А теперь поехали, мадам, не то нам достанется. Кузнец, негодяй, раньше будущей недели не придет — говорит, много работы, не поспеет.
— Конечно, — подхватила Аэлис. — Теперь, после ордонанса, все несут оружие!
— После какого еще ордонанса? — изумился Симон.
— Вы на редкость невежественны, мессир, — высокомерно сказала Аэлис, — я все объясню по пути. До свидания, отец мой. До свидания, Робер, приходи завтра сразу после ранней обедни.
Глава 5
Робер быстро освоился со своим новым положением. Встретили его хорошо, хотя баварские наемники попытались было возроптать — лишний стражник из местных был им как кость в горле, но Симон быстро привел их к повиновению. Своя же солдатня обрадовалась возможности свалить на новенького часть обязанностей, например выставить вместо себя на караул ночью или под проливным дождем. А что касается горничных Аэлис, то те наперебой расхваливали перед госпожой нового стражника. Особенно радовалась молоденькая Катрин, тихая светловолосая девушка, давно уже тайно влюбленная в Робера. В замок она попала года три назад, а раньше жила в деревне и часто помогала отцу Морелю в сборе полезных трав и уходе за больными. Робер шутя называл ее сестричкой и не замечал нежного к себе отношения.
Катрин, впрочем, помалкивала, зато другие не скрывали своих чувств — ни перед Робером, ни друг перед дружкой. Однажды, когда девушки сидели за шитьем под присмотром Аэлис, ее камеристка Жаклин опять завела разговор о новом стражнике:
— Ох, госпожа, до чего же вы это хорошо придумали! Вот увидите, из него такой оруженосец получится… — она восхищенно зажмурилась, — всех еще за пояс заткнет! А до чего на нем все ладно сидит, и лицо у него какое-то особенное, не то чтобы красивое, но такое — глаз не оторвешь! Правда ведь, подружки? — добавила она, обращаясь к остальным.
— Только смотрите, чтобы никаких заигрываний! — строго сказала Аэлис. — Лучше бы не родиться на свет той из вас, кто осмелится строить глазки Роберу или бесстыдно вертеть перед ним задом.
— Иной раз ведь и не удержишься, — хихикнула привыкшая к безнаказанности Жаклин.
— Что ж, попробуй не удержаться! — посоветовала Аэлис угрожающе.
С тех нор как Робер переселился в замок, она часто пребывала в дурном расположении духа. Ей хотелось, чтобы он всегда был при ней, но Симон всерьез взялся за свое намерение — сделать из юноши настоящего солдата. За наружной оборонительной стеной, по ту сторону рва, простирался обширный зеленый луг, на нем старый солдат и гонял своего питомца, обучая его тонкостям воинского дела как в пешем, так и в конном бою. Симон подобрал Роберу хорошего и послушного поводу коня; если вначале их схватки кончались тем, что юноша кувырком летел на землю от удара тупым копьем с обитым войлоком кружком вместо наконечника, то скоро шансы начали выравниваться, и однажды Роберу удалось выбить из седла своего наставника. «Ну, парень, ты меня порадовал, — заявил Симон, поднявшись на ноги, — отличный удар, клянусь зубом святого Петра!» Робер в этот день был счастлив, как никогда. Огорчало его лишь то, что Аэлис не разделяла его восторга.
Девушка была возмущена тем, что слишком уж рьяно предается Робер своим ратным забавам, вместо того чтобы проводить время с нею. А тут еще эти распутницы вьются вокруг, словно осы у горшка с медом!
Сегодня Жаклин заглянула к ней в комнату и спросила, не хочет ли госпожа подняться на стену, что выходит на луг, — там сейчас сир Симон и сир Робер так колошматят друг друга, что смотреть жутко. Они поднялись на алуар[34] наружной стены, Аэлис выглянула в просвет между зубцами: бойцы дрались пеше, в полных доспехах, но у Симона, вооруженного топором, был еще на левой руке небольшой треугольный щит, а у Робера — ничего, кроме громадной двуручной фламберги[35] с волнистым лезвием длиной шесть футов. Лязг стоял такой, словно два кузнеца работали молотками по наковальне, и непонятно было, как оба противника еще живы.
Аэлис, затаив дыхание, следила за поединком, когда Симон, отразив зазвеневшим щитом очередной удар, с поднятым топором бросился на быстро отступившего Робера, она даже зажмурилась от испуга — мало ли что случается в бою! А когда открыла глаза, Симон стоял с растерянным видом, разглядывая оставшийся в руке короткий обрубок топорища, а Робер, воткнув в землю свой меч, длинная рукоять которого еще раскачивалась, снял с головы саладу[36] и рукавом утирал со лба пот.
— Идем, Жаклин! — возмущенно приказала Аэлис. — Когда закончат, скажешь Симону, чтобы пришел ко мне…
Симон не спешил предстать на зов госпожи — пошел, наверное, мыться и переодеваться; Аэлис, дожидаясь его, совсем вышла из себя. Наконец явился — очень довольный, не подозревая о собравшейся грозе.
— Что скажете, мадам? — спросил он с улыбкой, входя в комнату. — Парень меня нынче отделал, выйти с фламбергой против топора — я бы на такое не сразу решился. Клянусь головой святого Дени, из мальца получится рыцарь раньше, чем мы думали…
— Но пока еще он мой оруженосец, мессир Симон, — оборвала его Аэлис, раздувая ноздри. — И я прошу вас об этом не забывать! И не отрывать Робера от его прямых обязанностей!
— Это от каких же таких прямых обязанностей, я что-то не пойму?
— Он мой оруженосец, — повторила Аэлис, — и обязан находиться при мне!
— А, вон вы как понимаете его обязанности. — Симон нахмурился. — Ну уж нет, мадам, сидеть пришитым к вашей юбке парню негоже, не для того он сюда пришел!
— Не смейте мне возражать! — Аэлис топнула ногой.
— Я осмеливаюсь возражать и мессиру вашему отцу. — Симон тоже повысил голос. — А вот вам на меня кричать не годится! И Робера я вам портить не дам, так и знайте. Не для того он пришел в замок, чтобы тереться возле баб да слушать ваши непотребные песенки!
Аэлис уставилась на него изумленно:
— Со всем уважением будь сказано, мессир Симон, вы уже окончательно одурели! Какие еще непотребные песенки?
— Сами знаете какие. Я вчера слышал, как вы с ним ворковали в саду. Скажете, это не вы пели? «Не буди меня, милый, поцелуем так рано! Мне спится так сладко! Я, любимый, не встану!» Голосок-то был ваш, мадам. Тьфу!
— У вас, мессир, грязное воображение, — уничтожающе сказала Аэлис. — Это старинная провансальская альба, и что в ней непристойного?
— Что непристойного? Благодарите всех святых, что вы не моя дочка! Если бы я услыхал, что моя дочь распевает чужому парню про поцелуи да про то, как ей спится, я бы выломал хороший прут и всыпал ей по заднице такую альбу, что это лишило бы ее сна на целую неделю.
— Вы забываетесь, Симон де Берн!
— А я не про вас, мадам, — дерзко ответил грубиян. — И покончим на этом. Пока я начальник замковой охраны, Робер подчиняется мне и будет делать то, что я ему велю. А вы для развлечения найдите себе кого-нибудь более подходящего. Робер простой парень, виллан, и грех вам кружить ему голову разными своими…
— Ступайте, мессир, — резко прервала его Аэлис, — я вас больше не задерживаю!
Впрочем, после этого она присмирела. Симон мог нажаловаться отцу и открыть ему глаза на то, что, возможно, уже замечали все в замке, кроме самого мессира Гийома. К тому же, признала она, Роберу и в самом деле нужно учиться ратному делу, чтобы поскорее стать настоящим рыцарем.
Отбросив в сторону вышивание, Аэлис пересела к столу, открыла круглую бронзовую шкатулочку и придирчиво посмотрелась в прикрепленное под крышкой зеркало. Сделать другую прическу? Может, уложить косы по бокам… А, как их ни укладывай, все равно не то!
За дверью послышались быстрые шаги, Аэлис схватила пяльцы и постаралась принять прилежный вид.
Войдя в комнату, Робер подошел к ее креслу и остановился, с улыбкой наблюдая за девушкой. Та сделала еще несколько неловких стежков и подняла голову. В облегающем солдатском камзоле оленьей кожи Робер казался взрослее и шире в плечах. Аэлис сейчас словно увидела его впервые. С минуту она смотрела на него как завороженная, а потом вышивание соскользнуло с ее коленей.
— Побудь со мной, Робер! Садись вон в то кресло…
— Это слишком от тебя далеко!
Робер взял маленькую скамеечку и поставил у ног Аэлис.
— Тут будет лучше. — Он сел, положил голову к ней на колени. — Лучше, но все равно далеко…
Аэлис молчала, прикусив губу и зажмурившись, потом спросила прерывающимся голосом:
— Что ты сегодня делал?
— Да разное… Главное — скучал по тебе!
— Почему же тогда не шел? Почему медлил? Я ждала все утро!
— Видит бог, не медлил бы ни минуты, если бы мог! Но ты же знаешь Симона…
Она наклонилась к нему, он поднял голову и снизу вверх заглянул в ее полные теплого света глаза:
— Аэлис, любовь моя, я никогда не устану повторять тебе, как ты прекрасна!
— А я не устану слушать, мой друг! Но ты прав… — Она вскочила, оттолкнув его резким движением, и нетерпеливо шепнула: — Ты прав, так все равно далеко…
Робер тоже поднялся и подхватил ее на руки:
— Так… можно?
— Тебе можно все… — шепнула она и уткнулась лицом ему в плечо.
— Аэлис, — Робер еще крепче прижал ее к себе, — моя любимая.
— Робер… поцелуй меня… Нет-нет… сначала пусти…
Он разжал руки, но, едва ноги Аэлис коснулись пола, снова притянул к себе. Когда он наконец отпустил ее, она счастливо вздохнула и, слегка отстранившись, посмотрела на него сияющими глазами.
— Как мне хорошо с тобой, Робер! Клянусь — в раю не будет так хорошо, как в твоих объятиях…
— Аэлис… — Робер умолк, не находя слов.
Разве можно было бедными, простыми словами выразить то, что он сейчас чувствовал? Его руки, медленно скользнув вдоль ее спины, задержались на бедрах, перехваченных ниже талии каким-то странным, звенчатым поясом.
— Что это у тебя? Цепь какая-то… О! Да ты, я вижу, вооружилась! — удивился он, нащупав прицепленные к поясу ножны. — Уж не против меня ли?
Аэлис лукаво засмеялась:
— Против кого же еще, мессир оруженосец? Вы теперь такое себе позволяете, Бог вам судья, тут без кинжала не обойтись…
— А кто говорил, что мне все можно? — спросил он шутливо.
— Клянусь, я и сейчас готова это подтвердить, друг Робер…
— Ох, Аэлис! Смотри, поймаю на слове!
Она отскочила в сторону, Робер кинулся за ней:
— Вот я сейчас до тебя доберусь!
— А вот и не доберешься! — крикнула Аэлис и выхватила из ножен кинжал.
Перед глазами Робера блеснуло обоюдоострое лезвие, он отшатнулся:
— Осторожнее, Аэлис, ты меня чуть без носа не оставила!
— Хорошо бы и впрямь его укоротить! — фыркнула Аэлис. — Меньше бы заглядывались разные шлюшки!
— Тебе-то что? Я ведь на них не заглядываюсь.
— Еще бы ты заглядывался! Да я бы тебя своими собственными руками…
Она опять сделала кинжалом шутливый выпад, но Робер молниеносным движением перехватил ее руку, Аэлис вскрикнула от боли, кинжал зазвенел на каменных плитах пола. Робер поднял его и стал разглядывать.
— Нравится? — спросила Аэлис, потирая запястье.
— Да, знатный клинок… Но ты с такими игрушками не шути, это тебе не прялка. Лучше уж я тебя разоружу… — Поймав ее за талию, он не спеша расстегнул тяжелую пряжку, снял пояс. — Вот так! Теперь не получишь обратно свой кинжал.
— Это не мой, это твой.
— Мой? — Робер удивленно взглянул на нее. — Мой я оставил внизу.
Аэлис нетерпеливым жестом протянула руку:
— Давай сюда…
Робер вложил кинжал в ножны и вместе с поясом вернул девушке. Лицо Аэлис стало серьезным, почти торжественным.
— Робер, этот кинжал побывал в Крестовых походах, во многих славных битвах. Его носил мой дед — коннетабль, а теперь будешь носить ты. Возьми, и пусть вместе с ним к тебе перейдет доблесть настоящего рыцаря! Дай я сама застегну его на тебе…
Робер растерянно взглянул на девушку:
— Но, Аэлис… А твой отец?
— Этот кинжал принадлежит мне по материнской линии. Спокойно носи его — теперь он твой!
Робер долго смотрел на тускло поблескивающее лезвие, на рукоять из простого черного рога, окованную серебряными ободками старинной грубой работы. Сколько всего повидало это оружие! Он склонил голову и коснулся клинка губами:
— Аэлис, пусть моя любовь пребудет крепче этой стали…
Аэлис протянула руку и коснулась сложенными для клятвы пальцами смертоносного лезвия:
— Робер, и я клянусь тебе: что бы ни случилось, любить тебя до последнего моего часа…
Сир Гийом, человек по-современному утонченный, заботился не только о прочности своего жилища. Когда родилась Аэлис, он выписал из Ломбардии искусного садовода. В южной части замка, между донжоном[37] и четырехугольной башней Фредегонды — единственным уцелевшим остатком древней меровингской крепости, — ломбардец этот весьма хитроумным способом, на двух расположенных уступами террасах, разбил сад и цветник. Почти целый год сервы таскали в корзинах щебень, песок, а затем и плодородную жирную землю, чтобы заполнить доверху пространство между возведенными каменщиками стенами; и сад получился на славу, каждую весну вокруг мрачных, потрескавшихся от времени стен башни зеленели молодые побеги виноградных лоз и дикого хмеля.
Был тихий послеполуденный час; одуряюще пахли разогретые солнцем цветы шиповника, и даже в тени было жарко. Аэлис сидела в густой траве, Робер стоял чуть поодаль, прислонившись к темному шершавому камню стены. Тут же, разбросав лапы, дремал мохнатый волкодав — любимец Аэлис — Мерлин.
Оба молчали, но это не тяготило их. Они привыкли понимать друг друга даже в молчании; достаточно было одного взгляда, одного движения, чтобы передать другому свои мысли и чувства.
Вот и сейчас Робер смотрел на нее и знал, что она вспоминает детство. Запрокинув голову, Аэлис разглядывала щербатые от древности зубцы Фредегонды и лепящиеся в глубоких неровных кренелюрах[38] ласточкины гнезда. С верхней площадки башни хорошо просматривались окрестности замка, и туда никогда никто не заглядывал, поэтому детьми они любили играть там и называли ее своей башней.
— Робер, — тихо спросила девушка, — тебе не жалко, что все это прошло?
Робер пожал плечами:
— Жалко, конечно. Но что поделаешь…
— Помнишь, как мы раз подрались с тобой там, наверху, и я чуть не свалилась с лестницы?
— Я все помню, — улыбнулся Робер.
— Ты тогда ужасно перепугался, — мечтательно продолжала Аэлис, — а потом еще больше разозлился и тут внизу задал мне хорошую трепку…
— Ну, это уж ты выдумываешь.
— Не выдумываю вовсе, мне частенько от тебя доставалось… — Она вздохнула и грустно добавила: — А что такого? Я ведь не в укор тебе. Напротив… это тоже было хорошо… — Голос девушки дрогнул, и Робер увидел в ее глазах слезы.
— Аэлис, ты чего? — Он подошел и, сев рядом, взял за руки.
— Ах, Робер, я сама не знаю… но мне вдруг стало так грустно! — Аэлис молча прижалась щекой к его лицу.
Молчал и Робер, поглаживая ее волосы. Сегодня ему тоже было грустно, почти тревожно.
— Аэлис, ты думала когда-нибудь о том, что будет дальше? Тебе уже пятнадцать, в этом возрасте девушек выдают замуж…
— Робер, ну что сейчас об этом говорить! — досадливо отозвалась Аэлис.
— Ты права, говорить ни к чему. Я много думал, Аэлис, и… Словом, осенью мне придется покинуть Моранвиль, попытать счастья на стороне.
— Ох нет! — испугалась Аэлис. — Я не хочу, чтобы ты уезжал!
— Иначе нельзя, моя любимая! Если мне повезет, через два-три года я вернусь за тобой, опоясанный рыцарским мечом.
— Нет!! — Аэлис вцепилась ему в рукав и заплакала. — Не надо мне никакого рыцарского меча, ничего не надо! Я не хочу, чтобы ты уезжал, слышишь? Не хочу без тебя!
— Я тоже не хочу без тебя, поэтому и придется мне уехать. Подожди меня три года, только три…
— Нет, нет и нет! — крикнула Аэлис. — Ничего не буду обещать! Я люблю тебя и ничего не хочу больше знать!
Она заплакала еще громче, и Робер пожалел, что заговорил об отъезде. К чему было расстраивать ее заранее?
— Ну хорошо, любовь моя, успокойся… Я ведь еще никуда не еду! Слышишь? Я ведь с тобой… успокойся же и посмотри на меня!
Аэлис подняла голову, и Робер стал целовать ее мокрые от слез глаза.
— А знаешь что? Давай поднимемся туда!
— Давай! — обрадовалась Аэлис. — Мы и правда совсем забросили свою башню… Слушай, а кто была эта Фредегонда?
— Королева франков — давно, еще до Карла Великого. Отец Морель называет ее великой грешницей…
Аэлис, поднимаясь следом за Робером по узкой лестнице, вырубленной в толще стены, сразу навострила уши:
— Правда? А что она сделала?
— Много чего. Она приказала убить двух своих пасынков, а невесту одного из них, принцессу Брюнельду, долго держала в темнице. И епископа Руанского тоже велела умертвить…
Поднимаясь вдоль всей южной стены башни, лестница затем поворачивала вправо под прямым углом и продолжала подниматься еще круче. Отсюда, через заросший плющом пролом, можно было выбраться на полуразрушенную стену, соединяющую башню с угловым барбикеном[39] наружного оборонительного пояса. Слабый свет едва проникал сюда сквозь узкие, редко прорубленные щели-бойницы, было сыро и холодно, несмотря на летний зной снаружи; пахло плесенью и птичьим пометом. Аэлис стало страшно, и она крепче уцепилась за руку Робера:
— Ты думаешь, злая королева действительно здесь жила?
— Этого я не знаю, — ответил Робер. — Но башня очень старая. Видишь, тогда даже не умели еще выкладывать винтовые лестницы, как теперь. И потом, она четырехугольная, а не круглая, таких башен не строят уже лет двести. А знаешь почему? Выгнутая стена прочнее, она лучше выдерживает удары осадных машин.
Миновав еще три поворота, они наконец вышли наружу. На верхней площадке, как всегда пустынной, отгороженной от всего мира, было знойно от раскаленного солнцем камня и все залито светом и таинственной тишиной, словно древние потрескавшиеся плиты хранили ее в этом забытом уголке.
— Как тихо… — прошептала Аэлис. — Ты слышишь, какая тут тишина? Кажется, будто камни что-то рассказывают…
— Наверное, так оно и есть, — тоже шепотом ответил Робер, не отпуская ее руку. — Смотри, Аэлис, мы здесь совсем одни.
Башня Фредегонды, хотя и не очень высокая сама по себе, была воздвигнута на вершине моранвильского холма, и сейчас выше ее из всех сооружений замка поднималась только мрачная громада донжона, да и то лишь верхний его ярус.
— Ты уверен, что нас оттуда никто не увидит? — спросила Аэлис еще тише.
— В эту сторону не выходит ни одной бойницы, а дверь на верхнюю площадку донжона замурована — я нарочно спрашивал у Симона. Сказал, что мне хотелось бы взглянуть на окрестности. Симон говорит, что выход замуровали после того, как дама Алиенор де Пикиньи бросилась оттуда вниз, узнав, что мессир Готье убит неверными под стенами Аскалона. Нет, Аэлис, здесь мы одни…
Он взглянул на девушку и, встретив ее немного испуганный и словно ждущий чего-то взгляд, внезапно смутился, чувствуя, как заколотилось сердце.
Они долго молчали, а потом Робер спросил:
— Помнишь, мы с тобой сидели вон там… и ты мне рассказывала, как твой прадед воевал с епископом Бовэ…
— Помню… — вздохнула Аэлис. — Давай посидим, как тогда, хочешь?
Держась за руки, они прошли к противоположной стене и, обжигаясь о горячий камень, сели прямо на пол.
— Ой! Не могу, Робер! — охнула Аэлис, вскакивая на ноги. — Я тут спекусь, как еретичка на костре!
— Тогда иди сюда! — засмеялся Робер, протягивая ей руки. — Садись ко мне на колени…
Аэлис не заставила себя упрашивать.
— Как хорошо… — улыбнулась она и, положив голову ему на плечо, закрыла глаза.
Да, ей было хорошо, очень хорошо… И все же в самой глубине сердца, словно крохотная заноза, притаились какая-то тревога и недовольство. В самом деле, к чему все эти разговоры о будущем? Разве им плохо сейчас? Разве мало того, что есть?
— Разве нам не хорошо теперь? — спросила она с нежным упреком. — Робер, друг мой, разве тебе этого мало?
— Ты сама знаешь, что мало, моя любовь, — отозвался он не сразу. — Мне нужно лежать рядом с тобой и держать тебя в объятиях и чтобы на тебе не было этого красивого платья…
— Бог свидетель, платья снять я не смею, как бы мне самой этого ни хотелось, — шепнула Аэлис. — Но просто полежать мы можем, и мой корсаж расстегивается совсем легко. Право, вы недогадливы, мессир оруженосец!
Они легли на горячие от солнца плиты, он обнял ее, и она положила голову ему на грудь, слушая неистовое биение его сердца. Потом приподнялась и посмотрела ему в глаза — совсем близко.
— Аэлис… моя прекрасная любовь, — сказал Робер. — Губы мои соскучились по твоим…
— Клянусь спасением души, мои стосковались больше, друг Ро…
Трижды в день все обитатели замка Моранвиль, начиная от самого сеньора и кончая приближенными слугами, собирались в большой замковой зале для завтраков, обедов и ужинов, протекавших торжественно и неспешно под присмотром сенешаля, господина Ашара, зорко следившего за порядком. Столы стояли «покоем»: два длинных примыкали под прямым углом к главному, покороче и на возвышении. На середине верхнего стола, в обитом алым фламандским бархатом кресле, высокую спинку которого венчал резной герб рода Пикиньи, восседал сир Гийом. По правую руку сидел капеллан, по левую — Аэлис, за ними Симон и Ашар де Буль, а дальше, в зависимости от звания и должности, размещались вассалы. Служащие и слуги занимали боковые столы, тоже в порядке старшинства и лицом к середине.
Обычно трапезы проходили оживленно, однако сегодня за ужином чувствовалась какая-то напряженность. Мессир Гийом, не понимая причины опоздания итальянцев, навстречу которым еще пять дней назад выехал Филипп Бертье, был неспокоен и, против обыкновения, молчал, рассеянно слушая отца Эсташа, который тщетно пытался поддержать разговор. По взаимной договоренности встреча должна была состояться в Клермонском аббатстве еще три дня назад, а путь оттуда занимает не более суток, так в чем же дело?
Аэлис тоже нервничала, но по другой причине. Она была в смятении — ее сжигала память о том, что было там наверху, на площадке Фредегонды. Она боялась, не совершила ли смертного греха, сама расстегнув платье перед Робером (он так и не осмелился) и позволив его рукам касаться ее груди, боялась и не понимала, как может смертный грех быть таким сладостным, таким… таким, что даже сейчас от одного воспоминания ее бросало в жар, а колени слабели.
Но было в ее смятении и другое. Сегодняшний разговор — не на башне, а там в саду — не выходил у нее из головы, и сейчас она уже не могла отмахнуться от него, как тогда — днем. Сначала на душе осталось только легкое недовольство, крошечная заноза в сердце, но потом она стала расти, жалить все больнее, а к вечеру Аэлис совсем расстроилась. Хуже всего было то, что она чувствовала себя как бы виноватой, хотя и не совсем понимала в чем. Она могла обещать ему вечную любовь, но быть его женой? Конечно, Робер может стать рыцарем и даже наверняка станет, но все равно! Отец никогда не разрешит ей выйти замуж за вальвасора. Ах, нечего и думать, чтобы он разрешил такой брак! И неужели Робер не понимает этого? Тогда к чему эти разговоры о замужестве? Они любят друг друга, и это самое главное — этого у них никто не сможет отнять! А что будет потом… Рано еще загадывать, всякое может случиться…
Конечно же, она права, она не могла ему ничего обещать, убеждала себя Аэлис, и все же чувство вины не проходило. Сердце подсказывало ей, что как-то не так следовало себя вести…
Отец Эсташ вопросительно глянул на нее и покачал головой:
— Ты плохо ешь, дитя мое. Не больна ли?
Сир Гийом поднял голову и тоже посмотрел на дочь:
— И верно, ты сегодня какая-то слишком присмиревшая, Аэлис. Что с тобой?
— Не знаю, отец, — смутилась она, — не по себе как-то…
— Тогда тебе надо лежать. Как вы считаете, отец мой?
— Совершенно верно, мессир! Чем бы ни было вызвано недомогание, покой прежде всего! Тебе следует лечь, а я велю приготовить отвар из семи трав и…
— Благодарю вас, но я не хочу лежать, — перебила его Аэлис, — и не хочу никакого отвара — ни из семи, ни из четырнадцати, ни из сорока тысяч трав! — Но, поймав осуждающий взгляд отца, она нетерпеливо добавила: — Ну хорошо, выпью я ваш отвар! Выпью!
— Вот и прекрасно, — обрадовался капеллан, — после ужина сам прослежу за его приготовлением.
Аэлис вздохнула. Она чувствовала на себе взгляд сидящего далеко, за нижним столом, Робера, но не решалась взглянуть в его сторону. Ну как убедить его отказаться от этой безумной затеи? Зачем ему уезжать, зачем обрекать друг друга на годы разлуки, если им так хорошо вместе и на Фредегонде их действительно никто не увидит… Покраснев, она опустила голову и раздраженно оттолкнула большую мохнатую собаку, которая под столом лезла ей в колени.
За раскрытыми окнами, откуда влетала и кружилась вокруг свечей мелкая крылатая нечисть, вдруг возник протяжный звук дальнего рога. Ему тут же ответил другой, пропевший совсем близко, наверное с надвратной башни. Пикиньи вопросительно глянул на Симона, тот кивнул и выбрался из-за стола. Отсутствовал он недолго и еще в дверях сделал успокаивающий жест.
— Это Бертье, — крикнул он. — С ним гости, я выйду встретить!
— Да-да, мы тоже идем, — заторопился Пикиньи. — Наконец-то! Друг Ашар, проследи за встречей, чтобы все было как надо. И вы, мадам, — обернулся он к дочери, — тоже ступайте за мной…
Она послушно поднялась и последовала за отцом; впереди бежала целая свора. За ними с шумом потянулись все присутствующие. В дверях Аэлис замешкалась и отошла в сторону. Зал опустел, они с Робером остались одни.
— Почему ты осталась? — удивленно спросил юноша.
— Не хочу видеть этого ростовщика! Противно смотреть — его встречают как сеньора…
Робер посмотрел на нее, будто не решаясь что-то сказать. Несколько минут оба молчали, следя в открытое окно за снующими во дворе факелами.
— Ты все-таки поди туда, Аэлис, — сказал он, — иначе отец разгневается.
Аэлис капризно надула губы, но поняла, что он прав.
— Хорошо, пойдем!
Когда они вышли, встреча уже состоялась. С верхней площадки лестницы Аэлис с невольным любопытством окинула взглядом толпу. Было светло от факелов, и в их колеблющемся свете она сразу увидела приезжих — оба гостя были богато одеты и держались с большой непринужденностью, особенно тот, с которым сейчас разговаривал отец.
— Смотреть противно, — с гримасой повторила Аэлис, — нарядился, будто вельможа, и ведет себя совсем как равный!
— Он и выглядит как равный, — ответил Робер и, помолчав, заметил: — Ты несправедлива к нему, госпожа.
Аэлис возмущенно фыркнула, но не успела ничего ответить — в этот момент сир Гийом увидел ее и что-то сказан своему собеседнику. Тот обернулся, она встретила его взгляд, сразу забыла все, что хотела сказать, и в смятении опустила глаза. Ей захотелось повернуться и уйти, а не играть роль радушной хозяйки.
Маленькая группа направилась к лестнице. Гость, легко взбежав по ступеням, поклонился Аэлис:
— Разрешите приветствовать вас, госпожа! И простите, что вызвал недовольство, которое я с огорчением читаю в ваших прекрасных глазах.
Раздосадованная его проницательностью, Аэлис вспыхнула и ничего не ответила. Подоспели остальные, и отец пришел ей на помощь:
— Мадам, это мессир Франсуа Донати, а это его друг и поверенный, мессир Жюль Гви… Ги…
— Джулио Гвиничелли, мадонна. — Второй гость белозубо блеснул улыбкой и тоже поклонился. — Но вашим губкам не выговорить чужеземного имени, поэтому пусть я буду Жюль.
— Прошу вас позаботиться о любезных нашему сердцу гостях, — продолжал отец, — и проводить в отведенные им покои. Освежитесь с дороги, мессиры, мы ждем вас к ужину.
Аэлис едва склонила голову и сделала рукой округлый жест, как показывал когда-то мэтр Бертье, помимо прочего учивший ее куртуазным (в его представлении) манерам.
— Благоволите следовать за мной, — сказала она высокомерным тоном, не поднимая глаз.
Ужин затянулся, и гости, и хозяева разошлись поздно, с самыми разнообразными чувствами и заботами. Этой ночью многие не спали в замке Моранвиль. Сир Гийом, несмотря на поздний час и большое количество выпитого, еще долго совещался с Филиппом в своем кабинете, а его дочь обсуждала события минувшего вечера с Жаклин. Уже готовая ко сну, она сидела на краю постели, и камеристка, стоя возле нее, не спеша расчесывала ее распущенные на ночь косы.
— …Филипп назвал его человеком «непростым», а я бы сказала, что он просто необычен…
— Он держится как настоящий знатный сеньор!
— Нашла с кем сравнивать, — возразила Аэлис. — Дядя Тибо куда как знатен, а по манерам — сущий кабан… нет, в ломбардце что-то особенное.
— Это верно, госпожа! — мечтательно вздохнула Жаклин. — Очень уж все в нем красиво, и речь, и походка…
— Смотри не влюбись…
— Скажете такое! Что мне, охота в беду попасть? — Она помолчала и затем добавила: — А сеньор Жюль тоже очень хорош. Правда, малость забавный. Бородка, точно у козла, и штаны разноцветные. Заметили, госпожа? Одна нога у него зеленая, другая желтая в полоску, точно у скомороха!
— Да, забавный… — рассеянно ответила Аэлис. — Этот Франсуа, конечно, человек необычный. Столько путешествовал, так много знает!
— Верно, госпожа, у меня аж дух захватывало, когда он рассказывал… А как хорошо оба по-французски говорят! Прямо удивительно, можно подумать, что настоящие христиане…
— Да кто же они по-твоему, неужто сарацины?
— Может, турки?
— Дура! — в сердцах отрезала Аэлис. — Они оба подошли за благословением к отцу Эсташу! Неужто он стал бы осенять неверных крестом? Да их бы сразу скрючило, стати бы как две головешки.
— Страх какой! — Жаклин испуганно перекрестилась. — Может, и в самом деле христиане… только не верится. Повернитесь немножко, а то и не расчесать… Ох, и красивые же у вас волосы, ну прямо так и переливаются на свету!
— Не ври, знаешь ведь, что мне не нравится цвет моих волос.
— Воля ваша! Только это не так уж и важно, нравится ли вам, — важно, что другим нравится! — ответила Жаклин, лукаво посмеиваясь.
— Кому это, интересно? — с деланым безразличием спросила Аэлис.
— Будто сами не знаете! Мессир Франсуа целый вечер глаз не мог от вас отвести.
— Глупости! — смутилась Аэлис. — Гостю положено уделять внимание хозяйке дома. И хватит болтать, ступай…
Жаклин задула свечу, пожелала покойной ночи и убежала.
Оставшись одна, Аэлис долго сидела, сжав на коленях руки и не сводя глаз с дымных полос лунного света, протянувшихся из высокого узкого окна.
Не спал и Робер. Вокруг была ночь, тишина и какая-то непонятная тревога. Неужели из-за итальянца? Он закрыл глаза, стараясь успокоиться, но тут же поспешил открыть их, выругавшись сквозь зубы. Перед ним снова ожил сегодняшний вечер: голос этого проклятого флорентийца, рассыпающего перед Аэлис свои любезности, и ее глаза — широко открытые, словно у ребенка, увидевшего чудо…
Совсем другие чувства волновали в эту ночь Франческо Донати. Джулио наконец утихомирился и заснул, а он все лежал без сна, глядя в зеленовато высветленный луной проем окна, и вспоминал горящие от любопытства глаза Аэлис, ее по-детски приоткрытые губы… Его охватила острая, какая-то первобытная радость сознания собственной силы, могущества, молодости. Да, жизнь была в его руках и час от часу, становилась все заманчивее! Вскочив с постели, он подошел к окну и высунулся наружу, полной грудью вдыхая свежие запахи летней ночи, с наслаждением предвкушая завтрашнюю охоту и новую встречу с Аэлис. Благословен час, когда в уме старого интригана Ле Кока зародилась столь выгодная для всех сделка!
Глава 6
Наутро полил дождь, и охоту пришлось отложить. Земля просохла лишь на третий день; едва забрезжил рассвет, двор замка наполнился шумом, суетой и голосами охотников. Псари с трудом удерживали огромных, одетых в кольчужные попоны испанских мастифов для охоты на вепря, захлебывалась возбужденным лаем свора борзых, нетерпеливо ржали и били копытами кони. Мессир Гийом, стоя с дочерью и гостями на верхней площадке лестницы, наблюдал за последними приготовлениями, время от времени обмениваясь с Франческо замечаниями о качествах той или иной собаки:
— Взгляните вон на того пса, мессир Франсуа. Вон тот, с подпалинами на груди…
— Великолепное животное, клянусь святым Юбером! — отозвался тот, с удовольствием знатока оглядывая громадного бордосского дога. — Я бы не побоялся оставить его с вепрем один на один.
— И не ошиблись бы, — с гордостью кивнул Пикиньи. — Прошлой осенью Мальмор сразил мессира кабана в честном одиночном бою.
— Я помню! — обрадовано вмешалась Аэлис. — Такой был страшный вепрь, трехлеток, вот с такими клыками!
Франческо обернулся и с улыбкой посмотрел в ее блестящие от возбуждения и радости глаза. Аэлис смутилась и поспешно отвела взгляд, обратившись с каким-то незначительным замечанием к Жаклин.
Сборы подходили к концу, мессир Гийом велел подавать лошадей. Держа под уздцы белого иноходца Аэлис, Робер подвел его к подножию лестницы, с бьющимся сердцем следя за неторопливо спускавшейся по ступеням девушкой. Алый бархатный плащ бросал розовый отблеск на белую шею Аэлис. Робер с нетерпением ждал минуты, когда сможет, подсаживая в седло, коснуться ее руки и заглянуть ей в глаза. Он уже готов был шагнуть навстречу, но Франческо опередил его.
Робер не успел даже опомниться, как проклятый флорентиец с непостижимой наглостью поднял девушку на воздух и что-то шепнул ей, не особенно торопясь опустить на седло. Он видел, как вспыхнули щеки Аэлис, — на секунду Робер словно ослеп от бросившейся в голову ярости, а когда пришел в себя, итальянца возле Аэлис уже не было и она с тревожным любопытством наблюдала за чем-то, вытягивая шею.
Успокоившись, Робер глянул в ту сторону и увидел другого флорентийца, почему-то сидящего прямо на ступенях. Вокруг суетились итальянские слуги, Пикиньи и Франческо с расстроенными лицами стояли рядом, а по лестнице уже спешил капеллан, исполнявший в замке обязанности домашнего лекаря.
— Что случилось, госпожа? — спросил Робер, подойдя к Аэлис.
— А-а-а, Робер… — Она рассеянно улыбнулась ему и снова отвернулась, с интересом наблюдая за происходящим. — Сама толком не знаю, кажется, мессир Жюль оступился и вывихнул ногу, а может, сломал… Вон как кривится!
Джулио действительно морщился и охал, а когда отец Эсташ коснулся его лодыжки, застонал и попросил оставить его в покое.
— Мессиры… — добавил он, обращаясь к Пикиньи, — мессиры, не ждите меня и отправляйтесь спокойно! Как видите, охотника из меня сегодня не получится.
После обмена пожеланиями и сожалениями Джулио под наблюдением мэтра Бертье и капеллана был отнесен к себе в комнату, и охотники наконец отбыли.
Когда затихли вдали последние отзвуки рогов, Джулио с перевязанной лодыжкой терпеливо лежал у себя в постели, слушая абракадабру обоих врачевателей, которые никак не могли договориться, чем поить пострадавшего и из чего ставить припарки. Когда спор был наконец разрешен, он перехватил взгляд Бертье и знаком попросил его остаться. Тот понимающе опустил веки.
— Мне самому не изготовить примочку, — сказал Филипп смиренным тоном, — вы, отец мой, в этом куда искуснее. Я тогда побуду возле больного, может, ему что понадобится.
— Конечно побудьте, мало ли что, — согласился польщенный капеллан. — Но вообще ему лучше поспать.
— Посплю, падре, посплю, — сонным голосом отозвался Джулио. Выждав, пока шаркающие шаги отца Эсташа затихли в коридоре, он выскочил из постели и прошелся по комнате, разминая ноги.
— Вам бы представлять в мираклях, мессир, — заметил с усмешкой Бертье.
— Хотелось поговорить, и я просто не знал, как избавиться от охоты.
Джулио подошел к окну и опустился в кресло, задумчиво глядя на мягкую линию зеленых холмов. Бертье сел рядом.
— Прекрасный вид, — сказал Гвиничелли, — прекрасная страна… Как жаль, что нельзя сказать того же о здешних порядках.
— Увы… А я ведь помню время, когда Франция была богатым и цветущим краем. Поистине неисчислимы бедствия этой войны…
— Полагаю, дело не в одной войне… люди воюют не только у вас. Может, проще объяснить это отсутствием в стране разумной власти?
— Несомненно, и это играет свою роль, — согласился Бертье.
— После смерти Филиппа Красивого Франция уже не знала твердой руки. — Джулио помолчал, искоса глянув на собеседника. — В Париже у меня создалось впечатление, что Карл Наваррский многим представляется обладателем весьма твердой десницы…
— К тому есть основания, — сдержанно сказал Филипп.
— Если это не секрет, мессир, я бы хотел услышать более подробное пояснение вашей мысли. Иностранцу не разобраться во всех тонкостях здешней политической жизни.
— Какой же тут секрет? Все очень просто: Карлу Наваррскому хватило ума открыто признать горожан своей опорой…
— Ума? Или хитрости?
— В политике это понятия равнозначные. Наивно думать, что Карл и впрямь возлюбил третье сословие. Разумеется, это игра. Тут важно другое — что он на нее отважился. Ни один Валуа на это не пошел бы.
— Им это не нужно — они уже у власти!
— Власть можно и потерять.
— Ну хорошо. Судя по вашим словам, у Карла есть немало шансов получить корону, но… простая смена династий, что она даст? Хотя бы тем же горожанам?
— В лучшем случае зародится новый тип королевской власти — «буржуазный», как говорят в Париже. В худшем, — Филипп пожал плечами, — будет то же самое.
— А если окажется еще хуже?
— Всякое бывает, но пока Наварра действует разумно, а Валуа уже доказали свою бездарность… Король Иоанн просто дурак, а наш регент — его сын — слишком молод. Неведомо, конечно, каким станет дофин, взойдя на престол; следует признать, что для своих лет политик он неплохой. Осторожен, умен, образован. Но… кем бы он ни стал в дальнейшем, ему едва ли научиться тому, что уже есть у Наварры, — готовности искать опоры в третьем сословии.
— Ну что ж, мессир, ваши надежды мне понятны… — задумчиво кивнул Джулио. — Вы мечтаете о власти, которая укрепит положение буржуа… Но вот, например, ваш сеньор, или епископ Лаонский, или хотя бы аббат Сюжер… Их что заставило стать на сторону Наварры? Надо полагать, не желание поскорее увидеть «буржуазную» власть?
— Разумеется, нет! У каждого свои цели, и каждый печется о собственных интересах. Сиру де Пикиньи нужны деньги и устойчивое положение при дворе… Монсеньор Ле Кок? Ну, тут я могу лишь догадываться, но, вероятно, он с помощью Наваррца рассчитывает получить кардинальскую шляпу. Что же касается досточтимого аббата, — Бертье хитро посмотрел на Джулио, — то этому нужен Бовэзийский епископат, а Филипп Д’Алансон держит сторону дофина. Ergo,[40] дабы сесть на место Д’Алансона, нужно убрать дофина с помощью Наварры. Как видите, все очень просто!
— Да, — Джулио покачал головой, — всюду одно и то же… А вот стоит ли банкирскому дому ввязываться в династические распри? Между нами говоря, господину Донати предложено финансировать партию Наварры, его просят о предоставлении крупного займа. Я вот и не знаю, что тут посоветовать. Такой огромный риск…
— В данном случае, мне думается, он не так уж велик, — возразил Бертье, помедлив. — У Наварры действительно есть виды на корону, и очень неплохие… За него стоят не только буржуа Парижа и других городов; за него большая часть французского дворянства, в частности вся Нормандия, и… — Филипп понизил голос, — если уж взвешивать все, то следует учесть, что Эдуард Английский, судя по всему, весьма благосклонно смотрит на притязания Карла. Ходят слухи о неких переговорах… А это может иметь большие последствия, очень большие.
Они помолчали, а потом Филипп заговорил снова:
— Разве вы не рискуете, отправляя в море корабли с ценным грузом? Но риск риску рознь… Сумев своевременно поддержать претендента на престол, можно получить прибыль, какая вам и не снилась.
— Это если ваш претендент выиграет. А если нет? Даже крепко сидящий на троне государь не всегда платит долги, изгнанник же, потерпевший поражение в борьбе…
— Нет, — перебил Бертье, — Карл Наваррский поражения не потерпит. Позвольте и мне быть откровенным — переговоры, о которых я упомянул, уже идут. Бренн когда-то бросил на весы меч, а Карл сделает обратное — на его чашу будет положен мир, но которому так истосковались и французы, и англичане. Дело в том, что Наварра согласен на то, на что никогда не пойдут упрямые Валуа, — он готов разделить королевство с Плантагенетом…
Уже под вечер прибыли охотники. Посмотреть на добычу сбежался весь замок. Джулио, уже не скрывая своего «исцеления», с завистью разглядывал охотничьи трофеи.
— Неплохая охота, мессир Жюль! — крикнул Пикиньи, осаживая коня возле привязанных к жердям туш. — Два кабана и три оленя, не считая косуль и всякой мелочи! Одного венря затравил я, другого ваш друг, и клянусь, на это стоило посмотреть!
— А я?! — закричала Аэлис с сияющими от возбуждения глазами. — Я ведь тоже охотилась! Вот этого красавца я сама прирезала, правда, спросите у мессира Франсуа! — Наклонившись в седле, она указала на молодого оленя-самца. — Вы разглядите его хорошенько — восемь отростков, клянусь святым Юбером! — и я вонзила ему нож прямо в сердце с первого удара!
Франческо соскочил с коня и, бросив поводья Гвидо, остановился возле иноходца Аэлис, с нескрываемым восхищением глядя в пылающее от долгой скачки и свежего ветра лицо девушки.
— Ваш удар, мадонна, был истинным ударом милосердия для этого прекрасного животного! — ответил он с улыбкой.
— Удар был хорош! — подтвердил Пикиньи. — Молодец дочка, ничего не скажешь!
Аэлис, счастливая и Гордая своим участием в охоте, не спешила сойти с лошади, блестящими глазами следя за царившей вокруг радостной суматохой и с наслаждением вдыхая запах охоты — запах сбруи, лошадиного пота и кабаньей крови…
Стоявший возле нее Франческо подошел ближе и как бы случайно коснулся рукой ее ноги.
— Мона Аэлис! — тихо позвал он. — Лошадей уводят, разрешите мне помочь вам… — И прежде чем она успела что-либо возразить, он взял ее за талию и, сняв с седла, поставил на землю вплотную к себе — ей показалось, будто она стоит в его объятиях.
Покраснев, Аэлис отшатнулась и быстро пошла к лестнице.
Робер, и без того хмурый, не упустил этой сценки. Наскоро расседлав лошадей, он прошел к себе в комнату и как был, не переодеваясь, бросился на постель. Он знал, что внизу скоро сядут ужинать, что ему тоже следует пойти туда, но не мог заставить себя подняться. Никуда он не пойдет! Для чего ему это? Лишний раз увидеть, как Аэлис, потеряв стыд, позволяет этому наглецу обнимать себя на глазах у всех? Нет уж, с него хватит!
Катрин, вместе со всеми встречавшая охотников, сразу заметила, что Робер вернулся сам не свой. Она снова и снова под разными предлогами проходила мимо его комнаты, прислушивалась к каждому звуку, доносившемуся из-за двери, а когда поняла, что он не выйдет, сердце ее совсем упало. Значит, правда ему, бедняге, плохо, раз он не хочет даже поужинать после целого дня в седле! Она сбегала на кухню и, спешно собрав корзинку снеди, решительно постучалась к чему в дверь.
— Робер, я тут принесла кое-чего. — Катрин стала хлопотать у стола. — Поешь, а то целый день не евши…
— А тебе что? Ты-то чего стараешься? Забирай все обратно, я не голоден.
Катрин решительно мотнула головой:
— Ешь, ешь, нельзя же так… А сама я уйду, я ведь только принесла…
Она заторопилась к двери, но Робер окликнул ее.
— Погоди!
Девушка оглянулась, смаргивая слезы. Роберу стало ее жаль.
— Тогда уж давай поедим вдвоем, — улыбнулся он, кивнув на стол.
Он поднялся и, проходя мимо, ободряюще потрепал ее по плечу, как часто делал это раньше, когда они еще были детьми. Они сели, но Катрин едва решилась отломить хлеба. Робер, почувствовавший внезапный голод, начал быстро есть.
— Ну, чего сидишь, точно на поминках? Мы ведь договорились, а ну-ка ешь!
Девушка, осмелев, тоже взяла себе кусочек мяса.
— Вот и молодец! — улыбнулся Робер, наливая ей вина. — Сейчас еще выпьем с тобой — сразу повеселеешь… Только все до дна!
Замирая от смущения, Катрин послушно выпила.
— Благодарю тебя, Робер, — прошептала она, возвращая ему кружку.
Потом они выпили еще, постепенно Катрин успокоилась и даже отважилась смеяться шуткам Робера. Тому тоже стало немного легче, он уже почти с удовольствием смотрел на раскрасневшееся, хорошенькое личико Катрин. «Славная она, — подумал Робер, — и хорошо, что пришла, а то сидел бы один как сыч…»
Между тем в большом зале царило веселье. Мессир Гийом, довольный удачной охотой и разгоряченный выпитым, был особенно любезен, не уставая хвалить смелость сеньора Донати и его умение владеть копьем, на что гость отвечал такими же любезностями. Однако скоро хозяина стало клонить ко сну, и он удалился в самом благодушном настроении, предложив гостям пировать хоть до зари. Постепенно стали расходиться остальные, в зале остались Аэлис со своей камеристкой и оба флорентийца.
Джулио предложил было перейти к затопленному по случаю охоты камину, но тут же сказал, что ему жарко и остался за столом, попросив Жаклин растереть его пострадавшую ногу. Аэлис с Франческо пересели к огню, но здесь и впрямь оказалось слишком жарко. После целого дня, проведенного в седле, Аэлис разморило; она вдруг почувствовала внезапную усталость, закрыла глаза и откинулась на спинку кресла.
Франческо улыбнулся и, подсев поближе, взял ее за руку.
— Мадонна, вы спите? — тихо спросил он.
— Почти… — пробормотала она и вдруг, сообразив, что он поглаживает ее пальцы, выдернула руку. — Что это вы делаете?
— Ровно ничего. Просто любовался перстеньком, он такой… скромный. Бог свидетель, ваша ручка достойна более подходящих украшений, подобных вашему медальону с королевскими лилиями.
— Это наследство моего деда, коннетабля Франции! — высокомерно бросила Аэлис, в досаде закусив губу, и, когда он предложил ей вина, мотнула головой: — Я не хочу!
— Как вам угодно, мадонна. — Франческо отпил из кубка и поставил его на столик возле кресла. — Я просто хотел выпить вместе, чтобы узнать мысли. Или вы боитесь, что я узнаю ваши?
— Мне все равно. — Аэлис пожала плечами. — Да вам их и не узнать!
— А давайте попробуем. Если не хотите вина, есть еще лучший способ — у нас во Флоренции дамы часто играют с кавалерами в эту игру. — Он достал из-за пояса вышитый платок и одним взмахом развернул перед Аэлис, овеяв ее волной благовоний. — Соблаговолите взяться за другой уголок, нет-нет, правой рукой — вот так, растянем его, и поднимите выше, к лицу… Ближе, еще ближе. А теперь смотрите на меня сквозь платок — сразу не увидите, но попытайтесь представить меня, а я буду смотреть на вас с этой стороны, и, как только нам покажется, что мы друг друга видим, тотчас узнаем, кто что думает…
— Чем это вы его так надушили? — шепотом спросила Аэлис, честно пытаясь увидеть.
— Аравийский нард, немного розового масла и мускуса. Не нравится?
— Нравится, только я сейчас расчихаюсь…
Платок был совсем тонкий, но Аэлис сидела так, что полупрозрачная ткань была освещена отблеском огня в камине с ее стороны, и поэтому не увидела, как лицо Франческо приблизилось к разделявшей их легкой преграде. Лишь в последний миг она ощутила сквозь платок его дыхание и тут же почувствовала на губах легкий поцелуй. Девушка отшатнулась, выпустив свой конец платка.
— Мессир, что вы себе позволяете!
— Увы, опыт не удался, — как ни в чем не бывало сказал Франческо. — Но я вознагражден стократ — благодарю, мадонна, за подаренный мне поцелуй.
— Я вам ничего не «дарила» — дочери французских баронов не дарят поцелуи первому встречному!
— Браво, браво. Но согласитесь, мона Аэлис, я ведь не совсем первый встречный? А? Можете вы поклясться на этой реликвии святого Франческо ди Ассизи, — он, продолжая улыбаться, коснулся висящего на груди медальона, — что отец не советовал вам, как бы это сказать, мм… ну, быть полюбезнее с гостями, которых он ждет?
Аэлис вскочила, вырвала из его рук платок и швырнула в огонь, потом кликнула Жаклин и торопливо вышла из зала.
Джулио недоуменно уставился на друга и пожал плечами:
— Что ты натворил, Франческо? Почему прекрасная донна выскочила с такой поспешностью, будто за ней гналась дюжина демонов?
— Я не сделал ничего, что расходилось бы с законами куртуазности! — засмеялся Франческо. — Просто нашей дикарочке они в новинку. Да, она прелюбопытное создание… А теперь, Джулио, перескажи-ка вкратце разговор с легистом.
Он снова наполнил свой кубок и молча потягивал вино, пока Джулио рассказывал. Когда тот закончил, Франческо помолчал еще с минуту.
— Старик переоценивает Наваррца, — сказал он наконец. — Карл слишком авантюрист, чтобы стать королем. Но денег я ему дам…
Вернувшись к себе, Аэлис долго не могла успокоиться, возмущенная наглостью «этого менялы». Жаклин заикнулась было, что «мессир Франсуа ничего такого себе не позволили и даже королеве тут не на что обижаться»; она окончательно рассвирепела, и тут уж камеристке досталось за все. И за глазки, которые она бесстыдно строит всем и каждому, и за непристойно глубокие вырезы платьев, и за сегодняшнее непотребное поведение с мессиром Жюлем. «Постыдилась бы, — кричала Аэлис, — распутница, ты там хихикала, как шлюха, которой лезут под юбку! Тебя надо отстегать крапивой, а потом посадить на недельку в масамор,[41] чтобы любезничала с пауками и жабами!» Жаклин про себя только посмеивалась над угрозами, но, решив, что так госпожа, пожалуй, не скоро утихомирится, как бы невзначай спросила: «А куда это пропал сир Робер? Что-то за ужином я его не видела». Аэлис сразу замолчала и с тревогой посмотрела на камеристку. «А ведь правда… Куда он девался? Ну-ка, позови его!» Жаклин убежала, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху. Чтоб ей в жизни больше не целоваться, если госпожа не забудет все свои строгости, едва Робер сюда войдет! А кто больше заслуживает крапивы, так это еще как сказать.
Оставшись одна, Аэлис прошлась по комнате, чувствуя, как в душе нарастает странная тревога — почти страх. Почему бы это? Неужели из-за наглости этого буржуа? Глупо! Ведь не ее же он поцеловал, в самом-то деле! И куда девался этот несносный Робер? Хорош влюбленный, разрази его злой гром!
За дверью послышались шаги, Аэлис нетерпеливо обернулась. Робер вошел и молча остановился в дверях.
— Как это понимать, мессир?! — набросилась на него Аэлис. — Вы что, пришли сюда показывать свое дурное настроение?
— А я не приходил, — холодно ответил Робер. — Вы, госпожа, сами меня позвали.
Аэлис шагнула к нему, сжав кулаки от негодования, но взгляды их встретились, и она испугалась.
— Робер, что с тобой? — спросила уже другим тоном. — Почему ты на меня так смотришь?
— А как на тебя смотреть? — крикнул Робер. — Может, я должен радоваться, что ты целый день позволяла этому проклятому павлину вертеться рядом с собой?
— Что?! Я позволяла ему вертеться рядом?!
— Не прикидывайся! Я не слепой и все видел!
— Да что ты мог видеть?! — крикнула Аэлис уже сквозь слезы. — Как тебе не стыдно, Робер! Ты же знаешь, что отец приказал мне быть любезной с менялой!
— Не ссылайся на отца — ты сама с ним заигрывала! Позволяла себя обнимать! На тебя стыдно было смотреть, когда он снимал тебя с седла, — ты готова была раздеться перед ним! Прямо у всех на глазах!!
— О-о-о! — Аэлис всхлипнула и, отступив к постели, схватилась рукой за полог. — Да как ты смеешь! У тебя… у тебя совести нет, нет сердца… И ты совсем не любишь меня, если мог такое сказать!! — Она отвернулась и, бросившись ничком на постель, громко зарыдала.
Робер растерялся, этого он не ожидал. Может, она действительно не могла отделаться от распутного негодяя? В самом деле, она еще раньше говорила, что сир Гийом приказал ей принимать гостя полюбезнее… И верно, не могла же она ослушаться отца… Не выдержав, Робер подошел к девушке и с раскаянием тронул ее за плечо:
— Аэлис… успокойся! Ну, может, я и правда… погорячился!
Аэлис дернула плечом и заревела еще громче. Он присел рядом, погладил ее по спине и осторожно поцеловал в затылок. И зачем только наговорил ей такого! Почувствовав, что Робер уже и сам раскаивается, Аэлис сразу успокоилась и, повернувшись на спину, стала отталкивать его руки:
— Нет-нет, убирайтесь, не трогайте меня! Если я такая развратная…
Она не договорила — он рванулся к ней, стал горячо целовать ее губы, лицо, шею:
— Аэлис… любовь моя…
Аэлис, то ли отталкивая его, то ли притягивая к себе, шепнула:
— Робер, не оставляй меня! Никогда не оставляй, ни на один день, слышишь?..
Она снова оттолкнула его и, сняв с себя тяжелую серебряную цепь, к изумлению Робера, неожиданно легко отцепила от нее медальон и вложила в его руку.
— Он твой, друг Робер! Носи его в знак моей любви и твоей верности. Он защитит тебя и принесет удачу! И что бы ни случилось, обещай, что никогда не снимешь его…
Глава 7
В деревню он сумел отлучиться лишь на третье воскресенье после своего переселения в замок. С самого утра уйти не удалось — задержал Симон, заставил присутствовать при разбирательстве дурацкого дела: один стражник проиграл другому поножи, а у того их не оказалось, и теперь он клялся и божился, что никаких поножей в глаза не видел и вообще костей в руки не брал. Оба, хотя и ссылались на всех святых, врали совершенно очевидно, свидетели несли какую-то околесицу, и кончилось тем, что Симон потерял терпение и велел выпороть обоих игроков, пригрозив повторять это каждое воскресенье, покуда пропажа не найдется. Выходя из ворот, Робер услышал с хозяйственного двора вопли — явно притворные; стражникам полагалось наказывать друг друга, и они всегда делали это вполсилы — каждый рассчитывал на ответную любезность, когда дело дойдет до него самого…
У Мореля Робер застал гостя — он встречал этого человека и раньше, тот время от времени появлялся и исчезал; но единственное, что о нем было известно, — это что зовут его Шарль или Гийом Шарль, а родом он откуда-то с севера, о чем можно было догадаться по говору: имя свое он произносил как-то невнятно, вроде «Карль», «Каль». Был он уже не так молод, лет под тридцать, и, похоже, привык иметь дело с оружием, хотя не носил с собой ничего, кроме обычного ножа да еще крепкого посоха с окованным концом. Отец Морель, судя по всему, знал об этом Кале несколько больше, но держал сведения при себе.
Когда Робер вошел, кюре с гостем сидели за столом, доедая гороховую похлебку. От похлебки Робер отказался, а вина в кружку налил и, прислушиваясь к разговору старших, прихлебывал по глотку, отщипывая кусочки хлеба от положенной перед ним краюхи.
— …Я ведь не о себе говорю, — продолжал Каль, — я, мессир поп, человек вольный и умею за себя постоять, меня так просто не обидишь. А когда у тебя детишек полна горница, вот тут и впрямь беда. У нас в Мелло за эту зиму полдеревни вымерло от хворей и голодухи, а весной, только посевы взошли, их тут же и вытоптали… кто только по ним не прошелся! И соседние сеньоры счеты сводили с нашим, и солдаты короля, и солдаты Кноля, и солдаты Серкота… да вы-то все это сами знаете!
— Я не хуже тебя знаю о бедствиях вилланов, — согласился отец Морель. — Но разумно ли зло исцелять злом? Нет ничего проще, как увлечь за собой толпу, тем более когда это толпа обездоленных и голодных… А потом что?
Каль задумался, рассеянно следя за пляшущими в солнечных лучах пылинками.
— Что будет потом — не знаю. Но помню, что говорил один проповедник… провожал я его после проповеди, его тогда чуть стража не сцапала, он мне и сказал: «Никогда не забывай одного: если люди навсегда смирятся с насилием, наступит вечное царство Сатаны!»
— Значит, пусть льется кровь?
Каль повернул голову к отцу Морелю:
— Клянусь святым Дени, да! Кровь все равно льется, как и лилась, и всегда будет литься, это дело привычное…
— Страшные вещи ты говоришь, Гийом Каль, — прошептал кюре.
— А что? Он прав, — вмешался Робер. — Если бы пролили кровь того, кто убил Жака Фрерона, и опозорил его дочку, и поджег дом, — разве не было бы это богоугодным делом? Разве не сказал Господь: «Мне мщение, и Аз воздам»?
Отец Морель замахнулся и огрел Робера ложкой по голове:
— Не кощунствуй, окаянный! И не пытайся толковать Писание, коли ничего в нем не смыслишь! Встань и изыди! Побудь в саду, мне надо с тобой поговорить.
Робер потер лоб и, ухмыляясь, вылез из-за стола.
— Ничего, парень, — ободряюще сказал Каль, — считай, тебя благословили.
— Я вот и тебя сейчас благословлю тем же манером, негодник! — пригрозил разбушевавшийся отец Морель. — Что-то вы оба разошлись не к добру, да еще в воскресный день!
Робер вышел в задний дворик. Чубушник вокруг огорода отцвел и осыпался, кое-где лепестки еще держались, но слетали, как снег, стоило тронуть ветку. Робер прошел к грядкам, оглядываясь с тяжелым сердцем. Репа уже поспела, он вытащил одну, ополоснул от земли в поливочном чане и сгрыз. Солнце палило немилосердно, он закрыл глаза, стараясь не вспоминать…
Вчера господа снова выезжали на большую охоту, и снова он вынужден был смотреть, как этот наглый итальянец распускает перья перед Аэлис, как она искоса поглядывает на него с милой улыбкой. А как загорелся ее взгляд, когда флорентиец с копьем бросился на кабана! Подумаешь, подвиг совершил…
Что ж, пусть развлекается. Ноги его больше не будет в ее комнате, пока этот павлин толчется в замке! И исполнять ее капризы — присутствовать при их встречах и разговорах — тоже не станет, сегодня же скажет ей об этом. Ему тоже есть чем заняться! Он вспомнил зеленый луг за стеной замка, почувствовал на плечах тяжесть доспеха, снова ощутил то особое, непередаваемое «чувство оружия», когда в схватке ты весь словно срастаешься с ясеневым древком алебарды, с выгнутой рукоятью боевого топора, когда тяжесть меча удлиняет твою руку на три фута разящей стали… Раны Христовы! Он еще докажет им всем, что может достичь не меньшего.
Скрипнула дверь, и отец Морель вышел в сад. Робер поднялся ему навстречу:
— Простите, я вас разгневал.
— Что? А, ты об этом. Пустяки, в тебе говорит просто желание возражать. Так бывает, когда душа неспокойна. — Он остановился перед юношей и внимательно посмотрел ему в глаза. — Что с тобой, Робер?
— Ровно ничего, отец мой, — возразил тот, отведя взгляд.
— Сердце твое омрачено, и я бы хотел знать, в чем причина, сядь и расскажи мне.
Робер сел, весь внутренне настороженный. Только бы отец Морель не догадался!
— Ну… если начистоту, то я теперь вижу, что здесь в замке не очень-то выбьешься… Вот и не знаю, как быть, может, лучше оставить Моранвиль да попытать счастья на стороне?
Отец Морель покачал головой:
— Да, этого я и боялся. Не успел попасть в замок, как уже этого мало, уже тебе не терпится подняться на ступень повыше. Если так начинать, то, боюсь, не будет конца этим ступеням!
Робер улыбнулся:
— Почему же? Конец будет… когда-нибудь.
— Ох, Робер, ты сильно изменился, и сейчас сердце твое слепо ко всему, кроме стремления возвыситься. Что же касается намерения оставить замок, то я этому рад, и вовсе не потому, что на стороне ты скорее выбьешься…
Они снова замолчали. Робер смотрел на грядки и вспоминал, как Аэлис привезла ему отпускную грамоту. Каким счастливым помнился сейчас этот день! Да нет, пока не появился проклятый банкир, все дни были счастливыми, особенно тот, последний, когда они были вдвоем на башне Фредегонды… Робер даже вздрогнул и с заколотившимся сердцем на минуту закрыл глаза, ослепленный воспоминаниями…
— Я давно хотел поговорить с тобой… — Голос священника доходил до него, словно откуда-то издалека, и он не сразу понял смысл того, что тот ему говорил. — Тебе уже восемнадцать — это возраст, когда юноши женятся. Скажи, среди наших моранвильских невест тебе ни одна не приглянулась?
Робер улыбнулся и отрицательно покачал головой:
— Нет, отец мой, ни одна!
— Жаль, сын мой, очень жаль. — Отец Морель с горестным сожалением посмотрел на юношу. — А ведь за тебя бы любая с радостью пошла!
— Но я бы не взял любую. Да и к чему непременно жениться?
— Но ты же не помышляешь о служении Церкви? Обет безбрачия даем мы, грешные, а мирянину положено иметь жену, детей…
— Детей, — ухмыльнулся Робер, — можно иметь и без жены.
— Можно, но это грешно и недостойно. Мы, сынок, говорили уже об этом, но ты либо пропускал мои слова мимо ушей, либо не давал себе труда над ними задуматься. Робер, порой мне за тебя страшно, за тебя и за…
— И за кого еще? — быстро спросил Робер, не дождавшись продолжения.
— Ну… я хотел сказать — за себя, поскольку был твоим наставником. Видишь ли, любовь к женщине может быть благодатью, но чаще она пагуба и погибель. Не только для отдельного человека, но, бывает, и для целой страны. Из-за преступной любви Родерика[42] пропало королевство визиготов, вся Испания оказалась во власти неверных… А необузданная похоть принца Париса погубила Трою. Поистине счастлив тот, кто сумеет вовремя отступиться от этого сатанинского искушения!
— Амен! — произнес Робер то ли всерьез, то ли шутливо. — Но почему, отец мой, вы сочли нужным говорить об этом именно мне? Я ведь не намерен ни похищать Елену Прекрасную, ни соблазнять принцессу Флоринду.
— А ты подумай, подумай!
Робер пожал плечами, старательно избегая встретиться взглядом с отцом Морелем.
— Мессир поп, где вы там? — послышалось из дома. В дверях показалась фигура Каля, он огляделся и, увидев сквозь кусты кюре и Робера, направился к ним. — Пришли тут за вами, недужится, что ли, кому.
— Иду-иду, — Морель встал, опираясь на плечо Робера, и ушел в дом.
Каль сел на его место.
— Ну, как тебе в замке? — спросил он. — Выглядишь ты совсем справным солдатом, только вот тут надо побольше. — Он взял его за плечи, помял, пальцы оказались как железные. — Топором работаешь каждый день?
— Да, и палицей тоже.
— Какого веса?
— Не знаю… фунтов шесть, наверное.
— Надо знать! Возьми лучше восьмифунтовую, скорее нагонишь мышцы.
— Это уж как мессир Симон скажет, он со мной занимается.
— А-а-а, ну этот понимает, — согласился Каль. — Добрый был воин, нам с ним довелось подраться локоть к локтю… в одной вольной компании.
— Правда? — Робер заинтересовался. — А под чьим капитанством?
— Да был там один. Морель говорит, ты тоже собрался в бриганды?
— Я бы, друг Каль, хоть к черту в зубы ушел.
— Что так? — Каль повернулся к Роберу, щурясь от солнца. — Не нравится в замке? Что ж, ты теперь человек вольный, никому ничего не должен.
— Какое-то время я отслужить обязан, обещался ведь. А если бы не это…
— Смотри, парень. Со стороны советовать трудно. Ежели это, скажем, из-за бабы какой, то зря, ни одна не стоит того, чтобы ломать себе жизнь. Хотя, ясно, тебе сейчас этого не понять, тут надо пожить побольше. А чужой опыт не в счет, это уж как водится. Только насчет бригандов не советую — дело опасное, да и недоброе, ежели по совести сказать. Коли всерьез надумаешь уйти из замка, шел бы в Париж. В Париже я бы тебе и дело нашел… получше того, чем ты теперь занят.
— В городе я пропаду, — сказал Робер. — В прошлом году в Понтуаз ездили с отцом Морелем — ну, страх. Неба не видать, дома с обеих сторон нависают, думаешь — вот-вот обвалятся. Как только люди живут?.. А про какое дело ты говоришь? Ремесло, что ли, какое?
— Нет, я не ремесленник. Ты про Марселя, купеческого старшину в Париже, слыхал?
— Да, не раз. И от отца Мореля слыхал, и в замке.
— В замке чего про него говорят?
— По-разному. Капеллан ругал его, а сир Гийом, я слышал, банкиру говорил, что старшина, дескать, человек незаурядный и игру ведет крупную.
— Да, игру он затеял большую… Слушай, Робер. Ты не торопись покуда, послужи в замке. Симон де Берн — добрый француз и солдат, каких немного. Научись от него, чему сумеешь. А если все-таки надумаешь податься в Париж, то есть там один купец, Пьер Жиль, — у него бакалейная лавка на улице Сен-Дени, возле церкви Святой Оппортюны… Запомнишь?
— Запомню. Церковь Святой Оппортюны, бакалейная лавка. Только зачем мне это?
— Ну, мало ли. Вдруг наскучит кормиться возле господ?
Робер нахмурился: — Нехорошо ты сказал, друг Каль. Я не пес, чтобы кормиться на чужой кухне, а воинский человек, и ты это знаешь.
— Да знаю, знаю! — Каль примирительно толкнул его локтем. — А воинскому человеку разве не хочется порой погулять на воле? Вот я и говорю — захочется тебе другой жизни, ступай в добрый город Париж, на улицу Сен-Дени. Пьеру скажешь, что от меня пришел, да и Симон его хорошо знает, можешь спросить. А я, как с ним увижусь, тоже словечко замолвлю: может, мол, прийти к вам такой парень, вы уж его тут устройте…
На обратном пути, едва выйдя за околицу, Робер встретил Катрин. Вся зардевшись, девушка стала сбивчиво объяснять, что у господина сенешаля разболелись зубы и господин Симон послал ее к господину кюре за травой для припарок, потому что у госпожи Аэлис этой травы не оказалось.
— Да иди на здоровье, — сказал Робер, — отец Морель, верно, уже вернулся.
— Послушай, Робер… — несмело сказала она, не поднимая глаз, и покраснела еще больше.
— Ну, чего тебе?
— Я только подумала… если ты не очень спешишь, то мы могли бы вернуться вместе. Я ведь ненадолго, — добавила она торопливо, — только возьму траву и вернусь. Подожди меня здесь, а?
Робер глянул на солнце и хотел отказаться, сославшись на то, что его ждет Симон, но вдруг подумал, что наверняка опять найдет Аэлис в павлиньем обществе, разрази его чума. В самом деле, куда спешить?
— Ладно, беги, я тебя подожду.
— Я мигом!
Она подобрала юбки и припустила к деревне, так что только пятки замелькали в пыли. Робер, усмехнувшись, пронзительно засвистел ей вслед, как свистят по зайцу, и уселся на большой валун у обочины. Славная девчонка эта Като. Уж не ее ли имел в виду отец Морель, говоря о моранвильских невестах? Тоже сирота, как и он, и осиротели они в один год, как и Аэлис, — «черная смерть» не делала различия между хижинами и замками. Сира Гийома спасло тогда лишь то, что он был в отъезде, где-то в имперских землях на севере, куда мор не дошел…
И не дурнушка, кстати. Родись она в знатной семье, ого, сколько бы копий было за нее сломано! Если бы ее одеть, причесать, совсем была бы хороша — даже волосы у нее такого цвета, какие воспевают труверы; недаром Аэлис держит ее подальше от себя, а камеристкой сделала черненькую Жаклин. Ему-то каштановый цвет волос Аэлис нравится больше, но сама она явно завидует белокурой Катрин.
Наверное, отец Морель прав, и думать о женитьбе ему самый возраст, но что же делать, если так получилось. Может, и в самом деле наколдовала тогда Аэлис со своим кубком? Да нет, это ведь раньше началось, много раньше, она была еще совсем девочкой, когда вместе отвечали отцу Морелю из катехизиса и географии, — потом в замке появился мэтр Филипп, и она стала заниматься с ним, но все равно прибегала в деревню или требовала, чтобы он пришел в замок… Как знать, не было ли это для нее просто игрой, не был ли он чем-то вроде одной из тех кукол, которые ей вырезал из липы столяр дядюшка Ги?
Он обернулся и посмотрел на мощную громаду замка. Сдвоенная надвратная башня с лениво шевелящимся под знойным полуденным ветерком знаменем Пикиньи, стены в выщербленных ребрах контрфорсов, а за ними — шиферные и черепичные кровли, невысокий шпиль замковой капеллы, круглый донжон и рядом выдвинутая углом Фредегонда. Спроси любого виллана — замок для них как ярмо на шее. Вроде бы и верно, а с другой стороны… понято, замок без деревни не проживет, ну а деревня — без замка? Ведь чуть что, чуть только пролетит молва о появлении в округе банды англичан или своих же рутьеров — все спешат укрыться в стенах, гонят туда скотину, бегом волокут добро. Вот и выходит — если бы не замок, от деревни давно уже осталось бы пепелище… Впрочем, не эти соображения мешали сейчас Роберу думать о замке так, как думают другие вилланы. Едва ли не важнее было другое: там, за этими грозными стенами, жила она — его Аэлис, его прекрасная любовь. Благодать — или пагуба и погибель? Да не все ли равно!
Захваченный своими мыслями, он не заметил подошедшей Катрин и опомнился, лишь когда она тронула его за плечо.
— Не очень задержала тебя, Робер? Я уж спешила как могла.
— Пустяки, мне не к спеху. Пойдем, или хочешь немного отдохнуть?
— Если ты не против, я бы с охотой посидела.
— Тогда садись. Вот сюда, места хватит! — И он похлопал рукой по шероховатой поверхности камня рядом с собой.
Девушка осторожно присела и замолчала, мечтательно глядя в дрожащее марево зноя. Как хорошо сидеть с ним вот так, рядом… Может, все-таки она ему нравится хоть немножко? Ведь согласился же он подождать ее, вернуться вместе. И сам позвал сесть рядом, хотя вокруг полно таких валунов… Она покосилась на юношу — тот сидел задумавшись, глядя куда-то вдаль, и Катрин стала разглядывать его смелее. Ах, если бы можно было глядеть на него не таясь, она не устала бы смотреть всю жизнь! Наверное, именно так должен выглядеть мессир святой Михаил — самый прекрасный и рыцарственный из всего небесного воинства…
— Робер! — тихо позвала она. — Робер, ты очень ее любишь?
— Кого? — ошеломленно спросил он.
— Госпожу Аэлис…
— Что за вздор! Чего это тебе пришло в голову.
— Зачем ты так, Робер. Я ведь не слепая! И зря ты сердишься.
Робер закусил губы и отвернулся.
Помедлив, Катрин робко коснулась его руки.
— Правда, Робер, не сердись! Разве любить — это зазорно?
— Много ты понимаешь в любви! И довольно болтать об этом, поняла? — добавил он резко.
— Как хочешь, — ответила она дрогнувшим голосом и опустила глаза.
Они долго молчали, думая каждый о своем. Жара становилась нестерпимой, Роберу захотелось под сумрачные своды замка.
— Может, пойдем? — повернулся он к девушке.
— Да, пойдем… — ответила та рассеянно. — Робер, я все хотела спросить, тебе охота нравится?
— Охота? Ясно, нравится, как же иначе! А чего это ты вдруг вспомнила?
— Ну просто… Вы же вчера опять ездили. Вот я все думаю… Жалко мне их!
— Кого это? — удивился Робер.
— Зверей, — вздохнула Катрин. — Особенно оленей. Они такие красивые, добрые, никого не трогают.
— Не говори ерунды, Бог для того и создал зверей, чтобы на них охотились.
— Не знаю… — покачала она головой. — Видела я раз, как гнали оленя… Так до сих пор не могу забыть, особенно его глаза… — Голос девушки дрогнул, и она поспешно отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.
— Опомнись, Катрин! Такое кругом творится, столько пропадает народу, а ты об олене. Да ты чего? Плакать вздумала, что ли? — Он, улыбнувшись, положил руку ей на плечо. — Будет тебе, глупая, нашла о чем плакать!
Катрин замерла, на секунду забыв все на свете, кроме чудесного ощущения его горячей, тяжелой руки на своем плече. Но он тут же убрал руку, и она словно проснулась.
— Наверное, я и правда… глупая, — кивнула она и попыталась улыбнуться. — Вот так всегда… как вспомню про того оленя, прямо… Не понимаю я, как только у госпожи рука подымается на такое… Я ведь слыхала, как она похвалялась, что сама добила оленя!
— Что значит «похвалялась»? — резко спросил Робер. — Может, госпоже надо было у тебя спросить?! А то ведь ей самой не смекнуть, чем можно хвалиться, а чем нельзя…
Глава 8
В замке между тем подходил к концу обед. Несмотря на раскрытые окна, в зале было жарко, над столом гудели мухи, которых слуги непрерывно сгоняли зелеными ветками то с одного блюда, то с другого. Аэлис сидела, раздраженная мухами, жарой и этими несносными собаками, которые то и дело затевали под столом свирепую грызню из-за костей. Прямо под ногами у нее, не участвуя в драках, развалился и шумно храпел старый Мерлин — он всегда спал у нее под ногами, зимой было приятно, но не в этот же зной, святые угодники! Робера за столом не было, и всякий раз, когда открывалась дверь, Аэлис искоса взглядывала в ту сторону. Вдобавок ко всему блоха укусила ее под коленом; пожелав Мерлину сгинуть в преисподней, Аэлис нагнулась и, делая вид, будто нюхает лежащую на скатерти розу, с наслаждением почесала укушенное место. В последнее время они почти не виделись. Неужто и в самом деле ревнует? Какой глупый! Когда вставали из-за стола, Аэлис попыталась поймать взгляд Симона, чтобы подозвать его и спросить, куда девался Робер, но тот уже вышел из зала. «Ну и не нужен он мне», — решила Аэлис. Не хватало ей бегать за собственным оруженосцем!
— Чем бы вы желали заняться, мессир Франсуа? — любезно спросила она. — Не хотите ли сыграть со мной в шахматы?
Вопрос был задан не без умысла. Хотя она уже давно простила гостю тот случай с непристойной игрой в «угадывание мыслей», все же в его присутствии Аэлис постоянно испытывала желание как-то поддеть дерзкого чужеземца, поставить его в неловкое положение, заставить смутиться. Этого ей до сих пор не удалось достичь ни разу, сейчас она подумала, что уж на шахматной доске рассчитается с ним сполна. Очень может быть, что меняла вообще не обучен этой благородной забаве, вот был бы стыд! К ее разочарованию, Франческо поклонился, приложив к сердцу раскрытую ладонь:
— Польщен и премного благодарен, донна Аэлис!
Шахматный столик стоял в глубокой оконной нише, тяжелые рамы с тусклыми кругляшками стекол в частом свинцовом переплете были распахнуты, и солнце светило прямо на доску, зажигая розовые и голубые переливы на перламутровой инкрустации по краям. Многих цветных кусочков недоставало — в детстве Аэлис любила выковыривать их острием игрушечного кинжальчика, впрочем, этим занималось, вероятно, не одно поколение юных Пикиньи; сейчас она покраснела, заметив скопившиеся в углублениях пыль и мусор.
Отец прав — прислуга совершенно распустилась за эту зиму, надо сказать сенешалю, чтобы велел высечь служанку, которая убирает в большом зале. Что это такое, в самом деле! Решетка в камине вся заржавела, а о гобелен с изображением сиров Оливера и Роланда явно вытирали жирные пальцы. Хорошее впечатление останется у гостя, можно себе представить! Эти французы, скажет, живут словно дикие тартары или могулы, в грязи и невежестве…
— Какая старинная вещь, — сказал Франческо, расставляя по местам тяжелые большие фигуры, резанные из кости и эбенового дерева. — Донна поправит меня, если я ошибаюсь, но это похоже на сарацинскую работу.
— Да, — ответила Аэлис, — вы не ошиблись, но пусть вас это не смущает, мессир Франсуа. Фигуры здесь уже давно, и я думаю, бесов в них больше нет. Во всяком случае, отец часто играет с капелланом, а уж отец Эсташ не потерпел бы прикосновение к нечистой вещи. Да и потом, мой прадед привез их из Святой земли, так что очень может быть, нечистой силы в этих фигурах вообще не было.
— Скорее всего, нет, — согласился Франческо. — Кстати, любопытный факт. Насколько известно, шахматы придуманы неверными, попав же в христианские страны, игра претерпела небольшое, но весьма характерное изменение. Фигура, которую мы ныне называем «королевой», у сарацин именовалась «визирь» и имела право хождения только лишь следом за королем; христианские же рыцари, движимые куртуазностью, назвали эту фигуру «дамой», а затем «королевой», причем она получила право свободного передвижения по всей доске. Соблаговолите открыть партию, донна…
Несколько ходов Аэлис сделала не задумываясь, слишком уверенная в своем превосходстве; на шестом или седьмом, однако, черное воинство пошло в атаку. Уже коснувшись фигуры, она отдернула руку и прикусила губу. Противник оказался куда сильнее, чем можно было ожидать. Возможно, он и проиграет ей партию — из той же куртуазности, — но сперва хорошенько помучит. Что ж, поделом, но только ей вовсе не хочется получить урок от какого-то менялы…
— Мне, пожалуй, что-то расхотелось играть, — сказала она, притворно зевнув.
Смешав фигуры, она облокотилась о доску и стала смотреть в окно. За окном было солнце, лето, жужжали пчелы в саду, на алуаре внутренней стены трое стражников метали кости, прислонив к зубцам свои алебарды и сняв широкие, похожие на шляпы, салады. Достанется лентяям, если Симон де Берн застанет их в таком непотребном виде! Дальше, до самого горизонта, расстилалась зеленая равнина Вексена — лоскутки разноцветных полей, мягкие холмы, рощи, обсаженная старыми вязами дорога. Какой-то виллан лениво вел по дороге к замку осла, навьюченного двумя огромными вязанками хвороста. А еще дальше — что там? Совсем-совсем далеко, за лесом? Аэлис попыталась припомнить уроки: Шомон и Жизор лежат правее, а прямо на полдень — Понтуаз, за ним Париж, о котором рассказывают столько интересного… А еще дальше — Перш, где разводят лучших боевых коней, Анжу, Гиень, Лангедок — выжженный солнцем край злых еретиков, потом море Океан, потом пуп земли — Иерусалим…
— Вы грустите, мона Аэлис? — спросил Франческо.
Она очнулась, глянула на него непонимающе:
— А? Нет, я просто думала… Расскажите о ваших путешествиях, мессир. Вы ведь видели много чужих краев?
— Да, мне пришлось поездить, — охотно ответил флорентиец. — За два последних года я побывал в Кастилии и Арагоне, потом был в Англии, во Фландрии, в имперских землях… Должен признаться, что люди в разных краях живут не столь по-разному, как это можно было бы предполагать. Конечно, различия есть — в одной земле одеваются так, в другой иначе, разные у них и обычаи, хотя, конечно, в христианском мире все это более или менее подобно. Вот язычники — дело другое, но тех я не знаю, в языческих краях мне побывать не довелось…
— И одеваются одинаково? — удивилась Аэлис.
— Более или менее, донна, — повторил Франческо. — Французскую одежду носят сейчас и богемцы, и англичане, и испанцы… Я говорю — французскую, потому что вам все подражают. Если щеголи в Париже начинают носить узкие и короткие полукафтанья, то где-нибудь в Колонии или Ратисбоне тут же шьют еще уже и короче, нарушая благопристойность и меру. Впрочем, немцы вообще варвары, чувство прекрасной соразмерности им недоступно, но даже и у меня на родине молодые кавалеры одеваются подобно нелепым шутам, забывая благородную простоту древних одежд…
Аэлис украдкой бросила взгляд на своего собеседника — тот сидел, несколько отодвинувшись вместе с креслом от столика с забытыми шахматами, левая рука его, украшенная перстнями, лежала на подлокотнике, правая небрежно упиралась в бедро. «Держит себя совершенно как рыцарь, — подумала она, стараясь рассердиться. — Можно подумать, это какой-нибудь Висконти…» И кафтан у него из ткани, какой не мог бы позволить себе никто из обитателей Моранвиля, — темно-красный, почти пурпурный самит, густо затканный золотыми флорентийскими лилиями. Аэлис покосилась на свой рукав, довольно скромно вышитый у запястья незамысловатым узором, и подавила вздох. У него даже слуги одеты богато, а у нас… она вспомнила заплаты на локтях своих пажей и в досаде прикусила губу.
— Я полагаю, мессир, — сказала она высокомерно, — что человек, объездивший столько стран, мог бы обогатиться более интересными впечатлениями, нежели где и как кто одевается.
— Я всего лишь ответил на вопрос, который донне угодно было задать. — Франческо почтительно склонил голову и тут же, выпрямляясь, бросил на девушку быстрый любопытный взгляд. — Конечно, я интересовался не только нравами и обычаями, но вы зря полагаете, мона Аэлис, что наблюдения за таковыми вовсе лишены интереса. Если вернуться к одежде, то проницательный ум и здесь найдет немало пищи для размышлений и выводов.
Это уж было слишком. Аэлис вскочила и отошла к окну. Стражники на стене — видно, их кто-то спугнул — спрятали кости и торопливо приводили себя в воинский вид: один застегивал подбородный ремень, второй возился с перевязью, третий уже схватил алебарду и усердно полировал рукавом и без того сверкающее лезвие. «Стража, сюда!» — захотелось крикнуть Аэлис; если бы не отец с его непонятными планами, она непременно сделала бы это, непременно! Она просто приказала бы вышвырнуть из замка этих менял с позором и поношением, посадив на самых худых кляч лицом к хвосту!
— Какой красивый отсюда вид! — как ни в чем не бывало сказал Франческо, тоже подойдя к окну и стоя за плечом Аэлис. — Ваш край, хотя ему и несвойственно устрашающее великолепие Альп или Пиренеев, наполняет душу неизъяснимым покоем… Здесь, думается, должны были бы жить кроткие и незлобивые люди. Между тем… — Не договорив, он умолк.
— Что «между тем»? — холодно спросила Аэлис, не оборачиваясь.
— Я вспомнил сейчас, — сказал Франческо, словно думая вслух. — В Италии, неподалеку от Неаполя, есть огнедышащая гора, именуемая Монте-Везувио… У одного очень старого автора говорится, что однажды в древности гора эта извергла из своих недр столько горячего пепла, что погребла два города со всеми их обитателями, а были эти города местом отдыха и увеселений, куда знатнейшие римляне уезжали проводить жаркое время года. Правдив ли этот рассказ или нет — неведомо, ибо от погребенных городов не осталось и следа. Некоторые толкователи склонны видеть здесь притчу, и я сам тоже склоняюсь к этому мнению. Притча эта, однако, никого ничему не научила, увы…
Аэлис подумала и обернулась к Франческо.
— Что заставило вас рассказать ее мне? — спросила она. — Этот вид? — Она указала за окно.
— Вы угадали. Я боюсь, что мирный этот вид столь же обманчив, как покрытые виноградниками склоны Монте-Везувио. И это касается не только окрестностей Бовэ, не только Франции; мне думается, весь христианский мир вступает сейчас в эпоху потрясений, страшных и неслыханных. Впрочем, мы говорили уже об этом за обедом, мадонна простит меня, если я повторяюсь.
— Нет, это интересно. Еще вы сказали, что не каждое сословие по праву занимает свое место. Что вы имели в виду, говоря так?
— Извольте, я поясню. Каковы по феодальным законам обязанности рыцаря и виллана? Когда-то виллан кормил рыцаря, а рыцарь за это защищал виллана, охранял его от чужеземцев. Это был справедливый договор — выгодная сделка, как говорим мы, выгодная для обеих сторон. Но взгляните на Францию сейчас! Со всем уважением к французскому рыцарству будь сказано, разве оно остановило вторгшихся в королевство врагов? Разве рыцари защитили вилланов на полях Креси и Пуатье? Договор, следовательно, одной из сторон не выполняется. Более того, французского виллана грабят и разоряют сейчас не только наемники Плантагенета, но и свои же бароны. Вы, возможно, считаете, что виллан по своей подлой природе не способен думать…
— Мессир, этого я не говорила! — воскликнула Аэлис. — Я вообще никогда не считала вилланов подлыми людьми, у меня есть даже… — Тут она осеклась и продолжала более спокойным тоном: — А ваши слова о французском рыцарстве оскорбительны, не вам, чужеземцу, судить о том, что вам чуждо…
— Вы несправедливы, мадонна, я нарочно оговорился, что не намерен хулить французское рыцарство в целом!
— Что же касается Пуатье и Креси, — продолжала Аэлис, — то там полегло много наших рыцарей, а не только вилланы из ополчения. Война есть война, и в этот раз Господу было угодно даровать победу Эдуарду… потому, наверное, что королевство наше отягощено грехами. Так говорит наш капеллан, и отец Морель тоже — это приходской священник там внизу, в деревне, — они всегда все объясняют по-разному, а тут согласны между собой. Наверное, так оно и есть.
Франческо улыбнулся:
— Может быть. Но причины не так важны, как следствия. Последствия же английских побед сейчас даже трудно предвидеть во всей совокупности. Как я уже сказал, мне довелось побывать в Англии прошлой осенью — наши служащие в Лондоне считают положение весьма опасным. Вы знаете, когда занимаешься банковским делом в чужой стране, надо быть особенно наблюдательным, это закон нашего ремесла. Англия, хотя и побеждает на полях битв, истощена до предела, победы обходятся и ей очень недешево… а из военной добычи в королевскую казну попадает не так уж много. Положение в чем-то сходное со здешними делами, ибо король требует золота от баронов, а те выжимают из вилланов последние лиары. Но вот дальше сходство кончается, донна, ибо французский виллан ограблен, озлоблен и бессилен, английский же — хотя и ограблен, и озлоблен не меньше — все более сознает свою силу и свои права. Дело под Креси решили не английские рыцари, донна Аэлис, его решили английские вилланы — лучники! Это же повторилось и под Пуатье в прошлом году. Две величайшие битвы были выиграны не рыцарским мечом, а шестифунтовым английским луком, оружием простолюдина. И простой люд не забывает таких вещей.
Аэлис прикусила губу. Что он себе позволяет, кто дал ему право так поносить сословие, к которому она сама принадлежит. В ней снова вспыхнул гнев, но тут же угас, чувство справедливости взяло верх. Да нет, наверное, он, к сожалению и к великому ее стыду, прав. Но ведь если это так, то…
Она обернулась к Франческо:
— Мессир Франсуа, если все обстоит так, как вы говорите, а похоже, что все так и есть, ибо рассуждаете вы убедительно, то… что же будет с рыцарским сословием?
Франческо беспечно рассмеялся:
— О, вы слишком уж прямо истолковали мои слова! Да, я говорил, что мир вступает в эпоху потрясений, но из этого отнюдь не следует, будто рыцарское сословие завтра же подвергнется серьезным бедствиям. Безусловно, оно со временем потеряет свое теперешнее значение, и наоборот — другие сословия приобретут новое, но этого не случится так скоро, донна Аэлис.
Аэлис задумчиво взглянула на него и на этот раз не рассердилась. Она вдруг подумала о Робере. Что ж, если говорить по совести, это будет справедливо. Разве Робер не лучше иного рыцаря? Так почему же ему не занять положения, которого он по праву достоин? И, представив себе своего друга в славе и почете, она радостно улыбнулась.
Франческо с интересом наблюдал за ней.
— Вы согласны со мной, не так ли?
Аэлис покраснела:
— Да. Я подумала, что, в общем-то, Бог сотворил всех людей одинаковыми, а раз так, то почему бы и не измениться порядку вещей? Если это, как вы сказали за обедом, послужит к улучшению рода человеческого…
— Мадонна, вы не только прекрасны, вы еще и наделены тонким умом и благородным сердцем!
Аэлис совсем смутилась, не понимая, всерьез он говорит или насмешничает.
— Что вы, мессир, в том нет моей заслуги, наставник тоже не раз внушал мне подобные мысли.
— Вот это удивительно, — сказал Франческо. — Падре капеллан, насколько я мог заметить, моих мыслей не разделяет.
— Не капеллан, нет… я говорю об отце Мореле. Он учил меня еще до того, как появился мэтр Филипп. Так вот, он тоже говорил, что души приходят в мир равными, это уж просто случайность — как в кости, понимаете: одному выпадет родиться на соломе, а другому — под бархатным балдахином, и тут нечем гордиться. Он даже больше говорил: кому больше дано, с того больше спросится, и, значит, со знатных спрос будет строже.
— Скорее всего, — подтвердил Франческо.
— Но тогда это страшно, — прошептала Аэлис, глядя в окно. — А действительно ли правда то, что написал мессир… Дант, да? Ну, насчет грешников — помните, вы читали…
— К чему бы ему было лгать? Мой отец видел его за год до смерти, в Равенне, он мне не раз рассказывал об этой встрече — настолько врезался ему в память образ поэта; лицо его, говорил отец, было темное, словно обожжено нездешним пламенем.
Аэлис, слушавшая с приоткрытым ртом, торопливо перекрестилась:
— Значит, он и в самом деле там побывал…
— Скорее всего.
— Miserere Domine…[43] — прошептала Аэлис, быстро сложив перед лицом ладони, и снова перекрестилась. — А вы… не могли бы почитать что-нибудь еще?
— Из Алигьери?
— Да, вот помните — как они вдвоем сидели над книгой и…
— О, про это не стоит. К чему вам слушать такие печальные истории? Поверьте, любовь не всегда кончается бедой, в ней больше света, чем мрака. Если вам угодно послушать хорошие стихи, я почитаю вам другого поэта — не столь знаменитого, как божественный Алигьери, но и не столь жестокого. Он живет в наше время, и его стихи ближе нашей душе, они передают наши собственные мысли и желания.
— Я охотно послушаю их, мессир.
— Только позвольте мне сначала прочитать по-итальянски, чтобы вы услышали всю красоту звучания на родном языке, а потом прочитаю перевод, который я сам сделал в меру своих скромных возможностей.
Франческо помолчал, прикрыв глаза, и стал читать — негромко, чуть нараспев:
Vergognando talor ch’ancor si taccia, Donna, per me vostra bellezza in rima, Ricorro al tempo ch’i’ vi vidi prima, Tal che null’altra fia mai che mi piaccia.— И правда, звучит красиво, — сказала Аэлис, когда он замолчал. — Совсем как музыка, и мне уже не терпится узнать, что там говорится.
— То, что давно должен был бы сказать вам я, — негромко отозвался Франческо, глядя ей в глаза. — Поэт говорит:
Мне стыдно иногда, что до сих пор Я ваших чар стихами не приветил, Хотя со дня, как вас впервые встретил, Прекрасней никого не видел взор…Аэлис растерялась, не понимая, действительно ли это чьи-то стихи, или вконец осмелевший меняла позволил себе открыться столь лукавым образом в своих собственных чувствах; и что теперь делать ей — проявить презрение к дерзкому простолюдину или разгневаться, как положено знатной даме? Но гнева она не испытывала, презрения тоже, вместо этого почувствовала, что неудержимо краснеет.
— Или вот еще, — как ни в чем не бывало продолжал Франческо, — для начала я тоже прочту по-итальянски, а потом перевод.
S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento? Ma s’egli è amor, perdio, che cosa et quale? Se bona, onde l’effecto aspro mortale? Se ria, onde sí dolce ogni tormento? Любовь ли это или что иное? И что же это, ежели Любовь? Коль в ней добро — что цепенеет кровь? А если зло — в чем действие благое?[44]— Оцените, мадонна, как тонко сумел поэт передать противоречивые чувства, порождаемые любовью… Не правда ли, именно так она и начинается?
Аэлис подняла голову и надменно, почти враждебно посмотрела ему в глаза.
— Я не судья в поэзии, мессир, — сказала она высокомерным тоном, пытаясь унять дрожь в голосе, — но стихи мне понравились, и я благодарна вам за доставленное развлечение, к нам ведь так давно не заезжал ни один жонглер. А что касается вашего вопроса, то почему бы вам не поискать ответа самому… в своем, несомненно богатом, опыте. Я полная невежда в этих вещах, да и не стремлюсь к знаниям подобного рода. С вашего позволения, я пойду… нет, не провожайте меня. А в шахматах вы, кстати, еще слабее, чем де Берн… мне потому и расхотелось играть, что с вами неинтересно!
Франческо низко поклонился.
— Уверяю вас, есть и другие игры… в которых я надеюсь оказаться более приятным партнером.
Он проводил ее долгим взглядом и задумался, подбрасывая и ловя в воздухе шахматную фигурку. За этим занятием и застал его неслышно приблизившийся нотарий.
— А, мэтр Филипп! — воскликнул Донати. — Не угодно ли?
— С удовольствием померюсь с вами силами, хотя мои более чем скромны… но в другой раз! Мой господин спрашивает, не соблаговолите ли вы уделить ему немного времени для конфиденциальной беседы…
Шагая следом за Бертье по гулкому коридору, Франческо еще раз попытался взвесить все за и против; он не сомневался, что разговор пойдет о займе (видно, старика припекло, не выдержал-таки, спешит… приглашает его к себе во время послеобеденного отдыха, когда уважающие себя люди о делах не говорят), а готового решения у него нет. Или уже есть и он просто обманывает сам себя? Он почувствовал знакомое обмирание сердца, какое обычно испытывал на миг, когда надо было быстро принять важное решение, обычно он доверялся своему чутью и не промахивался, недаром был так удачлив в делах. Но сейчас ему вдруг стало страшно, потому что — он понимал это, вдруг понял сейчас, именно в этот самый момент, — теперь речь шла не просто о выгоде, не просто о денежных суммах, которые он может либо потерять, либо приобрести…
Облаченный в просторную домашнюю робу, сир де Пикиньи величественно восседал за пюпитром, якобы погруженный в чтение какого-то манускрипта. Франческо сразу понял, что тот лишь делал вид, будто читает. «Для него этот разговор не менее важен», — с удовлетворением отметил он про себя.
— А, сеньор Донати! — Сир Гийом поднялся и, любезно улыбаясь, шагнул навстречу. — Надеюсь, не оторвал вас от важных занятий?
— Никоим образом, мессир! Да и какие занятия могут прийти на ум в вашем гостеприимном замке, где каждый гость чувствует себя как измученный пилигрим, достигший наконец долгожданного отдыха…
— Ну, вы не очень походите на измученного пилигрима, мой молодой друг. Но я не сомневаюсь в вашей искренности и потому рад, что пребывание здесь доставляет вам удовольствие. Садитесь, прошу вас…
Сир Гийом и Франческо заняли кресла по обе стороны массивного стола, а Бертье подсел к его узкому концу и нахохлился наподобие большой печальной птицы.
— Дорогой сеньор Донати, — начал Пикиньи, — вы помните, что два месяца назад в Париже с вами беседовало доверенное лицо монсеньора Ле Кока по весьма важному для нас вопросу. Ныне же мне поручено окончательно обсудить возможность и условия займа. У вас не появилось каких-либо соображений на сей счет?
Франческо помолчал, поигрывая реликварием.
— Я много над этим думал, — сказал он наконец, — но пока затрудняюсь принять окончательное решение. Честно говоря, мне не хватает смелости. Расчет на смену династий — большой риск.
— Должен ли я понять вас в том смысле, что вы не верите в успех Карла Наваррского?
— Этого я не говорю, — осторожно ответил Франческо. — Шансы у него есть… вернее, могли бы быть, если бы Наварра воспользовался средством, которое может обеспечить ему успех. Но вот воспользуется ли он им? Я высоко ценю политический ум Карла д’Эврё и все же опасаюсь, что в решительный момент у него не хватит смелости сделать ставку на горожан. Хотя… тут, разумеется, я могу и ошибаться…
— Уверен, что ошибаетесь, — кивнул Пикиньи.
— Счастлив был бы разделить с вами эту завидную уверенность, но, к сожалению, Наварра совершенно непредсказуем. А это опаснейшее качество! В Париже я говорил с другими банкирами — моими соотечественниками, большинство склонно думать, что корона Франции все же останется у Валуа. Тем не менее я мог бы рискнуть, но мне хотелось бы яснее представить себе, ради чего я иду на этот риск…
Филипп обеспокоенно посмотрел на Пикиньи. Тот весь подобрался, как борзая, сделавшая стойку.
— Поверьте, мой друг, вы не прогадаете. Карлу Наваррскому нужно сто тысяч турских ливров; сумма велика, я понимаю, но и благодарность короля будет ей соответствовать.
Франческо сделал небрежный жест:
— Это общие слова, мессир.
— Можно говорить и о частностях, — любезно ответил Пикиньи. — Если с вашим содействием Карл д’Эврё коронуется в Сен-Дени, вы могли бы получить на несколько лет право взимать королевские налоги. Вы знаете, какой это огромный доход. Кроме того, король мог бы даровать вам рыцарство!
— Меня пока устраивает принадлежность к тому сословию, к которому принадлежал мой отец, — возразил Франческо. — Что же касается откупа, то я предпочитаю другие способы обогащения.
— Дело вкуса, — кивнул Пикиньи и продолжал тем же любезным тоном: — Есть и другая возможность — вы могли бы стать чем-то вроде советника или казначея при короле, иными словами, получить в руки такую власть…
Франческо улыбнулся:
— Вроде той, что была у Мариньи?[45]
— Ну, зачем же говорить о нем, мой друг! Умный человек учится на чужих ошибках.
— Именно поэтому, мессир, я не хотел бы их повторять. Власть банкира не меньше и уж, без сомнения, гораздо прочнее.
— Иными словами, сеньор Донати, вы отказываетесь?
— Нет, почему же! Мы стараемся по возможности не отказывать своим клиентам, тем более столь высокопоставленным. Но согласитесь, что, когда речь идет о такой сумме, она должна быть обеспечена соответствующим залогом.
Сир Гийом с удивлением взглянул на него:
— Если вы считаете, что обычный имущественный залог будет выгоднее тех предложений, что я вам сделал, то это лишь упрощает дело! У короля Наваррского немало великолепных земель и замков не только в Наварре, но и в Нормандии, к тому же король может дать слово…
— Договоренность sub crimine falsi,[46] — быстро вставил Бертье.
— Ах, эти королевские обещания, — улыбнулся Франческо. — Эдуард Английский тоже когда-то раздавал их направо и налево.
— Но… простите меня, мой друг! Если вас не устраивает договоренность с королем, то кто же тогда может предложить вам обеспечение этого займа?
— Вы, мессир.
— Я?! — Пикиньи замер с приоткрытым ртом. — Вы шутите, сеньор Донати! Французское дворянство разорено, и я не располагаю сокровищами, способными…
— Почему же? Вы владеете сокровищем, которому с самого начала суждено было сыграть в наших переговорах с монсеньором Ле Коком совершенно определенную роль… хотя и пассивную. Надеюсь, вы меня понимаете? Я говорю о вашей дочери…
Теперь флорентиец смотрел прямо в глаза своему собеседнику, за его любезным тоном почувствовалась вдруг непреклонная воля.
— Если вы соблаговолите отдать мне руку дамуазель Аэлис, я не замедлю предоставить в распоряжение партии Эврё названную вами сумму.
Пикиньи ошеломленно уставился на наглого менялу, а перепуганный Бертье совсем съежился; наконец до сознания сира Гийома дошел весь смысл услышанного. Лицо его побагровело. Вцепившись в подлокотники кресла, он наклонился вперед, готовый разразиться проклятиями, но в этот момент Филипп, вскочив с места, метнулся к нему:
— Достойный сеньор! Умоляю вас, не спешите с ответом! Такие дела требуют долгого и продуманного решения, отложите дальнейший разговор, послушайтесь вашего преданного слугу!
Взбешенный Пикиньи оттолкнул нотария, но тут же обычная выдержка опытного политика взяла в нем верх.
— Какого дьявола, мэтр Бертье! Кто тебе сказал, что я намерен отвечать немедля? Думаю, и наш гость не ждет немедленного ответа!
Поняв, что гроза прошла стороной, Филипп снова присел на своем конце стола.
Франческо, откинувшись на спинку высокого резного кресла, спокойно наблюдал эту маленькую сценку, и по его лицу никто бы не догадался о внутреннем напряжении, которое он скрывал под внешней безмятежностью.
Пикиньи не без труда состроил любезную улыбку:
— Признаюсь, сеньор Донати, вы меня удивили! Это было столь неожиданно и… В таких случаях принято благодарить за честь, и я от души следую доброму обычаю. Но, вы понимаете, подобные вопросы не решаются в один день, а потому не будем спешить и хорошо все обдумаем.
Гость и хозяин расстались с обычными церемониями, и Филипп отправился проводить флорентийца. Вернувшись, он застал своего сеньора в бешенстве; сир Гийом метался по комнате, изрыгая на все сущее такую хулу, что Бертье поспешил осенить себя крестным знамением.
— Проклятый меняла! Ты когда-нибудь видал подобную наглость, Филипп? Будь он проклят! Да если бы не моя преданность Карлу, я бы его в то же мгновение вышвырнул из замка, но сначала приказал бы конюхам выпороть этого зазнавшегося торгаша!
— Хвала Небесам, что вы не можете это сделать, — спокойно ответил Бертье. — Плохую бы службу вы себе сослужили такой невоздержанностью! Было бы непростительной ошибкой оскорбить человека, который волею случая… как бы это выразиться… intravit in secretis regis.[47] И вообще, вы напрасно горячитесь, мой добрый сеньор, над этим предложением стоит подумать…
— Что?! — Пикиньи вскочил и грохнул по столу кулаком. — Что ты сказал? Ах ты, падаль! Да я тебя за ноги повешу, старая ты лукавая лиса!
— Ну будет вам, мессир! — отмахнулся Филипп. — Подумайте лучше о своем положении и о счастье вашей дочери. Может быть, поостынув, вы поймете, что такого блестящего и выгодного жениха вам не сыскать даже в королевском доме…
— Во-он!! — заревел Пикиньи, кидаясь к Филиппу. — Вон отсюда, сводник!
Бертье распахнул дверь и выскользнул в коридор, провожаемый яростными проклятиями. У себя в комнате он на всякий случай запер дверь и облегченно вздохнул. Самое худшее позади, теперь следует лишь соблюдать осторожность, и все уладится. Но окажется ли ему под силу убедить Пикиньи?
Филипп покружил по комнате и подсел к столу, рассеянно барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Этот брак необходимо устроить — необходимо ради мечты всей его жизни, ради их общего дела. Третье сословие должно наконец получить своего короля — «буржуазного», как теперь говорят в Париже; и он — Бертье — обязан добиваться успеха любой ценой… Любой? А как же Аэлис? Аэлис, которую он учил, пестовал с младенческих лет, успел привязаться к ней за эти годы; имеет ли он право так распорядиться ее судьбой, не задумываясь принести ее в жертву? Филиппу стало не по себе, но тут же услужливый разум поспешил заглушить голос сердца: принести в жертву? Глупец! В чем тут «жертва»? Где еще этот дурак найдет для дочери такую блестящую партию? Тем более когда сам почти уже разорен! И потом, если его не подвело зрение, девочка уже неравнодушна к этому флорентийцу…
За ужином обитатели замка собрались как ни в чем не бывало. Бертье исподтишка наблюдал за Аэлис — та не только не проявляла к Франческо никакого внимания, но усердно переглядывалась с Робером, а когда встали из-за стола — что-то сказала ему, проходя мимо. Бертье увидел, как юноша вспыхнул от радости. «Ах, плутовка, — подумал нотарий, — уже извечная женская игра — любезничать с одним, чтобы вызвать ревность другого…» Нет, надо действовать немедля, решил он, не то они тут доиграются.
Вернувшись в свою комнату, он зажег свечу, достал пергамен, перья, поставил перед собой чернильницу. «Ну, погодите, мессир Гийом! — пробормотал он. — Погодите…» Филипп осторожно обмакнул перо и, низко наклонившись над листом желтоватого, хорошо выглаженного пемзой пергамена, стал не спеша писать своей изящной, немного вычурной фактурой, ровными строчками вывязывая угловатые готические буквы: «Могущественному и достойному аббату Сугерию Кларамонтанусу от его преданнейшего слуги…»
К ночи послание, запечатанное и вложенное в футляр, было вручено Симону де Берну вместе с подробными наставлениями:
— Прошу вас, любезный Симон, отберите самых надежных людей; до Клермонского аббатства путь не близок, а письмо это великой важности, гонец должен головой отвечать за его сохранность!
— Не беспокойтесь, друг Филипп, — заверил его Симон. — Я пошлю такого, что не подведет.
— Аэлис, любовь моя, скоро полночь… я должен идти… — тихо сказал Робер, отводя рукой упавшую ей на щеку шелковистую прядь. — Если увидят, что я в такой час выхожу из твоей комнаты…
— Никто не увидит, милый Робер, Жаклин сторожит нас… — шепнула Аэлис и теснее прижалась к своему другу. — Не уходи, побудь еще…
Робер улыбнулся и закрыл глаза. Они снова лежали рядом, как тогда, на раскаленной солнцем площадке Фредегонды, и снова он был бесконечно счастлив. Как мог он все эти дни не верить ей, подозревать, мучить и ее, и себя? Ах, если бы можно было пролежать вот так, рядом с ней, всю ночь!
Он еще немного помедлил, потом попытался осторожно высвободиться.
— Робер, ты куда? Разве тебе плохо со мной?
— Аэлис, ты сама знаешь, как мне хорошо, но лучше я уйду. Пойми, любимая, не могу я лежать с тобой рядом и только целовать тебя…
— Клянусь, и мне этого мало, друг Робер, — тихо ответила она и, вздохнув, разжала руки. — Ты прав, лучше тебе уйти… Нет, погоди, мой любимый…
Когда он вернулся к себе, было уже около полуночи. Счастливый, почти оглушенный радостью и вновь обретенной надеждой, он подошел к окну и высунулся наружу. В замке давно спали, и кругом был разлит глубокий покой. Тишина, изредка — приглушенные шаги часовых на алуарах и слабый свет мерцающих звезд — сегодня ему не уснуть. Да и грешно было спать в эту благословенную ночь…
Он смотрел и слушал, и теплый ночной ветер дул ему в лицо, донося запах полевых трав. Нет, не полевых трав — так пахнут волосы его любимой, его Аэлис…
А потом со стороны конюшни послышались приближающийся стук подков, позвякивание уздечек, лязг оружия, приглушенные голоса. Из своего окна он не мог видеть происходящего, но по звукам понял, что отправляют какой-то отряд. «Странно, — подумал Робер, прислушиваясь, — кому это понадобилось пускаться в путь на ночь глядя и почему?» Вроде бы в замке ничего не стряслось, и Симон ни слова не говорил, а уж он-то должен был бы знать, случись что-нибудь. Впрочем, какое ему дело?
Между тем гонец в Клермон со своей охраной уже покидал замок. Проехав под гулкими сводами ворот, отряд проскакал по подъемному мосту и, миновав спящее селение, помчался на север.
Стоя у своего окна, Филипп Бертье долго прислушивался к затихающему в ночной дали стуку копыт, потом удовлетворенно вздохнул и осторожно притворил тяжелую от свинцовых переплетов раму.
Глава 9
Накануне вернулся слуга, которого Франческо посылал в Руан к мэтру Филиппару, торговцу ловчими птицами. Аэлис, получив сокола, смутилась и растерялась — подарок был просто королевским, она даже представить себе не могла, сколько может стоить такой великолепный кречет почти белого оперения, да еще вместе с расшитыми золотом клобучком и перчаткой мягкой зеленой кожи. К тому же она не умела с ним обращаться, соколиной охоты в Моранвиле никогда не было, и именно потому, что птицы и уход за ними стоили так дорого. Краснея, призналась она Франческо в своем невежестве, но тот сказал, что ему тоже редко случалось охотиться с птицей, но среди его людей есть опытный сокольник, и он все устроит.
В одной из башен нашли пустое помещение, достаточно сухое и светлое, послали за каменщиком и столяром — оборудовать нашест.
Франческо предложил Аэлис с утра испробовать сокола в деле.
Утром выехали сразу после завтрака, вдвоем; сокольника Франческо с собой не взял, сам вез сумку с прикормкой — голубями, которых велел настрелять в хлебном амбаре. Конечно, сейчас еще не сезон, сказал он, объясняя спутнице тонкости соколиной потехи, настоящая охота начинается позже, осенью. Кречета он держал на левой руке, а после первого напуска, когда отъехали уже довольно далеко от замка, передал перчатку Аэлис. Первой добычей оказалась ворона. Освобожденный от клобучка и брошенный в воздух, сокол стал стремительно набирать высоту крутыми витками, словно ввинчивался в воздух, и, уже почти скрывшись из виду, отвесно ринулся на жертву и поразил ее с первого удара — от бедняги только перья полетели, — Аэлис радостно завизжала, хлопая в ладоши.
— Ах, мессир, мне никогда еще не делали более прекрасного подарка, — сказала она с сияющими глазами, когда Франческо посвистал и сожравший прикормку сокол послушно сел на подставленную перчатку. — Смогу ли я достойно отблагодарить вас за такую учтивость?
— Сможете, мадонна, — заверил Франческо и, подъехав ближе, стал показывать, как надевать птице клобучок. — Впрочем, ваша радость — уже достаточная для меня награда…
— Нет, этого мало! А можно мне самой его напустить?
— Конечно, это ведь совсем просто — как только увидите достойную дичь, подбросьте его вверх, вот так! Только не забудьте снять шапочку, иначе он может разбиться… О, смотрите — вон летит гусь. Напускайте!
Сокол опять взмыл в небо.
— Неужели он и гуся возьмет? — недоверчиво спросила Аэлис.
— Не только гуся — такой может бить и цаплю, и журавля… Из всех соколов кречет — самый благородный, это птица высокого полета, потому что бросается только сверху, с высоты. А есть птицы низкого полета, ястреб например. Он бьет добычу «в угон», то есть просто догоняет, летя следом… Смотрите внимательно! — Охваченный охотничьим азартом, Франческо стиснул ее руку и привлек девушку к себе, она потеряла стремя и могла бы упасть с седла, если бы лошади не стояли так близко. — Смотрите! Так его, браво!!
Гусь стал единственным достойным трофеем, но Аэлис раз за разом напускала кречета на все, что попадалось в небе. Истребив много пернатой живности, решили возвращаться, когда солнце уже перевалило далеко за полдень. На обратном пути Аэлис предложила заехать к отцу Морелю — отдать ему гуся.
— А в замке гости, — сказал кюре, выслушав рассказ об охоте и похвалив редкую масть сокола. — Приехали мессир Тибо и достопочтенный аббат Сюжер. Вы, сын мой, кажется, говорили, что знакомы с ним? — спросил он, обращаясь к Франческо.
— Да, мы виделись, — рассеянно ответил тот, пытаясь отгадать, что означает неожиданное появление аббата. — С Сюжером, я хочу сказать, не с мессиром Тибо.
— Не многое потеряли, — сказала Аэлис. — Я предпочла бы, чтобы дядюшка вообще здесь не появлялся. Всякий раз, когда он приезжает, что-нибудь случается! Прошлой зимой он выкинул отца Мореля из окна.
— Господи помилуй. — Франческо оторопел. — Надеюсь, падре, дамуазель шутит?
— Она говорит истинную правду. — Кюре улыбнулся. — Мессир Тибо приехал, чтобы забрать в свою дружину несколько моранвильских парней, ибо замыслил вместе с сиром де Буафор отбить английский обоз, ратников же им не хватало. А мессир Гийом выдать оных вилланов отказался, и вышла между ними великая распря. Я же, старый дурак, не зная еще об отказе мессира Гийома, решил походатайствовать за юношей и отправился в замок, забыв мудрое правило — «Ne accesseris in consilium nisi vocatus»,[48] сиречь «не лезь, куда не просят». И поистине, лучше бы не лез, ибо, когда мессир Тибо услышал, зачем я пришел, он впал в столь великую ярость, что поднял меня над головой как некоего немощного Антея и, пронеся с богохульными словами через весь скрипторий,[49] выкинул в окно. А там, сын мой, до земли не менее пятнадцати футов, по счастью, я упал в сугроб…
Аэлис, не выдержав, расхохоталась и тут же испуганно прикрыла рот ладошкой. Франческо глянул на нее с деланной строгостью, и она послушно приняла серьезный вид.
— Вы поступили как истинный пастырь, — сказал он. — Увы, добрые дела часто влекут за собой неприятные последствия. Я не вожу с собой денег, но пришлю человека… с некоторой суммой на нужды вашего прихода, падре.
— Не откажусь, сын мой, и заранее вас благодарю, равно как и за эту жирную птицу, моим недужным она пригодится, и даже очень!
— А может быть… — нерешительно сказала Аэлис, переводя взгляд с отца Мореля на Франческо, — может быть, нам перекусить здесь? Просто съедим по куску хлеба, и можно было бы еще поохотиться…
Ей очень не хотелось возвращаться в замок именно сейчас, лучше бы ближе к вечеру, чтобы отец успел поговорить с дядей Тибо и объяснить ему насчет итальянцев. Она догадывалась, что тому их присутствие придется не по душе, — какие-то чужеземцы, да еще подлого сословия…
— Боюсь, это было бы неучтиво, — возразил Франческо, которому, напротив, не терпелось поговорить с Джулио, возможно, тот уже смог разведать, с чем пожаловал патер реверендиссимус.[50] — К тому же наш охотник устал.
Аэлис состроила гримаску разочарования:
— Но завтра мы опять поедем?
— Нет-нет, соколу положено отдыхать каждый второй день…
Вернувшись в замок, она поздоровалась с гостями — Сугерий отечески потрепал ее по щеке и тоже осведомился насчет соблюдения постов, а дядюшка сказал, что она похорошела «точно здоровая кобылка» (в его устах это был комплимент), — и ушла к себе переодеваться.
К ужину она намеренно опоздала: не хотелось присутствовать при первой встрече дяди с итальянцами, кроме того, боялась увидеть Робера. Наверное, опять станет смотреть на нее холодным взглядом или, хуже того, говорить всякие неприятные вещи. Хотя, Бог свидетель, ему не за что на нее сердиться, не в чем упрекнуть. Что такого она сделала? Съездила на охоту — впервые, что ли… Потом она и Робера научит соколиной потехе, будут выезжать вместе. Аэлис успокаивала себя этими доводами, но тревожное ощущение не проходило, будто и впрямь провинилась перед своим другом. Она даже заикнулась Жаклин насчет того, чтобы вообще не ужинать, но та решительно заявила, что об этом и думать нечего, — мессир отец уже спрашивали и гневались.
За столом она появилась незаметно, тихонько проскользнула на свое место. Франческо был поглощен разговором, в котором участвовали отец и аббат, справа от нее сопел дядя Тибо, увлеченно вгрызаясь в жареную баранью ногу, и жир стекал у него по подбородку. Лишь некоторое время спустя Аэлис отважилась взглянуть на нижний стол, где сидели оруженосцы; Робер был на месте, но не обернулся, как делал прежде всякий раз, стоило ей на него посмотреть. Она вздохнула и стала прислушиваться к разговору рядом с собой.
— …нет, — говорил аббат, — я не могу разделить вашу точку зрения. Созыв Генеральных штатов был ошибкой, всех последствий которой мы даже не можем еще предвидеть. Допустив простолюдинов к обсуждению государственных дел, король нарушил общественное равновесие и посеял семена будущих смут, хотя я надеюсь, что взойдут они еще не скоро и, во всяком случае, не на наших глазах…
Франческо улыбнулся и, отпив из кубка, стал разглядывать украшающие его эмалевые медальоны.
— Боюсь, нам трудно понять друг друга в этом вопросе, — сказал он. — Мы во Флоренции привыкли ценить человека по его собственным заслугам, а не по заслугам его предков… Не спорю, виллан, пребывающий в своем натуральном безобразии, гнусен и оскорбляет чувства; но представьте себе виллана, который каким-то образом обзавелся деньгами, переселился в город и стал уважаемым негоциантом или ремесленником, — а ведь именно такие заседают в Генеральных штатах…
— Простолюдин даже в мехах и бархате остается простолюдином, — непреклонно возразил Сюжер. — Мы, однако, отвлеклись от темы, речь идет о роли Генеральных штатов вообще. Повторяю, я глубоко убежден, что первый их созыв был роковой ошибкой. По странной иронии судьбы, ее совершил великий король и действительно великий государственный ум… который, казалось бы, должен был провидеть все ее последствия. Увы, в данном случае Филипп Красивый оказался слепцом. Вечная трагедия великих людей! Они ломают старое, забывая, что после них некому будет построить на месте сломанного нечто новое, которое оказалось бы лучше старого…
— В то время Филипп был прав, — вмешался сир Гийом. — Без финансовой поддержки со стороны городов ему было не выиграть борьбу против папы Бонифация.
— Но посмотрите, что получилось потом! Прошло не так много лет, и созданная Филиппом новая политическая сила уже успешно подрывает ту самую королевскую власть, укрепление которой было делом всей его жизни.
Франческо опустил кубок и положил на узорчатый брокат[51] скатерти свою руку, холеную, белую, украшенную громадными перстнями.
— Трудно поверить, реверендиссимус, что вы говорите это всерьез, — произнес он любезным тоном. — Горожане подрывают королевскую власть? Клянусь лилией, удивительное утверждение! Что же тогда сказать про ваших нобилей? Про тех, кто занят сварами, интригами, грабежами, в то время пока их король ведет войну?
Сюжер покивал, не спеша перебирая четки.
— С болью в сердце, сын мой, признаю справедливость ваших обвинений. Французское дворянство измельчало и покрыло себя позором… большая его часть, во всяком случае. Но вы никогда не задумывались, почему так случилось? Я своими глазами видел, как на Еврейском острове[52] сожгли Жака де Молэ…[53] Мне было тогда меньше лет, чем вам сейчас. Вероятно, Филипп был прав и в этом — ему понадобились сокровища ордена, и он их получил. Но французскому рыцарству был нанесен удар, от которого оно больше не оправилось. Самому Филиппу рыцари были не нужны, он обходился легистами; рыцари снова понадобились позже — под Креси. Но тогда, сын мой, их уже не было.
Франческо пожал плечами:
— Бесцельный спор, реверендиссимус. Как бы ни относиться к самой идее участия сословий в управлении государством, нельзя не признать, что сейчас только они пытаются поддержать в стране какой-то порядок. Я нахожусь во Франции всего несколько месяцев, но то, чему я был свидетелем…
— Королевство разорено войной, мессир Франсуа, — тихо заметил из своего кресла Филипп Бертье.
— Войной! — насмешливо воскликнул молодой человек. — Что значит — войной? Сама по себе война не обязательно приводит к разорению; разве не войны обогатили Рим, сделали его великой империей?
— Они же его и погубили, — так же тихо возразил нотарий.
— А почему эта же нынешняя война не разорила Англию? — не слушая его, продолжал Донати. — Подданным Эдуарда тоже приходится нелегко, однако Английское королевство окрепло — у львенка отрасли когти, Франция дважды имела возможность в этом убедиться! Если после Креси можно было утешаться разговорами об изменчивости военной фортуны, то Пуатье — это уже не случайность! Вы говорите — королевство разорено; согласен, но кем? Войною? Нет! Англичанами? Не только! Францию губят ее собственные бароны, предпочитающие разбой войне с чужеземцами… И когда, понуждаемые отчаянием, Генеральные штаты добились этой весной контроля над действиями правительства и попытались навести хотя бы относительный порядок, вы тут же объявляете это подрывом власти!
Аббат снисходительно покачал головой:
— Почему, сын мой, вы с такой яростью обрушиваете гнев свой на наше бедное королевство? Неужели в итальянских землях все так уж благополучно?
— Нет, я этого не говорю! К несчастью, совсем не благополучно. Но мы, по крайней мере, сумели обуздать своих нобилей и создать в городах республиканское управление!
— О да, я слышал об этом. — Глаза аббата насмешливо сузились. — Вы так обуздали своих нобилей, что теперь во Флоренции достаточно, проезжая по улице, задеть простолюдина концом лошадиного хвоста, чтобы тебя потащили в суд за оскорбление. Несколько расширенное толкование республиканских прав, вам не кажется?
— Пуп Господень!! — взревел вдруг Тибо и швырнул обглоданной костью в голову кравчему; тот благополучно увернулся, кость упала на пол посреди зала, из-под стола с веселым лаем посыпались собаки.
Аэлис, от испуга пролившая себе на колени ложку супа, с огорчением смотрела, как на юбке расползается огромное жирное пятно.
— Что значит — задеть простолюдина концом хвоста?! Эту сволочь надо топтать копытами, так чтобы кровь брызгала выше конского налобника! Знаете ли вы, мессир аббат, что творится в Бовэзи? Деревни наполовину опустели! Мужичье бросает обрабатывать поля и уходит шляться по лесам, да еще горланит о правах и о мести… Но самое удивительное — это поведение дворян; вы думаете, они огнем и мечом восстанавливают свое сеньориальное право? — Тибо остановился и обвел всех налитыми кровью глазами. — Нет, эти недоноски, точно трусливые зайцы, сидят по своим замкам, не решаясь ударить на бунтарей, а их подвиги сводятся к тому, что они уводят скот и отбирают урожай у своих, а то и у чужих вилланов! Иначе им не собрать тальи! — Оглушительно захохотав, мессир Тибо извлек из-за пояса обширный платок и стал, отдуваясь, вытирать вспотевшее лицо. — Хороши бовэзийские бароны, а? За все время пути я видел только трех повешенных жаков, чтоб им гореть в аду!
Гийом пожал плечами:
— Бовэзийские бароны, к счастью, дальновиднее тебя. Чем бы они стали кормиться, если бы перевешали всех вилланов…
— Да я скорее траву буду жрать, чем позволю мужичью нарушать мою волю! — Тибо угрожающе сжал могучие кулаки и потряс ими в воздухе.
Франческо наклонился к Аэлис:
— О каких повешенных говорил ваш дядя? Здесь «Жаками» называют преступников?
— Нет, это просто такое выражение… Жак — значит простой мужик, землепашец. В общем, необразованный человек, про такого говорят: «жак-простак»… Да вы лучше не слушайте дядю Тибо, он вам такого наговорит!
За окнами совсем стемнело, и слуги внесли в зал зажженные свечи, придавшие столу праздничный вид. Сир де Пикиньи подавил вздох, подумав о том, во сколько ему влетит это парадное освещение. С тех пор как приехал флорентиец, он строго запретил Ашару ставить на стол сальные свечи домашнего производства — они и светят хуже, и пахнут дурно; а за покупные, хорошего очищенного воска, надо заплатить в Понтуазе три су четыре денье за фунт. Хорошо, если все это окупится!
— Да, мессиры, у меня с мужиками трудностей не бывает, — говорил Тибо, самодовольно оглядывая собеседников. — В прошлом году появился один смутьян — что, вы думаете, я с ним сделал? Две недели продержал в каменном мешке без жратвы, а то, что от него осталось, велел повесить на деревенской площади. И еще стражника поставил, чтобы повисел подольше — всем в назидание… Зато с тех пор мои жаки стали как шелковые! — Довольный приятными воспоминаниями, мессир Тибо ухмыльнулся и опорожнил стоявший перед ним громадный кубок.
Гийом, с досадой слушавший брата, покосился на Франческо. Тот сидел, небрежно откинувшись на спинку кресла, и лицо его выражало вежливое равнодушие. Но конечно, едва ли подобные застольные разговоры могут быть ему по душе; Гийом постарался отвлечь внимание брата от опасной темы:
— Послушай, ты бы лучше рассказал нам последние придворные сплетни, мой племянник Тестар должен знать немало…
— А мне не до сплетен, я ведь политикой не занимаюсь, у меня своих дел хватает! Лучше сам что-нибудь расскажи, как поживаешь, что поделываешь? Небось книжечки почитываешь, а, братец? — добавил он, бросив на Гийома насмешливый взгляд.
— Иногда почитываю, — коротко ответил тот.
— То-то у тебя ум за разум заходит! А вот меня, клянусь шпорой, с души воротит от одного вида пергамента и чернил! А уж эти рифмоплеты — да я бы их всех передушил собственными руками!
Аэлис украдкой вздохнула, подумав, каким диким язычником должен казаться итальянцам ее дядя. Мессир Гийом улыбнулся:
— Чем они перед тобой провинились, брат? Раньше ты вроде бы даже не помнил об их существовании.
— Черт возьми, чем провинились! Да они сыграли со мной такую шутку, что худшему врагу не придумать! — заорал Тибо. — Вы только послушайте, мессиры: подстерегли мы английский обоз, и не просто обоз, а королевский — представляете? Поживы там оказалось столько, что всем хватило, и каждый из нас прихватил для выкупа по пленнику. Мне достался какой-то тощий оруженосец. Я, как чувствовал, хотел уже прикончить его, а потом решил: оруженосец как-никак королевский, может, не поскупятся на выкуп. Так вы знаете, что я за этого недоноска выручил? Шестнадцать ливров! Да, да… не смейтесь, мессиры! Шестнадцать ливров. И знаете почему? — Тибо обвел всех торжествующим взглядом, будто собирался сообщить нечто ошеломляющее. — Это оказался поэт, мессиры, гнусный пачкун! Я даже имя его запомнил, так мне стало обидно, — Жоффруа Шосэр,[54] вот как его звали! Шестнадцать ливров, чтоб мне гореть в аду! А Готье де Буафор в том же деле поживился двумя конями, которых потом продал за полтораста! Все засмеялись, а мессир Гийом спросил:
— Откуда ты узнал, что этот Жоффруа был поэт?
— Ха, это отродье узнать легко: мерзавец таскал с собой целый мешок, набитый свитками и разной подобной дрянью. Зато и отвел я себе душу! Устроил костер и заставил ублюдка смотреть, как горят его любезные стишки! Уж как он убивался!
— Ах, мессир! — не выдержал Филипп. — Как знать, быть может, вы уничтожили немало великих произведений.
— А ты заткнись! — рявкнул Тибо. — От этих «великих произведений» и идет чума! Думаете, кто затевает всякие смуты? Вот, эти самые голодранцы — таскаются по всему свету, сочиняют разную гнусность, а за ними и чернь начинает блеять о своих «правах». Да наши чертовы жаки потому и…
— Послушай, братец, — перебил его Гийом, с деланой веселой улыбкой поднимая свой бокал, — что это ты сегодня только о жаках и говоришь? Хватит о них, право, не такая уж веселая тема.
Тибо, уставившись на брата, зловеще усмехнулся.
— В таких делах ты всегда был глуп, Гийом! — объявил он. — Помяните мое слово — если вы и впредь будете оставаться бабами, то скоро вас тут повеселят! Жаки себя еще покажут… и не только жаки! Все эти буржуа, которым позволено корчить из себя знатных особ, тоже при случае хорошенько вам поддадут. Может, хоть тогда поймете, с кем водить дружбу!
При этом недвусмысленном намеке мессир Тибо, до сих пор демонстративно не замечавший флорентийца, открыто посмотрел на него и вызывающе ухмыльнулся. Их взгляды — один яростный, другой иронический — встретились, и сир Гийом понял, что еще секунда — и с таким трудом сохраняемый мир будет нарушен самым непристойным образом.
— Хорошо-хорошо, — торопливо заговорил он, едва скрывая раздражение, — но я просил рассказать, что нового при дворе и каковы успехи дорогого племянника. Надеюсь, его положению ничего не угрожает?
Мессир Гийом сделал ударение на последней фразе и выразительно посмотрел на Тибо, а Филипп поспешил разрядить обстановку нарочито нелепым в его устах вопросом.
— Правду ли говорят, благородный мессир, будто новая любовница Черного принца сложена дурно и несоразмерно? — смущенно спросил он, с робким любопытством поглядывая на свирепого барона.
Этот вопрос, заданный тихим немолодым нотарием, вызвал за столом веселое оживление, а мессир Тибо шумно развеселился:
— Ах ты, сморчок! Ха-ха, вы слышите, что интересует старого греховодника? Вот тебе и тихоня Филипп…
Капеллан укоризненно посмотрел на Филиппа:
— Не ожидал от вас, сын мой, такого неподобающего в вашем возрасте любопытства, да еще в присутствии юной девицы.
— При ней-то? — перебил Тибо, покосившись на Аэлис и бесцеремонно ткнув ее локтем. — Эта плутовка, преподобный отец, разбирается в подобных вопросах не хуже нас с вами! А вот чего я не стал бы произносить в ее присутствии, так это — ха-ха-ха! — слово «девица», потому что — клянусь пупом Господним! — от одного этого слова моей племяннице делается тошно, так ей опротивело собственное девичество! Что скажешь, малышка? Небось уже не одного оруженосца довела до горячки своими прелестями? Он подмигнул и одобрительно оглядел зардевшуюся Аэлис. — Замуж, замуж пора, а то ведь сама свихнешься! Я бы такую кобылку давно к делу пристроил, не то что мой растяпа-братец! Или, может, женишок уже нашелся, а, Гийом? — спросил он, покосившись на флорентийца. — Так ты не таись! Кто он? Наверняка из самых блестящих вельмож Франции… Уж не королевского ли дома? Не зря ведь ты крутишься при двух дворах сразу!
Глаза Франческо на этот раз угрожающе сузились, а мессир Гийом побагровел так, что впору было бежать за цирюльником — отворять кровь. Довольный произведенным эффектом, Тибо разразился хохотом, Аэлис, насторожившись, переводила взгляд с одного на другого, а перепуганный Филипп судорожно прикидывал в уме, чем отвлечь одержимого барона.
— Досточтимый мессир, простите, что осмеливаюсь вас перебить! — воскликнул он, делая вид, будто вспомнил что-то важное.
— Вы сказали о вельможах, и я вспомнил, что недавно в Париже встретил одного весьма знатного сеньора, который утверждал, будто братья де Вандом поносят ваше доброе имя, рассказывая всем и каждому, что не так давно, сразившись с вами в честном поединке, обратили вас в бегство…
— Ах ты, мокрица! — рявкнул Тибо, обрушив свой громадный кулак на стол. — И ты спокойно слушал, мерзавец, как при тебе бесчестят имя Пикиньи?!
— Что вы, как можно! — Филипп протестующе поднял руку. — Я так и заявил тому сеньору, что только черная зависть к вашим доблестям заставляет этих низких де Вандомов сочинять столь чудовищную клевету!
— Ах, мерзавцы, ах, псы! — ярился Тибо, поводя вокруг налитыми кровью глазами. — Ну, я им покажу, как пакостить клеветой доброе рыцарское имя!
Гийом, сразу разгадавший хитрость своего нотария, едва удерживался от смеха:
— Не обращай внимания, братец. Они перессорились со всей округой и теперь просто не знают, на ком выместить злобу! Никто не поверит их словам…
Однако Тибо, стоило ему завестись, не так легко поддавался уговорам.
— Ну нет, этого я так не оставлю!! — ревел он. — Завтра же поеду разыскивать мерзавцев! Они, я слыхал, осаждают сейчас замок Луаньи? Так я им покажу осаду!! Я им подпалю зады, они у меня надолго запомнят, как порочить мою честь!
Между тем еще один человек, не участвуя в разговоре, пристально следил за всем происходящим на верхнем конце стола. Робер, прислушивающийся к каждому слову, очень скоро почувствовал скрытую напряженность между флорентийцем и сиром Гийомом, которой не замечал раньше, и это вызвало в нем смутное беспокойство. Когда же Тибо, заговорив о возможных женихах Аэлис, бросил выразительный взгляд на банкира, Робер похолодел от догадки. Конечно, это могло быть случайным совпадением, ведь мессир Тибо явно взбешен присутствием буржуа. Но в этом случае его слова не произвели бы такого впечатления на присутствующих. Достаточно было посмотреть на лица Пикиньи, флорентийца и Бертье, чтобы понять, насколько их задел этот намек.
Эти три дня после вечера, проведенного с Аэлис, Робер впервые за последнее время думал о ней без ревности, слишком счастливый ее любовью, в которой больше не сомневался; и тем страшней показалась ему сейчас внезапная догадка. Она-то может сколько угодно любить его, но ведь это не помешает отцу в любой момент выдать ее замуж. Когда он, ни о чем еще не подозревая, спросил у Симона, с чего бы это в Моранвиль пожаловали вдруг такие необычные гости, тот подмигнул и сказал, что не иначе мессир хочет поживиться: где банкир, там и золото, как тут не урвать. «То-то он обхаживает итальянцев, как своих родных, и дочке наказал быть с ним полюбезнее…» Наверняка так оно и есть. Робер, как и все в Моранвиле, хорошо знал, что мессир давно уже сидит весь в долгах; так неужто упустит случай поживиться? Но как же сама Аэлис? Догадывается ли о чем-нибудь? С мучительной тревогой он постарался поймать ее взгляд, но она не смотрела в его сторону. Мессир Тибо бушевал, обещая подпалить кому-то зад, Аэлис, глядя на него, весело улыбалась. Вообще она сегодня была особенно веселая, пожалуй даже счастливая… Наверное, причиной тому — их примирение, подумал он с горькой радостью. Ну что ж, разве этого мало? Чего еще требовать от судьбы?
На верхнем конце стола весело зашумели, но Робер, поглощенный своими переживаниями, не разобрал почему. Он смотрел и не мог насмотреться на сиявшее каким-то особенным светом лицо Аэлис. Почему она не смотрит в его сторону? Боится выдать себя? Видно, ни о чем не догадывается… хотя, может, не о чем и догадываться, может, ему все померещилось? И как тут быть, нужно ли говорить ей о своих подозрениях?
До самого конца ужина он тщетно пытался решить для себя этот вопрос и понял только одно: что должен побыть с ней как тогда, наедине. Он с тревогой ждал, не останется ли Аэлис после ужина в зале, чтобы сыграть с флорентийцем в шахматы или послушать его рассказы о виденных им чудесных странах, но нет, она сразу ушла к себе, и он с бьющимся сердцем, поспешил следом.
Когда он вошел, Аэлис стояла возле стола и с мечтательной улыбкой поглаживала надетую на левую руку зеленую перчатку. Увидев Робера, она покраснела и, торопливо сдернув перчатку, бросила на постель.
— Можно мне побыть с тобой, Аэлис? — спросил он, несколько удивленный ее испугом.
— Конечно. Зачем спрашиваешь? Я так рада!
Робер обнял ее и притянул к себе, пытаясь заглянуть в лицо.
— Если бы ты знала, любимая, каким долгим был для меня этот день… без тебя…
— Робер, пусти! — вскрикнула Аэлис, пряча лицо. — Ты чуть не задушил меня, пусти, говорю!
— Прости, Аэлис! — засмеялся Робер, отпуская ее. — Я слишком соскучился по тебе… Иди ко мне! — добавил он, садясь и протягивая ей руки. — Иди скорее…
— Погоди, Робер, еще успеешь! — Аэлис с нарочитым кокетством оттолкнула его руки и, усевшись рядом, торопливо заговорила: — Ты лучше расскажи, чем занимался. Я вот навещала отца Мореля, мы отвезли ему гуся — ну… которого добыл сокол. Мы ведь с Франсуа ездили на охоту, я тебе говорила? Ты не представляешь, как это интересно, — он сбивает птицу на лету, вот так, сверху, и падает вместе с ней, а на земле сразу перерывает ей горло и пьет кровь, — увлеченно рассказывала она. — Тогда надо подъехать и бросить ему прикормку — лучше всего голубя, а потом ему так посвистишь, и он взлетает и садится тебе на руку… следующий раз поедем с тобой, я все тебе покажу!
Аэлис продолжала говорить, но Робер уже не слушал, пораженный неожиданно охватившим его тягостным чувством. Ее слова казались ему пустыми, словно она торопилась произнести их только затем, чтобы скрыть более важное…
— Погоди, Аэлис! — остановил он ее. — С тобой что-то случилось сегодня, я это чувствую. Что произошло?
Он взял ее за плечи, повернул к себе и со страхом ждал ответа, не сводя взгляда с ее лица.
Аэлис покраснела и попыталась рассердиться.
— Ты становишься невозможным, Робер! — крикнула она запальчиво. — Нельзя же все время подозревать!
Робер не отрываясь смотрел ей в глаза:
— Скажи правду! Ты слишком часто уверяла, что любишь меня, это дает мне право спрашивать. Тебя… тебя просватали, Аэлис?
— Что-о?! Просватали? — Аэлис широко открыла глаза и с искренним недоумением глянула на Робера. — Господи, Робер! Чего это пришло тебе в голову? За кого просватали?
— За этого банкира! За кого же еще?
Аэлис залилась краской, но не опустила глаз.
— Да ты совсем ума лишился, Робер! — ответила она возмущенно. — Отец скорее даст отрубить себе правую руку, чем выдаст меня за буржуа!
— Ты в этом уверена?
— Замолчи, слышать больше не желаю подобные глупости! — Она сердито фыркнула и пожала плечами. — И хоть бы сообразил простую вещь; если бы даже такое и могло случиться, то уж, наверное, мне бы сказали о том, что я просватана.
С минуту он еще колебался, а потом облегченно вздохнул:
— Ты права, Аэлис! Конечно, ты бы знала об этом! А я уже было подумал…
— Но почему подумал? Откуда эта нелепая мысль? — спросила Аэлис, в душе уже сильно взволнованная его неожиданным предположением.
— Да так… — Робер пожал плечами и решительно добавил: — Я и сам не знаю почему. Наверное, ревность помутила мой разум!
Аэлис почувствовала досаду, ей вдруг захотелось, чтобы его подозрения оказались не простым вымыслом.
— Так мог бы и не болтать глупостей, раз сам не знаешь почему! — ответила она раздраженно и отвернулась.
— Аэлис, ну что ты! Не сердись, солнышко, я слишком боюсь тебя потерять…
Аэлис молчала, упорно избегая его взгляда. Ей вдруг стало с ним неловко и трудно. Нет, действительно, ну как он не понимает, что все равно наступит день, когда ее выдадут замуж; а если так, то какое ему дело за кого? Напротив, если бы он любил ее по-настоящему, он должен был бы только пожелать ей такого мужа, как Франсуа, а не мучить неуместной ревностью… Не мог же он всерьез надеяться на то, что она станет его женой! И вообще, что тут такого? Он мог бы оставаться при ней и после замужества…
— Вовсе ты меня не любишь, Робер! — сказала она убежденно и, совсем уже обидевшись, отодвинулась от него подальше. — Неужели мало того, что я люблю тебя? Для чего ты все портишь вечными подозрениями и страхами?
— Аэлис! — Робер улыбнулся и, поймав ее руку, притянул к себе. — Не сердись! Я и правда глупо себя веду, но ты сама виновата, любовь к тебе делает меня глупцом!
Аэлис хотела вырваться, но, встретившись с ним глазами, вдруг поняла, что не может и не должна больше сердиться. Ведь она действительно любит его, все равно любит…
— Ну, скажи, что мне сделать, чтобы ты не сердилась?
Аэлис засмеялась и пересела к нему на колени.
— Быть довольным, что вас любят! Ничего больше не требовать и быть всегда со мной! Мало с вас, мессир оруженосец?
Глава 10
Тибо, предполагавший погостить в Моранвиле с неделю, уехал уже на следующее утро. Причиной столь поспешного отъезда было нетерпение покарать Вандомов, но он был ускорен еще и ссорой, вспыхнувшей между братьями вечером того же дня, после ужина.
Все уже отходили ко сну, когда Тибо явился к Гийому, проверявшему счета с Филиппом, и громогласно потребовал ответа, чем на самом деле объясняется пребывание в замке этих подлых буржуа. Гийом пытался отшутиться, но разъяренный Тибо не отставал, пришлось приоткрыть тайну. С итальянцами, сказал он, ведутся переговоры насчет одного займа, дело это государственное и секретное, так что пусть братец не обессудит, если он не станет пока вдаваться в подробности.
— Да можешь ими подавиться! — отвечал Тибо. — «Секретное дело», как бы не так! В Париже все кумушки судачат, что Ле Кок собирает деньги — вызволять Наварру из темницы! Но только ты-то зачем в это лезешь, старый дурак! Хочешь на старости лет замарать герб Пикиньи?! Тогда уж выдай Аэлис за этого менялу!
— Не лезь ко мне со своими советами, тупоумный кабан! Если у тебя вместо головы болванка для шлема, так и не пытайся пользоваться ею в другом качестве!
Братья готовы уже были полезть в драку, если бы не Бертье, как всегда, попытавшийся восстановить семейное согласие. Необузданный Тибо, у которого давно уже чесались кулаки, вместо брата сгреб подвернувшегося под руку Филиппа и от всей души шмякнул о стену; бедный легист обмяк и, закатив глаза, стал сползать на пол.
— Мессиры… будьте благоразумны! — тут же очнувшись, взмолился он слабым голосом. — Помните, от этого займа зависит судьба королевства…
— Тебе еще мало?! — взревел Тибо, оборачиваясь. — Плевать я хотел на королевство, когда речь идет о чести рода Пикиньи!
— Зато Карлу на него не наплевать! — крикнул Гийом, помогая Филиппу подняться. — И пора бы тебе знать его характер…
— Я не позволю бесчестить наш род ни ради Карла, ни ради самого папы римского!
— Скажи на милость — он не позволит! В своем доме пока еще я хозяин!!
— Ну, так лижи ему задницу, этому банкиру! А главное, не забудь подложить ему в постель свою дочку! Иначе не видать тебе займа как своих ушей! Слышишь, Гийом? Непременно не забудь, а то политика пострадает. Ха-ха-ха! Я ведь зная, что когда-нибудь эти политические игры засадят тебя в дерьмо по самую шею! Лучше бы ты подстерегал в засадах хорошую добычу и брал выкупы, как делают настоящие рыцари… Так нет, дьявол его попутал снюхаться с подонками! Тошно вспомнить, как он всю зиму нежничал со всяким сбродом из горожан, чуть не под ручку ходил с этим висельником Марселем! Вот теперь и пеняй на себя, что буржуа обнаглели и держатся с тобой как с равным! Погоди, к девчонке еще не один такой «благородный» женишок подкатится.
— Ладно, это уж моя забота. А тебе советую одуматься и не показывать этому банкиру, что ты недоволен его присутствием в замке. Наварра не любит, когда ему становятся поперек дороги…
Тибо презрительно плюнул:
— Подумаешь, испугал! Я что, ленник твоему Карлу? Ты с ним блудишь, тебе его и бояться, а я волен делать и говорить что пожелаю! Но спокойно созерцать непотребство, которое творится в Моранвиле, я — разрази меня Бог — не могу! Завтра же с рассветом уеду, и ноги моей здесь больше не будет, покуда ты сам не одумаешься! Потому что если кому-то пора одуматься, так это тебе!
— Ладно-ладно. — Гийом потрепал его по рукаву. — Иди проспись, ты много выпил за ужином. Завтра и не вспомнишь, что собирался уезжать.
Утром он, проснувшись, первым делом подумал с тревогой, не забыл ли братец и в самом деле про свой отъезд, но, подойдя к окну, тут же успокоился — люди Тибо готовились в дорогу.
— Эй, там! — весело закричал он. — Мыться, одеваться, и пусть разбудят дамуазель — скажите, чтобы готовилась проводить дядюшку!
Дядюшку следовало проводить до границы владений не только чтобы сгладить вчерашнюю ссору (Пикиньи побаивался, как бы неистовый дурак не начал жаловаться всякому встречному на брата, который спутался с Наваррой и теперь склоняет на его сторону иноземных банкиров); не мешало и присмотреть за ним по пути, чтобы не вышло как в прошлый раз, когда очередной родственный визит обошелся в дюжину лучших тонкорунных овец. Встретив тогда пастуха с овцами, Тибо подозвал его и велел принести воды, а когда парень вернулся — путников и след простыл, а стадо заметно поредело. Рассвирепевший Гийом послал в Монбазон гонца с требованием вернуть похищенное, но Тибо нагло ответил, что при всем желании не может исполнить братнину просьбу, понеже овец променял сиру де Буафору на чеканный пояс миланской работы, а пояс тот на его, Гийома, брюхе нипочем не сойдется…
Сейчас надо было выпроводить его как можно скорее. Позавтракали наспех в семейном кругу; Гийом велел сенешалю сказать гостям, что не решился будить их в столь ранний час. Еще сидели за столом, когда во двор уже вывели оседланных лошадей.
Белоснежного иноходца по имени Клержуа, на котором ездила Аэлис, Робер заседлал, как всегда, своими руками, проверив каждую пряжку и с особым тщанием затянув подпругу; Клержуа был лукавцем и имел дурное обыкновение надувать брюхо, когда его седлали.
Наконец со сборами было покончено. Передав конюху повод своего вороного, Робер подвел иноходца к парадному крыльцу, на которое уже вышли господа. Аэлис сбежала первой, Робер с учтивостью знающего свое дело стремянного преклонил левое колено и выставил правое; Аэлис поднялась на него, как на приступку, и, поставив в стремя другую ногу, вдруг пошатнулась, словно потеряв равновесие, — это была игра, уже привычная для обоих. Робер подхватил девушку и легко вскинул в седло, на миг благодарно коснувшись щекой ее колена.
— Вы очень любезны, благодарю, — обронила она высокомерно, расправляя юбку.
Робер молча поклонился, отошел и сел на своего Глориана. Протяжно запели на петлях открываемые створки ворот, и первые всадники скрылись в темном проеме воротной арки, сразу наполнившейся звонким грохочущим перестуком копыт по каменным плитам. Здесь еще таился ночной мрак, от стен тянуло сыростью. Робер, ехавший следом за Аэлис, увидел, как она поежилась от озноба. «Надо ей было одеться потеплее, — подумал он, — впрочем, день будет жарким, ни к чему…» Стало светло, копыта передовых лошадей уже глухо затопотали по деревянному настилу моста, и кавалькада выехала в теплое сияние летнего утра.
Клержуа легко нес всадницу, Аэлис покачивалась в седле, держась очень прямо и чуть склонив голову, — то ли дремала, еще не совсем освободившись от крепкого предрассветного сна, то ли о чем-то задумалась.
Робер смотрел на нее с восхищением и нежностью, и сердце его было переполнено благодарностью за это чудесное утро: что нет рядом проклятых чужаков, что ему удалось сегодня подать ей стремя, что можно сейчас ехать вот так, рядом, не сводя с нее взгляда… О чем она думает?
Он тронул шпорами коня, посылая его вперед. Они поравнялись, Аэлис рассеянно улыбнулась Роберу, повернув к нему лицо, невыразимо прекрасное в розовом свете зари, — и вдруг вороной злобно взвизгнул и попытался укусить иноходца за холку. Аэлис испуганно схватилась за поводья, Робер в бешенстве рванул удила так, что Глориан присел на задние ноги, и ожег коня плетью.
— Прости, госпожа, — сказал он, снова поравнявшись с Аэлис, — ты не испугалась? Вот уж не ожидал от негодяя такого коварства!
— Не ругай его, доброму коню положено быть с норовом. А я уже привыкла, Клержуа пуглив и шарахается от всякого пустяка. — Она одобрительно оглядела вороного. — Это ведь Глориан? Твой любимец, я не ошиблась?
— Ты не ошиблась, госпожа, это Глориан — одно из лучших животных в конюшне. Но он злобен и бывает опасен.
— И ты его любишь больше других, правда ведь?
— Он того заслуживает. Раньше я ездил на Гайяре, но теперь господин Симон разрешил мне седлать Глориана, и мы с ним сразу понравились друг другу…
— Еще бы вы друг другу не понравились! — улыбнулась Аэлис. — Вы, мессир, тоже бываете злобным и опасным. А ты знаешь, что отец отдал Глориана мне и разрешил поступить с ним по моему усмотрению?
— Тебе?! — изумился Робер. — Не понимаю, зачем тебе такой бешеный конь!
— Мне — незачем! — ответила Аэлис многозначительно и бросила на Робера лукавый взгляд. — Но, кажется, он подойдет одному бешеному оруженосцу…
— Кому же это… госпожа? — смущенно спросил Робер, боясь поверить своей догадке.
— А ты, конечно, не догадываешься? Ну и притвора же ты, Робер! — Она засмеялась и, понижая голос, добавила: — Я дарю его вам, мессир! Пусть сей благородный конь поможет вам стяжать множество славных побед, а также прославить имя вашей дамы! — Она кокетливо покосилась на него и добавила все в том же шутливом тоне: — Надеюсь, именно таковы ваши намерения?
— Аэлис… — Робер задохнулся от радости. — Как мне благодарить тебя, госпожа?
— Очень просто! Никогда больше не досаждать своими обидами, понял?
Их взгляды встретились, и Робер явственно ощутил, как за спиной у него вырастают крылья.
— И еще я хочу, чтобы ты выбрал себе самую лучшую сбрую, самое красивое седло и чепрак, это тоже будет мой подарок! Я еще вчера хотела тебе сказать об этом, но потом забыла…
— Полученный от тебя такой подарок вдвойне бесценен, моя любимая! — растроганно прошептал Робер.
Петляя среди мягких холмов, все дальше убегала вдаль белая от пыли дорога. Солнце было уже высоко, когда путники добрались до менгира, который здесь, по дороге на Руан, служил пограничной метой владений сира де Пикиньи. У подножия громадного, незапамятно древнего каменного столба, с грубо вырубленным на каждой его стороне кельтским крестом, слуги расстелили ковер. Господа подкрепились, выпили по прощальному кубку, и Тибо повел свой отряд дальше, в сторону Луаньи, а Гийом со свитой повернул обратно. Он был несказанно рад, что братца удалось спровадить без особых убытков, если не считать прихваченных его конюхами двух мешков овса.
Вернувшись в замок, Робер поспешил к конюшне расседлывать и чистить лошадей — Клержуа и, теперь уже своего, Глориана. Оба коня были ему равно дороги, он вообще любил возиться с лошадьми, уход за ними был приятным и успокаивающим занятием. С усердием чистил он щеткой лоснящиеся бока, расчесывал шелковистые гривы, подсыпал свежего зерна, водил их на водопой… и они платили ему такой же привязанностью, а его любимец всегда встречал Робера радостным ржанием.
Он быстро покончил с делами, но не спешил уходить, любуясь тонкими поджарыми ногами и горделиво выгнутой шеей красавца-вороного. А главное — это ее подарок! Робер счастливо рассмеялся и, обняв голову Глориана, зарылся лицом в густую гриву. Словно откликаясь на ласку, конь тихонько заржал и ткнулся теплыми губами ему в плечо.
Выходя из конюшни, Робер столкнулся со стражником по имени Арно Рыжий — тот, весь запыхавшийся, крикнул, что его, Робера, искал господин Симон.
— Случилось что-нибудь?
— Прискакал человек из Понтерена — там у них рутьеры угнали стадо, надо снаряжать погоню!
Робер присвистнул — Понтерен был одной из самых дальних вотчин сира де Пикиньи, граничащей уже с землями аббатисы Камбронской. И в какую еще сторону погонят бандиты свою добычу! Хорошо, если к побережью, там их можно перехватить где-то между Гурнеем и Сонжоном, а если на север, в сторону Амьена? Этак они успеют переполовинить стадо, покуда их настигнут. Одно утешение — коров галопом не погонишь.
— Много угнали? — поспешая за Рыжим, спросил он.
— Да голов с полсотни, слыхал…
Когда он пришел к Симону, тот уже вооружался — сидел на табурете с поднятыми руками, а двое стражников надевали на него кольчужную рубаху.
— Останешься тут, сынок, — сказал он, выпростав наконец голову из ожерёлка и поводя плечами, чтобы кольчуга легла как надо. — Не знаю, как долго придется мне гонять за этим отродьем, а наших баварцев без присмотра оставлять не годится… тоже банда не хуже тех.
— Позвольте мне ослушаться, — твердо сказал Робер, покраснев от обиды. — В замке остаются и господин сенешаль, и сам сир Гийом, а для баварцев я никто. Да и пора мне испробовать, выучился ли я чему-либо.
— Не терпится? Да вот тут, тут расправь, дурья башка, сам, что ли, не видишь, — сердито сказал Симон одному из одевавших его стражников и обернулся к Роберу. — По правде сказать, я так и думал, что ты оставаться не захочешь. Лучше бы остался. Успеешь еще наглядеться на кровь… Ну, коли решил, так иди собирайся, ждать не будем.
— Можно мне оседлать Глориана? Госпожа сказала сегодня, что дарит его мне.
— Седлай, раз подарили, чего спрашиваешь…
Скоро отряд был готов. Кроме Симона, Робера и еще одного оруженосца из аррьер-вассалов сира де Пикиньи, он насчитывал одиннадцать человек, тщательно отобранных самим де Берном. Когда сир Гийом давал Симону последние наставления, которые тот выслушивал с выражением вежливой скуки, Робер улучил минутку и подъехал к стоявшей на крыльце Аэлис — та вышла с отцом проводить их.
— Я так рада за тебя, Робер, — сказала она с сияющими глазами, — так рада! Это же замечательно, что так получилось, правда? Ты ведь давно мечтал побывать в настоящем деле!
Робер удивился, даже немного обиделся:
— Какое же это настоящее дело, Аэлис? Разве я о таком мечтал — гоняться за коровами…
— Ну, Робер! Начинают всегда с малого. И потом, что вы будете биться из-за коров, это ничего не значит. Рутьеры, говорят, весьма свирепы и бой с ними — это не турнирная жоста.[55]
— Пожалуй, — улыбнулся Робер, — но, если так, ты могла бы хоть немножко обо мне побеспокоиться. А вдруг я погибну? Похоже, тебя это не тревожит нисколько!
Аэлис покраснела:
— Вот уж это совсем не честно, мессир! И я даже не желаю говорить с вами после этого!
Робер засмеялся и похлопал по шее нетерпеливо пляшущего Глориана.
— Да я ведь в шутку сказал! Ну, попрощаемся?
Она искоса взглянула на отца и зашептала, наклоняясь к Роберу:
— Ах, мой друг, как ты хорош в этих доспехах! У меня просто сердце замирает! А мой медальон, он с тобой? — вдруг забеспокоилась она.
— Он всегда будет со мной… До свидания, любимая! — тихо сказал он, оглянувшись на Симона, и стал осаживать коня, заставляя его пятиться от крыльца.
Уже отъезжая, он обернулся и поднял руку, и тогда Аэлис вдруг закричала, перегнувшись через балюстраду:
— Робер… береги себя! Я так буду ждать! Береги себя и возвращайся скорее, милый!
Сир Гийом, обернувшись, уставился на дочь и начал багроветь.
— Мадам, вы не в своем уме! — прошипел он. — Что это еще такое, как вы себя ведете? Убирайтесь отсюда! Ступайте к себе и не смейте выходить из комнаты, пока не позову!
Аэлис убежала, едва сдерживая слезы, а сир Гийом проводил взглядом последних всадников, въезжающих под арку ворот, и сердито оглянулся на негромко позвавшего его Филиппа:
— Ну, что еще тебе?
— Мессир, достопочтенный отец Сюжер просил передать, что хотел бы с вами поговорить.
— Ладно, скажи — приду.
Хорошо еще, оба итальянца с утра уехали на охоту и до сих пор не вернулись; не хватало только, чтобы Донати стал свидетелем неприличной сцены, когда госпожа чуть ли на шее не повисла у простого стражника… Да уж не тот ли это мальчишка — кровь Христова! — чью отпускную грамоту она тогда у него выманила? Что же это такое творится? То-то она добивалась, чтобы негодяя сделали стражником… Нет, но какое счастье, что этого не видел Донати! А Симон-то, Симон, старый слепой осел, куда смотрел? Впрочем, верно и то, что за ними сам Сатана не усмотрит, ну ничего, пусть только вернутся…
Развевая полы длинной домашней робы, сир Гийом ворвался в комнату дочери и застал ее шепчущейся с Жаклин. Он затопал ногами, от ярости потеряв дар речи.
— Вон отсюда, шлюхина дочь! — заорал он на камеристку, когда вернулось дыхание. — Сводница! Ты у меня насидишься в каменном мешке! Старухой оттуда выползешь, распутная ведьма!
Жаклин опрометью вылетела из комнаты. Аэлис встала и бросила на отца высокомерный взгляд:
— Не будьте смешны, мессир! Можно подумать, мы живем во времена Крестовых походов. Вы еще меня пригрозите посадить в мешок!
— А тебя к монахиням! — закричал он, потрясая кулаками. — Завтра же! В Шомон, к Беренгарии, она знает, что делать с такими, как вы! Уж там-то вы попоститесь, мадам, да еще и розог отведаете! Бог свидетель, в этом средстве вы нуждаетесь более, чем в душеспасительных беседах!
Хлопнув за собой дверью, он вдруг заметил торчавший в скважине ключ, дважды повернул его и спрятал в карман.
— Мессир, осмелюсь напомнить…
Гийом обернулся и в ярости уставился на снова возникшего перед ним нотария:
— Какого тебе черта надо, что ты таскаешься за мной по пятам?!
— Вас ждет достопочтимый аббат.
— А, дьявол, я и забыл. Ладно, идем!
— …все эти буржуа, сын мой, хотим мы того или нет, начинают узурпировать права, бывшие когда-то привилегией дворянства. Прискорбно, но что поделаешь? — Сюжер замолчал и бросил испытующий взгляд на Гийома. Тот сидел понуро, весь какой-то осунувшийся. — Ведь только что королевским указом простолюдинам разрешено носить меха и драгоценности, которые раньше дозволялись только дворянам. Мелочь, конечно, но весьма примечательная… В наше время брак дворянки с богатым буржуа не такое уж редкое дело, дорогой Гийом. Ты, я знаю, любящий отец, и счастье твоей единственной дочери должно быть главной твоей заботой…
— Счастье стать женой менялы! — возмутился Пикиньи.
— Нет, счастье стать женой молодого, богатого и блестящего во всех отношениях человека, который ее, несомненно, любит.
— Как это вдруг стало вас заботить!
— Всегда заботило, сын мой, — невозмутимо ответил аббат. — Но должен добавить еще кое-что: я наблюдал Аэлис весьма недолго, но и за этот малый срок успел подметить, что она явно неравнодушна к…
Пикиньи вспыхнул:
— Черт возьми, мессир аббат! Уж не хотите ли вы сказать, что мою дочь можно обвинять в забвении своего…
Бертье, как всегда тихо и незаметно сидевший на своем месте, поспешил вмешаться:
— Досточтимый не ошибся, мой сеньор! Я давно понял, что дамуазель отвечает мессиру Франсуа теми же чувствами.
Пикиньи обернулся и уставился на нотария непонимающе; умение улавливать мысль собеседника с полуслова ему порой изменяло. К тому же он еще был весь под впечатлением ужасного открытия: у негодницы шашни с вилланом и она не стесняется выставлять это напоказ!
— Мессир Франсуа, ты сказал? Да я сам сегодня…
— Гийом, Гийом! Отцы всегда слепы. — Аббат улыбнулся и покачал головой. — Филипп совершенно прав. Моя крестница, можно не сомневаться, будет счастлива с этим достойным молодым человеком; я неоднократно беседовал с ним во время его пребывания в аббатстве и имел возможность убедиться, что его тонкий ум и образованность оказали бы честь любому высокородному юноше… Согласись, Гийом, что он ничем не отличается от самого изысканного вельможи…
Пикиньи, до которого наконец дошло, тем временем успел успокоиться — дело начинало выглядеть по-другому. Замуж ее, замуж! И поскорее, покуда не доигралась до беды…
— Не хватает самой малости, — усмехнулся он, — родового герба.
— Если наш молодой друг предоставит Карлу этот заем, он без труда получит и рыцарское звание, и герб, и самое высокое положение при дворе.
— Юнец слишком горд своими республиканскими идеями и своим положением банкира, чтобы польститься на то, что может предложить ему Карл, я уже пытался соблазнить его королевскими милостями!
— Сейчас, возможно. Не забудь, ему всего двадцать три года. Со временем все изменится. Получив жену знатного рода, он и сам захочет позолотить свои шпоры.
Пикиньи мрачно насупился, снова охваченный сомнениями. Аббат выжидающе посмотрел на него, но, видя, что тот упорно молчит, продолжал тоном терпеливого наставника:
— Прислушайся к доброму совету, сын мой, обуздай свою гордыню. Бывают моменты, когда нужно уметь смиряться. Обдумай, взвесь все, что тебя ждет в случае, если ты откажешься внимать голосу разума. Тебя настигнет полное разорение, ты уже на пороге этого. И тогда тебе придется искать жениха для своей дочери среди самых захудалых рыцарей, а вряд ли она поблагодарит тебя за это!
Мессир Гийом сделал нетерпеливый жест; аббат, поняв его, утвердительно кивнул:
— Да, конечно, это твое личное дело. Но есть другая причина моей настойчивости, гораздо более важная: я говорю о седьмой заповеди рыцарства — о вассальной верности. Мне сейчас вспомнилась песнь о Рауле де Камбрэ. Когда Рауль собрался жечь монастырь Ориньи, его вассал Бернье соглашается следовать за ним, хотя его мать — монахиня в этом монастыре. «Мой сеньор Рауль — предатель хуже Иуды, — говорит он, — но он мой сеньор, ни за что на свете не ослушаюсь его». Это, разумеется, крайность, объяснимая дикими нравами того времени, но в этой крайности была своя доля истины… Возможно, рыцарство гибнет именно потому, что забыло свою важнейшую заповедь!
Пикиньи насмешливо ухмыльнулся.
— Если уж говорить начистоту, мессир аббат, то рыцарству было с кого брать пример. Наши прелаты первыми показали, как можно пренебрегать заповедями!
Выражение мягкого терпения исчезло с лица аббата.
— Осторожнее, Гийом! Не тебе судить о делах Церкви, поэтому вернемся к твоим. Более не стану уговаривать, но помни: Наварра не прощает измены! Вассальный долг обязывает тебя помнить прежде всего о деле твоего сюзерена, которое ты клялся поддерживать; и если теперь по твоей вине сорвется этот заем, то Карл не замедлит отомстить. А что мстить он умеет, тебе хорошо известно.
Филипп бросил тревожный взгляд на Пикиньи.
— И помни еще одно, — продолжал аббат. — Навлекая на себя погибель, ты губишь и свою дочь. Да просветит Господь твой разум, сын мой! Я иду в часовню и буду молиться за тебя. А вечером ты сообщишь мне свое решение. — Аббат поднялся и благословляющим жестом поднял руку.
Оставшись один, сир Гийом долго сидел в той же позе, ссутулившись и хмуро разглядывая черные и белые плитки пола. Они напоминали шахматную доску, и ему виделись на ней причудливые фигурки двух Карлов, Аэлис, банкира, аббата и его самого… Да, дорого начинает обходиться эта партия! Шесть фигур на доске — или все семь? Может, еще и эта гнусная пешка сюда же затесалась? Раны Христовы, как он испугался, когда аббат начал говорить о неравнодушии Аэлис! Но пока, похоже, никто ничего не заметил! Негодницу и впрямь следовало бы отправить в Шомон с соответствующим письмом к матери аббатисе, там взбалмошную дуру живо привели бы в чувство, они это умеют. Да что тут, в самом деле, раздумывать? Замуж ее, и немедля, пока и в самом деле беды не случилось. Ее замуж, и именно за Донати. Сюжер прав, выбирать не приходится… Мальчишку же повесить или в каменный мешок — и забыть там, как в старые добрые времена… Мешок не мешок, но в замке чтоб ноги его больше не было — пусть проваливает на все четыре стороны! И сказать Симону, чтобы не вздумал еще уплатить негодяю за время службы…
— Жаклин! — заорал сир Гийом, шаря по карманам в поисках ключа. — Эй, там, камеристку сюда! Да поживее! Где ты, потаскуха, шляешься, когда тебя зовут? На, возьми и ступай одевать госпожу. Скажешь — у меня для нее хорошая новость!
Глава 11
Она была как во сне весь этот день — или прошло уже два? Она не знала, не могла бы сказать, счастлива или несчастна, и если несчастна, то отчего — оттого ли, что через неделю ее свадьба, или оттого, что это будет только через неделю, а не завтра, не нынче вечером… Она пребывала в полусне, в розовом тумане, пронизанном солнечными лучами и карильонным[56] перезвоном колоколов, как тогда, в Жизоре на Рождество, когда еще была жива мама. Все спуталось у нее в голове — так быстро все случилось, сначала отец накричал на нее за то, что она неподобающе вела себя с… или это было потом? Нет, конечно, раньше, он кричал на нее и грозил сослать в монастырь, а потом запер — она тогда испугалась, действительно испугалась. Но прибежала Жаклин и сказала, что бояться нечего, а ее ждет хорошая новость. Новость принес отец: «Мадам, вы выходите замуж через неделю, извольте приготовиться». И ушел, даже не сказав, за кого ей выходить, а Жаклин стала хихикать: ну и смех, к чему тут особенно готовиться, все очень просто, она все ей объяснит. «Да, но за кого?» — спросила Аэлис, а Жаклин рассмеялась: «Да уж конечно, не за вашего Ро…» — и не договорила, потому что Аэлис изо всей силы залепила ей пощечину — даже не потому, что рассердилась, за что тут было сердиться, а просто нельзя было, чтобы она назвала имя, произнесла его вслух.
Конечно, она с самого начала знала за кого. И когда протрубили к ужину, и она вышла в зал одетая и причесанная — голова высоко, глаза опущены (пол в двух туазах перед собой) и увидела, что их кресла теперь рядом, ее и Франсуа, и им подали на одной тарелке, как требуют для любовников правила куртуазности, она уже давно все знала. И нисколько не удивилась, когда отец провозгласил их помолвку и велел сенешалю нынче же разослать приглашения в соседние замки. Они встали перед всеми, и он поцеловал ее в губы — красивый и нарядный, как мессир святой Габриель на витраже в часовне. И тогда вокруг опустился этот розовый туман и стали звонить колокола.
Они пили из одного кубка — настоящее вино, не легкий кларет, какой положено пить девицам, а крепкое вино из Бургундии, красное как кровь, и ели из одной тарелки. Но она не знала, счастлива она или несчастна и отчего глаза полны слез — бывает ведь от радости, а чаще от горя. Она ничего не видела, кроме его рук над тарелкой, когда он пальцами в перстнях ловко надевал на золотую вилочку кусочки мяса и подавал ей, — и это было хорошо, иначе ее тянуло бы взглянуть хоть один раз на пустующее место за нижним столом. Точнее, на одно место. А впрочем, зачем? Он был уже далеко, бесконечно далеко за этой радужной завесой из солнечных лучей, розовой дымки и колокольного звона. Он был в детстве, в памяти, как та давняя-давняя поездка в Жизор…
Ее все поздравляли: отец, аббат Сюжер, капеллан, Филипп, приятель Франсуа со своей испанской бородкой, сенешаль, остальные оруженосцы. Им-то она и вовсе не могла посмотреть в глаза — они ведь знали, а если не знали, то догадывались. Но почему? Стыдилась она, что ли, но чего ей было стыдиться? Или они действительно воображали, что урожденную Пикиньи выдадут замуж за виллана? А когда несмело поднимала глаза на своего будущего мужа, сердце ее обрывалось, никого красивее она в жизни не видела, он превосходил красотой не только святого Габриеля в часовне, но и святых Гервасия и Протасия в жизорской церкви.
Утром ей принесли подарки — золоченую шкатулку со сластями и еще один ларец, с островерхой крышкой и весь в узорах, выложенных слоновой костью по темному дереву. Она положила в рот кусочек розового сахара, открыла ларец и полюбовалась теплым блеском крупных жемчужин, боясь к ним прикоснуться. Трудно было привыкнуть к мысли, что они — ее, что это он прислал ей все эти драгоценности…
Встретились они за завтраком, потом вместе провожали Сюжера, который благословил их и сказал, что вернется через пять дней, чтобы самому совершить таинство венчания. И потом наконец остались одни — в саду у подножия Фредегонды, где она раньше так любила сидеть с… Неужели действительно она и неужели это было на самом деле?
— Мадонна, — сказал Франсуа, глядя ей в глаза без улыбки, — гонцы с извещением о свадьбе еще не разосланы, я нарочно велел их задержать. Мне надо исповедаться перед вами.
— Я слушаю вас, мессир, — прошептала она, не поднимая глаз.
— Мадонна, я вынудил у вашего отца согласие на наш брак. Не стану объяснять всего, вам этого не понять, но мессир ваш отец уговаривал меня принять участие в одном предприятии, очень для него важном, и я согласился, поставив условием вашу руку. Наверное, мне следовало сначала поговорить с вами, но что делать — так получилось… Словом, вы свободны решать. Скажите мессиру Гийому, что я снимаю свое условие и готов подписать соглашение в любом случае, даже если вам не будет угодно меня осчастливить.
— У вас… есть основания это предполагать? — помолчав, спросила она едва слышно.
— Мадонна, я не хотел бы думать потом, что купил себе жену… как покупают невольницу.
— О ваших делах с отцом, мессир Франсуа, мне ничего не было известно, но… поверьте, я отказала бы вам, если бы… Простите, я должна уйти! Пожалуйста, решайте сами, отправлять гонцов или нет…
Весь день она провела в своей комнате, не вышла даже к обеду. Осмелев, снова раскрыла ларец с драгоценностями, разложила их на постели, примеряла сама и украшала Жаклин. Больше всего ей понравился жемчуг — крупные зерна светились каким-то теплым, живым внутренним блеском, в них не сразу угадывалась незаметная с первого взгляда розоватость. Жаклин, год прослужившая в Париже в доме кузины Аэлис, мадам де Траси, и поэтому считавшая себя весьма осведомленной в тонкостях придворной жизни, уверяла, что такого жемчуга нет и у Жанны Бурбон, супруги дофина. «Раньше-то, может, и был, — добавила она справедливости ради, — но теперь наверняка заложили для королевского выкупа…»
За ужином Аэлис узнала, что один из гонцов, ездивший к ближайшим соседям, уже вернулся: господа непременно приедут и интересуются, будет ли по этому поводу турнир.
— Какой турнир! — закричал сир Гийом. — Кто это может подготовить турнир за одну неделю? Вот за девять месяцев — дело другое, ха-ха-ха! Не правда ли, любезный зять? А повод окажется нисколько не хуже, клянусь Венерой! Так что, дети, вы уж потрудитесь на славу!
После ужина Франсуа предложил ей прогуляться. Было тепло и тихо, во рву за внешней стеной кричали лягушки; легкий ветер доносил в сад запахи стоячей воды, разогретого за день камня и благоухание полевых трав с окрестных лугов.
Они молча шли рядом, и сердце Аэлис замирало в предчувствии неизведанного.
— Вы так молчаливы, донна Аэлис. — Франсуа коснулся ее руки. — Вас что-нибудь тревожит?
— О нет, мессир… — смутилась Аэлис.
Он долго молчал, а потом тихо заговорил:
— Еще сегодня утром мне казалось, что я найду тысячи слов, чтобы выразить свои чувства, а сейчас не нахожу ни одного. Видно, слишком бедна человеческая речь и слишком велика моя любовь. Поэтому я позволю себе выразить мои чувства стихами, к сожалению не моими…
Благословен и год, и день, и час. И та пора, и время, и мгновенье, И тот прекрасный край, и то селенье, Где я был взят в полон двух милых глаз…От волнения у нее перехватило дыхание и судорожно, толчками, забилось сердце.
— Я действительно благословляю этот край и то сладостное мгновение, когда увидел тебя, любимая! — сказал он и продолжал:
Благословенно первое волненье, Когда любви меня настигнут глас, И та стрела, что в сердце мне впилась, И этой раны жгучее томленье…[57]Аэлис почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Вероятно, она даже пошатнулась, потому что Франческо остановился и, обняв ее за талию, встревожено спросил:
— Что с вами, любимая? — И, не дожидаясь ответа, еще крепче обнял ее и притянул к себе.
Ошеломленная его близостью, Аэлис даже не пыталась вырваться, и, когда он наклонился к ее лицу, она почувствовала, что вот-вот остановится сердце. Она вообще ничего уже не понимала, кроме ощущения его поцелуев на своих губах, его сильных и нежных рук…
Глава 12
Преследование угнанного стада, как и предполагали, затянулось. Четвертый уже день отряд шел по следам рутьеров, но те ловко ускользали, все дальше уходя к границе Фландрии. Симон де Берн был в бешенстве. «Если так пойдет дальше, — говорил он Роберу, — то клянусь своими потрохами, мерзавцы сожрут половину стада. Хороши мы будем, притащившись в Моранвиль с одними шкурами вместо коров!» — «Не сожрут, — успокаивал Робер, — выгоднее продать. Главное, не дать им добраться до Арраса…» Симон проворчал, что главное все-таки отбить стадо, иначе этак можно играть в кошки-мышки целый год. Игра была по душе Роберу, но слишком затягивать ее не хотелось и ему. Он уже начал тосковать по Моранвилю. Во время короткого, урывками, отдыха ему снилась Аэлис, и он просыпался хмурый, проклиная в душе и коров, и рутьеров.
Наконец им повезло. Бандиты, видимо тоже утомленные, решили дать себе настоящий отдых и укрылись за стенами аббатства, разоренного англичанами в самом начале войны. Симон де Берн даже не мог припомнить его названия. «Хорошо, что годоны оставили стены в таком виде, — удовлетворенно заметил он, — нам сейчас это только на руку». Посовещавшись, решили прибегнуть к маленькой хитрости. Подскакав к самым стенам, не так уж сильно и разрушенным, они стали кружить вокруг, громко ругаясь и высмеивая трусов, боящихся высунуть носа из-под укрытия. Рутьеры отвечали со стен таким же градом брани и насмешек, приглашая наведаться в гости и разделить трапезу, для которой отлично послужит одна из моранвильских коров. Взбешенный Симон, грозя кулаком, прокричал, что желает им подавиться и что если среди них есть поп, то пусть он к утру приготовит их души к переселению в ад. На стене показался косматый, свирепого вида полуголый рутьер с громадным крестом на волосатой груди; Симон злорадно крикнул: «Не забудьте получше благословить своих молодцев, ваше бандитское преподобие, иначе, клянусь серой и вилами, им никогда не выбраться оттуда, куда они завтра попадут!» — «Вот я тебя сейчас благословлю, сучий выродок! — отвечал воинственный священнослужитель, отламывая кусок треснувшего стенного зубца. — Во имя Белиала, Бегемота и Бельзебуба, аминь!» С этими словами он метнул в Симона огромный камень, но промахнулся. Де Берн ответил попу непристойным жестом, издевательски захохотал и, отъехав немного, поднял руку, созывая своих людей. «За мной, ребятки, до замка Брейи рукой подать, поспешим! И чтоб мне никогда больше не опоясаться мечом, если к утру я не приведу такой отряд, что отсюда ни одна вошь не ускользнет!» После этого они ускакали, сопровождаемые свистом и улюлюканьем рутьеров. Спектакль был разыгран нарочно. Ангерран де Сир, барон Брейи, слыл человеком трусливым, жадным и не склонным оказывать какую-то ни было помощь даром. Зная это, рутьеры совершенно успокоились, решив, что успеют выспаться и унести ноги, пока их враг будет торговаться.
Отъехав на безопасное расстояние, отряд Симона свернул в лес, с северной стороны подступавший вплотную к аббатству. Робер повеселел в предвкушении схватки и всю дорогу придумывал всевозможные способы нападения. «Да тут способ один, сынок, — заметил Симон, — дождемся темноты, дадим им уснуть и с Божьей помощью переправим их грязные души на тот свет!»
Когда стемнело, Симон, Робер и десять арбалетчиков подкрались к стенам и затаились в поросшем папоротником овражке. Ждать пришлось долго. Рутьеры устроили попойку; из аббатства то и дело доносились их пьяная ругань и хриплые голоса, распевающие непристойные куплеты. Воспользовавшись вынужденным ожиданием, Симон отправил на разведку одного из арбалетчиков. «Посмотри хорошенько, Жанно, нет ли там во дворе хвороста или соломы. Не мешало бы позаботиться об освещении, иначе в темноте перебьем своих…» Вернувшись, Жанно сообщил, что неподалеку от стены навалена куча валежника. Симон обрадовался. «Ну, ребятки, мессир святой Михаил о нас позаботился! Готовь факел и огниво, Жанно, и, как только начнется потеха, подпалишь эту кучу…»
Наконец в аббатстве все стихло. Вперед был послан Эрар, старый опытный воин, служивший при Симоне оруженосцем. За ним, крадучись, двинулись остальные. Эрар бесшумно, точно кошка, стал взбираться по выщербленному непогодой контрфорсу. Робер старался не отставать от него, Симону все время приходилось его удерживать. Когда достигли верха, Робер оглянулся по сторонам. Шагах в десяти от них, прислонясь к зубчатой стене, дремал часовой; юноша почувствовал досаду. Черт побери, если они все там перепились и крепко снят, то мало радости будет от такого дела! Эрар неслышно подползал к часовому. Не чуя опасности, тот мирно всхрапнул, и Роберу стало не по себе. С замирающим сердцем следил он, как поднялась и молниеносно опустилась рука и рутьер уткнулся носом в колени. «Хороший удар! — шепнул Симон, — учись, как надо работать, сынок». Рядом с ними бесшумно выросли фигуры остальных солдат, и Симон тихо приказал: «Скорее, пока никто не проснулся!» Прежде чем уйти, Робер еще раз оглянулся на убитого часового и подумал: надо будет поставить свечку за беднягу, ведь смерть настигла его во сне, даже покаяться не успел…
Дальше события развивались с такой быстротой, что Роберу все это показалось сном. Им удалось незамеченными достичь внутреннего двора, но, когда они уже почти добрались до главного здания аббатства, в котором разместились рутьеры, какой-то менее беспечный страж все же заметил их и поднял тревогу. В ту же минуту метко брошенный факел поджег сухой хворост, и к небу взметнулись длинные языки пламени.
Опасения Робера, что придется убивать спящих, оказались напрасны: рутьеры, вполне бодрствующие, посыпались из дверей полуразрушенного здания — и пошла свирепая резня. Кто-то полуголый, от которого смрадно разило винным перегаром, прыгнул на Робера, но тот ловко увернулся от ножа и, подняв меч, обрушил его на голову противника. Рутьер рухнул к его ногам, на Робера брызнуло теплым, ему даже стало нехорошо — все-таки это был первый убитый им человек, но тут же, устыдившись неуместной слабости, он сцепил зубы и ринулся вперед.
Вокруг мелькали озверелые лица, раздавались хриплые голоса, проклятия и гнусная брань, тяжелое дыхание сцепившихся врукопашную людей, топот ног и лязг и скрежет клинков… Он тоже рубил, колол и снова рубил, ноги разъезжались на скользких от крови каменных плитах; он упал, и на него тут же навалился свирепый, взлохмаченный поп-рутьер. Робер увидел занесенный над собой топор и вдруг понял, это конец; он не успел испугаться — только подумал, что больше никогда не увидит любимых глаз Аэлис, и в этот миг упавший топор зазвенел на плитах, а поп повалился на Робера, обливая его кровью. «А ну-ка, сынок, подымайся скорее, — услышал он голос Симона. — Ты живой?»
А потом все как-то внезапно кончилось. Они остались победителями, и наступившая тишина, нарушаемая только стонами умирающих да мычанием коров, запертых в монастырской конюшне, показалась Роберу немного жуткой. Подошел Симон и, положив руку ему на плечо, ободряюще подмигнул. «Ну, как первый бой? Ты молодец, держался хорошо!» Робер ответил ему благодарным взглядом. «Если бы не вы, господин Симон, был бы этот бой для меня последним». — «А, пустяки, — отмахнулся тот, — давай-ка устраиваться с ночлегом, чертовски хочу спать!»
Они разместились в том же здании, где до них ночевали рутьеры, и Робер, утомленный впечатлениями своего первого боя, мгновенно уснул.
Проснулся он внезапно, словно от сильного толчка, чувствуя, как в страхе и смертной тоске сжимается сердце. Дурной сон, пронеслось у него в голове, ему снился дурной сон… Он осенил себя крестным знамением, открыл глаза. В пустые окна аббатства заглядывал летний рассвет, перекликались просыпающиеся птицы, тянуло свежестью и лесной прелью. Кругом был разлит такой благостный покой… В чем же дело? Неужели на него так подействовала вчерашняя резня? Нет, дело в том сне, но что это был за сон, что ему снилось? Робер снова закрыл глаза, стараясь припомнить. Кажется, ему снился Моранвиль… И что-то связанное с Аэлис… Да, конечно, вроде бы он искал ее… Ну а дальше?
Нет… не вспомнить! Да и какая разница, что именно снилось… Плохо то, что теперь на душе словно камень лежит. Вдруг это дурной знак? Сердце ведь чует недоброе…
Робер снова перекрестился и стал молиться. Только бы с Аэлис ничего не случилось! А вдруг она заболела? Или на Моранвиль напали бриганды? Ему стало страшно. Что, если оседлать Глориана и самому, не дожидаясь остальных, поспешить в замок? Ведь там что-то случилось, он был совершенно уверен, случилось что-то непоправимое… Робер сбросил с себя плащ и сел, но спавший рядом Симон зашевелился и приоткрыл глаза. «Ты чего, сынок? Поспал бы еще, после вчерашнего не грех и отдохнуть…» Звук этого привычного голоса отрезвил Робера, и ночной кошмар показался вдруг не таким страшным. В самом деле, что, собственно, такого ему снилось? Он даже толком не помнит! Ну, приснилось что-то плохое. Мало ли таких снов! Год назад ему приснилось дурное и про отца Мореля. Он тогда еще очень испугался, потому что было это накануне Дня святого Иоанна… И вот, ничего же не случилось; хвала Небесам, кюре жив и здоров. Робер снова улегся, натянул на себя плащ. Рядом мирно похрапывал Симон, и юноша постепенно успокоился. Еще два дня, и они будут в Моранвиле; еще два дня, и он снова увидит Аэлис…
В то же утро отряд двинулся в обратный путь, досконально обобрав убитых рутьеров. Добыча оказалась богатая, и они разделили ее поровну, кроме Симона, которому полагалась львиная доля. Выехав из аббатства, Симон оставил стадо на попечение арбалетчиков, а сам вместе с Робером ускакал вперед. За поворотом дороги он достал кошель и, вынув три золотых, протянул Роберу: «Возьми, пригодятся… остальное тоже тебе, мне эта добыча ни к чему, только покамест у меня будет сохраннее…»
Обратный путь показался еще более долгим. Неторопливо, словно на пастбище, двигалось стадо; Робер, которому так не терпелось пришпорить своего Глориана, проклинал тупую медлительность коров. Оглашая воздух мычанием и пыля прямо в лица своим погонщикам, ленивые твари и не думали прибавить шагу.
«Да этак мы никогда не доберемся до Моранвиля», — злился Робер, с ненавистью поглядывая на безмятежную скотину.
К вечеру возникла новая забота. Пришлось сворачивать в сторону и вести стадо на водопой, к маленькому лесному озерцу. Благо, о нем вспомнили, иначе им пришлось бы тащиться еще дальше. И как это проклятые рутьеры умудрялись уходить от них с такой быстротой, не потеряв при этом ни одной коровы? «Такое их ремесло, — заметил Симон, — но зато и вымотали бедную скотину, глянь, одна кожа да кости…»
Наконец и с этим было покончено. Выбравшись из лесу, они уже подходили к дороге, как вдруг вдали показалось облачко пыли, и опытные воины сразу насторожились. Пыльное облако медленно разрасталось, и теперь уже был слышен отдаленный глухой шум. «Гони коров к лесу, — выругавшись, крикнул Симон. — Живо! Как бы еще на какую сволочь не нарваться…» Все напряженно следили за приближением неизвестного отряда, обмениваясь предположениями и догадками. «Да они тоже что-то гонят! — крикнул один из арбалетчиков. — Никак стадо овец?» Симон тревожно нахмурился: «Ну, точно — опять рутьеры, чтоб им сдохнуть без покаяния!» Робер вглядывался в приближающихся всадников — низкое уже солнце било прямо в глаза, и все же он был уверен, что не ошибся. «Мне кажется, я вижу знамя Пикиньи!» — воскликнул он изумленно. Симон даже приподнялся на стременах, пытаясь что-либо разглядеть, и вдруг весело присвистнул: «Чтоб мне провалиться, если это не сам мессир Тибо! И похоже, не без поживы…»
Они не ошиблись. Мессир Тибо, отомстив ненавистным Вандомам и завладев немалой добычей, возвращался к себе в Монбазон, прихватив заодно стадо овец с неизвестно чьего пастбища. Гордо подбоченившись, уперев в бок латную рукавицу, с видом короля Иерусалимского ехал он впереди своего отряда. Позади тяжело скрипели возы, груженные всяким добром: мешками с зерном, ульями, клетками с птицей, домашним скарбом, среди которого виднелись перины, несколько скамей и даже пустые бочонки с торчащими из них старыми рыболовными снастями; а вокруг, теснясь, блея и то и дело сбиваясь в беспорядочную кучу, пылили овцы…
Узнав Симона де Берна, мессир Тибо заржал от удовольствия: теперь было кому поведать о своих подвигах. Обычно относившийся к Симону презрительно за его слишком недавнее рыцарство, сьёр де Монбазон был сегодня даже любезен.
— Здорово, друг Симон! — заорал он, огрев его по плечу своей тяжеленной ручищей. — Вон, погляди, недурная пожива, а? Смотри внимательно, а потом расскажешь моему братцу, как поступают настоящие рыцари!
— Где это вы так разжились, мессир?
— Потрепал этих вандомских мокриц! И как потрепал! Ха-ха-ха! Это надо было видеть! Думаю, овцы тоже ихние, хотя не уверен…
— А они чего же, так и позволили себя обобрать?
Тибо самодовольно ухмыльнулся:
— Мерзавцы и не заметили, как я их обчистил! Пока они там копошились вокруг Луаньи, мы обчистили их собственное логово, укрыли добычу в лесу, а сами поспешили к осажденному мокрицами замку. Ну, уж там-то мы им задали! — Тибо буквально раздувался от гордости и торжества, вспоминая сладкие минуты мести. — Ты только послушай, друг Симон, что я придумал! Заранее приказал навязать побольше соломы, а потом… ха-ха-ха… мы дождались ночи и, когда эти шелудивые псы заснули, подожгли снопы и обрушили на их лагерь огненный дождь! Эх, что там творилось! Знатная была рубка, жаль только, что сами братцы успели дать тягу!
— Вот это плохо. — Симон покачал головой. — Врага надо или прикончить, или совсем не трогать, а так…
— Хотел бы я посмотреть, как бы тебе это удалось! Их точно нечистой силой унесло, трусливую сволочь. Ну, да ничего, я и так здорово их проучил. Они теперь не скоро захотят бесчестить благородное имя Пикиньи! Помнишь, я поклялся, что подпалю им зады? И клянусь моим щитом, я выполнил эту клятву! Когда лагерь загорелся, они так ошалели, что Бушар выскочил из своей палатки голый, как червяк, представляешь? Сапоги натянул, а задница голая, и прямо в седло! Я кричу: «Держи его, держи!» Он как рванет, а я подцепил копьем пучок просмоленного сена, сунул в огонь — и за ним. Уж я все припомнил, пока догонял, всю их мерзкую клевету! Догнать не догнал, но сено пригодилось; я таки успел стряхнуть горящий пучок прямо на седло, под зад подлому Бушару! Силы небесные, как он взвыл!
Вспоминая свой подвиг, Тибо от удовольствия побагровел, как индюк. Засмеялся и Симон.
— Боюсь только, такое поношение рыцарского достоинства дорого вам обойдется! — сказал он. — Вандомы теперь еще больше озвереют и не успокоятся, пока не отомстят.
— Какое там рыцарское достоинство! — рявкнул Тибо. — Грязные лжецы, вот они кто! — Он обвел своих слушателей воинственным взглядом и вдруг, заметив сгрудившихся позади отряда коров, оглушительно расхохотался. — А это еще что за скелеты! Неужто не могли раздобыть что-нибудь получше? — Узнав, что это было отбитое моранвильское стадо, Тибо преисполнился презрения. — А я-то было подумал, что братец взялся за ум! Эх, Гийом, Гийом!
Эта встреча развеселила всех, и еще долго после того, как оба отряда расстались, солдаты шутили и смеялись, вспоминая подвиги мессира Тибо. Невольно и Робер отвлекся от своих тревожных дум и заметно повеселел. Еще две ночи, один день, и он наконец снова увидит свою любимую. Как она там, думает ли о нем? Тоскует? Завтра будет уже шесть дней, как они не виделись!
Дальнейший путь прошел без происшествий. Коров, вероятно почуявших близость родных лугов, не приходилось подгонять, и, к великой радости Робера, отряд прибыл в Моранвиль раньше, чем думали. Правда, к ужину они не поспели, но час был не поздний, а значит, он еще сегодня увидится с Аэлис. От волнения у него так зашлось сердце, что он почти ничего не видел и не слышал. Исполнял приказания Симона, что-то делал, кому-то отвечал, а сам все время думал о ней, и эти последние минуты, оставшиеся до встречи, тянулись для него еще томительнее прошедших шести дней.
Наконец с делами было покончено. Теперь только поставить Глориана в стойло… Робер поспешил на конюшню и торопливо, путаясь от волнения в поводьях, стал расседлывать вороного. Он заставил себя почистить и напоить коня, засыпал ему овса; ну, кажется, все… Робер почти бегом бросился к замку. Надо еще привести себя в порядок, не может же он показаться ей в таком виде — грязный, пыльный… Из темноты к нему метнулась легкая тень.
— Робер?
Юноша остановился, едва сдерживая досаду и нетерпение:
— Чего тебе, Катрин?
— Робер… погоди, я должна что-то сказать тебе…
Голос девушки дрогнул, и Роберу вдруг стало страшно. «Сон… — пронеслось у него в голове, — дурной сон…» Ночь была светлая, и он хорошо видел лицо девушки. Да, случилось что-то непоправимое, как он и предчувствовал после того проклятого сна…
— Что ты хочешь сказать? — спросил он почти спокойно.
Катрин молча смотрела на него, и Роберу показалось, что в глазах ее блестят слезы. Не выдержав этого молчания, он схватил ее за плечи и грубо тряхнул.
— Ты будешь говорить?! — крикнул он срывающимся голосом. — Где госпожа?!
— Она у себя, но только… — прошептала Катрин. — Ты ведь еще не знаешь, Робер. Она… госпожу выдают замуж через два дня…
Темная громада донжона покачнулась и стала падать. Как сквозь сон, долетал до Робера торопливый умоляющий голос Катрин:
— Робер… я должна была это сказать… тебе лучше было узнать от меня, ведь правда же, лучше?
Но Робер уже пришел в себя и, отвернувшись, быстро пошел назад. Катрин бросилась за ним:
— Куда ты, Робер… куда ты собрался?
Робер молча шел вперед, словно ее и не было вовсе. Но, подойдя к дверям конюшни, вдруг обернулся:
— За кого выходит госпожа? Кто он?
— Это мессир Франсуа… — тихо ответила Катрин.
Он ожидал услышать именно это имя и все же, услышав, почувствовал такую боль, что в глазах у него снова все помутилось, и он бессильно прислонился к дверному косяку.
И тогда Катрин охватила ярость.
— Постыдился бы, Робер! Как не совестно! — крикнула она, задыхаясь от жалости и негодования. — Посмотри на себя, дрожишь, как девчонка! А госпожа даже не помнит о тебе… целые дни милуется со своим Франсуа! Она любит только его, понимаешь? Его любит! А ты был ей нужен как игрушка, неужели ты сам не… — Катрин вдруг осеклась и, закрыв лицо руками, горько заплакала.
Робер все так же молча смотрел на нее. Но когда девушка, отняв руки от лица, сделала к нему робкий шаг, он с такой ненавистью толкнул ее, что она едва не упала.
— Убирайся прочь! И моли Бога, чтоб я никогда больше не услышал имя госпожи на твоих лживых губах!
Он отвернулся и, не обращая внимания на ее слезы и попытки что-то объяснить, скрылся в теплом мраке конюшни.
Он пробыл там немного, каких-нибудь полчаса, не больше, но за эти полчаса все обдумал. Да, теперь он знал, что делать, и был почти спокоен. Ведь от его выдержки зависела теперь не только его судьба, но и судьба его любимой.
Робер ни минуты не сомневался, что все сказанное о любви Аэлис к итальянцу — ложь. Не может не быть ложью! Ведь всего за день до его отъезда Аэлис сама говорила ему, что любит только его и что никто другой ей не нужен! Не могла же разлюбить за одну неделю? Да нет, тут все очень просто. Ее выдают насильно, выдают ради проклятых денег этого банкира! Но вот тут они просчитались, уже завтра ничего не останется от их подлых сделок…
Прежде всего — увидеть ее, обо всем договориться. Хотя нет, остановил себя Робер. Сперва он должен хоть что-то подготовить, а уж потом говорить с ней. Ведь может случиться, что будет дорога каждая минута.
Робер снова тщательно оседлал коня, затем, стараясь ни с кем не встретиться, пробрался к себе в комнату, собрал вещи и, так же незаметно вернувшись на конюшню, приторочил сумку. Теперь останется лишь оседлать лошадь Аэлис; делать это заранее опасно — любой конюх обратит на это внимание. Еще, чего доброго, попрётся к сенешалю — с чего бы это, мол, госпожа собралась в дорогу? Нет-нет, с этим успеется… Он с досадой ударил кулаком о ладонь, вспомнив кошель с рутьерским золотом. Эх, как пригодился бы! Денег теперь им понадобится много, но об этом и думать нечего. Узнай Симон о его намерении умыкнуть дочь господина, да он сам расправился бы с ним, даже не сказав ничего барону. Для Симона нет ничего страшнее, чем нарушение вассальной присяги. Ладно, обойдемся! На первое время трех золотых хватит, а там он найдет способ заработать. На худой конец, всегда можно тряхнуть какого-нибудь припозднившегося на пустынной дороге купца…
Выйдя на воздух, Робер остановился и глубоко вздохнул. Ну что ж, теперь самое главное…
Он не спеша направился к замку и уже открыто, не таясь, прошел к себе в комнату. Умылся, старательно почистил платье и только после этого пошел отыскивать Жаклин. Увидев его, девушка смутилась, но Робер беззаботно улыбнулся:
— Ну что, Жаклин, будем плясать на свадьбе?
Девушка недоверчиво покосилась на него, но тут же успокоилась и кокетливо вздохнула:
— Ах, любезный Робер, по мне, так зачем дожидаться свадьбы? А еще охотнее я сплясала бы с тобой в постели, да боюсь, Катрин глаза мне выцарапает…
— От этого и я бы не отказался, — хмыкнул Робер. — Но раз ты такая трусиха, ничего не поделаешь — нет так нет! Госпожа у себя?
— Да, но только придется тебе обождать, там мессир Франсуа.
Он и сам не понимал, как хватило сил продолжать игру.
— Ясное дело, — сказал он, подмигнув. — Ждать я, пожалуй, сейчас не стану, а лучше ты окажи мне услугу: скажешь потом госпоже, что я прошу ее прийти на башню, когда сменится стража. Уж к тому-то времени, полагаю, мессир Франсуа от неё уйдет?
— На башню? — удивленно переспросила Жаклин. — А на какую?
— Госпожа знает. Только не забудь, ладно?
Жаклин заверила, что не забудет, и заранее потребовала в награду поцелуй. Они еще немного поболтали, обмениваясь шутками, смысла которых Робер почти не понимал, потом он ушел к себе. Видно, за это время в его комнате побывала Катрин — на столе был оставлен холодный ужин и кувшин вина. Он с отвращением посмотрел на еду, но, подумав, присел к столу и заставил себя поесть. Сегодня могут понадобиться все силы. Покончив и с этим, отодвинул тарелку и устало опустил голову на руки. Сколько придется еще ждать? Жаклин сказала, что тот уйдет не скоро; еще бы! Стараясь не останавливаться на этой мысли, Робер быстро поднялся и, подойдя к постели, упал ничком. Надо отдохнуть, обязательно отдохнуть и набраться сил…
На какое-то время ему почти удалось ни о чем не думать, но потом — так ясно, как будто он сам находился возле них, — представилась Аэлис и рядом с ней он, этот… Вздрогнув, как от удара, Робер вскочил и торопливо пошел к двери.
Он не заметил, как очутился возле Фредегонды и уже поднимался по узкой крутой лестнице. Здесь было совсем темно, и казалось, этим проклятым ступеням не будет конца… Его вдруг охватило странное чувство, уверенность в том, что все это происходило с ним уже раньше. Но он ведь никогда не приходил сюда ночью… Ему стало не по себе, он остановился, пытаясь что-то вспомнить — непонятно, то ли очень давнее, то ли пережитое только что. Но вспомнить не удалось ничего. Робер постоял, стараясь успокоиться, снова стал подниматься, и с каждым шагом все хуже, все тревожнее становилось у него на душе. Еще поворот, другой… наконец пахнуло свежим ветром, вверху открылось ночное небо с летящей сквозь редкие облака луной, и он ступил на неровные, исщербленные временем плиты.
На старой башне, как всегда, царило безмолвие. Робер окинул взглядом пустую площадку и вдруг, словно в голове распахнулась дверца, вспомнил: так ведь это же ему приснилось там, в аббатстве!
…Он был в Моранвиле и не мог найти Аэлис. Искал ее всюду, в саду, даже почему-то на конюшне, заглядывал во все закоулки замка, но ее не было нигде. Бросался с расспросами к каждому встречному, но никто не хотел ему отвечать. И тогда он вспомнил об их башне — кинулся туда и, задыхаясь от страха, стал взбираться по крутой лестнице. Он спешил и знал, что если ее нет и там, значит, ее вообще уже нет. Он поднимался и поднимался, а ступеням не было конца, и, когда наконец выбежал на площадку, она была пуста, и только дул какой-то страшный, ледяной ветер…
Робера охватил темный, необъяснимый ужас. Он на минуту прислонился к еще не остывшему камню ограды, чувствуя, как на лбу выступает холодный пот. Все было именно так, как в том сне… Это же дурное предзнаменование! Нет-нет, он должен вернуться вниз, и как можно скорее, им нельзя быть на этой башне после такого сна… Робер бросился было назад, но в это время хрипло запел рог, возвещающий смену стражи, и он понял, что уже не успеет предупредить Аэлис; она может прийти сюда каждую минуту… Да и какая разница, где увидеться, подумал он с внезапной усталостью; если Господу неугодна их любовь, то, где бы они ни встретились, конец будет один. Он обошел площадку, постоял, прислушиваясь к мерному шагу и приглушенным голосам сменяющейся стражи. Только что пережитый страх теперь казался смешным. Нет, у себя на башне они будут в безопасности, никто их здесь не увидит и не услышит… Он снова стал мерить шагами площадку, почти уже ничего не чувствуя, ничего не понимая и только вздрагивая от каждого шороха. Медленно, бесконечно медленно тянулись минуты ожидания, навсегда оставшиеся в памяти вместе с холодным светом летящей в облаках луны, ветром и одиночеством…
Он услышал ее шаги, когда она была уже тут, совсем рядом. Рванувшись к ней, Робер обнял ее, задыхаясь от жалости, любви, горячего желания защитить. В глазах Аэлис был страх, какое-то странное, виновато-умоляющее выражение. Сколько же она должна была выстрадать! Аэлис испуганно вскрикнула и попыталась вырваться, но он еще крепче прижал ее к себе и с бесконечной нежностью, словно успокаивал ребенка, стал гладить ее волосы, плечи.
— Аэлис, любовь моя… Не бойся, ничего не бойся… Я спасу тебя, спасу! Пока я жив, ты не достанешься этому проклятому банкиру…
Аэлис, ожидавшая чего угодно, кроме такого толкования всего случившегося, казалось, что она спит и видит кошмар. Как ей теперь признаться, как посмотреть ему в глаза? Ведь он не поверит, что она не лгала ему в тот вечер, что сама не подозревала о своей любви к Франсуа. Нет, ей не объяснить этого, не оправдаться…
Почувствовав, как она дрожит, Робер заговорил еще увереннее:
— Я все обдумал, любимая! Ты переоденешься в мужское платье, и ночью мы покинем замок; скажу у ворот, что послан срочным гонцом, и никто ничего не заподозрит. Уедем во Фландрию, я сумею тебя защитить! Успокойся, солнышко, мы еще будем счастливы, вот увидишь…
Робер наклонился к ее лицу, нежно поцеловал в губы, потом еще раз, потом еще…
Аэлис казалось, от стыда у нее разорвется сердце, Робер смотрел на нее с такой любовью, с таким доверием! Нет, она не может сказать правду. Лучше обмануть, солгать что угодно, только бы не говорить того, что есть. Это невозможно, это выше ее сил! Аэлис всхлипнула, чувствуя, как ее всю трясет от нервного напряжения.
Робер испугался, осторожно коснувшись ее щеки:
— Ты плачешь, Аэлис?! Почему? Неужели не веришь, что я сумею спасти и защитить тебя? Аэлис!
— Да-да, Робер… не верю, боюсь, — торопливо заговорила Аэлис. — Ну как ты не понимаешь — меня все равно вернут, а тебя убьют на месте, Робер! Нет-нет, об этом нельзя даже думать!
— Можно, Аэлис! Можно! Я знаю, я уверен, что смогу спасти тебя! Скажи только слово, и я увезу тебя хоть на край света! Никто не догонит нас, любимая, клянусь тебе!
— Нет, Робер, нет! — Аэлис схватила его за руки, с мольбой заглядывая ему в лицо. — Откажись от этой безумной мысли, прошу тебя! Я не хочу, чтобы ты рисковал собой, Робер! Не хочу и не пойду на такое!
Чуть отодвинув ее от себя, Робер с тревожным недоумением посмотрел ей в глаза:
— Да что с тобой, Аэлис? Ты что же, не веришь, что я смогу дать тебе счастье? Аэлис! — Робер снова притянул ее к себе. — Ради тебя — ты только верь мне — я добьюсь рыцарского звания, добьюсь славы, богатства, ты не будешь женой простого оруженосца! Обещаю это тебе спасением души! С тобой для меня не будет невозможного, ну как ты не понимаешь? Не медли, время летит! Аэлис! Ты слышишь меня?
— Не могу, Робер, не могу! Я уже сказала, я не хочу, чтобы ты рисковал… — твердила Аэлис. — Ты не должен рисковать из-за меня!
— Не думай обо мне, Аэлис! Если даже нас догонят, я скажу, что увез тебя насильно, и тебе ничего не будет! А я… Мне лучше погибнуть лютой смертью, чем потерять тебя!
— Но мне это не лучше, и я этого не хочу! — крикнула Аэлис, уже не владея собой, и попыталась вырваться из его объятий. — Я не хочу никуда бежать, не хочу! Ничего не хочу — и не надо меня принуждать, Робер! Ах, ну неужели ты до сих пор ничего не понял?
Его руки разжались, упали, он отступил на шаг. Аэлис замерла, глядя на него со страхом, и страх мешался с чувством огромного облегчения: наконец-то все было сказано…
Робер смотрел на нее молча, на ее лицо, такое любимое и такое сейчас чужое, смотрел и все еще отказывался поверить. Поверить было — нельзя, невозможно, этому противилось все его естество. Он шевельнул губами, не в силах издать звука пересохшей гортанью, и промолвил совсем тихо:
— Побойся Бога, Аэлис, грешно это — так шутить… Ты ведь пошутила, да? Пошутила, Аэлис? Или хотела проверить мою любовь? Но разве это нужно, подумай… разве я когда-нибудь… давал тебе повод…
Ей захотелось убежать, раствориться во мраке, провалиться сквозь землю — только бы не стоять вот так перед ним, не видеть его лица…
— Ах, друг Робер, ну что ты меня мучишь, — торопливо перебила она, — мне ведь и самой больно — я причинила тебе горе, мне так стыдно за это… но я просто сама не понимала, что…
Аэлис умолкла и прикусила губу, тщетно подыскивая какие-то менее жестокие слова; ей действительно было так его жаль!
А Робер смотрел на нее и все еще не мог отважиться понять до конца. Он ничего не чувствовал — ничего, кроме одиночества и пустоты во всем мире. А потом он еще раз встретил ее взгляд и вот тут-то наконец понял все. На какой-то миг все вокруг заволокло черной мглой, разом поглотившей все звуки. Аэлис что-то говорила, он видел, как шевелятся ее губы, но ничего не слышал, кроме ударов собственного сердца, болью отдающихся в висках. С усилием, точно во сне, он провел рукой по глазам, пытаясь стряхнуть оцепенение, и тогда снова услышал ее голос:
— …я попрошу отца Эсташа наложить на меня самую-самую строгую епитимию — я знаю, это грех, я очень виновата перед тобой, но… — Она беспомощно замолчала и потом воскликнула уже с досадой: — Но пойми, Робер! Ведь не мог же ты думать…
— Довольно, не продолжай, — прервал он спокойным голосом, который испугал Аэлис больше, чем испугал бы крик. — Не мог думать, что ты меня любишь? Да, верно! Теперь вижу, что не мог, вижу, что не должен был верить тебе и твоей лживой любви. Однако верил… верил каждому слову…
Он положил руку на рукоять подаренного ею кинжала — коротко взвизгнула сталь, в свете луны тускло блеснуло узкое обоюдоострое лезвие. Аэлис, инстинктивно схватившись за горло, отшатнулась и прижалась спиной к полуобвалившемуся каменному зубцу.
— Успокойся, — сказал Робер с усмешкой. — Я не трону тебя… моя высокородная госпожа. Таких, как ты, не убивают честным железом. Смотри сюда! Так же как ты сломала свою клятву… — Он отошел к соседнему зубцу и, вложив клинок в глубокую щель между камнями, всей тяжестью тела налег на рукоять. — …я ломаю это оружие, обесчещенное твоей изменой, низкая предательница…
Он нажат сильнее, и кинжал сломался со звуком лопнувшей струны — таким громким, что Аэлис вздрогнула. Потом она услышала, как зазвенели на каменных плитах упавшие обломки. Она посмотрела на Робера, все крепче прижимаясь спиной к шершавому камню, оцепенев от стыда и страха, пытаясь еще что-то сказать, еще как-то объяснить и сама понимая, что никакие слова и объяснения уже не помогут.
— Успокойся же, — услышала она тот же голос, но только теперь он был каким-то сдавленным, словно у Робера судорогой сводило гортань и он с трудом проталкивал каждое слово. — Я ухожу, утром меня в замке не будет. Мстить не собираюсь — можешь не бояться ни за себя, ни за него. Но только когда тебя разденут перед твоей брачной постелью, когда ты будешь лежать в объятиях супруга, пусть тебе будет так же хорошо, как мне сейчас!
Последние слова вырвались у него каким-то хриплым шепотом, как будто Робер и в самом деле готов был вот-вот потерять сознание от удушья. Но тут же он снова овладел собой и шагнул к Аэлис.
— Будь проклята твоя лживая прелесть! — едва выговорил он неповинующимися губами. — Прими мой свадебный подарок, высокородная Аэлис де Пикиньи, и носи его всю жизнь, до смертного своего часа!
Ее шатнуло от пощечины. Она, наверное, упала бы, если бы не стена за спиной. В первое мгновение она вообще ничего не поняла — только вскрикнула и схватилась за щеку, не успев сообразить, что произошло. Но потом сообразила — не сразу, немного погодя, когда Робера уже не было на площадке. И тогда ярость ударила в голову, затмевая рассудок. Раны Христовы! Ее, в чьих жилах течет кровь трех поколений крестоносцев, внучку коннетабля Франции, — ее, как последнюю девку! — ударил грязный мужик, скот, которого она собственными руками вытащила из грязи и рабства!
Внизу, во дворе, послышались торопливые шаги. Все еще держась рукой за щеку, Аэлис перебежала площадку, высунулась в проем между зубцами — Робер пересекал двор, направляясь к конюшням. «„Утром меня в замке не будет…“ Спасением души клянусь, утром тебя не будет не только в замке, утром тебя не будет на свете, ты будешь падалью валяться в придорожной канаве!» Задыхаясь от бешенства, Аэлис бросилась к лестнице…
Арбалетчик Жакен Рваная Морда охранял в эту ночь свой обычный участок наружной стены у башни Ла-Куртин, соединенной полуобвалившимся мостком со старой башней Фредегонды. Увидев бегущую по мостку дамуазель Аэлис, Рваная Морда принял ее сперва за привидение и так испугался, что даже не сразу сообразил, чего она от него хочет. Сообразив же, перепугался еще больше. Никак в молодую госпожу вселился дьявол! Всегда такая добрая, мухи не обидит, а тут на тебе! Конечно, его дело маленькое… если госпожа говорит: «Не промахнись — это изменник, который продался англичанам», он-то не промахнется. Ему годонов и их прихвостней любить не за что, это ведь английский боевой цеп снес ему тогда с головы треснувшую от удара саладу вместе с ухом, щекой и несколькими зубами. Так что промахнуться-то он не промахнется — отсюда до ворот полсотни туазов, а ему случалось и за целых сто вгонять арбалетный болт точно куда надо, — но только лучше бы получить такое приказание от Симона де Берна… а еще лучше, приказали бы кому другому. Немудрено, если завтра все обернется кознями мессира дьявола…
Бормоча эти соображения себе под нос, Жакен вставил вертушку и, прижимая ногой стремя арбалета, взвел толстую, скрученную из бычьих жил тетиву. Когда замок щелкнул, он достал болт — тяжелую десятидюймовую стрелу, проверил пальцами оба лезвия широкого наконечника и вложил в желоб. «Смотри, чтобы в сердце! — прошептала дамуазель, жадно вцепившись в его рукав. — Я завтра дам тебе золотой флорин, если попадешь ему прямо в сердце…»
Где-то во дворе, со стороны конюшни, послышался медленный и четкий цокот подков по камню; слышно было, как позвякивают, болтаясь, стремена, — человек вел коня под уздцы. Цокот копыт утих, поглощенный глубокой аркой надвратной башни; Жакен напряженно вслушивался, положив оружие на край парапета, слушала и госпожа, не выпуская рукав арбалетчика из своих, словно судорогой сведенных, пальцев. Потом наконец тяжело и протяжно проскрипели ворота, и копыта глухо застучали по деревянному настилу моста. Всадник на вороном коне выезжал из тени на лунный свет, Жакен вопросительно глянул на госпожу и, мысленно перекрестившись, поднял свое тяжелое оружие. Он тщательно прицелился в спину всадника, с удивлением подумав, что мессир дьявол и впрямь, видно, разгулялся нынче вовсю, потому что изменник этот здорово смахивает на оруженосца госпожи, Робера, а вороной — так и вовсе вылитый Глориан… ну, коня-то изменник мог и украсть, но вот чтобы принять чужое обличье… Эти мысли мелькнули у него в голове так, мимоходом; главным было для него сейчас другое — правильно прикинуть расстояние и угол полета болта. И он уже готов был нажать спусковой рычаг, как вдруг случилось неожиданное — госпожа отчаянным голосом вскрикнула: «Нет!!!» — и, схватившись рукой прямо за стремя арбалета, рванула вниз на себя. Жакен потом несколько раз давал клятву поставить святой Варваре свечу в десять фунтов чистого воска, ведь это и в самом деле было чудо, что его рука не сомкнулась тогда на рычаге…
Потом госпожа опустилась на землю, со стоном закрыв лицо руками и согнувшись так, как скрючиваются раненные в живот. Рваная Морда посмотрел на нее с беспокойством и на всякий случай проверил, на месте ли заряд; нет, стрела лежала в желобе — арбалет не выстрелил. Жакен осторожно разрядил его и нагнулся над госпожой. Она отшвырнула его руку и вскочила так стремительно, словно ее кольнули шилом. «Не смей ко мне прикасаться! — крикнула она с ужасом. — И если кому-нибудь хоть слово о том, что здесь было, — тебя на другой же день найдут во рву с перерезанной глоткой…» Выкрикнув это, дамуазель снова метнулась к мостику.
…Она бежала назад, на башню, моля всех святых, чтобы успеть, чтобы увидеть хотя бы издали еще раз, единственный последний разочек… За мостом он сразу бросил Глориана в галоп, она слышала это оттуда, со стены, но, может быть, еще есть время, может быть, он не успеет домчаться до поворота, пока она выбежит на площадку…
Но она опоздала — белая от луны дорога была уже пуста, когда Аэлис подбежала к проему между изглоданными временем зубцами. Дрожа, как в ознобе, она долго смотрела на пустую белую дорогу, на черную зелень вязов, на серебрящиеся вдали соломенные кровли хижин. Смотрела, словно все еще надеялась что-то разглядеть в ночной дали, каким-то чудом увидеть на дороге мчащегося всадника. Но кругом была ночь, и сквозь застилавшие глаза слезы Аэлис ничего не видела, только слышала далекий стук копыт, но и тот доносился все слабее. Затаив дыхание, она напряженно вслушивалась, с отчаянием цепляясь за этот, уже замирающий вдали, звук как за последнее, что еще связывало ее с ним, с детством и с чем-то таким дорогим, чего ей никогда и ничто уже не заменит. Наконец замер и этот отголосок звука, в ночной тишине остался лишь звук ее собственного сердца…
Тогда она повернулась и пошла к лестнице. На середине площадки упала — у нее просто подкосились ноги на ровном месте. Сначала она подумала, что это смерть пришла покарать ее за клятвопреступление, но оказалось, что жизнь продолжает биться в ее теле, и это показалось Аэлис таким страшным, что она вцепилась себе в волосы, пытаясь одной болью заглушить другую — куда более мучительную. Она лежала, захлебываясь от рыданий, пыталась разорвать на себе платье, колотила бессильными кулаками по древним камням. Что-то холодное очутилось у нее в руке, потом ладонь стала клейкой. Всхлипывая, Аэлис разжала пальцы и почувствовала острую боль. Сломанный Робером клинок выпал из ее руки. Ладонь была изрезана, и черная в свете луны кровь блестящими, маслянистыми струйками стекала за рукав нарядного платья.
Книга вторая ДОБРЫЙ ГОРОД ПАРИЖ
Глава 13
Над Мобюиссоном стояло в эту осень высокое прозрачное небо, и окружающие замок леса с каждым днем все ярче разгорались красками, предчувствуя зиму и спеша покрасоваться напоследок. Пламенели клены, березы стояли словно осыпанные золотым дождем, и ржавчина уже тронула темную листву дубов.
К северной стороне замка лес подступал вплотную — густой, тенистый, с заросшими орешником сырыми овражками. Дофин Карл любил эти места, хотя никакими особенными красотами они не отличались, — в долине Луары есть куда более живописные. Здесь прошли лучшие годы его детства, и здесь же он впервые увидел Жанну Бурбон, ставшую потом его женой — по любви, что большая редкость в королевских домах. Не случайно именно в Мобюиссон отправил он ее разрешиться от бремени их первым ребенком, а вскоре приехал и сам — хоть ненадолго забыть о мятежных городах, пустой казне, ненадежном перемирии с англичанами — обо всем том, что именовалось Французским королевством и за что он теперь отвечал перед Богом, собственной совестью и своими подданными.
И он действительно не думал сейчас о делах, отстранился от всего, запретил беспокоить себя сообщениями из Парижа. На время перестав быть некоронованным правителем Франции, Карл чувствовал себя — впервые за много месяцев — просто счастливым молодым отцом. Даже то, что вместо желанного наследника родилась дочь, не огорчило его. Бог захочет — родится и наследник.
С Жанной было хорошо, но иногда надо побыть и одному. Дофин пристрастился к прогулкам в своей любимой части леса: брат с собой лишь одного из шамбелланов, умеющего оставаться незаметным, и часами бродил по едва приметным тропкам. Сегодня погода была не для прогулок — ночью прошел дождь, к утру сильно похолодало, задул северный ветер. В лесу ветра не ощущалось, и Карл, кутаясь в подбитый беличьим мехом плащ, с удовольствием вдыхал прохладный сырой воздух, пахнущий грибами и прелыми листьями. Шамбеллан Робер де Лорри неслышно следовал в десяти шагах, всегда готовый мягко, но настойчиво попросить вернуться, если дофин слишком удалялся от замка. Хотя лес и охранялся, предосторожность была разумной: в округе бродило много разного рода лихих людей. Поэтому, когда речь шла о безопасности, шамбеллан бывал непреклонен, и дофину приходилось подчиняться. Вот и сегодня дело кончилось тем же.
Дофин вздохнул, снова подумав о странной природе власти, столь притягательной для человека, ее лишенного, и дающей так мало радостей тому, кто ею обладает. Сам он воспринимал власть не как дар судьбы, но как бремя, тяжесть которого ощущал постоянно. И от этого бремени ему не уйти: из четырех братьев он один сможет носить корону. Судьба, надо признать, не ошиблась, сделав его престолонаследником; в самом деле, кто мог бы сейчас занять его место? Младший, храбрец Филипп, пошел в деда, короля Иоанна Богемского, столь же отважный и столь же малого разумения. Дед, уже будучи слепым старцем, погиб под Креси, за компанию прихватив с собой двоих оруженосцев, — те должны были направлять его коня в битве, и их же он сам сгоряча и зарубил; а внук, пятнадцати лет от роду, дрался под Пуатье не хуже опытного рыцаря и был ранен рядом с их отцом, королем Иоанном. Славное деяние, кто же спорит, но таким героям не место на троне, в мирное время от них одни неприятности.
Жан, герцог Беррийский, годом старше Филиппа, помешан на собирании редких и ценных вещей и ни о чем другом думать не хочет. Ему все равно, что приобрести: невиданного ли по свирепости пса, или книгу, разукрашенную искусным иллюминатором, или новомодный педальный орган работы фламандца Луиса ван Вальбека, или ухо какого-нибудь святого в золотом реликварии, усыпанном рубинами и смарагдами. К тому же он, несмотря на молодость, уже неистовый обжора, распространяющий и на кушанья свою страсть к раритетам: ему специально привозят откуда-то из Лангедока мерзкие подземные фрукты, именуемые «трюфели», — пакость, которую христианину и в рот взять боязно… Пожалуй, Луи, герцог Анжуйский, лучше других выглядел бы в короне, у него и внешность для этого самая подходящая, и честолюбия достаточно, но он авантюрист по натуре. Авантюрист и интриган. Вероятно, без этих качеств правителю не обойтись, но должно же быть чувство меры! А как раз этим-то бедняга Луи не обладает…
Вернувшись в замок, дофин узнал о приезде Реньо де Бомона, канцлера архиепископа Реймсского.
— Боюсь, отдых окончен, — сказал он шамбеллану, принесшему новость. — Если монсеньор решился меня побеспокоить, значит, случилось нечто серьезное. Что, если наш друг Марсель решил короноваться?
— Бог не дозволит этого, сир, — ответил не понимающий шуток шамбеллан.
— Будем надеяться! Я немедленно приму мэтра де Бомона, проводите его в скрипторий.
Канцлер, высокий, одетый в черное легист, сдержанно поклонился и сел в предложенное дофином кресло.
— Рад, что вы благополучно добрались из Реймса, — сказал Карл, — дороги теперь небезопасны, неделю назад двух купцов ограбили и убили у самых ворот Понтуаза, на глазах у стражи. Итак, что пишет монсеньор архиепископ?
— Ничего, ваше высочество. Новости, с которыми монсеньор меня послал, слишком важны, чтобы доверять их бумаге.
— Даже так? Ну что ж, слушаю вас, де Бомон.
— Ваше высочество, есть неопровержимые сведения, что готовится побег короля Наваррского.
— Побег? — недоверчиво переспросил Карл. — Но ведь он содержится в замке Арлё — меня уверяли, оттуда не так просто убежать.
— Убежать, сир, можно откуда угодно, неподкупной стражи не бывает.
— Согласен, но такие затеи обходятся очень дорого, а насколько мне известно, казна Наварры не в лучшем состоянии, чем наша. Или он рассчитывает на золото Плантагенета?
— Нет, сир, деньги у него уже есть, и не от англичан. Вы изволите помнить Гийома де Пикиньи?
— Еще бы я не помнил этого хитреца! Но при чем тут он? Какая связь?
— Самая прямая — он достал золото для Наварры.
— Вы шутите. — Дофин недоверчиво смотрел на канцлера. — Этот Пикиньи беден как церковная мышь!
— Сир, ваши сведения устарели. Барон недавно выдал замуж свою дочь — знаете за кого?
— Признаться, не припомню. О свадьбе слышал, он ведь прислал мне оброчный подарок, кстати весьма щедрый, что меня удивило…
— Щедрость вполне объяснима, ваше высочество: дочка мессира Гийома вышла замуж за Франсуа Донати, главу банкирской компании из Тосканы. Условием этой свадьбы был заем в полтораста тысяч турских ливров, предоставленный дому Наварры.
— Полтораста тысяч, — огорченно повторил дофин. — Но ведь это огромная сумма, на такие деньги можно в течение года содержать армию в тысячу человек! И вы хотите сказать, Наваррец их получит?
— Они уже выплачены его брату, Филиппу.
Дофин долго молчал.
— Я поздно об этом узнаю, — сказал он наконец. — Монсеньор мог бы зорче наблюдать за действиями моих врагов!
— Ваше высочество, переговоры велись в строжайшей секретности…
— Свадьба дамуазель де Пикиньи не была секретом, имени жениха тоже не скрывали, и не надо было обладать особой проницательностью, чтобы догадаться… Впрочем, простите, я несправедлив. Мне ведь тоже ничего не пришло в голову, хотя о свадьбе я знал. Да-да, припоминаю, действительно размер подарка меня удивил, и я еще подумал, что не выдал ли старый плут свою дочь за какого-нибудь богатого горожанина, недаром постоянно заигрывает с Марселем. А он, значит, прицелился выше. Донати? Да, я слышал, как же. Крупная компания, очень крупная. Ай да сир Гийом! Похоже, ему наконец удалось сделать неплохой ход и в своих интересах. — Дофин засмеялся, но, тут же посерьезнев, спросил: — Так что же предлагает монсеньор?
— Монсеньор архиепископ поручил мне обсудить этот вопрос с вашим высочеством, — осторожно ответил канцлер. — Все зависит от того, как вы воспримете эту новость…
— Признаюсь, без особой радости. Но что делать, от радостных новостей я уже отвык. Побег кузена Карла, несомненно, осложнит обстановку в королевстве; в силах ли мы ему помешать?
— Коль скоро мы знаем о его планах…
— А он не знает, что мы знаем? Да, это преимущество, я согласен. Но что, если эти сведения подброшены нам нарочно?
— Признаться, не вижу смысла…
— Это может быть ловушкой, де Бомон, поводом для начала открытой войны. Мы с кузеном были друзьями до той глупой истории в Руане, и он знает, что я пытался защитить его перед отцом… У него нет повода открыто восстать против меня, если не считать того, что я не отменил королевского приказа о его заточении. Сейчас он может винить только короля, но если я сорву планы его побега…
— Тогда, ваше высочество, будем логичны — не проще ли его освободить?
— Я уже думал об этом, и не раз. Отец поступил несправедливо, заточив кузена Наварру[58] и приказав обезглавить беднягу д’Аркура и других; скорее всего, никакого заговора на самом деле не было. Но беда в том, что существует понятие авторитета власти, пусть даже несправедливой. Люди должны знать, что королевские решения не отменяются просто так, потому что сам король лишился вдруг возможности исполнять свою власть. Предоставим Наварру его судьбе — если Бог поможет ему выйти из узилища, пусть выходит. Надеюсь, свобода не ударит ему в голову.
— Сир, взвесим все возможности. Опасность в том, что Филипп д’Эврё ведет переговоры с англичанами. Недаром Матьё де Пикиньи так долго гостит при дворе Черного принца. Что будет, если мы позволим Наварре бежать, а переговоры с Эдуардом увенчаются успехом?
— Тем более, мэтр, тем более! Переговоры идут уже давно, пребывание Наварры в темнице им не воспрепятствовало. Зато, когда он будет на свободе, это может выбить из рук Филиппа главный козырь: несправедливость, жертвой которой стал его брат.
— Побег не перечеркивает этого факта. Другое дело, если бы вы подписали ордонанс об освобождении…
— Я уже объяснил, почему не могу этого сделать. Не бойтесь, де Бомон, кузен поймет, что я не мог не знать о планах побега и все же позволил ему бежать…
Карл д’Эврё, король Наварры, прозванный Злым своими подданными по ту сторону Пиренеев, томился в заключении уже полтора года. Томился, впрочем, относительно; ему были предоставлены многие льготы и удобства, разрешалось получать с воли предметы роскоши, а также вести переписку с семьей и друзьями. Но тюрьма есть тюрьма, и Карл, без того желчный и мстительный, не уставал посылать проклятия виновнику своего заточения. Праздником стал для него день, когда он узнал о разгроме под Пуатье. Итак, любезный тесть теперь и сам стал узником! «Хвала Небесам, случается и в этом мире справедливость! — ликовал Карл, получив весть о пленении короля. — Поделом ему, пусть теперь посидит! Лондонский Тауэр, насколько известно, не такое уж приятное местечко, авось с помощью Бога и тамошних туманов сдохнет несколькими годами раньше…» Думать об этом было приятно, и он тешил себя мечтами, строил планы, замышлял, хоть и безуспешно, бесконечные заговоры. И ждал. Ожидание было мучительно для необузданной натуры Карла, но ничего другого не оставалось, и он даже научился извлекать некоторую радость из этого ожидания, предвкушая скорую, как надеялся, гибель своего врага. Дни проходили за днями, месяц за месяцем. Снова кончилось лето, наступила еще одна осень…
В День Всех Святых, получив тайнописное послание архиепископа Лаонского, сообщавшего план побега, Наварра понял, что терпение его на исходе. Теперь, когда освобождение было так близко, каждый лишний час промедления становился невыносимым, а день — серый, мутный от нескончаемого дождя, — как нарочно, едва полз, словно улитка в гору, и Карлу казалось, что он задыхается от нетерпения, ненависти и жажды действовать, мстить… Не может быть, чтобы Бог не внял его мольбам; король Иоанн не вернется живым из плена, сердце чует, что не вернется! Наварра зло усмехнулся, предвкушая счастливое событие, но тут же снова помрачнел. В самом деле, невелико счастье! Один сдохнет, другой останется — этот худосочный мозгляк кузен Карл, тогда уж Божьей милостью его величество Карл V. При одной этой мысли он зашелся от злости, но постарался взять себя в руки. К черту! Сегодня можно подумать о куда более приятных вещах. Итак, все должно быть готово к среде 8 ноября…
Он бросил нетерпеливый взгляд на узкое, забранное решеткой окно. Серые, набухшие от дождя тучи заволокли небо, поднялся ветер — тоскливо скребся в оконные рамы, гулял по пустынным коридорам замка, стонал в дымоходах. Да-а, погодка словно на заказ! Наверху, на стенах, должно быть, особенно холодно — ни одного стражника не выманишь из теплого укрытия лишний раз пробежаться по алуару, да и кастелян пораньше завалится спать из-за своей подагры. То-то удивится старый осел, когда головорезы Филиппа свалятся ему на голову среди ночи!
Довольный, мысленно уже прощаясь со всей этой опостылевшей обстановкой, Наварра с ходу пнул дубовый резной ларь, сильно ушиб большой палец и запрыгал на одной ноге, морщась от боли и ругаясь изобретательно и богохульно, как умеют только испанцы. Отведя душу, снова захромал по комнате, злобно поглядывая на блеклые гобелены, где уже нельзя было разобрать рисунка. Подпалить бы все это, уходя, а еще лучше — набить порохом хотя бы чертов ларь и приладить запальный шнур подлиннее… Скорей бы только, скорей! Теперь, когда оставались считаные дни, король едва мог сдерживаться — так невыносимо было ждать и бездействовать.
Не в силах оставаться на одном месте, он подбежал к окну, рванул тяжелую створку. В лицо пахнуло дождем, ветром, свободой. Жадно, полной грудью, вдохнул он холодный сырой воздух и поднял кулак жестом угрозы. До чего же он его ненавидел — своего тезку Валуа, сморчка, недоделанного дофина, заморыша! Ну ничего, скоро с помощью Бога или дьявола он померится силами с этим ничтожеством…
Сам Наваррец не очень понимал причину такой ненависти, да и не стремился понять. Ненавидел — и все тут! Причин, вероятно, много, что толку их перебирать. Самое смешное, что едва ли не главной было даже не соперничество из-за того, кому выпадет короноваться в Реймсе; Карл д’Эврё не мог простить Карлу Валуа его счастливой женитьбы. Сам он был женат смехотворно: тот же добрый король Иоанн, чтоб ему скорее подохнуть, ухитрился спихнуть за него свою дочурку Жанну Французскую, вдовицу семи лет от роду. Впервые ее выдали замуж в четыре года, сейчас королеве Наваррской должно было быть около двенадцати, но Карла отнюдь не тянуло знакомиться с супругой поближе. А Жанне Бурбон двадцать, и она только что подарила дофину дочь. Слава богу, хоть не сына! Но какая несправедливость, язвы Христовы! Почему этому недоноску Валуа даром достается то, чего лишен он сам?..
Если бы Злого спросили, чего, собственно, он так уж лишен, ответить на это ему, вероятно, было бы затруднительно. Да, французской короны его лишили (пока, во всяком случае), но — ежели по совести — что ему эта полуживая, разоренная Франция? Править маленькой Наваррой куда приятнее и уж во всяком случае спокойнее. Умом он это понимал, но неистовое сердце не могло смириться с унизительным положением вассала, так же как не могло оно не вскипать от ярости, представляя себе Жанну Бурбон в объятиях недоноска. И это тоже было неподвластно уму — дофина, хоть и на редкость хороша собой, все же не столь уж ослепительная красавица, чтобы во всей Наварре не нашлось кому ее затмить.
Да, разумеется, стоит лишь захотеть. Но вся беда в том, что с этим «захотеть» было не так просто, и провести ночь с женщиной, пусть красивой и искусной в любви, нисколько не помогало забыть дофину. Женщин ему доставляли и сюда, а что толку? Образ герцогини Нормандской продолжал саднить в груди, как незалеченная рана. В последний раз он видел ее позапрошлой осенью в замке Водрейль, недалеко от Руана, — дофин со своим двором остановился там по пути в Париж… Перед этим они не встречались около года, она похорошела за это время, ей уже исполнилось семнадцать, а может, он просто взглянул на нее другими глазами? До сих пор непонятно, с чего это на него вдруг накатило. Блажь, помутнение рассудка! Если бы раньше ему сказали, что он, кого даже жестокосердные испанцы прозвали Злым, будет сходить с ума по своей добродетельной невестке, он от души рассмеялся бы. Теперь же остается смеяться над самим собой. Смеяться и еще ненавидеть. Что ж, любезный кузен, счет к вам растет!
Глава 14
Постоялый двор «У веселого петуха» помещался в узком зловонном переулке позади Гревской площади, а дом напротив был блудилище, и непотребные девки — меретрикулы, как по-ученому именовал их школяр, деливший с Робером каморку и место в кровати, — приставали к прохожим в любой час дня или ночи, если только не было поблизости городской стражи.
Робер жил в Париже уже вторую неделю и все не мог привыкнуть — ходил по улицам в растерянности, ужасался толчее, грязи и отсутствию неба над головой. Небо-то, конечно, было, но его можно увидеть лишь на площадях, а в улицах оно едва проглядывало между крышами домов, близко придвинутыми одна к другой. Дома стояли тесно, были невиданно высоки — в три, а то и четыре этажа, и каждый этаж выдвигался к середине улицы хоть на полтуаза больше, чем нижний, — дом нависал над мостовой подобно опрокинутой лестнице. В некоторых переулках из окошка верхнего этажа можно было рукой дотянуться до противоположного.
Попал он сюда не сразу: на второй день после побега из Моранвиля, где-то под Ножаном, его прихватили рутьеры. Первого, попытавшегося стащить его с коня крюком, он убил — прыгнул на него прямо с седла и голыми руками раздавил горло. Лишь мгновением позже, решив для верности докончить дело ножом, он нащупал пустые ножны и вспомнил, что клинок, сломанный, остался там — на башне. Его тут же схватили, навалившись сзади, и потащили к вожаку, громко обсуждая, как с ним поквитаться за беднягу Жолио — сжечь ли, привязав к сухому дереву, или разрубить пополам, подвесив за ноги, как свиную тушу. Вожак разрешил их спор, сказав, что Жолио сам виноват, если спасовал перед безоружным парнем, а парень — боец что надо. «Принесите его сумку», — сказал он. Сумку принесли, распотрошили, но в ней не нашлось ничего интересного, кроме футляра с пергаменом. «Так ты что, гонец? Чей?» — спросил с опаской вожак, но Робер огрызнулся, что ничей он не гонец, а в футляре его отпускная грамота. Грамоту вытащили, развернули и долго читали по складам — в банде нашлось двое беглых клириков, умевших худо-бедно разобрать написанное. Оба подтвердили, что это и впрямь отпускная грамота. «Выходит, ты виллан, — захохотал вожак, — а мы — плешь святого Дионисия! — приняли тебя за дворянина! Сам виноват, парень, другой раз остережешься разъезжать на таком коне, да еще и заседланном по-рыцарски! Дурак, раз уж тебе пофартило угнать такого красавца, надо было сразу его продать. Вместе с седлом и сбруей за него дадут сотню ливров». Другой сказал, что больше, — один чепрак стоит не меньше пятнадцати. Добыча показалась рутьерам такой богатой, что они на радостях даже не обыскали Робера; улучив минуту, он вытащил из пояса и сунул под камень у дороги три золотых, полученных от Симона. Коня, как водится, забрал себе капитан шайки. Не переставая восхищаться ловкостью, с какой Робер отправил на тот свет растяпу Жолио, он предложил ему занять место покойного, с правом на половину двадцатой доли добычи. Робер, долго не раздумывая, согласился. Ночью, когда рутьеры спали, наведался к камню, достал свое золото и снова запрятал в пояс. Теперь он был полноправным членом банды и мог ничего не опасаться.
Жизнь бриганда, правда, оказалась вовсе не такой веселой, как он когда-то себе представлял. Вскоре пошли осенние дожди, ночевки под открытым небом делались все менее приятными, а главное — ему не нравилось грабить. Если бы грабили только богатых купцов, да при этом еще не убивали, было бы ничего; но эта сволочь — его новые товарищи — не гнушалась ничем, они могли утащить последнего ягненка из полуразвалившейся овчарни виллана, да и его самого пришибить, если пытался защищать свое жалкое добро. Кончилось тем, что однажды ночью Робер убил караульщика, приставленного к коновязи, и ускакал на своем Глориане. С конем и тремя золотыми в поясе он и появился в Париже. Один золотой пришлось отдать сразу — за место в конюшне и овес, который стоил здесь дороже хлеба.
Как жить дальше, он не представлял себе совершенно. Бригандаж больше не привлекал, можно поступить в солдаты, но, судя по всему, там было бы то же самое. А чем еще мог заняться в городе парень, который умел только делать крестьянскую работу да еще драться на всех видах оружия? Помнится, Гийом Каль советовал податься к какому-то купцу на улице Сен-Дени, да и Симон про него же говорил, но работать у купца казалось Роберу последним делом. Отмеривать ячмень да чечевицу, таскать тюки из подвалов — для этого, что ли, научили его владеть мечом?..
Школяр Рике, его сосед по комнате, однажды очень удивился, узнав, что Робер умеет читать и даже может составить письмо или грамоту аккуратными ровными буквами, и стал уговаривать его заняться наукой. «Иди в услужение к какому-нибудь доктору, — советовал он, — тот тебя подготовит, и смело можешь записаться в Сорбонну, там не из таких еще азинусов[59] делают ученых мужей. Не так уж трудно освоить тривиум,[60] для начала этого хватит, а потом с Божьей помощью овладеешь и всеми семью». Он красноречиво расписывал радости студенческой жизни, пока наконец Робер не спросил его, почему же он сам от них бежал. Рике объяснил, что его случай особый, он стал жертвой козней врага рода человеческого, ибо на экзамен явился отягощенный вином и не только затеял с прецептором[61] неуместный спор об универсалиях,[62] но еще и расколол о его голову грифельную доску, то есть совершил проступок, наказуемый уставом факультета. «Я, видишь ли, южанин, — добавил Рике в свое оправдание, — кровь у нас горячая, а вы здесь на севере народ смирный, вам проще. Не пытайся только спорить с докторами, и у тебя будет блаженная жизнь. Важно стать магистром, а потом все пойдет само собой». Впрочем, то, что он сам рассказывал о факультете, делало возможность овладения семью свободными науками более чем сомнительной. Да и к чему они? Вот разве что попом сделаться, как советовал отец Морель.
В этот день он снова отправился бродить по улицам. Когда выходил из ворот постоялого двора, раскрашенная меретрикула опять пригласила его зайти развлечься, а когда он прошел мимо, стала срамить на всю улицу.
— Содомит! — визжала она ему вслед. — Скотоложец, чтоб у тебя все отсохло!
На площади перед ратушей было много народу — ждали то ли казни, то ли чьего-то выступления. В последнее время с балкона ратуши часто обращались к народу разные люди, один раз говорил даже сам Марсель, купеческий старшина, коренастый плотный человек в богатом, на меху, кафтане, с короткой черной бородкой. Говорил он не очень понятно — про дофина и про королевский выкуп и еще про налог на соль. Робер мало что понял, далеко стоял, и ветер относил слова, да и разобраться в том, что услышал, было трудновато: у горожан была какая-то своя, малопонятная постороннему, жизнь. Так и не узнав, чего ждут люди сегодня, Робер ушел с площади и отправился на остров Ситэ. Здесь было интереснее всего: на Большом мосту, тесно застроенном лавками менял, ювелиров и торговцев самым разным добром, глаза разбегались от выставленного напоказ богатства. Другой мост, на полуденной стороне острова, именовался Малым — от него шла дорога на Орлеан и Блуа, по которой с раннего утра до закрытия ворот везли в город товары. Здесь стояла мытная стража, и ни одна повозка не проезжала без долгих препирательств по поводу количества и вида провозимого товара, причем стражники стремились содрать побольше, а возчики — заплатить поменьше. Третьего дня изловили жонглера с обезьяной, которую тот пытался тайно пронести под плащом. Стражники долго выясняли, чья это обезьяна и с какими целями ее несут в Париж, куплена ли она кем-то из горожан для собственного удовольствия или служит жонглеру для заработка. Тот сначала сказал, что зверя ему заказал некий купец именно для собственного удовольствия, поскольку зверь ученый и может считаться девятым чудом света, но, когда потребовали назвать имя купца и где тот живет, хозяин обезьяны смешался и вынужден был в конце концов признать, что да, он на этом девятом чуде зарабатывает деньги, давая представления жителям добрых городов.
— В этом случае, — торжествующе объявил начальник стражи, — ты обязан либо уплатить за свою ученую тварь положенный мытный сбор, либо дать бесплатное представление тут же, на мосту.
К радости собравшихся, жонглер согласился дать представление и, расстелив коврик, стал добросовестно потешать горожан и стражников. На Малом мосту вообще не было недостатка в развлечениях, вот и сегодня опять случилась потеха: кто-то вел козла, стража объявила его молодым и, следовательно, подлежащим обложению сбором, а хозяин клялся и божился, что козел стар, как Мафусаил,[63] на коз уже не смотрит давно и не первый год беспошлинно проходит по всем мостам королевства. Козла стали исследовать со всех сторон, и зубы ему смотрели, и копытца, и кольца на рогах считали, и чуть ли под хвост не заглядывали; кончилось тем, что он вдруг рассвирепел и, поддав под зад одному из стражников так, что тот растянулся в грязи, умчался прочь, волоча на веревке своего хозяина.
Насмеявшись вместе с зеваками, Робер вернулся к собору и долго стоял, запрокинув голову и разглядывая взнесенные в самое небо исполинские башни из светло-желтого песчаника. На резной балюстраде второго яруса сидели твари почище той обезьяны — кои с коровьим хвостом и птичьим клювом, кои с рогами и лицом, как у человека, кои вообще ни на что не похожие.
— Это что ж там такое? — спросил он, увидев проходящего монаха, и показал на чудищ, обсевших башню.
— Это твои грехи, — объяснил монах, — образы зла, которые гнездятся у каждого из нас в сердце. Здесь они выставлены на общее обозрение, дабы всякий христианин видел свою истинную суть. Молись и кайся ежедневно, дабы сии адовы исчадия не пожрали тебя изнутри, как червь пожирает яблоко!
— Да я молюсь, — пробормотал Робер, торопливо осенив себя крестным знамением.
Надо будет пойти исповедаться, подумал он, давно он этого не делал… А теперь, и в самом деле, грехов накопилось — не перечесть. То, что убил двух рутьеров, — это грех? Конечно, первый сам напал на него, а вот второго… Нет, правильно сделал, иначе было не уйти. А она — неужели все это гнездится и в ее душе? Наверное, ведь нет худшего греха, чем измена…
На Большом мосту он купил у разносчика хлебец и съел его, запив кружкой кислого вина. За это пришлось выложить денье — здесь, в королевской столице, даже яблока не съешь на дармовщину. Пообедаешь вот так три раза, и уже нет лиара, а двенадцать раз — так и целого су. Робер даже испугался, сообразив это, сам себе не поверил и, присев на корточки, щепкой стал рисовать на земле кружочки: большие, поменьше и совсем малые. Нет, все сходилось, в одном су — четыре лиара, а в каждом лиаре — три денье. Отец Морель не зря обучил его счету, даже растолковал насчет турской и парижской системы: турские деньги чуть полегче, пятнадцать турских денье все равно что двенадцать парижских. В Туре, стало быть, прожить еще дороже? Хорошо, что он попал в Париж. Конечно, пока-то он при деньгах, а когда проест все состояние?
Вернувшись на правый берег, он спросил у прохожего, не знает ли тот улицу Сен-Дени.
— Так это тут, рядом, — ответил тот, — иди сейчас налево и выйдешь прямо на Сен-Дени, только не ошибись и не пойди направо — там будет другая улица, Сен-Мартен, обе они начинаются отсюда. А кого ты там ищешь? — поинтересовался словоохотливый горожанин.
— Там, возле церкви Святой Оппортюны, живет купец, мэтр Жиль, может, вы слыхали…
— Жиль, бакалейщик? Пьер Жиль, кто же про него не слыхал! С самим Марселем, говорят, дружит. Ты к нему? Идем вместе, а по пути расскажешь, что у тебя за дело к почтенному бакалейщику…
Робер насилу от него отделался — идти к столь знаменитому человеку нельзя было просто так, не приведя себя в порядок и, главное, не собравшись с мыслями. Он и не думал, что у Пьера Жиля такие большие связи; кем становился в Париже Этьен Марсель, Робер уже себе представлял, горожане, похоже, видели в нем единственного законного правителя, ни во что не ставя дофина, — тот вообще не появлялся в столице, кочуя из замка в замок. Парижем управлял Совет эшевенов, безоговорочно подчиненный купеческому старшине. Выходит, если Жиля считают другом Марселя, то и он тоже птица высокого полета. Как еще к такому придешь…
Но он вспомнил, что Симон отзывался о Жиле как о человеке простом и отзывчивом, не в пример иным богатым горожанам; у тех, говорил Симон, спеси бывает иной раз побольше, чем у баронов, потому что эти скоробогачи больше всего боятся, как бы сквозь позолоту не проглянула вдруг их подлая сущность. Вот они и пыжатся, не понимая, что именно в этом подлая сущность и проявляется. Барон пыжиться не станет, ему это ни к чему.
И на следующий день Робер отправился на улицу Сен-Дени. С утра он тщательно вычистил платье, побывал у брадобрея и вышел от него с подстриженными и вымытыми волосами и лицом гладким, как щеки младенца. Ему издали еще указали на церковь Святой Оппортюны; лавку Жиля он нашел без труда, и хозяин оказался на месте.
— Ты, часом, не из Моранвиля, что в Вексене? — спросил он, едва Робер успел выговорить, что желал бы с ним поговорить.
Робер был поражен, решив, что Пьер Жиль не только могущественный человек, но еще и колдун.
— Вижу, что угадал, — рассмеялся тот. — Не удивляйся, господин де Берн писал о тебе уже с месяц назад, а вчера сказали, что меня разыскивает какой-то парень, видно из приезжих.
— Да, я… не знал, где улица, — пробормотал Робер.
— Ну хорошо! Я знаю, с чем ты пришел, и сейчас мы обо всем потолкуем. А пока тебя проводят наверх, подожди немного, закончу дела и поднимусь к тебе…
Робера проводили наверх, в жилые покои. После громадных залов Моранвиля жилище горожанина, даже столь богатого и могущественного, выглядело тесным, как и все здесь, в Париже. Потолки были низкие, окна маленькие, но убранство покоя поражало роскошью. Пахло какими-то благовониями, дубовый пол блестел, словно политый водой, стол на тяжелых витых ножках был покрыт расшитой скатертью, которой цены нет. На полке над камином и в поставце сверкала серебряная и позолоченная посуда — кувшины причудливой формы, кубки, чеканные тарелки. В окнах горели разноцветные стеклышки, и так ярко, что казалось — на улице светит солнце. Хотя день был пасмурный и ненастный.
Робер постоял возле камина, погрелся, не решаясь присесть на один из стульев с высокими резными спинками. Слуга принес угощение — паштет с румяной запеченной корочкой, кувшин, два стеклянных кубка; следом вошел Пьер Жиль.
— Садись, — пригласил он Робера и сделал знак слуге. Тот разрезал паштет, налил в оба кубка темного, почти черного, вина и вышел. — Ешь и пей, я кое-чем обязан мессиру де Берну и буду рад выполнить его просьбу.
Робер следом за хозяином отпил вина и отломил кусочек паштета, подивившись, что же здесь едят и пьют на Пасху или Рождество, если в будний день такая роскошь и стеклянный кубок подают случайному гостю, словно какой-нибудь из олова или хотя бы из серебра.
— А тебя торговля привлекает? — спросил хозяин. — Хотел бы помогать мне в лавке?
— Боюсь огорчить вашу милость, — сказал Робер. — Я, конечно, поработаю у вас… какое-то время, если так надо, но…
— Ясно, — перебил Пьер. — Как я и думал, это не по тебе. Тогда поговорим о другом! Скажи-ка, ты представляешь себе, что сейчас происходит в королевстве?
— Что происходит? — нерешительно переспросил Робер. — Ну… война происходит, я так понимаю. С годонами, то есть с англичанами…
— Ты прав, война — это главное. Но война с англичанами, если разобраться, лишь полбеды. Как раз с ними-то сейчас перемирие…
— Это я знаю, — осмелел Робер. — В Бордо подписали этой весной?
— Молодец, ты не такой уж простак, как я думал. А знаешь, чем обернулось бордоское перемирие? Наши края наводнены бандами солдат, которых распустили, не заплатив ни гроша. Наемники, — Пьер стал загибать пальцы, — люди дофина, люди Наваррца, отдельные английские отряды, не признавшие перемирия, — и все грабят и убивают. Рутьеры уже появились вокруг Парижа! Можешь ты себе это представить?
Как раз это-то Робер мог представить себе очень хорошо. Он стал спешно соображать, стоит ли рассказать Жилю о своих собственных подвигах, но решил, что не стоит. Он ведь его прямо не спрашивает!
— Так вот, — продолжал хозяин, — в такой обстановке нам здесь не остается ничего другого, как тоже обзавестись армией. Эшевены решили собрать городское ополчение, а это значит, что каждый квартал должен выставить некоторое количество солдат, обучив и вооружив их за свой счет. Я подписался на три тысячи ливров — это стоимость годового содержания отряда в двадцать человек.
Робер не удержался и присвистнул:
— Три тысячи! Это стоит так дорого?
— А ты как думал? Ну считай сам — двенадцать ливров в месяц на человека, меньше не выходит. Решили так: каждый, кто подписался, выставляет свой отряд уже с капитаном, чтобы люди знали его, успели к нему привыкнуть. А генерального капитана всего ополчения назначит ратуша. Вот я и подумал — Симон про тебя пишет, вроде ты солдат не из последних?
— По правде, — осторожно сказал Робер, покраснев от похвалы, — по-настоящему мне еще не так часто довелось бывать в деле… но случалось. Господин Симон был мною доволен.
— Так почему бы тебе не стать моим капитаном?
— Мне? — переспросил Робер ошеломленно. Он уже догадался, что мэтр Жиль предложит ему поступить в отряд, и это его обрадовало, но чтобы капитаном? — То есть как это… над всем отрядом?
— Да-да! Людей я тебе подберу сам, ты этого не сумеешь, тут в Париже столько всяких проходимцев, что попробуй отличить честного малого от висельника. Этим займусь я сам! Но ты их вооружишь, обучишь и, главное, заставишь слушаться. Подумай хорошо, справишься ли, чтобы не получилось потом так, что время потеряем, а отряда не будет. Марсель хочет, чтобы к Рождеству парижское ополчение было готово выступить, если придется.
У Робера голова шла кругом. Иметь под своим началом двадцать человек! Да еще горожан, а они вон какие бойкие, их разве переспоришь… Но он понимал, что такого случая, как теперь, никогда больше не представится, такое бывает раз в жизни. Ему ведь всегда думалось, что должно произойти что-то необычное, что его ждут большие и опасные дела, что его судьба — не такая, как у других… Чего же теперь медлить?
— Мессир, я готов служить вам верой и правдой, — сказал он, учтиво поклонившись. — У меня и конь есть!
— Не называй меня мессиром, — Жиль рассмеялся, — я не дворянин. И служить будешь не мне, а доброму городу Парижу. Что ж, я рад! Жить и кормиться будешь у меня, найдется место на конюшне и твоему коню, платье и вооружение я тебе куплю, а потом буду понемногу высчитывать стоимость оружия из твоего жалованья. Одежда пусть будет подарком. Насчет жалованья поговорим позже, когда я увижу, чего ты стоишь. Симон писал, у тебя есть отпускная грамота?
— Да, грамота у меня есть.
— Это хорошо. Ты обучен счету и письму?
— Обучен, — кивнул Робер и, поколебавшись, добавил: — Наш приходской кюрэ хотел из меня клирика сделать… и спуску не давал.
— Понятно. Напиши-ка свое имя! — Жиль положил перед ним листок бумаги и странный, никогда не виданный Робером предмет — тонкую серебряную палочку с темным концом.
Он с опаской взял ее в руку, палочка была тяжелой.
— Этим можно писать? — спросил он с недоумением.
— Конечно, вот так. — Жиль забран палочку из его пальцев и темным концом провел по бумаге, оставив хорошо видную черту.
Робер потрогал пальцем — черта была сухой, не размазывалась, как свежие чернила.
— Как удобно, — сказал он, качая головой, — и чернильницу не надо с собой носить… Придумают же!
— Это придумали уже давно, здесь внутри свинец. Ну, так как тебя зовут?
Робер низко наклонил над столом голову и стал старательно выводить палочкой букву за буквой. Потом, довольно улыбнувшись, приписал ниже: «XX людей».
— Молодец, — снова похвалил Жиль. — Совершенно верно, два десятка ратных людей будет у тебя под началом. Можешь мне сказать, сколько чего им понадобится — ну, из оружия, снаряжения?
— Это будет конный отряд?
— Нет конечно! Ополчение будет пешее.
— А, ну тогда проще. Значит, так — полный доспех, я полагаю, пехотинцу ни к чему. Без салады на голову, понятно, не обойтись, а вместо кольчуги можно просто бармицу…
— Бармицу?
— Да, это вот так, до сих пор, — чтобы если по плечу рубанут…
— Погоди, — сказал Жиль и вынул из сумки у пояса маленькую книжицу. — Давай-ка я буду записывать все по порядку…
Глава 15
Дофин вернулся в Париж в середине ноября, получив известие о побеге Карла Наваррского из Арлё. Как он и предвидел, парижане с ликованием встретили эту новость, тем более опасно было оставлять столицу без присмотра.
Но и его присутствие мало что могло уже изменить. Многие видели в Наваррце законного — и куда более достойного короны — соперника дому Валуа, который до сих пор не принес Франции ничего, кроме бед и позора; союз с Наваррой, таким образом, придавал действиям Этьена Марселя некое подобие правомерности: теперь он не просто боролся за власть над столицей, но как бы поддерживал законного претендента на трон.
Мятежный старшина уже не скрывал своих намерений. Для сторонников городской партии придумали особый отличительный знак — красно-синюю шапку с гербом Парижа и надписью: «На доброе дело». Все способные носить оружие были вооружены, и каждый квартал имел своего выборного, подчинявшегося непосредственно ратуше. Спешно создавалось ополчение: Этьен Марсель готовился к решающей схватке.
В свою очередь действовал и Наваррец. Обретя свободу, он задержался в Амьене, усердно завоевывая симпатии горожан, и настолько преуспел, что молва о его «простоте и любезности» мигом долетела до Парижа. Неудивительно, что появление Злого у стен столицы стало чуть ли не праздником. Вечером 29 ноября он с многочисленной свитой прибыл в аббатство Святого Германа на Лугах; наутро огромная толпа заполнила примыкающий к аббатству «Луг клириков» — излюбленное студентами и горожанами место сборищ и увеселений. Собравшиеся долго выкликали «своего короля», и наконец он появился на выступе монастырской стены — смиренный, одетый в черное, без оружия и украшений. Со слезой в голосе начал говорить, избрав темой стих десятого псалма: «Господь праведен, любит правду; лицо Его видит праведника». Подразумевая под этим праведником самого себя, Карл искусно защищался от возводимых на него обвинений в измене и так горячо уверял в своих добрых чувствах, что ему поверили даже не склонные к наивности парижане.
Долго ждать результатов не пришлось. Первого декабря представители парижской ратуши отправились в Ситэ и от имени верных городов просили дофина возвратить свою милость королю Наварры. Дофин был вынужден уступить. Состоялась встреча, кузены дружески обнялись на глазах у ликующих горожан. А затем начался торг: Карл Наваррский требовал у Карла Французского земель и замков в возмещение обид, учиненных ему тестем.
Монсеньор Ле Кок, чье влияние сильно возросло после освобождения Наварры, потребовал в Королевском совете, чтобы для обсуждения этих вопросов были приглашены Марсель и другие представители города. Совету пришлось уступить и в этом, спор двух венценосцев был улажен под надзором и при содействии парижских эшевенов.
Однако вынужденное перемирие было непрочным. Согласившись для видимости на требования кузена, дофин тут же послал тайные приказы комендантам уступленных крепостей не сдавать их Наваррцу. В ответ Карл повел себя вызывающе: клялся в любви к горожанам, приглашал к своему столу представителей купечества, льстил им, осыпал любезностями, а незадолго до Рождества покинул Париж и стал объезжать города Иль-де-Франса, открыто сея смуту и недовольство домом Валуа.
Все это не могло не привести к новому разрыву с дофином. И тогда Наваррец передал Марселю совет вести себя «решительнее», сам же, верный своей всегдашней коварной уклончивости, в Париж не вернулся, предпочитая наблюдать за назревающими событиями со стороны. Тем временем подошел к концу декабрь, и наступил январь, с морозами, обильным снегом и низким, негреющим солнцем в седом от стужи небе…
Ледяной ветер срывал снег с островерхих крыш и кружил, нес его вдоль узкой, заваленной сугробами улицы. Сгущались сумерки, заливая все вокруг мутной синевой. Плотнее завернувшись в плащ, Робер шел по протоптанной посредине тропинке, настороженно поглядывая по сторонам, — зимой, когда ночи были долгими и темными, разгуливать по Парижу с наступлением темноты становилось делом небезопасным. Хотя и считалось, что столица хорошо охраняется, по ночам здесь безраздельно хозяйничали разного рода лихие люди, от которых было одно спасение: двери и ставни покрепче да запоры понадежнее.
Выйдя на улицу Сен-Дени, он с невольным облегчением перевел дух — здесь было попросторнее, поменьше сугробов, а значит, меньше и мест, где можно устроить засаду. Да и до дому тут рукой подать. Он уже миновал церковь Святой Оппортюны, когда навстречу показалась темная фигура — правда, одна. Робер замедлил шаги, положил руку под плащом на рукоять кинжала. Человек, приблизившись, приветственно помахал, и он узнал Гишара, одного из своих солдат, за смекалку и исполнительность состоявшего при нем первым помощником.
— Это вы, капитан? А я тут встретить вышел — что-то, думаю, долго нет, не ровен час, напали… Вас там какой-то человек дожидается — засветло еще пришел, говорит — земляк, а звать Гийом…
— Гийом, говоришь?
— Да, Гийом Шарль, вот как, я еще подумал, он родом из Нормандии, потому как у него не «Шарль» выговаривается, а вроде «Каль»…
— Ах, этот! Проводи в мою комнату и пусть принесут поесть, а я — скажи — только загляну к хозяину и поднимусь…
Новость его не обрадовала. Гийом мужик вроде неплохой, но сейчас все связанное с Моранвилем было Роберу в тягость, а Каль словоохотлив и уж, наверное, выложит кучу тамошних новостей. Вот их-то Робер и боялся.
Когда он, покончив с делами, поднялся к себе, Гийом Каль стоял посреди комнаты, с детской непосредственностью разглядывая обстановку. Увидев Робера, он восхищенно прищелкнул языком:
— Ну-у, парень! Ты, я вижу, неплохо устроился!
— Да я попроще хотел, так, говорят, не положено, — улыбнулся Робер и добавил, стараясь казаться приветливым: — Рад видеть тебя в добром здравии, друг Гийом.
— Рад не рад, — засмеялся Гийом, — а я пришел и даже надеюсь промочить глотку!
— Зачем же только промочить? Сейчас все будет… — Робер приоткрыл дверь в коридор и крикнул: — Ну, что там? Долго мне еще ждать?
Слуга тут же, словно дожидался окрика, притащил золотистый каравай хлеба, блюдо с мясом и глиняный кувшин. Сели ужинать. Гийом ел с аппетитом, усердно подливая в свою кружку, много говорил. Робер, почти не прикасаясь к еде, слушал молча, со сдержанным вниманием.
— …в Эперноне у бригандов вроде как главная крепость, — рассказывал гость, — и все туда прямо как мухи на падаль. Жак де Пип, тот, что служил вместе с Кнолем у Филиппа Наваррского, тоже туда перебрался со своим отрядом и такие там дела заворачивает, что, кабы мне кто другой рассказал, не поверил бы!
— Место выбрано с умом, — кивнул Робер. — Замок крепкий и до Парижа рукой подать.
— Это точно, почитай, все дороги здешние перекрыты. Я вот налегке, и то еле ноги унес. А если кто с товаром — попробуй не поделись, так тебя сразу… — Гийом выразительно подмигнул и, оттопырив большой палец, полоснул себя по горлу.
— Да… бригандам в наше время раздолье.
— Помнишь, как сам помышлял к ним податься? Еще до смерти напугал попа Мореля.
— Помню, — кивнул Робер. Отщипнув кусочек хлеба, он прожевал его, запил вином и сказал: — А я у них и побывал этим летом.
— Брось ты!
— Да, был случай. Как-нибудь расскажу… позже. Почти неделю с ними прошлялся, потом ушел.
— Вон оно что… — Гийом внимательно посмотрел на него и перестал смеяться. — А вообще не нравишься ты мне, — сказал он вдруг. — Так-то с виду возмужал и повадки такие уверенные, а вот глаза…
— Глаза как глаза, — делано зевнул Робер. — Забот много, устаю я.
— Уставать в твои лета не положено! Ну да ладно, не хочешь говорить — неволить не стану. А что, правильно я сделал, посоветовав тебе идти к Жилю?
— Правильно. Только почему вы сами к нему не пришли? Были бы капитаном у него, у вас это лучше получилось бы, чем у меня…
— Капитаном — у Жиля? — Гийом Каль засмеялся, покрутил головой и, потянувшись к блюду, откромсал себе еще кус мяса. — Мне, друг Робер, двадцати человек маловато…
Робер почувствовал себя задетым.
— Тогда к Марселю, — посоветовал он. — Генеральный капитан ополчения еще не назначен, я слышал.
— И это мне тоже ни к чему, — спокойно ответил Гийом, словно не понял насмешки. — Генеральный капитан парижского ополчения будет делать то, что ему велят господа эшевены. А я, когда придет время, буду делать то, что сам сочту нужным.
— И когда же это время придет?
— А вот пусть оба Карла хорошенько друг друга потеребят, зубы себе пообломают. Тогда и придет нам пора позаботиться о себе! — Гийом тряхнул гривой нечесаных волос, влажных от растаявшего снега, и пристукнул по столу кулаком, в котором был зажат нож. — Тогда-то мы им всем покажем!
— Кому «им» и кто это «мы»?
— Им — это значит всем тем, кто ходит в шелках да бархате, а мы — это мы и есть, простой люд королевства, вилланы!
— Опять вы за свое, — пожал плечами Робер. — Как будто и без того мало смуты… Хотите еще большую учинить?
— Чем больше, тем лучше. Пора и нам навести в королевстве порядок — чтобы дворяне не драли с мужика по три шкуры, не вытаптывали себе на потеху наших полей! Подумаешь, смута, нашел чего бояться.
— Понятно… Надеетесь поудить рыбку в мутной воде, наподобие Марселя или Карла Злого. Только ведь за теми сила, а у вас что?
— И у нас силы хватит, коли весь народ подымется!
— Весь не подымется. А если бы и поднялся, это был бы вооруженный сброд. Уж вам, как человеку военному, следовало бы понимать это. Умеют наши вилланы воевать всерьез?
— Их можно и обучить, дело не такое хитрое.
— Не хитрое, говоришь? Я тоже когда-то так считал. Думал, все дело в том, чтобы иметь в руках что-нибудь острое — хоть вилы, хоть косу на древке. А вот когда Симон со мной поработал, только тут до меня дошло, что солдатом не рождаешься — им стать надо. А пока не стал, так, сколько бы вас ни собралось с вилами да косами, всех в первой же схватке изрубят как капусту…
— Однако мне тут уже порассказали, как ты из горожан солдат делаешь. А они ведь тоже не умели управляться с оружием, верно? Капитаном можно быть не только в Париже…
— Вот, значит, для чего вы меня искали, — усмехнулся Робер. — Что же мне, явиться к вам в Мелло и засесть там капитаном?
— Ты не ухмыляйся! В Мелло тебе делать нечего. А сколько жаков по лесам таится, ты знаешь? И идут туда самые отчаянные, хилый да трусливый не пойдет… — Гийом Каль помолчал, выжидающе глядя на Робера, потом вздохнул. — Я там кое-что начал, но… одному трудно. Чем больше нас будет, тем лучше. Ты бы на это дело как раз и сгодился!
Робер помолчал, отломил корочку хлеба, отпил вина.
— Может, и сгодился бы… коли поверил.
— А сейчас не веришь? Я что же, выходит, враки тут тебе развожу?
— Не об том речь. Знаю, врать ты бы не стал! Я, друг Гийом, другое хочу сказать… Я не тому не верю, что жаки готовы поднять смуту. Наверняка так оно и есть, коли разбредаются по лесам. Я не верю, что простому люду после этой смуты легче жить станет.
— Да как же не легче, коли они самых зловредных баронов изничтожат!
— И что же, сами объявят себя баронами? Или станут жить при новых? Феод-то по наследству передается — это вроде бы любой мужик знает. А ну, как наследники изничтоженных захотят поквитаться да еще пуще начнут свирепствовать?
— Тогда и тех туда же, — спокойно ответил Каль. — Пожалуй, так оно надежнее выйдет. И замки ихние снести все до основания!
«Странно, — подумал Робер, — там, в Моранвиле, Гийом казался разумным человеком, а тут несет бог весть что. Сдурел, что ли?»
— Больно уж просто у тебя все получается: баронов изничтожить всех до единого, замки порушить — и сразу будет рай на земле… Хоть бы то сообразил, что когда баронов не станет, то замки ихние нам же самим и придется возводить заново — только уже для годонов…
— И на тех управу найдем, — хмуро возразил Каль.
— Да уж нашли — под Пуатье! Так нашли, что король по сей день у них в плену сидит.
— На короля мне плевать…
— А вот мне — нет. Не знаю, за что его Добрым прозвали, я здесь другое слыхал: будто он придурковатый. Может, из добрых дураков, такие бывают. Однако какой ни есть, а все ж таки он король и должен быть на своем месте. А то глянь, что тут сейчас творится: парижане одни за дофина, другие за Наваррца, третьи уже чуть ли не Марселя готовы посадить на трон…
— А ты что, против него?
— Да я не против! Какое же «против», если я обучаю отряд господина Жиля, а уж он-то у Марселя в первых дружках. Но когда он меня нанимая, я так понял, что ополчение для того собирают, чтобы Париж не оставался беззащитным. Понятное дело — столица королевства, а тут приходи кто хочешь, бери голыми руками! А если бы он сказал, что задумано у них корону на Марселя надеть, я бы ему служить не пошел. Не по душе мне такие дела.
— А почем знать, может, Марсель не хуже других оказался бы королем, — усмехнулся Каль, и не понять было, то ли он всерьез говорит, то ли подначивает собеседника. — Про него-то уж не скажешь, что он придурковатый.
— Да разве в уме дело, — с досадой отозвался Робер. — Где это видано, купцу отдавать власть в государстве! Коли ты суконщик, так и будь при своем суконном деле, а выше не заглядывайся…
— Так-так, — недобро усмехнулся Каль. — Тогда, значит, барону оставаться бароном, а виллану — вилланом? Эх ты, сам-то небось заглядывался кой-куда повыше, вроде и о золотых шпорах мечтал…
— Мало ли о чем сдуру мечтаешь… покуда не поумнел. Знаешь, Гийом, в чем нам не столковаться? Ты всех делишь на дворян и недворян… Те, дескать, все злые, и надо их без рассуждения сразу под нож. А этим добрякам отдать все: власть, богатство — все, чего душа захочет. Ведь так у тебя получается?
— Ну… не совсем так, но близко к тому. А как, по-твоему, должно получаться?
— Да я не думал как-то про такие дела, но знаю одно: не важно, сеньор этот человек или виллан, главное, доброе у него сердце или злое.
— Ты среди сеньоров много видел добросердечных?
— Нет. Да их и среди вилланов немногим больше. Я тебе говорил, что побывал у бригандов, — те все из простых были; ты бы поглядел, что они вытворяли с пленными!
— Да-а-а… Вижу, тебя в Моранвиле хорошо приручили!
— Приручили бы, так там бы и жил. Как ты узнал, что я в Париже?
— Морель сказал. Я еще прошлым месяцем к нему наведывался и сейчас заходил, там и узнал.
Они снова выпили и некоторое время оба молчали, думая о своем, а потом Гийом вдруг сказал:
— А в Моранвиле тебя не забывают… — И, подмигнув, добавил: — Видать, крепко любят!
Робер впился глазами в лицо Гийома:
— Кто же это… не забывает?
— Будто сам не знаешь! Поп Морель, ясное дело, а еще Катрин. Только о тебе и толковала… А хороша девка!
Робер отвернулся, стараясь подавить досаду.
— Тоже в сваты лезешь? — спросил он раздраженно.
Гийом засмеялся:
— А хоть бы и так, чего злишься?
— Не злюсь я вовсе, — буркнул Робер. Взяв нож, повертел его в руках, помолчал, потом спросил делано безразличным тоном: — Что там нового? Как здоровье Мореля? Как Симон, как госпожа…
— Поп и господин Симон здоровы, а госпожа чуть было не померла.
— А что… с ней было?
— Да я толком не знаю. Свалилась откуда-то, а сама в тягости была, вот выкидыш и получился.
Робер, не поднимая глаз, крепко взялся обеими руками за край столешницы — пол ощутимо качнулся у него под ногами. Как в тот вечер, когда услышал о замужестве Аэлис. Но только с чего бы это теперь? Теперь-то какое ему до них дело…
— Что же это меняла так плохо бережет свою женушку, — сказал он деревянным голосом. — Хотя, говоришь, обошлось? Ну, то и слава богу. Госпожу, помню, в деревне любили…
— А все они хороши. — Каль зевнул, стал выбираться из-за стола. — Ладно, парень, за угощение благодарствую, а теперь мне пора.
— Куда же ты попрешься в такой час? Ночуй здесь, сейчас я скажу, чтобы приготовили постель.
— Не надо, я тут еще к одному хочу заглянуть… Коли стража не прихватит. Ну что, а у вас уже дело идет к большой драке? Гляди в оба, парень, не промахнись, когда придет время решать, на чьей ты стороне.
— Чего тут решать, я на службе, и мне уйти из городского ополчения теперь негоже, — сказал Робер и добавил: — А сказать по правде, так мне все эти распри пустыми кажутся. Не все ли равно, который из двух Карлов наденет корону…
Разговор с Калем утомил его, и он, проводив гостя, немедля завалился в постель. Но заснуть, как надеялся, не удалось. Легко сказать — «какое мне до них дело», но попробуй убедить себя в этом, перестать чувствовать то, чего чувствовать нельзя, непозволительно. Понятно, что нет ему никакого дела до жизни, радостей и бед этой предательницы. Даже ребенка не сумела доносить — что ж, поделом ей. Да и меняле тоже. Радовался уже небось, что сразу спроворили наследника, будет кому оставить свое богатство! А судьба и подсунь им такой курбет. Еще неизвестно, как оно теперь дальше будет… а без ребенка то-то будет счастливая семейка!
Робер тут же опомнился: да что это с ним, в самом деле! Предательница — да, она его предала самым постыдным образом (а ведь чего только не наговорила какой-то неделей раньше, провожая его в погоню за рутьерами!), и все-таки это она — Аэлис. Аэлис, которой он надел на палец материно колечко, которой принес вассальный омаж и блюсти его поклялся спасением души. Она оказалась предательницей, кто же спорит, но разве это дает ему право самому стать предателем по ее нечестивому примеру? Предателем и клятвопреступником? Робер оттянул ворот рубахи и, нащупав медальон, стиснул его.
Понятное дело, он давно уже не любит ее. Можно сказать, вообще про нее забыл. Забыл, да! Это вот Каль сейчас напомнил, а не зайди разговор о Моранвиле… С чего бы ему о ней думать! Любил когда-то, еще как любил, но когда это было. Любовь он сумел сломать в своей душе сразу и напрочь — как переломил клинок там, на башне. Теперь она для него никто! Чужая женщина, замужем за безбожным менялой, разрази его чума. Все это так, однако радоваться ее беде, желать им в будущем еще горшего — это, наверное, ничуть не лучше того, что сделала она сама. Ведь спасением души клялся не просто любить (любовь — вздор, вчера любил, а сегодня уже и не вспоминаешь), но еще и хранить верность. Это поважнее того, что дурни зовут «любовью». Верность! Не важно, что тебя предали; если платить той же монетой — тогда чем ты лучше, какое у тебя право осуждать. Ты — ты сам, не кто-то другой, — ты должен оставаться верен своему слову, своей клятве. Не важно, что тебе изменили; ты — не изменишь ни под огнем, ни под железом…
Глава 16
День начинался безрадостно, и самым тоскливым бывал первый миг, самый первый, когда пробуждение отгоняло сон, сразу стирая его из памяти, и надо было открыть глаза, увидеть все то новое — и уже бесконечно постылое, ненужное, — что ее теперь окружало.
Открывать глаза приходилось каждое утро — не будешь ведь лежать зажмурившись до самой мессы. А не явиться в капеллу нельзя, хотя теперь Аэлис присутствовала там как бы наполовину — совсем не так, как прежде. Когда-то она, хотя и не была очень набожной по натуре, любила слушать мессу, особенно в деревенской церквушке у отца Мореля.
Проснуться и лежать затаившись, не раскрывая глаз, позволяя еще какое-то время потешить себя несбыточной надеждой: вот сейчас выгляну из-под одеяла и увижу, что ничего этого нет — ни затканного золотыми флорентийскими лилиями синего полога над кроватью, ни цветущих яркими красками гобеленов справа и слева от камина, ни — еще ярче — сарацинского ковра во весь пол. Чтобы ничего этого не было, а было бы все прежнее, привычное и простое: небольшой тканый коврик аррасской работы в простенке между камином и глубоким оконным проемом, а по бокам и выше — просто побеленная известью кирпичная кладка. Кирпич там был выложен особенно искусно, побелку освежали ежегодно перед праздником Святого Духа, и стена с ковриком выглядела очень нарядно. На коврике же был представлен сир Ролан, тщетно пытающийся оповестить императора о битве с неверными в Ронсевальской теснине. Изображение было Красивым и трогательным (как раз это место «Песни» нередко заставляло ее заливаться слезами), хотя кое-кто посмеивался и над несоразмерно большим рогом в руках Ролана, и над тем, что сам паладин получился каким-то коротконогим — такой ногой и до стремени не достанешь, как его ни подкорачивай.
Вспомнив это сейчас, Аэлис привычно подавила в себе желание плакать. Она давно свыклась с тем, что помнить о Робере нельзя, но легко сказать: забудь, а если все равно помнится, вспоминается по любому поводу, даже вот при взгляде на эту драгоценную флорентийскую таписерию, наглухо закрывшую простенок, где раньше трубил коротконогий Ролан… И еще, дескать, голова у него несоразмерно велика! Да что из того, помилуй бог, каким бы он ни был — пусть коротконогий и большеголовый, пусть хоть кривой, — все равно это он, знакомый с детства, свой, добрый француз, и родом откуда-нибудь отсюда неподалеку, — не чета этим греческим и римским язычникам, которыми она теперь вынуждена услаждать взор каждое утро!
Конечно, Франсуа, когда их привезли, первым делом спросил, нравятся ли они ей, и она сказала, что да, еще бы, такая красивая ткань, ей и не приходилось видеть ничего столь роскошного. Сказала из вежливости, просто чтобы не огорчить (она-то знала, что выбирал их он сам)? Да нет, вовсе нет, тогда они ей и в самом деле понравились. Тогда ей нравилось все. А какой радостью было проснуться и ощутить его рядом. Действительно, почему «из вежливости»? Тогда все было иначе, все доставляло радость — и прежде всего его внимание, проявлялось ли оно в ласках или подарках. Именно поэтому она им радовалась — как знакам его внимания. Наверное, была даже счастлива… Была — или думала, что была? Не все ли равно…
Аэлис вздохнула, приподнялась на локте, рассеянно глядя в камин, где уже дымились огромные поленья. Как удалось ей в то первое утро после бегства Робера скрыть правду от всех, даже от Франсуа? Разум мутился от стыда и горя, и все-таки она нашла силы поговорить с Симоном, убедить его, что отъезд Робера вызван глупой ссорой. Для отца тоже придумала целую историю в объяснение своей порезанной руки. И спасибо Жаклин, подавшей счастливую мысль: до самой свадьбы (оставалось два дня) затвориться в своей комнате под предлогом поста и молитвы. Отец Эсташ поддержал благочестивое намерение, и эти два дня не надо было притворяться, лгать, с кем-то разговаривать. А потом, когда одетая в алое подвенечное платье, она спустилась в зал и встретила сияющий счастьем и восхищением взгляд жениха, ей вдруг снова стало хорошо, почти радостно. И все словно забылось!
Раскрыв руку, Аэлис долго смотрела на оставшийся от глубокого пореза шрам. Также зарубцевалась и совесть — долгое время она не вспоминала о Робере… Франсуа почти не занимался делами, она просила его остаться в Моранвиле, он стал украшать и обновлять замок, окружая ее непривычной и пугающей роскошью. В те дни, пожалуй, она все-таки была по-настоящему счастлива. Но потом пришла беременность — и вот тогда все стало медленно, но неотвратимо меняться. Ее стали охватывать приступы беспричинной грусти, равнодушия ко всему на свете, раздражения, и это повторялось все чаще и чаще. Франсуа объяснял перемену ее состоянием, да она и сама верила этому — до того дня, когда впервые после бегства Робера снова услышала о нем…
Случилось это в конце ноября, когда Симон вернулся из Парижа. Простодушный солдат, уверенный, что госпоже приятно будет послушать об успехах своего друга на новом поприще, пришел с обстоятельным рассказом. И госпожа действительно радовалась, обо всем расспрашивала — и какое у Робера вооружение, и как одет, и как зовут его подружку: «Только не уверяйте, друг Симон, что он там никого себе не завел, это в Париже-то? Полно, не смешите меня!» Когда де Берн ушел, она долго плакала, перебирая в памяти все услышанное, снова и снова с тоской спрашивая себя, неужели Робер забыл ее. Как он мог? Что бы ни случилось, он не должен ее забыть, не имеет права, он ведь поклялся…
Время шло, но тоска не утихала. Предчувствие не обмануло ее тогда на башне Фредегонды, когда смотрела на пустую, белую от луны дорогу. Потеря Робера стала потерей не просто возлюбленного; в ту ночь она потеряла свое второе я — часть души, которую ничем больше не заменить…
И все-таки она еще любила мужа, угрызения совести сменились страхом, что он догадается о причине ее тоски. Незаметно подошел декабрь. Аэлис уже начала немного полнеть, Франсуа, глядя на ее округлившуюся талию, сиял от счастья. Мессир Гийом тоже радовался будущему внуку. Теперь за ней ходили по пятам, оберегая каждый ее шаг, и не уберегли.
Случилось это перед самым Рождеством. Она вдруг вспомнила, что сломанный кинжал так и остался там на башне, ее охватила тревога. Почему-то пришло в голову, что это дурной знак и непременно случится несчастье, если она не заберет оттуда оба обломка. После завтрака ей удалось ускользнуть незамеченной, но могли хватиться, поэтому она торопилась и, добравшись до верхней площадки, почувствовала дурноту. Она не обратила на это внимания, важно было одно — отыскать кинжал; площадка, однако, была покрыта толстым слоем смерзшегося наста. Расстроенная и усталая, пошла обратно, а потом вспомнила, сколько раз проходила здесь вместе с Робером, вспомнила ощущение его горячей сильной руки и заплакала. Она спускалась по крутой каменной лестнице, едва видя сквозь слезы, и не заметила опасного места, где через бойницу намело снега. Снег этот уже много раз таял и снова замерзал, ступеньки покрылись льдом; Аэлис поскользнулась и, не удержав равновесия, съехала до нижнего поворота лестницы (было чудом, что вообще не убилась). Тяжело дыша и едва не теряя сознание от тошноты и головокружения, она все же сумела спуститься вниз, вышла из башни и даже прошла еще шагов двадцать. А потом все тело пронзила острая боль, и она упала как подкошенная.
Там и нашел ее Франсуа. За ее жизнь долго опасались, потом опасность миновала, она стала поправляться — но стала уже совсем другим человеком. Сообразив, что теперь любое ее настроение будет понято как тоска по неродившемуся ребенку, Аэлис перестала держать себя в руках. На самом же деле, о потере ребенка не жалела нисколько, не успев по-настоящему ощутить будущего материнства. Более того, увидела в случившемся перст судьбы, благословившей ее тайную любовь. Теперь, слава богу, она снова свободна… или могла бы быть свободной, если бы не муж!
Она стала раздражительной, капризной, находя удовольствие в том, чтобы лишний раз досадить Франсуа. Скоро не осталось ни угрызений совести, ни стыда, ни страха. Ничего, кроме одного-единственного желания: увидеть Робера и все ему объяснить, чтобы понял, чтобы простил…
В начале февраля мессир Гийом отбыл в Париж, и Франсуа уехал вместе с ним. Помимо дел, которые уже давно требовали его присутствия, он надеялся, что недолгая разлука пойдет на пользу расстроенным нервам Аэлис. Она не стала его отговаривать.
Камин давно уже разгорелся, поленья громко трещали, швыряя в закопченное жерло вихри крутящихся искр. В комнате стало теплее. Аэлис вздохнула и, отвернувшись, уткнулась носом в подушку. Хоть бы удалось снова заснуть и увидеть во сне Робера… Она была уверена, что он снится ей каждую ночь, но все приснившееся начисто стиралось из памяти в момент пробуждения, оставалось лишь еле различимое (и оттого мучительное) ощущение только что пережитого и сразу утраченного счастья. А ведь было время, когда счастьем было проснуться и увидеть рядом Франсуа, услышать его шепот, ощутить на себе его руки. Теперь же это стало тягостью, и он сам это понял — под предлогом поздних занятий делами с Жюлем велел стелить себе в другом покое. Дескать, чтобы не нарушать ее сна.
Это было так похоже на него! Она подчас сама не могла понять, откуда столько недоброжелательства к мужу, столько неприязни, почти враждебности. Только из-за того, что он — не Робер? Но это глупо, Робер был в далеком уже прошлом, чуть ли не в ее детстве, и каким бы прекрасным ни оставалось в памяти это прошлое, его не воскресить. Кроме того, она давно это знала, их брак был невозможен, о таком нельзя было и подумать, а значит, и вся любовь сводилась к полудетской игре. Робер, возможно, этого не понимал, но она-то знала! А из всех тех, кто мог бы стать ее мужем, лучше Франсуа не было никого. И она действительно полюбила его тогда, грех было бы сказать, что ее принудили к этому замужеству; она сама — по своей доброй воле, никем не принуждаемая — сделала выбор между Робером и Франсуа, стала изменницей и клятвопреступницей. Так надо ли теперь спрашивать, почему выбор не дал обещанного? Нарушить клятву было зло, подсказанное нечистым, а ведь отец Морель всегда говорил: кто польстится на посулы нечистого, останется с носом. Вот она с носом и осталась.
— Скоро обед, госпожа, прикажете приготовить другое платье? — Жаклин опустила на колени рукоделие, выжидающе глядя на Аэлис.
— Чего ради? — Та пожала плечами и, помолчав, добавила: — Можешь идти, а мне пришли Катрин.
Уходя, Жаклин украдкой бросила на госпожу насмешливый взгляд. Она давно догадывалась о причинах неожиданного фавора к этой девчонке; однажды Аэлис сама себя выдала, заметив вроде бы в шутку, что Катрин могла бы сойти за сестру Робера, так они схожи…
Сидя у огня, Аэлис со скукой разглядывала перстни на левой руке, поворачивая ее в отблесках пламени. Скоро обед, а о еде противно и подумать. Все противно! Противно вышивание, противны все эти наряды, противны книги и украшения, которыми продолжает ее задаривать ничего не понимающий супруг… Впрочем, кое-что он понимает, не надо заблуждаться на этот счет. Уж в чем в чем, а в уме ему не откажешь, а не понимать тут мог бы разве что круглый дурак… Да, Франсуа умен. Разумеется, в мужчине это не главное достоинство, но ведь и в других, более важных, он несоизмеримо превосходит любого из знакомых Аэлис молодых (да и не только молодых) дворян. Казалось бы, можно лишь мечтать о таком… Скрипнула дверь, лицо Аэлис оживилось.
— Где ты пропадала, Катрин?
— Не знаю, госпожа, простите… — невпопад от смущения ответила девушка. — Я спешила как могла…
— Поди сюда, посиди со мной… Вот сюда!
Катрин послушно присела на краешек стула. Аэлис с трудом оторвала взгляд от ее белокурых кос — у Робера волосы ярче, цвета спелой ржи, но все равно, как похоже…
— В деревне давно была? Как там отец Морель?
— Третьего дня была у него, отнесла того зайца. Да только господин кюре кушать не стали. «Отдам, — говорит, недужным, — им нужнее. Я, — говорит, — привычен к бобам, самая для меня полезная пища».
— Погоди. — Аэлис прислушалась. — Что это, рог?
— Никак приехал кто. Прикажете узнать? Я сбегаю.
— Сиди, без тебя узнают. Так о чем мы… А, да, отец Морель не стал есть зайца. Почему?
— Он бобы любит.
— Бобы! — Аэлис вздохнула. — Кто же их не любит. Я вот сто лет не ела, а так иногда хочется…
— Так ведь, госпожа, за чем дело стало. На поварне каждый день варят — велите принести.
— Как ты себе это представляешь? Позвать Ашара и сказать: «Распорядитесь, чтобы на обед мне подали вареные бобы — те, что готовят для дворни». Да его удар хватит!
— Зачем же говорить господину сенешалю, я могу принести — никто и не узнает.
— В самом деле, почему бы и нет… Завтра принесешь мне, только чтоб не заметили. И еще вот что — узнай там, какое вино обычно посылают отцу Морелю. Из какой бочки, понимаешь?
— Последнего урожая, думаю. То же, что подают на нижних столах.
— Узнай точно. И захватишь тогда кувшинчик этого вина, поняла?
— Я все сделаю, госпожа, — заверила Катрин. Уловив недоумение в ее тоне, Аэлис пояснила:
— Не удивляйся, мне просто вспомнилось… Я этим летом заезжала как-то к отцу Морелю, он меня угостил. Бобы и молодое вино, так вкусно показалось! Еще там Симон был в тот день, мы вместе и приехали, и… да, вроде Робер тоже. Или его не было? Да нет, точно, был и он.
— Он тогда жил еще у господина кюре, — тихо отозвалась Катрин.
— Отец Жан еще мечтал сделать из него клирика. Представляешь? Робер — в сутане, ха-ха-ха! Воображаю, каким гулякой стал в Париже. Симон что-то о нем рассказывал… не помню точно, я не очень внимательно слушала, по правде говоря. Что мне до него? Уехал тогда, ничего никому не сказал… сумасшедший, право. Я даже у Симона спрашивала, но что он знает? Говорит, парню, мол, захотелось на волю. Что за вздор! А ты… Тебе Робер ничего не говорил, когда собирался?
— Нет-нет! Я… я не видела его перед отъездом.
— Ну и бог с ним. Даже смешно, что мы вдруг о нем вспомнили, уехал и уехал, что ж теперь… Слушай, а ты замуж не собираешься? У тебя ведь, конечно, есть парень — здесь или в деревне?
Катрин залилась краской.
— Угадала, угадала! — Аэлис захлопала в ладоши. — Ладно, не буду допытываться — кто. И зря смущаешься, я от души за тебя порадуюсь, когда это случится. Кстати, вот тебе и подарок — заранее…
Она сняла перстень с крупным смарагдом и протянула Катрин. Та испуганно отшатнулась, но Аэлис поймала ее за руку и, притянув к себе, надела кольцо ей на палец.
— Что вы, госпожа, — прошептала Катрин, — куда мне такое… разве я посмею носить…
— Ну и не носи, спрячь в сундучок, и пусть это будет твое приданое!
— Нет-нет, не надо… за что мне такой подарок…
«За то, что у тебя глаза серые, как у Робера», — хотелось ей сказать, но этого она сказать не могла, поэтому пожала плечами и ответила небрежным тоном:
— Ах, не все ли равно. Мне приятно подарить его тебе, а не захочешь носить — можешь продать…
В комнату влетела Жаклин:
— Госпожа, а у нас гости! Приехал ваш кузен Тестар, да нарядный какой, ровно на турнир собрался!
— Тестар? — с досадой переспросила Аэлис. — Только его здесь не хватало… Подай плащ!
Тестар де Пикиньи был младшим сыном мессира Тибо. Такой же дикий и необузданный по натуре, манерами он, когда хотел, мало походил на своего свирепого грубияна-отца, служил в свите Филиппа де Лонгвиля (брата короля Наварры) и, как многие молодые придворные, был лжив и мстителен. Уже давно Тестар пытался ухаживать за Аэлис, а год назад прекратил свои домогательства лишь после того, как Аэлис пригрозила все рассказать отцу. Уезжая, он многозначительно намекнул, что все еще впереди, и пожелал ей скорейшего замужества. В прошлую весну мессиру Тибо удалось подыскать своему отпрыску выгодную партию, женив его на девице из дома графов де Брезак, и с тех пор младший Вепрь больше не появлялся в Моранвиле. Приезд распутного родича неприятно удивил Аэлис, оставалось лишь надеяться, что он будет непродолжителен.
Впрочем, сейчас она не могла не признать, что кузен переменился к лучшему. Тестар вел себя церемонно, а во время обеда стал с таким умилением восхвалять добрый нрав своей молодой супруги, что Аэлис даже устыдилась собственной подозрительности.
После трапезы, когда все перебрались поближе к огню, Тестар посетовал на то, что не застал дядюшку Гийома, к которому у него поручение.
— Тем лучше, — любезно заметила Аэлис, — лишняя причина погостить в замке, отец должен вернуться со дня на день.
— Благодарю от всей души, дорогая кузина. — Тестар прижал к сердцу обе руки. — Мне действительно придется воспользоваться твоим гостеприимством, но только на эту ночь. Завтрашний восход солнца, к большому моему сожалению, должен застать нас уже по дороге в Бовэ, так что с дядюшкой едва ли увижусь.
— Ну, как хочешь. А как поживает кузина Мадлен? Ты ничего о ней не рассказал.
— Сестра? — удивился Тестар. — Что о ней рассказывать! Живет себе со своим сиром де Траси… и, похоже, бедняга ходит у нее по струнке.
— Это я знаю, — улыбнулась Аэлис, — они гостили у нас прошлой зимой. Сейчас в Париже?
— Да… де Траси в милости у дофина. Кстати, когда я был у них в последний раз, Мадо жаловалась, что ты совсем ее забыла, ни разу не навестила.
— Когда же мне было… — рассеянно ответила Аэлис и вдруг оживилась. — А ведь верно, давно следовало бы навестить кузину! Постараюсь сделать это в ближайшее время…
— В ближайшее, боюсь, вряд ли удастся, — заметил Тестар. — В Париж сейчас лучше не лезть, подлые горожане окончательно взбесились. Твой супруг не пустит тебя, и будет прав.
Аэлис пожала плечами:
— Пустит, если захочу.
— Послушай, не бери примера с моей сестрицы! Клянусь амуром, это неженственно.
— Да-да, строптивость в жене есть большой грех! — изрек капеллан, пробуждаясь от приятной послеобеденной дремы.
— Главное же, подобная поездка чрезвычайно опасна, — покачал головой Бертье. — Ваш кузен прав, мадам, Париж ныне подобен огнедышащему вулкану.
— Или разбойничьему гнезду, — поправил Тестар. — Недавно там был похищен для выкупа один из придворных дофина — молодой виконт де Вьен. Похищен, как вы думаете, кем? Самой обыкновенной чернью! Бедняга целую неделю просидел в обществе этих негодяев, да еще с мешком на голове; впрочем, ничего удивительного, если вспомнить, что городом вздумал управлять купеческий старшина…
Щеки Аэлис зарделись румянцем, купеческий старшина связывался в ее представлении с Робером.
— Ну, требовать выкупа за пленного — этому они научились у дворян. Подумаешь, какая беда — ограбили виконта де Вьена! Так ему и надо, распутнику, Жюль мне кое-что про него рассказывал…
Светлые глаза Тестара насмешливо сузились.
— Помилуйте, кузина, ваш отец — барон, а супруг все-таки банкир, а не уличный коробейник. Откуда вдруг столько доброжелательства к черни?
Филипп Бертье поспешил вмешаться, капеллан тоже пустился в пространные увещевания, и мир был восстановлен. Аэлис замолчала, со скукой прислушиваясь к разговорам, а затем встала, пожелав присутствующим доброй ночи. Тут же поднялся и Тестар:
— Разреши проводить тебя, милая Аэлис. Хочу воспользоваться моментом, чтобы обратиться к тебе с небольшой просьбой…
— Почему для этого нужно выбирать особый момент? Мог бы обратиться и здесь.
— Речь идет о семейном деле, как бы это сказать… довольно деликатном.
— Ах вот что. Ну, тогда пойдем ко мне.
Перед комнатой Аэлис, как всегда, подремывал вооруженный итальянский стражник; Тестар, проходя мимо, скорчил насмешливую гримасу:
— Ну, дорогая кузина, тебя охраняют, как королеву! И как же следует это понимать — неужто у мессира супруга уже есть основания сомневаться в твоей верности?
Аэлис удивленно глянула на кузена, который вдруг совершенно преобразился. Вся его церемонность исчезла, уступив место развязно-двусмысленному тону; куда более двусмысленному, чем тот, каким он говорил с ней тогда, в прошлом году.
— Тестар, я не люблю шуток подобного рода, — сказала она сухо.
— Помилуй, я и не думал шутить… О-о-о! — прервал он сам себя, переступив порог и оглядывая комнату. — Как тут все изменилось! Я вдвойне рад это видеть… Во-первых, ты наконец получила достойную оправу… мне, клянусь честью, всегда было огорчительно видеть тебя в прежних нарядах. Не то чтоб они так уж тебя портили, я ведь давно научился любоваться твоими расцветавшими прелестями, мысленно освобождая их из-под ненужного покрова, но все же, согласись… Ну а во-вторых, приятно убедиться, что дядюшка Гийом начинает приобретать истинную деловую хватку! Быстро найти на вышеупомянутые прелести столь щедрого покупателя, это ведь тоже надо суметь…
— Ты хочешь, чтобы я позвала стражу?
— Стражу? Из-за того, что я похвалил деловые качества твоего отца? Хорошо, не будем касаться этого вопроса, если он так тебя шокирует. Я ведь пришел не затем…
— Тогда говори зачем. О каком «семейном деле» речь?
— А ты до сих пор не догадалась? — усмехнулся Тестар и, подойдя к ней почти вплотную, многозначительно добавил: — Я давно ждал этого, моя несравненная кузиночка…
— Я недогадлива, — сухо сказала Аэлис. — Будь добр объяснить, чего ты ждал.
— Чего? Твоего замужества! — засмеялся он. — Тех блаженных времен, когда та сможешь грешить, не опасаясь последствий, чего не могла год назад…
Аэлис смотрела на кузена широко открытыми глазами; тот, приняв ее молчание за поощрение, жестом победителя обнял ее за талию.
— Сегодняшнюю ночь мы смело можем провести вместе, прекрасная кузина, и клянусь, сам Господь Бог не осудит тебя за это! Если благородным дамам и приходится связывать свою судьбу с буржуа, то ведь не для того же, чтобы хранить им верность…
Отшвырнув его руку, Аэлис отступила на шаг.
— Дурак! — сказала она не столько с гневом, сколько с презрением. — Я всегда знала, что ты негодяй, но думала, ты хоть умней…
Схватив со стола колокольчик, Аэлис позвонила. В дверях выросла фигура стражника.
— Скажи людям сьёра де Пикиньи, чтоб седлали коней! Presto![64] Он уезжает! — И когда дверь за стражником захлопнулась, с насмешкой посмотрела на кузена. — Мне так жаль с тобой расставаться!
С минуту Тестар ошеломленно смотрел на Аэлис, потом лицо его пошло красными пятнами.
— Ну что ж, я уеду, — процедил он сквозь зубы, — но запомни: никому еще не удавалось безнаказанно оскорблять Тестара де Пикиньи! Ты не постыдилась продать себя грязному торгашу за золото и побрякушки, а любовь рыцаря, которого дарили благосклонностью благороднейшие дамы королевства, показалась тебе унижающей твою незапятнанную честь? Гром Господень! Ну, драгоценная кузина, ты еще пожалеешь…
— Я жалею, что мне приходится называть тебя кузеном. Отправляйся к своим «благороднейшим дамам», и пусть эти ошалевшие от распутства дуры дарят тебя чем угодно. А по мне, лучше уж любовь честного буржуа, чем такого дворянина, как ты!
Сжав кулаки, Тестар круто повернулся и пошел к выходу; потом, уже у двери, он оглянулся, и на этот раз Аэлис вздрогнула, встретив его ненавидящий взгляд.
— Прощай, чудо целомудрия! — сказал он со злобной ухмылкой. — Мы еще встретимся, уж это я тебе обещаю!
Глава 17
Один из последних дней января выдался свободным, и Робер решил навестить своего приятеля Оливье, иллюминатора,[65] живущего на Университетской стороне возле Малого замка. Было солнечно, в морозном воздухе далеко разносились манящие запахи от выставленных прямо на улицу печурок кондитеров, из дверей лавок пахло кожами, пряностями. Миновав Большой мост с его вечной сутолокой, звоном молотков, шумом толпы и криками торговцев, выхваляющих свои товары, пройдя мимо королевского дворца, Робер оказался на площади перед собором и вдруг решил зайти. В соборе Богоматери он бывал редко, мессу обычно слушал в церкви Святой Оппортюны вместе с семейством Жиля, но сегодня словно что-то потянуло его.
Внутри было холодно и пусто, пылали в полутьме витражи, толстые низкие колонны волшебно распускались в головокружительной высоте нефа невесомо переплетенными стрельчатыми арками. Молящихся было совсем мало, лишь в одном из боковых приделов шла служба, курился ладанный дым, слышалось негромкое бормотание по-латыни. Робер дошел до трансепта,[66] многоцветно освещенного косыми лучами солнца через огромную розетку над южным порталом; у статуи Парижской Богоматери, раскинув по плитам широкий плащ, стоял на коленях человек с низко опущенной головой. Робер был уже совсем рядом, когда тот встал и пошел к выходу. Это был Франсуа Донати.
Он прошел мимо, не глянув на Робера. Не узнал или просто не обратил внимания. Но Робер за эти короткие мгновения очень хорошо разглядел соперника, злодея, разрушившего его счастье; и первым чувством была мстительная радость, потому что он увидел глубоко несчастного человека.
Полгода назад там, в Моранвиле, Донати был жизнерадостным, всегда белозубо улыбающимся, уверенным в себе красавцем. А теперь лицо его было словно опалено изнутри. Горестно сжатые губы, запавшие глаза, мучительный излом бровей — все говорило о том, что этот человек страдает. Обернувшись, Робер взглядом проводил его до выхода, потом прошел к алтарю и опустился на колени, прижавшись лбом к решетке.
Наверное, он не имел права оставаться здесь с этой своей мстительной радостью в сердце, потому что сам понимал, сколько в ней зла; но разве мало зла причинили ему они — и она, и он, пронесший сейчас мимо него свое тайное страдание? Пусть страдает теперь, поделом, не ему их жалеть… И все же он жалел, жалел, ничего не мог с собой поделать — жалел и ее, давно жалел, с тех пор как услышал рассказ Гийома Каля, и себя, и даже его. Он вдруг почувствовал, что плачет, и не мог удержать слез, до боли вдавливая лоб в острые ледяные завитки кованого железа, а слезы жгли глаза и горячо текли по щекам — он плакал и об их с Аэлис детстве, и о своем одиночестве, и о ее неродившемся младенце, и об отце этого младенца, ни в чем, в сущности, не виноватом — разве что в том, что встретил ее и полюбил? А мог ли не полюбить? Аэлис больше виновата, она ведь обещалась другому, но и ее можно понять. А он не захотел, проклял ее тогда, пожелал беды и ей, и ему, вот проклятие и исполнилось, Господи, грешен. Ты ведь завещал прощать…
Он плакал, пока не иссякли слезы, потом встал и вышел. Он уже не помнил, зачем сюда пришел, почему оказался в Ситэ. Ах да, Оливье, он же хотел навестить Оливье! Сейчас ему уже не хотелось никуда идти, но и оставаться одному было нельзя, и он пошел к Малому мосту. У въезда на мост виллан, с бочками вина на повозке, ругался со стражниками — всегда брали по четыре денье, а почему нынче дерут все пять? Робер пожалел и возчика, и стражников, у тех тоже служба не легкая. Но почему несчастен Донати — только ли оттого, что Аэлис потеряла ребенка? Что ж тут такого, оба молоды, не один еще будет… Или, может быть?..
Он не стал додумывать только что пришедшей на ум догадки. Что толку! Теперь уже все равно поздно, а если все же… нет-нет! Он не должен, не имеет права думать о таком… а уж тем более желать…
Оливье оказался дома и очень Роберу обрадовался. Робер относился к иллюминатору покровительственно — не столько даже как к другу, слишком они были несхожи во всем, сколько как к слабому и нуждающемуся в защите созданию.
— Ты, друг Оливье, все работаешь, — сказал он, подходя к пюпитру, на котором был прикреплен уже размеченный для писца лист пергамена с горящей золотом и яркими красками заставкой-буквицей еще не написанного первого слова. — И что же это ты тут изобразил? Поединок, что ли?
— Да, христианский воин и язычник. Похоже?
— Язычник и впрямь премерзкий. Только почему у тебя христианин так держит меч?
— А как же его надо держать? — обеспокоенно спросил Оливье.
— Как-как… Как все держат! Так, как ты нарисовал, никакого замаха не получится. Он должен замахиваться от левого плеча — вот так, видишь? — тогда язычнику конец. А у тебя сейчас язычник сделает выпад и отправит христианина сам знаешь куда.
Оливье заохал, разглядывая заставку и качая головой:
— Ты прав, как же это я сам не сообразил… Да нет, откуда мне знать, я и меча-то сроду не держал в руке! Ах, беда, надо переделать, пока не поздно…
— Брось, после переделаешь, идем лучше пройдемся, у тебя уже глаза как у кролика.
— Нет-нет, я сейчас… Возьми-ка пока метлу, покажешь, как замахиваться.
Оливье, подбирая полы длинной домашней робы, взгромоздился на высокий табурет за пюпитром и стал перебирать свои инструменты. Робер заинтересовался, подошел ближе. Вооружившись тоненьким острым ножичком, иллюминатор осторожно принялся выскабливать на картинке руку христианского воина. Зашлифовав это место крючочком из рыбьего зуба, он вопросительно глянул на Робера — тот сделал свирепое лицо и замахнулся метлой, как мессир Ролан, готовый обрушить Дюрандаль[67] на голову самого Мамбрена.[68] Оливье понимающе кивнул и свинцовой иглой нарисовал руку уже в другом положении — с мечом, занесенным от плеча слева.
— Верно, клянусь святым Михаилом! — восхитился Робер. — Вот теперь-то сарацинскому псу точно уж конец!
— Как хорошо, что ты вовремя подоспел… Сейчас я это раскрашу, и пойдем погуляем. А золото наложу потом, когда хорошо просохнет.
— Расскажи, о чем судачат твои клирики, — сказал Робер, продолжая наблюдать, как Оливье возится с горшочками красок и пробует на дощечке слоновой кости разные оттенки зелени, лазури и киновари. — Ты ведь всегда все знаешь, даром что сидишь тут, как крот в норе.
— Сейчас все ругают Марселя… особенно после истории с деньгами каноника де Шанака…
— А что за история? Первый раз слышу.
— Да, видишь ли, Этьен всюду сует своих родичей, кузена Гийома назначил казначеем коммуны… Нравится тебе этот тон?
— Красиво, — одобрил Робер.
— Пожалуй, чуть темнее. Да, тут рядом будет золото, надо чуть-чуть гуще. Так вот, этот Гийом вместе с Николя Фламаном явились в сокровищницу собора и забрали сто тридцать марок серебра, которые каноник положил туда на сохранение.
— В другой раз пусть думает, куда класть.
— Сокровищница Богоматери всегда была надежным местом хранения денег, и многие туда несли… Да, вот теперь в самый раз, верно? А вот здесь пустим капельку синего… Да, не надо было коммуне так открыто нарушать обычаи, это к хорошему не приведет. Поднять руку на сокровищницу собора…
Оливье покачал головой и, еще ниже склонившись над пюпитром, тонкой кисточкой положил на пергамен полоску яркой, как летнее небо, лазури.
— Какие еще места Этьен роздал своим родичам? — помолчав, спросил Робер.
— Ну, как же… Гийом — казначей, Перрине — знаменосец, Жиль — клерк превотажа.[69] И на эти места, между прочим, зарился Робер де Корби, тоже для своих родных. А уж с мэтром Корби нашему старшине ссориться и вовсе ни к чему, тому и дофин покровительствует, и монсеньор Ле Кок…
— Ну, друг Оливье, у тебя не голова, а кладезь мудрости! Как ты ухитряешься все знать?
— Мне ведь приходится общаться с клириками, а они любят поговорить о том о сем, ты же знаешь… А известно им многое. Ну, вот и готово! Пусть теперь сохнет, а мы с тобой пойдем подышим воздухом. И знаешь что? Захвачу-ка я готовые листы, чем раньше их отдать, тем лучше. Переписчикам больше останется времени для работы.
— Что это будет за книга?
— Житие святого Дионисия. Мэтр Туфье, что служит секретарем у его преосвященства, говорит, что монсеньор готовит книгу для дофина…
— Королевский подарок!
— Еще бы. Но я думаю, монсеньор не прогадает; получив книгу, дофин готов будет сделать для него все, что угодно. Говорят, он поклялся увеличить королевскую библиотеку в сто раз — сейчас в ней осталось всего девять книг… король Иоанн все раздарил, сам-то он не читал…
Оливье собрал готовые листы, бережно свернул их и вложил в кожаную сумку. Выйдя на улицу, друзья не спеша пошли к набережной. В Ситэ, сдав работу во дворце архиепископа, Оливье вспомнил, что хотел еще побывать у торговца пергаменом мэтра Беранже, державшего лавку на улице Сен-Мерри.
— Ладно уж, пойдем к пергаменщику, — согласился Робер.
По дороге Оливье увлеченно рассказывал о том, какой интересный и выгодный заказ надеется получить через того же Леонара Туфье: герцог Беррийский, брат дофина, заказал роскошный «Бестиарий» лучшим клюнийским переписчикам, а для изображения зверей, в пол-листа каждая миниатюра, числом сто пятнадцать, ищут теперь искусного иллюминатора; и если Житие придется по вкусу дофину, то мэтр Туфье — через монсеньора — подскажет мысль рекомендовать его и для этой работы…
— Представляешь, сколько всего можно нарисовать, — говорил он мечтательно, — каких только диковин… Знаешь ли ты, к примеру, что такое слон?
— Знаю, сир Ролан трубил в него под Ронсевалем.
— Вовсе нет, он трубил в рог, сделанный из зуба слона.[70] Слон — зверь громадный, наверное вот как этот дом, и у него два хвоста, сзади и спереди. А про верблюда слыхал?
— Про верблюда мне рассказывал отец Морель, а ему говорил один старый воин, побывавший в Святой земле. Верблюд есть порождение ада, ибо у него голова змеи и тело рыбы; ноги, правда, лошадиные, поэтому неверные и пользуются верблюдами вместо коней. Уж не хочешь ли ты нарисовать верблюда в этой книжке для герцога Беррийского?
— Конечно, надо рисовать всех.
— Ну, не знаю. Будь я герцогом, я бы не потерпел, чтобы мне преподнесли книгу с изображением такой твари.
— Есть и похуже, — возразил Оливье. — Бонакон, к примеру, или хотя бы мантикора…
— А это еще что?
— Мантикора — зверь с головой человека, и зубы у нее в три ряда, а питается она христианским мясом; поэтому рисуют ее обычно с человечьей ногой или рукой в зубах. А бонакон, будучи преследуем охотниками, извергает из-под хвоста пламя, да так, что сжигает все вокруг на целый арпан…
Робер захохотал:
— Клянусь святым Юбером! А под седлом он не ходит, твой бонакон? Хороша была бы лошадка для иных воителей! Смотри только, чтобы герцог не усмотрел в твоей картинке намек на своего брата дофина!
— Почему? — не понял Оливье.
— Да он же бросил поле под Пуатье, без памяти оттуда удрал!
Разговаривая, они дошли до улицы Сен-Мартен и уже свернули на Сен-Мерри, когда впереди послышался шум и начали собираться прохожие. Робер с другом тоже подошли полюбопытствовать: окруженные зеваками, посреди улицы препирались двое — немолодой худощавый человек в длинном, отороченном дорогим мехом черном одеянии, какое обычно носят должностные лица, и рыжий парень, чье лицо показалось Роберу знакомым. Он тотчас же и вспомнил: Перрен, слуга менялы с Большого моста. Неделю назад рыжий собрал целую кучу зевак возле церкви Святой Оппортюны и так же надрывал голос, всячески понося дофина, задолжавшего меняле за каких-то купленных у него лошадей. Похоже, о них же речь шла и теперь.
— Да что же это делается, добрые горожане?! — орал парень. — Грабеж среди бела дня, и добро бы рутьеры какие или там годоны, а ведь тут сплошь законники да казначеи, чтоб им сдохнуть без покаяния, а сами что вытворяют!! Где наши деньги, мессир хапуга?! Где деньги за лошадей, которых мой хозяин по дурости продал дофину еще на День святого Иоанна? Где наши полторы тысячи ливров? Что, может, мне еще год шляться за ними в вашу счетную палату?
— Это Жан Байё, казначей герцога Нормандского, — с тревогой заметил Оливье, глянув на человека в черном. — Уйдем отсюда, Робер! Боюсь, они сейчас передерутся…
— Погоди, я хочу посмотреть, чем это кончится.
— …ты забываешь, Перрен Марк, — говорил между тем Жан Байё, с трудом сдерживая раздражение, — что дофин имеет право даром брать все нужное ему, будь то лошади, пропитание или другие товары. Таково право всякого государя во время войны, когда казна пуста…
— А, вот вы как заговорили! Право государя вспомнили?! — завопил Перрен, со сжатыми кулаками загораживая путь казначею. — Вот, значит, чего стоит слово герцога Нормандского! Да лучше иметь дело с поганым жидом, чем с нашим дофином!
— Молчать, негодяй! И проваливай отсюда, пока я не велел позвать стражу! — крикнул казначей, тоже теряя терпение, и, брезгливым жестом оттолкнув Перрена, попытался его обойти.
— Э, нет, мэтр Байё, как бы вам самим не пришлось проваливать отсюда, да только куда-нибудь подальше! Назовите день, когда мне прийти за деньгами, только без уверток! Иначе, клянусь, вам это даром не пройдет!
— Не миновать тебе Шатле,[71] Перрен Марк! — пообещал казначей. — Говорю тебе, дурак, дофин имел право конфискации, но ваших лошадей он купил и не отказывается платить; просто сейчас в казне нет денег. Ты понял? А теперь дай мне дорогу и убирайся прочь, если не хочешь посидеть в колодках!
Но Перрен Марк понимал сейчас только одно: проклятый казначей снова отказывается платить, соображения осторожности и благоразумия потонули в охватившем его бешенстве.
— Ах ты, ворюга! — зарычал он. — Я тебе покажу Шатле! Я тебе…
Робер, как и большинство других зевак, скорее потешался над нелепой ссорой — и чего этот слуга так переживает из-за чужих денег? Поэтому он не поверил своим глазам, когда в руке Перрена что-то блеснуло, а Жан Байё сдавленно вскрикнул и повалился на грязную мостовую, судорожно дергая ногами. Снег под ним стал быстро окрашиваться алым.
Люди с воплями кинулись в разные стороны, кто-то стал кричать: «Стражу сюда, стражу!!» Робер бросился к упавшему, но сразу понял, что помочь уже нельзя, — лицо казначея начало застывать в гримасе, из открывшегося рта текла струйка крови. Стоя на коленях возле убитого, Робер поднял голову и посмотрел на оцепеневшего Перрена, все еще державшего в руке окровавленный нож.
— Доорался, болван? — спросил он тихо и раздельно. — Выручил хозяйские денежки? Беги хоть, что ты тут торчишь!
По улице спешно захлопывались ставни лавок, бежали люди, кто-то продолжал звать стражу. Перрен Марк, до которого наконец-то дошло, что дело плохо, швырнул нож и тоже помчался куда-то сломя голову. Оливье тянул Робера, судорожно вцепившись в рукав его камзола.
— Бежим, бежим, — повторял он, — сейчас здесь будут сержанты. Если тебя увидят рядом с убитым — нам не миновать виселицы…
Со стороны Гран-Шатле и впрямь послышался конский топот. Робер еще раз оглянулся и увидел, как Перрен вбежал в раскрытую дверь церкви Сен-Мерри. «Ну, теперь дурак в безопасности», — подумал он с невольным облегчением и, схватив за руку Оливье, помчался с ним к лавке мэтра Беранже. Тот, по счастью, еще не успел запереть свою дверь и попытался сделать это сейчас, увидев бегущих; Робер оттолкнул его и вскочил в лавку, таща за собой едва живого от страха художника.
— Ну, все! — Он хлопнул Оливье по плечу. — Смелее! Видишь, иногда приходится и побегать — жаль, что мы не можем, как этот твой зверь, — как ты говорил, бонакон?
Мэтр Беранже между тем ломал руки, умолял не губить его. Если они замешаны в каком-нибудь злодействе и если их схватят в лавке — а у него жена, дети…
— Да замолчи ты, трусливое отродье! — Робер сгреб его за грудь и тряхнул так, что у почтенного пергаменщика чуть голова не отвалилась. — Выведи нас задним ходом и можешь спать спокойно со своей женой!
Перепуганный хозяин поспешил указать им задний выход на другую улицу. Через пять минут, миновав несколько тесных задворков, они выбрались в тихий проулок и торопливо зашагали к дому Пьера Жиля.
Между тем возле церкви Сен-Мерри события обернулись совсем иначе, чем предполагал Робер. Получив известие об убийстве своего казначея, герцог Нормандский впал в великий гнев. Слишком униженным чувствовал он себя в последнее время, и слишком мало оставалось у него верных и преданных слуг. Он должен был отомстить! Вечером по его приказу маршал Нормандии Робер до Клермон окружил своими людьми церковь и взломал двери. Вытащенный из алтаря Перрен Марк был брошен в Шатле. На следующее утро его снова привели на улицу Сен-Мерри. Там, на месте преступления, ему отсекли кисть руки, которой было совершено убийство, после чего он был доставлен на Рынок и повешен. Париж встал на дыбы.
Епископ Парижский произнес гневную проповедь против безбожного нарушения права убежища и объявил Робера де Клермона отлученным от Церкви за святотатство. Епископ потребовал выдать тело Перрена и на другой день сам торжественно похоронил его у Сен-Мерри. На отпевании присутствовал весь город во главе с Этьеном Марселем. А в это же время дофин с малочисленной свитой провожал тело своего казначея Жана Байё.
Теперь, когда пролилась первая кровь, было ясно, что ее потока уже не остановить.
Глава 18
Дофин боялся, что не переживет эту зиму; все было против него, все оказывалось на руку его противникам. Марсель становился в Париже единовластным правителем, с каждым днем возрастал престиж Наваррца, все больше наглел Робер Ле Кок — этот волк в овечьей шкуре, разбойник в митре. Большой королевский совет был теперь целиком в руках епископа Лаонского; лишь малая горстка верных дворян еще оставалась с дофином, но чем могли помочь они, сами находившиеся под угрозой? С нетерпением ждал он своего совершеннолетия, приходившегося на 21-й день января, рассчитывая объявить себя регентом королевства, но, когда подошел этот срок, не решился действовать. Как раз в эти дни произошло убийство казначея, и реакция дофина (поспешная и необдуманная, он сам теперь это понимал) едва не вызвала в Париже открытого бунта. О регентстве сейчас нельзя было и заикаться.
В начале февраля Наварра снова напомнил о себе, прислав в Париж Жана де Пикиньи с жалобами на невыполнение условий договора, заключенного между ними в декабре. Какой вокруг этого поднялся шум! Дофина стыдили за жестокосердие и вероломство по отношению к «брату», угрожали, требовали. В дело вмешался Парижский университет и духовенство, причем депутацию клириков возглавил магистр ордена якобинцев[72] Симон де Лангр, просивший об окончательном рассмотрении и удовлетворении всех жалоб короля Наварры, включая совершенно уже вздорные — вроде требования вернуть какую-то золотую цепь, якобы похищенную у него при аресте в Руане два года тому назад, а также «пряжку испанского золота, сломанную, весом три с половиной унции». И все это непотребство приходилось выслушивать, терпеть, терзаясь унизительным сознанием собственного бессилия.
А тут еще вернулся из Лондона коронный адвокат парламента Реньо дʼАсси — привез от короля Иоанна проект мирного договора с англичанами и условия выкупа. Из того, что дофин оставил в тайне содержание полученных грамот, было ясно, что французский король намерен купить свою свободу слишком дорогой ценой. Среди парижских эшевенов поднялся ропот. И тогда Этьен Марсель, не без подсказки со стороны епископа Лаонского, решился нанести удар, который, как ему казалось, навсегда сделает дофина послушным исполнителем воли народа.
Ученый приор монастыря Святого Элуа Пьер Берсюир был человеком тихим, по возможности избегавшим мирской суеты и не искавшим почестей и славы. Правда, он любил, когда о нем говорили как о лучшем переводчике Тита Ливия, ибо сей великий муж древности был его слабостью, и он, переводя его с похвальным усердием, действительно снискал себе известность в ученых кругах.
Политика была ему глубоко чужда, и только кознями дьявола можно было объяснить, как мэтр Берсюир дал втянуть себя в это поистине богопротивное дело. Дошло до того, что мятежные вожди облюбовали монастырь, превратив его подвалы в тайное хранилище оружия, — натаскали туда множество смертоубийственных приспособлений, а также свинца, из коего льют пули для пращей. Приор и на это закрыл глаза. Почему? Скорее всего, причиной было пагубное любопытство, неодолимое стремление нащупать тайные пружины тех или иных поступков, разгадать всю сложную механику человеческих взаимоотношений… Да, это — после Тита Ливия — было его второй слабостью, и ею он отнюдь не гордился.
Случай свел приора с Этьеном Марселем, и он сразу понял, что именно такие люди делают историю своими руками; мог ли он устоять перед искушением познакомиться с ними ближе? Очень скоро приорат стал местом постоянных встреч главарей коммуны, когда им требовалось обсудить что-либо секретное.
Сегодня, 21 февраля, они снова здесь — те же, что обычно приходят с Марселем, и еще Жан Майяр. Ближайший друг Этьена, он редко присутствует на их собраниях, но сегодня пришел. У всех усталый вид, все возбуждены, взвинчены — еще бы, после целого дня заседаний в ратуше…
Вопрос, обсудить который они собрались, тоже далеко не прост, не так надо его решать. Разойтись по домам, спокойно поужинать в кругу семьи, отдохнуть, выспаться, а потом собраться завтра, на свежую голову. «Sine ira et studio», — мысленно повторяет мэтр Берсюир слова другого великого римлянина. «Без гнева и пристрастия» — вот как надо бы решать этот вопрос. Ибо Марсель задумал страшное. Даже в его узком окружении нет на этот счет единого мнения. Майяр высказался против — еще один голос к его единственному. То, что он, монах, не поддержат предложения Марселя, понятно, но Майяр, казалось бы…
Приор поднимает голову и обводит присутствующих пытливым взглядом. Марсель — властное, волевое лицо, борода воинственно выставлена. Сильная натура, вождь, который пойдет на все во имя своей заветной цели — ограничить королевскую власть, укрепить и расширить вольности и самоуправление городов… Поистине достойный преемник великого Артевельде![73] Робер де Корби — этот другой: богослов, ученый, светоч Сорбонны, блестящий оратор и человек острого ума. Большие дарования и не меньшее, увы, честолюбие. Впрочем, кто из них не честолюбив… Шарль Туссак, Жан де Лиль, Жосеран де Макон — все они чем-то похожи на своего вождя. И преданы ему. Особенно Пьер Жиль — вспыльчивый, безрассудный, истинный забияка-гасконец. Этот первым подал голос за предложение Марселя, сразу, не задумываясь. А задуматься стоило бы! Интересно все же, что руководит Жаном Майяром — осторожность? Здравый смысл, которого сегодня не хватает остальным? Или чувство соперничества?
Жиль ударяет по столу кулаком, так что вздрагивает пламя свечей в тяжелом, в подтеках воска кованом подсвечнике. Приор, вздрогнув, отвлекается от своих мыслей и вопросительно смотрит на бакалейщика.
— Четыре миллиона золотых экю! — кричит тот. — Не зря дофин старался скрыть от Совета содержание этих писем! Да чтоб мне провалиться, Франции даром не нужен такой король, не то чтобы платить за безмозглого болвана этакую гору золота!
— И все-таки ее придется собрать и выплатить, — говорит упрямо Майяр, не поднимая хмурого взгляда. — Королей не выбирают. А этот долго не протянет, Иоанн уже не молод… именно поэтому, Этьен, я еще раз призываю к осторожности — все это вам припомнят, когда дофин коронуется в Реймсе.
— Ха, — презрительно отмахивается Жиль, — он еще даже не регент! И неизвестно, станет ли им. Что нам мешает объявить регентом Наварру?
— Погоди, Пьер. — Марсель поднимает руку останавливающим жестом. — Ты что же считаешь, Майяр, оттого что Карлу предстоит когда-нибудь возложить на себя корону, мы уже сегодня должны перед ним пресмыкаться?
— Между пресмыканием, — не сразу отвечает Майяр, — и тем, что ты затеваешь, лежит здравый смысл. Этого я бы и придерживался на твоем месте.
Наступает молчание, потом Марсель усмехается и говорит то, что, как сразу понимает приор, говорить не следовало.
— Вот поэтому-то, — насмешливо произносит купеческий старшина, — ты и не на моем месте, а на своем. И там, полагаю, и останешься, если всю жизнь будешь «придерживаться здравого смысла».
Тишина в комнате сгущается еще тяжелее, приора тянет взглянуть на лицо Майяра, но он не отваживается — видит лишь его руки, два кулака, лежащие на столе и стиснутые так, что побелели костяшки пальцев. Жан Майяр молчит, долго молчит, потом медленно поворачивает кулаки внутрь, раскрывает их и крепко прижимает ладони к дубовой столешнице — словно хочет встать, опираясь на стол. Но не встает.
— Ладно, — говорит он совсем неожиданным тоном, почти беззаботно, — может, я и не прав, друзья, будь по-вашему. Коль скоро мы с отцом приором остались в меньшинстве, будь по-вашему!
Этот неожиданный тон почему-то пугает мэтра Берсюира еще больше, чем только что испугало повисшее в комнате молчание или вид окаменевших в безмолвном бешенстве кулаков Майяра. Он снова бросает боязливый взгляд на его руки — они лежат так же, плотно прижатые к столу, и рубин перстня вдруг загорается в огне свечи, подобно брызнувшей крови. Вздрогнув, приор осеняет себя крестным знамением и начинает говорить торопливо и неубедительно, заклиная повременить, подумать еще и еще раз, и видит, что его уже не слушают, не перебивают только из учтивости.
— Ну что ж, — окончательно сбивается он, — если вы все же решили… я буду молиться, дабы задуманное вами не привело к еще пущим бедствиям в нашем королевстве…
— В добрый час! — Марсель встает, за ним поднимаются из-за стола и другие. — Итак, друзья, завтра с утра всем кварталам собраться здесь, ополчению быть при оружии, всем надеть головные уборы, чтобы не случилось какой путаницы. А теперь будем расходиться, время позднее…
Робер накануне мало что понял из путаных распоряжений Жиля, но главное уяснил: утром вывести отряд к монастырю Святого Элуа, в Ситэ, а затем будет видно Дама Маргот, супруга Жиля, вручила ему двухцветную красно-синюю шляпу, на которой собственноручно вышила надпись: «На доброе дело», и сама приколола к шляпе маленький медальон тех же цветов, с изображением кораблика и словами: «Fluctuat nec mergitur»;[74] утром, выходя из дому, он посмотрелся в зеркало и решил, что шляпа ему к лицу.
С отрядом никаких затруднений не было. Люди были давно обучены, а Гишар с Урбаном оказались хорошими помощниками, так что ему оставалось только присматривать. Вот и сегодня людей вывели вовремя, все были уже накормлены, оружие наточено и начищено. Вышли затемно, народ кучками шел в направлении Шатле, из улицы Святого Мартина показался еще один вооруженный отряд. Было холодно, ненастно, ветер лепил в лицо мокрым снегом. Когда уже сходили с Большого моста, Робер привычно, как подобает парижанину, глянул на хорошо уже различимый в утренней полутьме горолог на угловой башне дворца. Штука была, несомненно, колдовская, и он поначалу даже опасался на нее смотреть: круг, больше колеса телеги, на нем цифры, а посредине стрелка, неподвижная, но почему-то в разное время дня указывающая то на одну цифру, то на другую. Усмотреть, как она перемещается, было невозможно, но она перемещалась и сейчас указывала на цифру VII (в полдень, когда солнце прямо над головой, стрелка торчит вверх, — наверное, солнце ее и притягивает).
Бочарная улица была вся полна толпой, а у стены приората народу собралось тьма — тысячи три, решил Робер. Он распорядился, куда поставить отряд, велел Гишару ждать, не трогаясь с места, а сам с Урбаном пошел искать Жиля. «Марсель, Марсель будет говорить», — шумели вокруг, потом зашумели еще больше, крик стал тысячеголосым. «Ноэль!! Ноэль[75] купеческому старшине!!» — ревела толпа. Робер заинтересовался — Марселя надо послушать, сейчас он растолкует, зачем их всех тут собрали… Он подмигнул Урбану — тот, все понимающий и без слов, ухмыльнулся и двинулся вперед. Кто-то завопил, что ему отдавили ногу, послышалась ругань, но Урбан продолжал разваливать толпу надвое, очищая путь Роберу. Снова послышалось в толпе имя Марселя, и в разом наступившей тишине раздался голос — сильный, властный, отдающий лязгом железа:
— Народ парижский, друзья! Волей Господа нашего и вашей волей избран я быть вашим прево — защитником ваших интересов. С честью и ревностью старался я выполнить возложенные на меня обязанности! Дни и ночи, не ведая усталости, пекся я о вашем благе, и если когда ошибался, то не по злому умыслу, но всегда руководствуясь единой лишь целью — хоть на малость облегчить бедствия, от коих ныне погибает народ…
Робер был уже у самой паперти и теперь совсем близко, в каких-нибудь пяти шагах, увидел перед собой черные, пронизывающие глаза Марселя и поднятую, сжатую в кулак руку.
— В горе и разорении лежит ныне процветавшая прежде земля Французского королевства! Бог свидетель, я не хочу обвинять дофина, он молод, но есть люди, которым он слишком доверился, и они, эти люди, не убоявшись гнева Господня и движимые одной лишь корыстью, обратили его доверие во зло!
Толпа грозно зашумела, прихлынула ближе, с жадным нетерпением ловя каждое слово.
— Час пробил! — продолжал выкрикивать Марсель. — Отныне народ сам будет решать свою судьбу, а также судьбу королевства! Принц окружен дурными слугами и дурными советниками, которые предают корону и народ! Настало время положить конец голоду и смутам, в коих повинны лживые и алчные слуги дофина, продавшие свои души англичанам за тридцать серебряников!
Волнение нарастало по мере того, как падали в народ слова старшины — резкие, обвиняющие, гневные.
— Долой изменников!! — истошно, прямо над ухом Робера, завопил кто-то, и толпа всколыхнулась, повторяя крик:
— Долой изменников!!
— Покажи нам этого Иуду, Марсель!!
— Избавим дофина от дурных советников!!
— Долой негодяев!!
Марсель поднял руку, призывая к молчанию, и Робер, встретив на секунду его взгляд — горящий, неумолимый взгляд фанатика, — почувствовал, как по спине у него пробежал холодок.
— Глас народа — глас Божий! Народ парижский, ныне сам Господь указует путь! Долг повелевает нам покарать измену…
Дальше Робер не слышал, потому что последние слова потонули в яростном реве толпы, и в ту же секунду его оттеснило, потащило куда-то в сторону. Сквозь толпу протиснулся Жиль, схватил Робера за рукав.
— Где наши люди? — спросил он, задыхаясь.
— Вон там стоят, — показал Робер. — Гишар с ними. А что?
— Иди тоже туда и никуда покамест не отходи — отряд может понадобиться… Только что убили Реньо д’Асси — схватили на улице, он едва вышел из дворца…
— Кого убили? — не понял Робер.
— Мэтра д’Асси, королевского адвоката! Того, кто привез из Лондона условия выкупа… Он хотел бежать, заскочил в лавку какого-то пирожника — там его и прикончили. В двух шагах от дома! Ступай, потом тебе скажут, что надо делать.
Робер вернулся к отряду. Люди уже вымокли до нитки (снег то и дело мешался с дождем), но стояли терпеливо, как положено солдатам. Толпа тем временем повалила в сторону дворца, вокруг стало свободнее. Подошел человек в богатом вооружении и красно-синей шляпе, спросил, кто командует отрядом.
— Капитан Робер де Моранвиль! — выкрикнул Гишар.
— Где он?
— Я здесь. — Робер подошел к незнакомцу, тот назвался новым начальником ополчения квартала Сен-Дени и приказал вести людей ко дворцу.
— Займите боковые выходы, что в сторону госпиталя, никого не пропускать, сами с оставшимися людьми пройдите внутрь. Я буду там. Быстро!
Робер повел отряд ко дворцу. Боковых выходов оказалось два, он поставил у каждого по пять человек во главе с Гишаром и Урбаном, остальных взял с собой. Двери главного портала были уже взломаны, и ревущая толпа беспрепятственно вливалась внутрь огромного здания. Поняв, что тут не протолкаешься, Робер приказал очистить дорогу, солдаты стали бесцеремонно расшвыривать горожан, расталкивая и колотя по головам древками своих коротких пик. Им удалось уже подойти вплотную, когда одно из окон во втором этаже дворца распахнулось и из него выбросили человека в богатом придворном одеянии. Дважды перевернувшись в воздухе, тело рухнуло на мостовую, к месту его падения прихлынула взвывшая толпа.
— Это же маршал! — закричал кто-то.
— Робер де Клермон, маршал Нормандии!
— Святотатец, отлученный, это он схватил в церкви нашего Перрена!!
— Поделом богохульнику!
— Бей остальных!! Бе-е-ей!!
Робера и его людей подхватило точно волной в паводок, внесло внутрь, потом вверх по лестнице. Во внутренних покоях дворца бушевала та же ревущая круговерть, где-то что-то ломалось с хрустом и треском, пронесся чей-то тонкий вопль, слышались глухие удары. Робер в конце концов оказался — уже без своих людей — в небольшой комнате, похожей на спальный покой, здесь было потише, и он услышал голос Марселя:
— Тащите его наружу, пусть валяются рядом, чтобы все видели!
Толпа расступилась, мимо протащили окровавленный труп.
— Кто это? — спросил Робер у своего соседа.
— Маршал Шампани, Жан де Конфлан…
— А дофин? — Робер невольно понизил голос. — Его не…
— Да вон он сидит. Марсель с ним шляпами обменялся! Наденьте, говорит, ваше высочество, а то как бы ненароком чего не вышло, ха-ха-ха!
Робер и сам не понимал, что заставило его протискаться вперед, туда, куда указал разговаривавший с ним горожанин. Белый, затканный золотыми лилиями полог над громадной кроватью был наполовину оборван, валяющийся на полу край затоптан и забрызган кровью. Кровь была и на светло-голубой домашней робе, в которую кутался забившийся в кресло худой, некрасивый юноша с вислым носом, бледный как смерть, в криво нахлобученной красно-синей шляпе. Дофин Карл, старший сын короля, герцог Нормандский и местоблюститель французского престола, походил сейчас на сломанную и выброшенную за ненадобностью куклу.
— Он что, ранен? — спросил кто-то.
— Да нет, — ответил другой, — это Конфлана рядом с ним рубанули… хотел под кровать спрятаться, там его и настигли…
«Как же тот сможет теперь жить, — подумал Робер, — как можно после такого унижения… жить, править, считать себя рыцарем?» Еще раз глянув на дофина со смешанным чувством жалости и презрения, он повернулся и стал протискиваться к выходу. Надо было разыскать оставшихся где-то позади солдат и попытаться помешать грабежу, который мог здесь начаться. Если еще не начался.
Марсель вышел из дворца победителем. Гревская площадь, запруженная народом, встретила купеческого старшину восторженными приветствиями. Так и не сняв черной, расшитой жемчугом бархатной шляпы дофина, он вышел на балкон ратуши и поднял руку, призывая к тишине.
— Главные предатели понесли кару! — прокричал Марсель. — Теперь судьба города и королевства в ваших руках, добрые горожане! Согласны ли вы быть с нами до конца? Согласны ли поддержать и разделить нашу ответственность?
Площадь всколыхнулась, отозвалась тысячеголосым криком:
— Берем на себя ответ за все, что сегодня сделали!! Это был триумф — Этьен Марсель стал единовластным хозяином Парижа.
В этот же день, окруженный ликующей толпой, он снова вернулся во дворец и поднялся в покои герцога Нормандского.
— Сир, — обратился он к дофину, — то, что сегодня свершилось на ваших глазах, было сделано согласно воле народа, а также затем, чтобы избежать еще худшей опасности. Соблаговолите одобрить наши действия…
И дофин, совершенно сломленный, подписал одобрение. На следующий день речь в оправдание вчерашних убийств держал перед горожанами ученый-богослов и член университета Робер де Корби. Победа казалась полной, мятежный Париж торжествовал.
Глава 19
Вероятно, следовало задержаться в Париже подольше, но месяц, проведенный в разлуке с женой, показался Франческо таким мучительным, что у него просто не хватило сил быть благоразумным. Целых тридцать ночей не было с ним Аэлис; наверное, она уже соскучилась и ждет его, должна соскучиться, твердил он себе, нетерпеливо шпоря коня…
Однако в первый же день стало ясно, что надежды не оправдались и разлука ничего не изменила в их отношениях. Аэлис была по-прежнему раздражительна, капризна, а к нему откровенно равнодушна. Тщетно пытался Франческо развеселить ее привезенными подарками, среди которых был купленный за огромные деньги роман о любви рыцаря Окассена к некой сарацинской пленнице. Украшения Аэлис нехотя примерила и тут же бросила в шкатулку, а к книге даже не прикоснулась. Франческо решил сам развлечь ее куртуазной историей и, раскрыв книгу наугад, прочитал, как Окассен ехал через лес со своей милой, но Аэлис так отчаянно разрыдалась, что перепуганный Франческо поспешил послать за Бертье и капелланом. Те в один голос заявили, что госпожа еще не совсем оправилась от нервной горячки, которая последовала за несчастьем, прервавшим прошлой осенью ее беременность; Франческо принял это объяснение чуть ли не с радостью, потому что начал уже подозревать худшее.
Убеждая себя, что окончательное выздоровление жены — вопрос лишь времени, он старался окружить ее еще большей заботой и вниманием: пригласил в замок жонглера с обезьяной, предложил выписать из чужих земель настоящего карлу, может быть даже черноликого. Все было напрасно. Жонглера с обезьяной она велела прогнать после первого же представления, сказав, что неизвестно, кто из них противнее, а касательно карлы объявила, что не понимает, как это ей, доброй христианке, предлагают завести в доме такую мерзость, и что карлу этого она не задумываясь скормила бы мастифам, будь он даже светел, как ясный месяц. Не говоря уж о черноликом.
Впрочем, иногда она делалась приветливой с мужем, даже ласковой. Но Франческо эти короткие перемирия не обманывали, в них было что-то вымученное, словно Аэлис начинала вдруг испытывать раскаяние (в чем, в чем?) и принуждала себя к неискренней нежности с мужем. Ему в такие минуты бывало за нее неловко.
В начале марта приехал из Парижа доверенный тамошней конторы, привез почту и известие о бунте против дофина — горожане во главе с Марселем ворвались во дворец, убили двух маршалов. Карла же силой заставили надеть красно-синюю шляпу и поклясться, что не будет впредь злоумышлять против магистрата. Мессир Гийом жадно расспрашивал о событиях, места себе не находил — там такое происходит, а он сидит тут, как медведь в берлоге, такого с ним еще не бывало…
Несколько писем получил и Франческо. Прочитав их, он долго ходил хмурясь, совещался в скриптории со своим другом, а вечером сказал жене, что положение дел требует его присутствия во Флоренции и поэтому пусть она готовится к переезду. Летом, когда перевалы в горах станут безопасны, они тронутся в путь.
Аэлис выслушала это внешне спокойно — что ж, она с самого начала знала, что рано или поздно ей придется покинуть родные края. Но в душе ее словно что-то оборвалось. Угрызения совести больше не возвращались, сдержанная неприязнь к мужу сменилась откровенной враждой, а тоска по Роберу стала невыносимой.
Для сира Гийома мысль о предстоящей разлуке с дочерью не была неожиданностью, он тоже знал, что иначе и быть не может, когда давал согласие на свадьбу. Но тогда это было чем-то отдаленным, зять уверил его, что не думает о переезде в Италию, тем более что предоставленный Наварре заем весьма тесно связал дом Донати с делами Французского королевства. Пикиньи иногда думал, что молодые вообще никуда не уедут, — иные итальянские банкиры провели тут всю жизнь и тут же и похоронены.
Теперь оказалось, что этой надежде не суждено было сбыться. Он не то чтобы так уж страдал от мысли, что дочери с ним не будет; таков удел всех родителей, замужних дочерей всегда увозят, и чем знатнее брак, тем дальше. Но он только сейчас вдруг понял, что остается совсем один — с двумя такими же стариками, Симоном да Филиппом. Жениться самому, что ли? Неплохо бы, да, пожалуй, поздно.
Но самое тяжелое было то, что он догадывался о неблагополучии между дочерью и зятем. Понять, в чем дело, он не мог хоть убей — оба молодые, красивые, любили друг друга без памяти, а теперь прямо как сглазили обоих… Он пытался однажды поговорить с дочерью, но глаза у нее сразу стали лживыми, он понял, что продолжать расспрашивать бессмысленно. Бессмысленно было и выяснять что-то с зятем — тот сам пришел бы, если бы хотел поделиться трудностями. Конечно, времени прошло еще немного, года вместе не прожили, возможно, все еще наладится; и все же думать о том, что придется отпустить ее на чужбину в таком вот состоянии, непонятно чем недовольную, непонятно из-за чего страдающую, — было мучительно. А что дочь страдает, мессир Гийом уже не сомневался. Не знал только, кого за это винить.
Он с горечью чувствовал, что стареет, жизнь идет к концу, а ничего по-настоящему хорошего так и не случилось — ничего из того, на что он когда-то рассчитывал, к чему стремился так жадно. В политике, как теперь видно, он все время таскал из огня каштаны для других — интригуя, оказывался пешкой в руках более ловких, более дальновидных интриганов. Даже дело с этим флорентийским займом, которым он еще недавно так гордился, восхищаясь собственной ловкостью (и деньги добыл для Наварры, и сам не прогадал, устроил дочери такой брак, о котором только мечтать можно), — даже это оборачивалось теперь чем-то недобрым, непонятным. Единственное, что он смог сделать, — это поправить свои дела: зять, как потом оказалось, тайно уплатил все его долги, взял на себя расходы по содержанию замка, благодаря его щедрости в Моранвиле не стыдно было бы теперь принять и короля — столько тут появилось новой резной мебели, сарацинских и аррасских ковров. Из каждой поездки привозя жене редкостные книги, Франческо не забывал и тестя, чем доставлял ему большую радость: библиотека его почти удвоилась, насчитывала теперь более двух десятков томов и стоила целое состояние. Книга оставались единственной отрадой мессира Гийома. От того непонятного, что происходило вокруг, он теперь все чаще отгораживался дверями своих личных покоев и проводил там целые дни, выезжая лишь поохотиться в компании Симона.
Конечно, можно было бы уехать и подальше — снова окунуться в политику, навестить брата Жана, монсеньора Ле Кока… Весной должны были пройти собрания провинциальных штатов — Пикардии, Артуа, Шампани, — следующего созыва Генеральных, назначенных на май в Компьене. Тут бы и поездить, возобновить прерванные связи, снова ощутить себя влиятельным, кому-то нужным… Но как оставить дочь с ее непонятными переживаниями? В другое время он посоветовал бы зятю побывать с нею при дворе, благо у Пикиньи есть родственницы в близком окружении Жанны Бурбон; но какой сейчас двор, какие поездки, не хватает только, чтобы у нее на глазах стали бы опять бесчинствовать эти Марселевы разбойники…
Поэтому Гийом и сидел в своем опостылевшем Моранвиле, пытаясь найти утешение то в охоте, то в чтении Плавта[76] или подаренного зятем Боккаччо — автора из современных, но, говорят, модного.
Вот и сегодня он тоже читал «Амето» — негромко, но с выражением, упиваясь изысканностью слога: «…когда же солнце вступило в созвездие Плеяд, сорвались беззаконные ветры, буйными порывами грозя сокрушить деревья и высокие башни, не говоря уже о людях, и не один рослый дуб вырвали с корнем; дороги, к досаде путников, обратились в хляби от пролитых небесами дождей, так что каждый на время поневоле стал домоседом. Так и Амето на время, и немалое, лишился светлого созерцания своей нимфы…» Дочитав страницу, мессир Гийом заложил ее расшитой шелком закладкой и бережно закрыл тяжелый разукрашенный том. Нет, даже эти прекрасные строки не могли отвлечь от тяжелых мыслей.
Он тщательно запер книгу в шкаф, спрятал за пояс ключи и хмуро оглядел темные, обшитые дубом стены кабинета. Да, будь у него сын, все было бы куда проще. А тут… поди разберись!
Пикиньи вздохнул, прошелся по комнате и остановился у окна, задумчиво разглядывая разноцветные ромбики стекол, в которых уже по-весеннему ярко плавилось солнце. И чего, собственно, торчит он в четырех стенах в такую погоду? Съездить, что ли, на охоту… Сир Гийом распахнул тяжелую раму и на секунду зажмурился, ослепленный ударившим в лицо солнцем. А воздух-то какой! Он с наслаждением вдохнул полной грудью, словно пил эти чудесные запахи пробуждающейся земли.
Он не сразу услышал голоса во дворе — мужской и женский, они были приглушенны, словно разговаривавшие не хотели, чтобы их слышали, но разговор шел на повышенных тонах, они то ли спорили, то ли ссорились. Ему показалось, что женский голос принадлежит дочери, и он высунулся из окна, посмотрел вниз. Да, это действительно была Аэлис — сидела на своем муле, — видно, собралась ехать куда-то, потому что поодаль с выражением терпеливой скуки на овечьем лице ждал, тоже верхом, ее обычный провожатый Рауль де Бетемон. Франсуа говорил что-то, держа мула под уздцы, Аэлис слушала, глядя в сторону, потом резко дернула поводья, заставив мула вскинуть голову, и заговорила — быстро, негромко, задыхаясь не то от сдерживаемых слез, не то от ярости… Мессир Гийом испугался — что там еще у них стряслось? Он затаил дыхание, стараясь уловить обрывки слов, но в этот момент Франческо резко повернулся и быстро пошел, почти побежал прочь. Аэлис с недоброй усмешкой поглядела ему вслед, повернула мула и поехала к воротам в сопровождении Рауля. Пикиньи осторожно прикрыл раму и отошел от окна усталой походкой. Может, все-таки поговорить с зятем, попытаться что-то сделать? Нет, бесполезно. Ни он, ни она не поблагодарят его за вмешательство, да и чем он может им помочь…
Войдя в комнату, Франческо постоял, словно к чему-то прислушиваясь, потом прошел к столу и сел, уронив голову на руки. В висках болью отдавались слова Аэлис: «…будь проклято золото, которым ты меня купил…» Но почему? Чем заслужил он подобное отношение? Ведь еще совсем недавно она любила его…
Ему было трудно дышать, он откинулся на спинку стула, рванул ворот камзола. Впервые в жизни Франческо Донати чувствовал полное бессилие, впервые золото не могло помочь. Его охватил суеверный ужас: неужели это расплата? Да, он не знал жалости, когда кто-то становился ему поперек дороги, не знал жалости и к любившим его женщинам, забывая после первой же ночи, сердце его лишь ожесточалось от их слез… Конечно, это малая доля того, что творят другие, но разве можно оправдать себя тем, что кто-то грешил больше? Видно, и в самом деле пришел для него час возмездия… Аэлис, любимая! Неужели и тебе когда-то придется платить за свою жестокость? Перед ним встало ее искаженное злобой лицо, Франческо застонал, вонзая ногти в ладони. Неужели он что-то проглядел, что-то упустил, не удержал? Но когда, в какой момент? С чего началось? Он попытался вспомнить, как-то упорядочить события последних месяцев, но в голове все мешалось, а мысли то и дело возвращались к сегодняшней ссоре. Нет, об этом потом, сейчас надо понять, вспомнить хотя бы последние недели…
Он долго вспоминал, взвешивая каждую мелочь, напряженно вглядываясь в хаос последних дней. Сегодняшняя сцена была уже не первой, признался сам себе Франческо, и тут снова ожило, поднялось в душе воспоминание, которое он тщетно пытался заглушить все это время, надвинулось, захлестнуло стыдом и болью…
Это случилось дня через два после того, как он сообщил Аэлис об их отъезде в Италию. В то утро она встала мрачная, раздраженная, но подобные настроения давно сделались у нее обычными, и он не придал этому значения — шутил, пытался втянуть в разговор, делая вид, что не замечает угрюмого молчания. Он остался в спальне, наблюдая, как Жаклин наряжает и причесывает жену, давал советы, какое украшение лучше выбрать, как делал это много раз прежде. Аэлис равнодушно позволяла себя украшать, глядя в зеркало безучастным взглядом. Потом она вышла, он последовал за ней, но почему-то замешкался, и в этот момент Аэлис вернулась, и не просто вернулась — ворвалась, будто за ней гнались. Она кричала, топала ногами точно одержимая, требовала, чтобы он немедленно кого-то прогнал. Наконец он понял. Кто-то из флорентийской стражи, охранявшей комнату Аэлис, осмелился приветствовать ее по-итальянски, и, хотя они всегда желали ей доброго утра на родном языке, в тот день чужая речь привела ее в ярость.
— Убери их отсюда, всех гони вон! Я не желаю, не могу больше слышать этот попугайский язык!
Перепуганная Жаклин поспешила выскользнуть из комнаты, а он стоял оцепенев, со страхом вглядываясь в искаженное бешенством лицо жены.
— Я еще у себя дома и больше не позволю окружать себя чужой стражей, этими еретиками, которые даже говорить по-человечески не умеют! — выкрикивала та. — Я вообще не желаю никакой охраны, слышишь? Хватит с меня того, что по твоей милости я должна покинуть дом, отца, все, что мне…
Словно заразившись от нее этой неистовой злобой, Франческо тоже вспылил.
— Замолчи! — крикнул он. — В тебя что, бес вселился?! Это мои люди, и они будут находиться там, где я им велел быть! Ты мне не смеешь указывать!
Он ожидал новой вспышки ярости, может быть, слез, но Аэлис умолкла. Она как-то странно посмотрела на него, словно оценивая, и усмехнулась:
— Ах, я уже не смею? Хорошо, запомню. — И добавила с угрозой: — Только и ты помни — ты еще пожалеешь об этом…
И он действительно пожалел, причем очень скоро. Теперь Аэлис не упускала ни одной мелочи, которая могла бы его ранить. Холодно-неприязненная с ним и Джулио, она всегда была подчеркнуто нежна, заботлива к отцу, весела и разговорчива с домочадцами, даже со своими служанками. Иногда, при людях, вдруг становилась ласковой и с ним; тем больнее ощущал он ее мгновенно возвращавшуюся враждебность потом, когда они оставались наедине. Раньше, что бы ни произошло между ними в течение дня, стоило ему ночью обнять Аэлис, и она тут же становилась нежной, пылко отзываясь на ласку. Теперь ушло и это. В первую же ночь после той ссоры она встретила его попытку примириться с холодным презрением: не стала отталкивать, позволила обнять себя, не отворачивалась от поцелуев, но губы ее были плотно сжаты, а тело словно окаменело. И он отступил, отодвинулся на край постели. Аэлис скоро уснула, а он лежал без сна, не смея прикоснуться к ней и чувствуя, как от унижения и горя мутится рассудок.
Через пять дней он не выдержал и удалил охрану; ночью Аэлис сама обняла его, и на какое-то время он позабыл обо всем. А потом снова лежал без сна, слушая ее сонное дыхание у своего плеча, и с болью думал о том, что сегодня она притворялась, платила долг. Потом это повторялось не раз, безрадостная любовь была унизительна, но отказаться не было сил.
А сегодня… что, собственно, произошло сегодня? Аэлис собралась навестить отца Мореля, и он вызвался проводить ее. Казалось бы, естественное желание, но оно вызвало в ней такую ярость, будто в нее снова вселились демоны.
— Нечего тебе там делать! Что общего у тебя, чужестранца, с нашим кюре?! — крикнула она раздраженно. — И вообще, оставь меня, оставь меня наконец в покое! Мне слишком недолго осталось быть здесь, со своими, я хочу побыть с ними одна, без тебя, понял? Одна!
Лучше было ему уйти, не отвечать, но он уже привык к тому, что всякая ее вспышка сразу вызывала в нем ответную.
— Ты забываешься, Аэлис! Я твой муж и господин и советую тебе это помнить!
— Господин?! У меня нет и не будет господина, клянусь вечным спасением! Уж не твое ли богатство дает тебе право так разговаривать со мной, дочерью французского барона? Да будь оно проклято — твое золото, которым ты меня купил!
Его поразили не столько сами слова, сколько та ненависть, которую он прочел в ее глазах. А потом он почувствовал, что его самого начинает захлестывать слепое бешенство, что еще немного — и он просто убьет ее. Тогда он повернулся и пошел прочь…
Нет сомнения — его решение покинуть Францию не могло улучшить их отношения, но они стали портиться и без этого. А если остаться в Моранвиле? Он готов на все, лишь бы вернуть ее любовь. Нет, ничего это не поправит. Все началось намного раньше, еще осенью. Видно, она никогда не любила его по-настоящему или…
Или разлюбила потом? Какая, в сущности, разница! Могла, конечно, и не любить, могла просто увлечься — юная, ничего не видевшая провинциалочка, а он еще, как нарочно, петушился перед нею, словно павлин, долго ли потерять голову! Непонятно, конечно, что могло произойти потом, обычно бывает наоборот — женятся без любви, любовь приходит позже…
Надо поговорить с Джулио, решил вдруг Франческо. До сих пор он ни разу не обсуждал с ним своих отношений с женой, но сейчас, видно, пришло время это сделать. В конце концов, почему бы нет? Джулио легкомыслен с виду, но у него трезвая, хорошо думающая голова, в делах он всегда был незаменимым советником.
Таким же оказался и на сей раз. Выслушал рассказ Франческо спокойно, не проявляя, против обыкновения, своих чувств, и сказал, что о многом догадывался.
— Я даже сам хотел с тобой поговорить, — сказал он, — но потом подумал — зачем? Ничего необычного тут нет, поверь, первый год брака всегда самый трудный. Вопрос времени, дорогой! Времени и терпения. Я понимаю, тебе трудно, но ведь и монне Аэлис тоже, наверное, нелегко привыкнуть к положению замужней дамы…
— Другие же привыкают! Я что, самый худший из мужей?!
— Дорогой мой, женщина не сравнивает мужа с другими мужьями, она сравнивает его со своим представлением о том, каким должен быть муж. До других ей нет дела!
— Но, Джулио, каким я еще должен стать, чтобы угодить ей? Ведь не было ни одного каприза, ни одного желания, которое я тут же…
— Это ничего не значит; может быть, было бы полезнее поколотить ее разок-другой, не знаю. Женщины удивительный народ, исполнением их капризов и желаний не всегда можно добиться толку. Случается, суровое обхождение вызывает больше любви. Не суди ее строго, дорогой. То, что случилось осенью, не могло на нее не подействовать; родись у вас ребенок, все было бы по-другому…
— Что говорить о том, чего нет.
— И я вот что думаю: не настаивай сейчас на отъезде во Флоренцию. Видно, эта мысль ей пока не по душе. Поезжай туда сам, уладь все дела, а она пусть поживет немного в одиночестве. Вам лучше разлучиться сейчас на время…
— Я не могу приехать домой один! Что скажут родственники? Меня на смех подымут — женился, а жену оставил во Франции?!
— Ну хорошо, хорошо! — Джулио, словно обороняясь, выставил перед собой ладони. — Во Флоренцию поеду я, кому-то побывать там все равно надо. А пока поедем на север, ты давно собирался навестить наши конторы во Фландрии. Убежден, разлука пойдет вам на пользу. Ты, боюсь, повторил ошибку многих других: избаловал жену чрезмерным вниманием. Увидишь, ей не повредит лишиться его хотя бы на время…
Катрин давно уже подозревала, что дурное настроение госпожи как-то связано с Робером. С обостренным вниманием ревнующей женщины следила она за каждым шагом Аэлис, подолгу обдумывая любой, самый незначительный ее поступок, и смутная догадка мало-помалу сменилась уверенностью. Чем же еще, если не любовью к Роберу, можно объяснить странное отношение госпожи к своему мужу? Ее постоянные к нему придирки, раздраженный тон, а то и совсем уже откровенные ссоры, которые мадам даже не пытается скрыть от прислуги.
«А все ее проклятая ненасытность! — с горечью думала Катрин. — Робер в ней души не чаял, а она посмеялась над его любовью — ей понадобился мессир Франсуа. Теперь, видно, наскучил и он — снова подавай Робера». Иногда, сама страшась злобы, которая начинала закипать в ее душе, Катрин старалась уверить себя, что все это ей причудилось (не иначе как ревность мутит рассудок). Не станет же госпожа замышлять измену против собственного мужа! Но убедить себя ей не удавалось — а почему не станет? Кто раз изменил, тому это уже в привычку. И Катрин снова начинала невольно следить, прислушиваться, приглядываться…
Великим постом стало известно, что мессир Франсуа уезжает по делам и вернется не раньше Троицы. Он сообщил эту новость за обедом, госпожи за столом не было: будучи особенно не в духе, она велела подать обед к ней в комнату. По окончании трапезы мессир Гийом предложил зятю сыграть в шахматы, но тот отказался, объяснив, что Аэлис еще ничего не известно о его намерении, — надо пойти с ней поговорить. Катрин, подгоняемая любопытством, заспешила следом за ним. Перед покоем Аэлис, в комнате, где прежде располагалась итальянская стража, она спряталась в глубокой оконной нише и стала ждать. Мессир вышел скоро, бледный, с плотно сжатыми губами, и ушел, хлопнув дверью. Катрин еще немного помедлила, потом решилась: взяв со столика кувшин воды, легонько постучалась и, затаив дыхание, проскользнула в комнату. Мадам стояла у стола, роясь в ларце с драгоценностями; рассеянно подняв голову, она глянула на Катрин, и та испугалась — лицо Аэлис светилось радостью, но радость эта была какой-то недоброй, она освещала ее прекрасное лицо, как озаряет грешников отблеск адских огней на росписи в замковой капелле, что слева от входа (Катрин всегда боялась туда смотреть). Лицо госпожи было страшным, но она не замечала этого, она даже улыбнулась Катрин, испугав этой улыбкой еще больше, и спросила, что ей надо. Катрин пролепетала, что хотела сменить воду, но мадам уже не слушала ее, она снова наклонилась к ларцу и, найдя наконец то, что искала, захлопнула тяжелую островерхую крышку. Держа что-то перед собой, как святыню, она отошла к окну — Катрин, проливая воду на пол (так дрожали руки), осмелилась глянуть еще раз и увидела-таки, разглядела: в руке у госпожи было простое белое колечко, совсем непохожее на тяжелые блистающие перстни с камнями, что украшали ее пальцы. Она долго смотрела на него с той же страшной улыбкой, потом поцеловала и спрятала за вырез лифа. Катрин выскочила из комнаты, притворив за собой дверь, прислонилась к стене и торопливо, в страхе, стала креститься.
Франческо и Джулио уехали на Страстной неделе, взяв с собой всех своих людей; остался один Беппо — на всякий случай, как объяснил Донати, поскольку Беппо знает, как и через кого можно с ним связаться, если понадобится. С отъездом итальянцев в замке стало непривычно тихо.
Аэлис словно ожила. Она не думала о том, что хотя бы из приличия не следовало проявлять свою радость так открыто, — какое ей было дело до окружающих, она засыпала и просыпалась с одной мыслью: скоро теперь, чего бы это ни стоило. Надо только куда-то отправить отца, отец может помешать. Тогда, в августе, она имела глупость сочинить по поводу исчезновения своего оруженосца целую историю: что он-де повел себя неподобающе и она прогнала его вон, запретила и близко появляться у замка; нетрудно представить себе, в какую ярость впал бы мессир Гийом, попадись теперь Робер ему на глаза. Остальные ее не беспокоили — ни Симон, ни капеллан, ни Бертье; что до оставленного в замке Беппо, то, хотя она и догадывалась, что оставлен он для надзора, это ее тоже не беспокоило. Если понадобится, она просто велит его зарезать, но вот как быть с отцом?
Она уже не раз заводила разговор о том, почему бы ему не поехать в Санлис, куда дофин созвал дворян Пикардии, Бовэзи и Артуа, не явившихся в феврале на Генеральные штаты в Париже. Отец соглашался: «Да, конечно, непременно надо поехать», но через день-другой остывал и говорил, что никуда не поедет, обойдутся и без него…
— Я лучше побуду с тобой, — говорил он дочери, не упуская случая взять ее за руку или хотя бы погладить по рукаву, глядя на нее глазами старого, преданного хозяину пса. — Нам ведь все равно придется скоро расстаться, дочка, я потом не прощу себе, что оставлял тебя в одиночестве…
— Помилуйте, мессир отец! — раздраженно говорила она, с трудом вынося эти прикосновения и вообще всю эту непрошеную нежность. — Франсуа ведь сказал, что я никуда не еду! Право, смешно слушать — когда я была ребенком, вы не задумываясь оставляли меня по полгода, а теперь…
— Теперь в округе небезопасно, — объяснял отец, — бриганды нападают даже на предместья Парижа…
— Но ведь не на замки же! Вы хоть раз слышали, чтобы бриганды напали на укрепленный замок? Впрочем, ваше дело, не хватает еще, чтобы вы подумали, будто я зачем-то вас выживаю. Да пожалуйста, сидите на здоровье, коли угодно; могу вооружить вас прялкой, тоже неплохое занятие!
Пикиньи от души смеялся, восхищаясь остроумием дочери, и упорно никуда не уезжал. В Санлис съездил Бертье — просто узнать новости; вернувшись, рассказал, что собрание было немногочисленным, дофин присутствовал, а Наваррец, хотя и обещал быть, не приехал, сославшись на чирьи, и прислал вместо себя мессира Матьё де Пикиньи.
— А этот, значит, был, — сказал удовлетворенно мессир Гийом с таким выражением, словно присутствие брата подтверждало правильность его решения не ехать в Санлис. — И что же там решили?
— Ничего определенного, разговор шел о субсидии на королевский выкуп. На восьмое апреля назначен созыв штатов Шампани, а двадцать пятого собираются Генеральные — в Компьене. Вы не думаете там быть, мессир?
— Увидим-увидим, — беззаботно отвечал Гийом.
Аэлис украдкой метала на него возмущенные взгляды. Вечером она пришла к Бертье и объявила, что отец ее беспокоит.
— Вы должны как-то повлиять на него, мэтр Филипп, — сказала она нежно, с умоляющим выражением. — У меня сердце разрывается, когда я вижу, как ужасно он дряхлеет! Отец всегда был таким деятельным, а теперь вдруг словно его околдовали, я говорю — ему не хватает только прялки… Такая жизнь ему не на пользу, я уверена, постарайтесь убедить его поехать в Компьень, меня он не слушает. Растолкуйте, что мы тут в полной безопасности: остается Симон, охрана хорошо вооружена, чего он боится? Вы согласны, что ему необходимо присутствовать на Генеральных штатах?
— Вне всякого сомнения, — согласился Бертье. — Отношения между регентом и Парижем настолько обострились, что…
— Вот и убедите его поехать, — перебила Аэлис. — Поезжайте с ним вместе и постарайтесь, чтобы он там снова занялся политикой; я чувствую — она ему необходима, он слишком долго жил всем этим, чтобы теперь отказаться вот так, внезапно!
Тщательно, обдумывая каждую мелочь, вынашивала она свой план. Симону, попросив ничего пока не говорить отцу, сказала, что помирилась с Робером — тот якобы писал ей — и что он, может быть, приедет на денек-другой проведать их всех — его, отца Мореля… Готов был и гонец: Жаклин проговорилась однажды, что у одного из охранников есть в Париже зазноба и тот иногда навещает ее тайком, придумав себе какое-нибудь поручение. Аэлис велела его позвать и сказала, что ей все известно о его тайных поездках. Симон здорово его за это взгреет, если только она скажет. Но она может и не сказать и может даже подарить что-нибудь его Луизон, или как там ее зовут, если он сумеет выполнить одно ее поручение. Парень, понятно, заверил, что хоть дюжину, лишь бы не дознался мессир Симон!
Надо было также обезопасить себя на случай, если супругу вдруг взбредет в голову вернуться; Аэлис написала ему, что соскучилась в Моранвиле и уезжает в Париж пожить у своей кузины Мадлен при дворе мадам Жанны Бурбон, скорее всего тоже до Троицы. Письмо она вручила Беппо, сказав, что дело очень важное и надо, чтобы он сам отвез это мессиру Франсуа, — тот, судя по всему, еще во Фландрии. Беппо заверил, что письмо будет доставлено, пусть мадонна не беспокоится, и уехал в ту же ночь.
На следующий день отец сказал ей, что не знает, как быть, — Филипп настойчиво уговаривает его ехать в Компьень. Да он и сам понимает, что совет правильный, но все-таки оставить ее здесь одну…
— Только не думайте обо мне, прошу вас, — возразила Аэлис, не поднимая взгляда на отца, — решайте, как лучше вам! Вообще-то, я тоже думаю, что съездить туда неплохо… И дядюшка Жан, конечно, там будет, а вы так давно не виделись! Вернетесь, все мне расскажете, а я буду терпеливо ждать и радоваться за вас — я ведь знаю, как вам все это интересно. Правда, поезжайте, отец!
Пикиньи, вконец растроганный, положил руку на ее голову:
— Девочка моя, ты сама не знаешь, как радостно мне тебя слушать. Только став матерью, ты поймешь, какое это счастье — видеть в своем ребенке столько любви и заботы… Господь да воздаст тебе сторицей за твое доброе сердце, мой дружочек…
Ей вдруг стало страшно, захотелось броситься к отцу, упросить его не ехать, остаться, но она поднесла руку к шее и коснулась цепочки, на которой носила теперь кольцо Робера, и ее обдало волной обжигающего жара от мысли, что через два или три дня они будут вместе. И она подняла ресницы, глядя на отца безоблачно-лживыми глазами.
— Ну что вы, мессир, — сказала она нежно, — я ведь просто выполняю долг любящей дочери, за что же тут воздавать?
Глава 20
Недаром ему всегда был не по душе этот громадный дворец, он всегда предпочитал ему старый Лувр, где было тесно, и неуютно, и холодно даже в самое жаркое время года, но где обновленные при Филиппе-Августе[77] стены и иные защитные сооружения давали хотя бы некоторую иллюзию безопасности. Дофин перебрался в Лувр сразу после кровавых событий 22 февраля, перетащив с собой и двор герцогини — к великой досаде ее фрейлин, которых вовсе не прельщало прозябание в мрачном охотничьем замке на самой окраине Парижа.
Сама Жанна Бурбон перебралась на новое место без тени неудовольствия. Ей было все равно, где жить, лишь бы ее милый Шарло был рядом и лишь бы ему было хорошо. Она иногда думала, что по ошибке судьбы родилась в семье венценосцев, — так мало чувствовала она себя дофиной, герцогиней Нормандской, будущей королевой; она даже не очень хорошо представляла себе, о чем положено думать и заботиться королеве. Сама она заботилась прежде всего о том, о чем заботится всякая жена, если муж слаб здоровьем: чтобы он не переутомлялся, хорошо спал, не ел и не пил ничего такого, что может нарушить пищеварение, чтобы ему не докучали лишними делами и заботами…
В этот день Карл с утра чувствовал недомогание и спал плохо к тому же, поэтому она строго наказала шамбеллану Жоффруа де Монбару никого к его высочеству не пускать. И что же? Ей скоро сообщили, что приехал монсеньор архиепископ Реймсский, судя по всему — с дурными новостями, и его сразу провели к герцогу. Герцогиня вспыхнула и, подхватив юбки, помчалась искать вероломного шамбеллана.
— Стыдно вам, мессир Жоффруа! — закричала она, ворвавшись в каморку, где тот мирно дремал в кресле после обильного завтрака. — Я ведь просила! Его высочество не спал целую ночь!
В голосе ее зазвенели слезы, и шамбеллан вскочил как ошпаренный, ничего не понимая.
— О чем вы, мадам, побойтесь Бога…
— Это вам следует Его бояться, коль скоро вы так дурно исполняете свои обязанности! Кто пустил к герцогу этого Краона?
— Мадам, — укоризненно возразил де Монбар, — владыка первого диоцеза Франции может пройти даже к королю в любое время дня и ночи…
— Но если я просила не пускать! — Дофина гневно топнула. — Или мои просьбы уже ничего не значат?!
— Мадам, монсеньор архиепископ привез известие столь важное, что нельзя было не доложить его высочеству безотлагательно.
— Что за известие?
— Ваш кузен Карл д’Эврё вернулся в Париж.
Жанна прикусила губу — это и впрямь была новость. И надо же, чтобы именно сегодня…
— Где они?
— Его высочество принял монсеньора в своем скриптории.
— Проводите меня…
Войдя в скрипторий с самым беззаботным видом, Жанна приняла благословение от архиепископа и села поодаль у камина, показывая, что не намерена мешать беседующим.
— О чем это я… — Дофин нахмурился, пытаясь припомнить, на чем прервался разговор с прелатом. — Ах да! Так вы считаете, кузен мог быть… замешан или хотя бы в курсе случившегося?
— Сир, у меня иногда создается впечатление, что ваш кузен замешан в любой пакости, которая случается в королевстве.
— Вы правы… С какой свитой он прибыл?
— С Наваррой не менее трехсот человек, вооруженных до зубов.
— Целая армия, — с завистью сказал дофин. — Будь у меня такая сила…
— Парижан все равно больше, сир. Сейчас надо полагаться не на силу, а…
— На Божий промысел, хотите вы сказать?
— Нет, сир, на хитрость. Что, разумеется, не исключает и Промысла.
— Что вы предлагаете, монсеньор?
— Быть мудрым, как змий, и кротким, как голубь. Впрочем, — архиепископ на миг сложил перед собою ладони и глянул на потолочную балку, — это предлагаю не я. Я могу лишь напомнить этот завет Господа нашего, весьма для вашего высочества своевременный. Самое сейчас опасное — возможность крепкого союза между Наваррой и купеческим старшиной.
— Хотел бы я знать, как тому воспрепятствовать…
— Сир, надо восстановить вашу дружбу с кузеном. Обещайте ему все, чего он ни попросит. А просить он будет, вот увидите. Наварра вечно чего-то если не требует, то выклянчивает. Ни в чем ему не отказывайте сразу — обещайте, торгуйтесь, он это любит, как истый южанин… Главное — протянуть время, запутать его в переговорах, не дать окончательно снюхаться с Марселем. Если бы нашелся способ под каким-то предлогом снова удалить его из Парижа!
Жанна внимательно следила за разговором, глядя на узкую щель окна в нише столь глубокой, что оно почти не давало света в этот хмурый день. Зима казалась затяжной, долгой, уже наступил март, а все так же ненастно и холодно, как будто и нет весны… Она зябко протянула руки к огню, любуясь теплой игрой отблесков на крупной жемчужине своего любимого перстня. Перстень был на первый взгляд не из дорогих, обычный серебряный, довольно простой работы, но вправленная в него жемчужина не имела цены — крупная, слегка розоватая, она всегда казалась живой. Впрочем, говорят, что жемчуг и в самом деле живет и умирает, как и человек… Дофина смотрела на перстень и не могла уловить какой-то странной связи между этой жемчужиной и тем, о чем разговаривали Карл с монсеньором, потом вдруг вспомнила — ну конечно же, тогда в Водрейле…
Кузен д’Эврё сначала предлагал продать ему перстень, или подарить, или выменять на что угодно — разговор шел за столом, было уже немало выпито, и она шутливо стала допытываться, что же он может предложить ей в обмен, потом сказала, что нет, не подарит и не обменяет, потому что это подарок, а с подарками не расстаются. «Боже мой, кузен, — сказала она со смехом, — ну что вам этот перстень, неужели в сокровищнице Наварры нет более красивых?» И тогда он сказал, глядя ей в глаза, за столом, при всех (хотя, возможно, никто и не услышал, было шумно): «Я потому хочу эту жемчужину, кузина, что она похожа на вас…» Она имела неосторожность тоже посмотреть ему в глаза и поняла то, чего до сих пор не понимал ее муж: что спор между двумя Карлами идет не только из-за того, кому быть следующим королем Франции…
«Удалить его из Парижа», — услышала она слова Жана де Краона и не удержалась от греховной мысли: а ведь ей не так уж трудно добиться от Карла д’Эврё чего угодно — не только отъезда. Если бы она была чуть больше дофиной, будущей королевой, и чуть меньше просто женой и матерью… Если бы, если бы! Послушать ее придворных дам, так нет ничего забавнее супружеской измены, тем более если речь идет о таком куртуазном кавалере, как граф д’Эврё. Весь двор от него без ума. Мал ростом, это верно, но, говорят, мужской пылкости это не помеха, скорее напротив…
Жанна покраснела и испуганно оглянулась на мужа, словно тот мог догадаться, о чем она тут… Да еще в присутствии архиепископа!
Помириться с Наваррцем оказалось не так просто, хотя дофин был отменно любезен с кузеном и даже предоставил в его распоряжение Нельский отель,[78] расположенный прямо напротив Лувра на другом берегу реки. Там Злой и поселился, но нанести визит кузену хотя бы из учтивости не захотел, пока не будут оговорены все пункты будущего договора. Торг длился целую неделю; адвокатам и нотариям то и дело приходилось, подбирая полы своих черных роб и проклиная несговорчивость высокородных клиентов, спускаться по скользкой грязи к лодкам перевозчиков и плыть то на левый берег, то на правый. А поскольку паводок в этом году был бурный и берега сильно размыло, то почтенные легисты, собираясь вместе, благоухали болотом, словно шайка охотников за пиявками.
Наконец была достигнута договоренность: Наваррец получал все ранее уступленные ему замки и феоды, а также графства Макон и Бигорру. Вдобавок он еще ухитрился выклянчить себе пожизненную пенсию в десять тысяч турских ливров; на это дофин пошел с легким сердцем, так как выплачивать ее из теперешней пустой казны все равно не собирался. Понимал это и другой Карл, но все равно иметь хотя бы номинальное право на пенсию было приятно. К тому же оно предоставляло лишнюю возможность затеять потом очередную склоку.
Но уступка земель и замков была реальной, тут уж ничего не поделаешь. И все-таки Жан де Краон был доволен — ему удалось достичь своей цели, заинтересовать Наваррца переговорами и хоть на время отвлечь от Марселя. Архиепископ знал, что представители коммуны тоже посещают Нельский отель, не один раз побывал там и сам купеческий старшина, но дело у них, судя по всему, не очень-то ладилось.
Окончательно согласованный, утвержденный обоими канцлерами текст договора был отдан переписчикам, и Карл д’Эврё наконец соблаговолил нанести визит Карлу Валуа. Оба прибыли во дворец в Ситэ, каждый со своей свитой, обнялись и облобызались на глазах у всех. Поговорили еще о делах, причем Наваррец не упустил случая напомнить, что его сестре Бланш так до сих пор и не отдали кастелянство Морэ, унаследованное ею после смерти Филиппа VI восемь лет назад; дофин заверил, что немедленно даст соответствующие указания. Потом перешли в пиршественную залу, и тут Злого ждала приятная неожиданность: место рядом с ним занимала сама дофина, очаровательно любезная и еще более похорошевшая со времени их последнего свидания в Водрейле. Хотя хорошеть ей в эту полную тревог зиму было, казалось бы, не с чего.
Вечером, вернувшись в Нельский отель, Наварра услышал, что его ждет посетитель — мэтр Этьен Марсель. Первым побуждением было велеть вытолкать мерзавца взашей, но это, разумеется, побуждением и осталось; Злой велел проводить наглого торгаша в свои покои, подать вина и сластей.
— Мой любезный друг! — заговорил он, едва войдя в комнату и простирая руки. — Какое счастье увидеть наконец хоть одно честное и открытое лицо после всех этих лживых людишек, что вьются вокруг моего кузена…
— Честь для меня, сир. — Марсель поклонился коротко, с достоинством.
Вместе, рядом, они представляли собой странную пару: маленький, юркий, по-южному смуглый король в затканном серебром фиолетовом бархате и горожанин — хмурый, крепкий, невозмутимый, одетый в темное дорогое сукно, без единого украшения. Полуобняв, Наварра повел его к столу.
— Спешу выразить вам, как представителю парижского магистрата, — продолжал Наварра, собственноручно наливая вино в кубок Марселя, — мое восхищение той решимостью, с какой народ доброго города мм… избавил, да, именно избавил нашего юного повелителя от наиболее зловредных его служителей. Это было печально, но иногда…
Он пожат плечами, развел руки и одновременно изобразил на лице сложную гамму чувств — от сожаления до покорности судьбе.
— Иногда необходимы и такие крайние меры, — негромко сказал Марсель и поднял кубок. — Здоровье вашего величества!
— Спасибо, мой дорогой друг, спасибо! Пью за ваше, и пью с искренней радостью. Сейчас, насколько могу судить, в городе спокойнее?
— Герцог Нормандский понял, мы надеемся, что ему ничего иного не остается, кроме как соблюдать спокойствие. Сами же горожане, сир, никогда не затевали смут первыми. Было, правда, это глупое убийство казначея, но городские власти сумели бы разобраться с этим делом, не оскорбляя святой Церкви.
— Да-да, да! — закивал Наварра. — Тут мой кузен чертовски оплошал. В самом деле, нарушить право убежища!
— Сир, — сказал Марсель, выслушав горячую тираду с тем же невозмутимым видом, — я пришел в столь неурочный час…
— Помилуйте, что вы! Такая для меня радость!
— …только лишь потому, что нам наконец следует поговорить с предельной ясностью. Хотелось бы обсудить с вами, пусть в самых общих чертах, план совместных действий на будущее. Если мы вообще будем действовать совместно.
— Действовать в каком направлении, мой друг?
— Сир, дом Валуа доказал свою неспособность вершить дела королевства. Мы не желаем выкупать из плена короля Иоанна и не хотим, чтобы вместо него нами правил мальчишка…
Наварра слушал с живейшим интересом, прикрыв глаза, словно боясь, что собеседник прочтет в них его мысли. Любопытно, в высшей степени любопытно! Этот Марсель или набитый дурак, или все куда более опасно, чем казалось вначале. Смотрите, как заговорили — «не хотим», «не желаем»… И это говорится королю — и о короле! Сегодня их не устраивают Валуа — да, ничтожества, вырождающийся дом, все верно, но дом-то все равно королевский, ничтожный Иоанн все равно остается коронованным государем, который помазан в Реймсе! Что же, для этого мужлана факт помазания вообще ничего не значит?
— Осмелюсь ли я спросить, ваше величество, — продолжал Марсель, — в какой стадии находятся переговоры с англичанами?
— О, это все так неопределенно. — Наварра повертел поднятой кистью руки. — Я, право, не совсем даже в курсе, этим занимался мой брат Филипп… А почему, собственно, вас это интересует?
— Договоренность с англичанами устранит Валуа с политической арены.
— И кто же должен занять их место?
— Вы, сир, единственный законный претендент.
— Польщен доверием, которое мне оказывают добрые горожане, но…
«Но на кой мне черт корона, полученная из рук черни, — продолжал он мысленно, — корона, которую потом с такой же легкостью и отнимут… стоит лишь не угодить какому-нибудь очередному суконщику или пивовару…»
— …но боюсь, мой дорогой друг, вы несколько упрощаете ситуацию, — докончил он любезно. — Иоанн Валуа пока еще остается коронованным властителем королевства, хотя и заточен.
— Иным коронованным властителям случалось в заточении умирать. Вспомните, сир, судьбу нынешнего английского государя.
— Бог да сохранит моего тестя от чего-либо подобного! — Наварра набожно перекрестился. — Я даже думать не хочу о таком, помилуйте. Суверен в моем маленьком королевстве, я, как граф д’Эврё, остаюсь вассалом нашего доброго государя, а вассалу негоже злоумышлять против сюзерена.
— Сир, — со скукой в голосе сказал Марсель, — будем говорить всерьез. Вы тоже многое упрощаете, говоря о вассальной верности. Сегодня политика опирается на другие понятия.
— Какие же, к примеру?
— Прежде всего польза, сир. Я понимаю ее как благоденствие всех сословий, ибо ни одно не может бесконечно благоденствовать за счет других. Такое благоденствие непрочно! Языческий Рим благоденствовал за счет рабов, пока не пришел Христос и не сказал, что перед Ним все равны, нет ни эллина, ни иудея. Рим пал, когда рабы почувствовали себя равными господам; неужто сей пример никому не в науку?
— Я понимаю вашу точку зрения, мэтр Марсель. Но что дает вам основание думать, что я могу ее разделить? Я ведь, продолжая вашу аналогию, принадлежу скорее к господам, нежели к рабам.
— Господь не обделил вас разумением, сир. Вы не можете не понимать, что выгоднее сословиям жить в мире и взаимной поддержке, нежели одному алчно высасывать соки из другого. Мы отнюдь не посягаем на исконные права и привилегии дворянства, а…
— Как сказать, — перебил Наварра, — как сказать! Права дворянства зиждутся на безусловном и безоговорочном их признании, всех и без исключений. Иначе они рано или поздно превратятся в пустой звук. Однако оставим отвлеченные материи и перейдем к делу. Каких именно действий ждет от меня магистрат доброго города Парижа?
— Для начала, сир, вам следовало бы объявить себя регентом.
— Увы, нет законных оснований. Легисты взвоют! Я не сын короля, а всего лишь его зять.
— Законы пишутся людьми и людьми же переписываются, — возразил Марсель. — Вопрос можно передать крючкотворам, пусть подумают. К вашим услугам, сир, будут лучшие головы парламента и университета, мы уже говорили с мэтром Корби…
— Что ж… — Наварра беззаботно пожал плечами, бросил в рот драже, с хрустом разгрыз и запил глотком вина. — Пусть подумают, я не против!
— Кроме того, сир, магистрат настоятельно просит вас хотя бы до Пасхи не покидать Парижа. Ваше присутствие здесь крайне желательно, как зримое подтверждение тому, что горожане отнюдь не противостоят королевской власти как таковой. Речь идет лишь о наших отношениях с домом Валуа.
— Это могу вам обещать, мой друг! Уезжать я никуда не намерен. Мое место в Париже, и только здесь!
Этьен Марсель встал и коротко, с достоинством, поклонился.
— Благодарю за визит и чрезвычайно поучительную для меня беседу, — любезно сказал король.
Оставшись один, он еще раз тщательно припомнил поучительную беседу и задумался, стоит ли вообще поддерживать этот сброд — горожан во главе с их торгашеским старшиной? Право, вся эта возня начинала ему уже надоедать, тем более что сегодня наметилось нечто куда более интересное. Жанна в разговоре с ним обронила как бы ненароком, что завтра собирается съездить помолиться в аббатство Сен-Жермен; уж не было ли это приглашением свидеться? На скромницу-кузину непохоже, но ведь верно и то, что женщины переменчивы. Может, этот длинноносый сморчок так ее допек своими болячками, что она уже и не прочь порезвиться на стороне? Ха, а почему бы и нет…
Эта мысль разожгла в воображении Карла такие необузданные и соблазнительные фантазии, что он готов был хоть сейчас отправиться в Лувр — проверить свою догадку. Но Лувр, увы, слишком хорошо охраняется. Побегав по комнате и допив вино, король вызвал своего камерария.
— Завтра с утра отправишься к Гран-Шатле, — сказал он, — и будешь там караулить ее высочество. Как только проедут, узнай у охраны, куда путь держат, и немедленно дай мне знать…
Утром он еще сидел в кресле брадобрея, когда ему доложили, что мадам дофина со свитой проследовала к Сен-Жермен-де-Пре. Спешить было некуда — свиданию удобнее было состояться на обратном пути. Одевшись особенно тщательно, Карл в сопровождении одного лишь оруженосца отправился к аббатству. Было солнечное весеннее утро, в небе заливался жаворонок, деревья уже стояли в зеленой дымке молодой листвы. Наварра решил дожидаться дофины на «Лугу клириков», отсюда были хорошо видны ворота аббатства.
Луг в этот час был пустынен, лишь всадник на вороном коне ездил по кругу, то рысью, то бросая в галоп. Наваррец, сам хороший наездник и любитель лошадей, отметил благородные стати вороного и ловкость, с какой ездок им управлял, выказывая, впрочем, больше отваги, нежели опыта. Чтобы скоротать ожидание, он подъехал ближе, дал всаднику несколько советов; тот действительно оказался мальчишкой — из городских ополченцев, судя по красно-синему табарду.[79]
— Это, как я понимаю, конь твоего капитана? — спросил Наварра. — Отличное животное, клянусь Марсом, но на нем надо чаще выезжать, он застоялся.
Молодой наездник спрыгнул на землю и снял шляпу.
— Это мой конь, сир, — ответил он почтительным тоном. — Но я действительно капитан одного из отрядов нашего квартала.
— Молодец, — похвалил Наварра, — так молод, и уже капитан. Ты знаешь меня?
— Сир, я видел вас на этом самом месте прошлой осенью, на святого Андрея.
— Ах так. Не хочешь ли пойти ко мне на службу?
— Но, сир, я ведь уже служу! — удивленно ответил молодой капитан, ткнув пальцем в вышитый на табарде герб Парижа.
Наварра усмехнулся — желторотый дурень и впрямь, видно, не представляет себе, с какой легкостью можно менять тех, кому служишь.
— Ну что ж! Успехов тебе, друг. — Король достал золотой и бросил капитану.
Тот ловко поймал блеснувшую монету и почтительно поклонился. Карл отъехал — в воротах аббатства уже показались первые всадники охраны герцогини Нормандской.
— Милый кузен, — приветливо сказала та, когда Наваррец, выждав некоторое время, подъехал к ее носилкам, — какая счастливая случайность привела вас сюда в этот час?
— Желание видеть вас, кузина, что же еще! Вы ведь сказали вчера, что будете здесь.
— Ах, разве? — Дофина опустила ресницы. — Право, не помню… Но я рада вас видеть, кузен, не откажите проводить нас хотя бы до моста.
— Я готов проводить вас до ворот Лувра и был бы рад не разлучаться и там.
— О, тогда ловлю вас на слове, кузен! Побудьте с нами, супруг мой проведет весь день в Счетной палате, а вы не представляете, как мне уже наскучил этот Лувр…
Наварра воспрянул духом — положительно с Жанной творится что-то необычное. Ах, плутовка! Ну, в этой игре он не новичок! Оттеснив конем шамбеллана, Карл д’Эврё ехал теперь совсем рядом с подвешенными меж двух мулов носилками, подбоченясь и бросая на дофину победительные взоры. Когда передний мул споткнулся, резко качнув носилки, Карл схватился за столбик балдахина, чтобы их удержать, и при этом как бы невзначай коснулся ее плеча. Жанна, мило покраснев и не поднимая глаз, пролепетала какие-то слова благодарности — она так испугалась, этот несносный мул едва не уронил, не зря она всегда боится носилок… «Любопытно, — подумал ликующий Наваррец, — не почесывается ли уже лоб у длинноносого, покуда он там корпит над своими счетами?»
В Лувре он рассчитывал сразу уединиться с кузиной под каким-нибудь предлогом, но не удалось — фрейлины обрадовали известием, что пришел трувер, за которым было послано вчера, и теперь дожидается явить перед герцогиней свое искусство. Карл мысленно послал его к черту, но Жанна захлопала в ладони, как девчонка.
— Идемте скорее, кузен, — весело заявила она Наварре, — мне говорили, этот Николле чудо как хорош!
Знаменитый Николле оказался долговязым малым, одетым не без щегольства — в длинноносых польских башмаках, коротком, сборчатом в талии камзольчике и «разделенных» — одна штанина алая, а другая зеленая — штанах. Под мышкой он держал виолу. Войдя в зал, трувер снял украшенную пером шапочку и, тряхнув волосами, отвесил низкий поклон, сделав при этом широкий жест, как бы показывая, что приветствует не только герцогиню и сидящего рядом с ней Карла Наваррского, но и всех рассевшихся полукругом фрейлин.
— Что угодно услышать прекрасным дамам? — спросил он. — Про подвиги героев старины — сиров Ролана, Гийома Коротконосого, Жирара из Русильона? Или, может быть, про любовь?
— Спойте нам про любовь, любезный друг, — сказала дофина. — Война слишком давно терзает наше королевство, чтобы песни о подвигах могли доставлять удовольствие.
Фрейлины восторженным щебетом и кудахтаньем одобрили ее выбор. Николле поклонился еще раз и, сев на приготовленный для него в центре зала низкий табурет, стал задумчиво трогать струны и водить по ним смычком, оперев виолу о поднятое левое колено. «Боюсь, черт побери, это надолго», — подумал Карл и покосился на Жанну. Та сидела, не поднимая глаз, склонив над пяльцами свое прелестное лицо, матово светящееся, как светится жемчуг. Из какой только преисподней выполз этот проклятый жонглер?
Струны вдруг сладостно запели в полный голос, Николле подпевал им сначала негромко, потом набирая силу:
Неумолимый сборщик дани, Виновник всех моих страданий, Навязывает Купидон Жестокий, вечный свой закон Беспечным юношам и девам, И королям и королевам…«Э, да он не такой дурак, — подумал Карл, — сразу смекает, что к чему. Послушайте, послушайте, милая кузина, вам это полезно!» Он снова скосил глаза — кузина делала вид, что продолжает прилежно вышивать, но иголка ее двигалась невпопад, а щеки — Карл готов был в этом поклясться — слегка порозовели. Когда песня окончилась и фрейлины стали дружно рукоплескать, он сорвал с шеи цепочку и бросил певцу.
— Браво, друг трувер, — сказал он, — голос у тебя и впрямь отменный. А ну-ка, еще что-нибудь в таком же роде, да побольше страсти! Тебе надо бы послушать наших провансальских трубадуров.
— Сир, — отвечал Николле, — я не раз слушал моих искуснейших собратьев из Лангедока и могу лишь сказать, что между их исполнением и нашим та же разница, как между любовью на севере и на юге. В полуденных краях страсть пылает жарче, но и сгорает быстрее, тогда как мы здесь любим дольше и постояннее… Предоставляю каждой из прелестных дам решить, что ей более по душе!
Наварра рассмеялся — бродяга и в самом деле не лезет за словом в карман.
— А вы какого мнения на сей счет, кузина? — спросил он.
— Поистине, кузен, вы задаете мне самый трудный вопрос, какой можно задать женщине…
— Положим, не я задал, а этот плут Николле.
— Но мне показалось, что вы повторили его от своего уже имени, разве не так?
Трувер пел теперь о прекрасной пантере, которая столь хороша, что звери всего леса ходят за ней толпой, не в силах налюбоваться, и сравнивал с ней госпожу своего сердца:
Хожу за ней, как ходят звери, Сопутствующие пантере, Влечет возлюбленная, манит, Дыханьем сладостным дурманит…Дамы, придя в полный восторг, требовали все новых песен, пока Николле не взмолился о пощаде, сказав, что воздух в зале слишком сырой и холодный и он опасается за свой голос. Его отпустили отдохнуть, наказав непременно быть к ужину с новым запасом баллад и канцон. Фрейлины частью разошлись, частью занялись своими делами; Карл, оставшись с дофиной в относительном уединении, решил, что хватит валять дурака.
— Я не пойму, кузина, чего в женщинах больше, — заявил он, — трусости или лицемерия. Вы вот слушаете такие песни и млеете от переживаний, но, если приходит настоящий, живой мужчина и предлагает вам любовь на деле, а не на словах, вы сразу прячетесь в скорлупу своей стыдливости или не знаю, чего там еще, словно улитка в раковину!
— Неужели вам больше нравятся женщины, которые стыдливостью не обладают?
— Да ведь всему своя мера, черт побери! Я же не говорю, чтобы благородная дама вела себя подобно шлюхе, но и строить из себя чертову монашенку…
— Кузен, вы забываетесь, — сказала Жанна скорее лукаво, чем строго.
— Да как же с вами не забудешься, гром небесный!
— Право, не понимаю, чего вы от меня хотите.
— Вы что, до сих пор не поняли, что я вас люблю?
— Ну и прекрасно. Спаситель завещал нам любить всех ближних. Кроме того, я невестка вашего сюзерена, и если с ним случится что дурное, чего Господь не допустит, — она сложила ладони и глянула на потолок, — то я стану вашей королевой; так что любить и почитать меня — ваш прямой вассальный долг.
— Жанна, вы издеваетесь надо мной. Неужели я это заслужил?
— А чем вы заслужили иное? Любезный мой друг, женщинам так часто приходится выслушивать пустые заверения в любви, что не удивляйтесь их осторожности. Если бы мы верили каждому слову…
— Каким же делом можно более убедительно подкрепить уверение в любви, если не самой любовью?
Дофина рассмеялась:
— Вы становитесь софистом, кузен! Впрочем, как и все нынешние мужчины; пожалуй, я зря не велела труверу спеть о подвигах знаменитых мужей прошлого. Тогда рыцари не задавали вопроса «чем подкрепить», а сами отправлялись на поиски таких дел. Они скитались, воевали с неверными, убивали драконов…
— Откуда я вам, к черту, возьму дракона?
— Да вы не то что убить дракона, вы даже малейшую мою просьбу выполнить не захотите!
— А о чем это, интересно, вы меня просили?
— Пока ни о чем. Но вот представьте, я попросила бы… — Дофина прикусила нижнюю губу и задумалась, потом прищелкнула пальцами. — Ну, вот хотя бы я захотела подвергнуть вас испытанию разлукой — дамы в старину делали так со своими милыми. Если бы я сказала: кузен, уезжайте из Парижа и останьтесь в своих землях так долго, как крепка ваша… ваше чувство, в котором вы меня заверяете. Вы ведь не захотите! Скажете: нельзя, это вопрос политики, сразу придумаете тысячу всяких доводов. А прежний рыцарь — настоящий, из тех, что любили не на словах, — он тут же сел бы на коня и отправился странствовать.
Теперь уже Наварра сам не понимал, что происходит. Скорее всего, это была попытка обвести его вокруг пальца, и попытка не очень даже хитрая, едва ли даже внушенная длинноносым, тот все же действовал бы тоньше; нет, сама наивность приема изобличала авторство Жанны, но сейчас ему вдруг стало все равно. К черту этого Марселя с его бакалейщиками, к черту весь добрый город Париж, вообразивший его «своим» королем! А что, если, выполнив просьбу Жанны, он и в самом деле получит когда-нибудь шанс увидеть своего кузена рогатым, как олень-трехлеток?
— Хорошо, ловлю вас на слове! — воскликнул он беспечно. — Могу уехать хоть завтра! Меня ведь, в сущности, ничто здесь не держало, кроме этих переговоров, которые, к счастью, наконец закончились…
— Вот теперь, кузен, я слышу речь, достойную рыцаря, — не сразу отозвалась Жанна. — Вы меня не обманываете?
— Нет, клянусь честью. Зачем мне вас обманывать? Проще было бы промолчать.
Жанна, помедлив, сняла с пальца жемчужный перстень:
— Помните? Когда-то вы просили у меня эту жемчужину. Возьмите ее, и да благословит вас Бог, Карл д’Эврё…
Глава 21
Марсель был в ярости, метался и проклинал всех и вся — вероломного Наваррца, своих советников, рекомендовавших ему строить политику на союзе с предателем, и прежде всего самого себя за то, что имел глупость этому предателю поверить. Ведь прошла какая-то неделя после свидания в Нельском отеле, когда Наварра заверил его, что никуда не уедет из Парижа! И теперь это исчадие ада исчезло, не повидавшись с ним, Марселем, даже не потрудившись хотя бы для приличия передать для него клочок бумаги с каким-то объяснением причин столь неожиданного отъезда. Говорили, правда, будто он кому-то сказал, что едет в Мант собирать армию, которую должен снарядить по договоренности с дофином. Выходит, ту договоренность он выполняет, а эта, с парижским магистратом, для него — пустой звук?
А на другой день, 14 марта, дофин обнародовал указ о принятии регентства. Глашатаи огласили указ на Рынке, на Гревской площади и с паперти собора Богоматери, срывая голос, выкрикивали новый титул герцога Нормандского по-французски и по-латыни — к сведению клириков и нотариев, дабы те знали отныне точную формулу.
— Карл, старший сын короля Франции и регент королевства! Carolus primogenitus regis Francorum et regnum regens!
Этому Марсель воспрепятствовать не мог, не вступая в открытый конфликт с королевской властью, а такой конфликт был ни к чему — формально ведь горожане протестовали лишь против того, что власть эта плохо выполняет свои обязанности перед страной, не умея защитить ее от врагов. Но решено было следить за каждым шагом регента и осторожности ради не выпускать его пока из Парижа.
Скоро в Сен-Клу был схвачен некий оруженосец, замысливший то ли похитить дофина, то ли помочь ему бежать. Разбираться было некогда, и бедняге без долгого суда отрубили голову — на всякий случай и в назидание прочим.
И все же регент ускользнул. Объявил внезапно, что отправляется на ассамблею провинциальных штатов в Санлис, и, воспользовавшись тем, что стража у ворот Сен-Дени не имела точных инструкций (или, что более правдоподобно, была подкуплена), благополучно проследовал через заставу со своей свитой. После чего, рассказывают, Карл обернулся, стоя на стременах, погрозил кулаком в сторону города и крикнул, что ноги его больше здесь не будет, пока жив мерзавец Марсель.
Парижанами начало овладевать беспокойство. Поползли слухи, один другого тревожнее. Только сейчас вдруг вспомнили, что несколькими днями раньше под каким-то предлогом отбыл из Парижа весь двор герцогини Нормандской, — если бы не это, жену и дочь регента можно было бы держать теперь, как заложниц. А из Санлиса пришло известие, что депутаты Артуа, Пикардии, Бовэзи и Верхней Нормандии высказались в поддержку регента и объявили парижан мятежниками.
Ничего утешительного не привезли представители Парижа и из Прованса, где собирались депутаты Шампани. Слово на ассамблее парижанам предоставили без возражений, выслушали, но потом встал граф де Брен и спросил у регента, правда ли, что убитый в феврале маршал Шампани был злым изменником, как то утверждает мэтр Корби?
— С ним вместе был предан смерти и маршал Нормандии, — добавил граф, — но о нем пусть спросят нормандцы. Мы же хотим знать, было ли справедливым убиение мессира де Конфлана?
— Бог свидетель, — отвечал регент, — что оба маршала, равно как и мэтр д’Асси, были верными служителями короны и стали жертвами злобной клеветы и наветов.
И тогда граф схватился за меч и, на треть обнажив клинок, с лязгом бросил его обратно в ножны.
— Кровь Господня, сир, — сказал он, — доколе же будет оставаться безнаказанным любое злодейство, совершаемое против ваших слуг!
Оба парижских представителя уже не чаяли унести в целости свои головы, но их отпустили с миром, хотя и сопровождали угрозами и всяческими поношениями. Дофин же, ободренный поддержкой, прямо из Прованса отправился в крепость Монтеро, расположенную на слиянии Сены с Ионной выше Парижа, и объявил коменданту, что берет крепость под свою руку; одновременно он послал графа Жуаньи захватить крепость Мо, которая перекрывала второй водный путь к мятежному городу.
Парижские рынки начали пустеть. Город получал съестной припас главным образом по воде, из Верхней Сены и Марны; с севера его окружали враждебные провинции, на сухопутных дорогах юга бесчинствовали рутьеры, не пропуская ни одного обоза. Восемнадцатого апреля Марсель вынужден был обратиться к регенту с довольно странным письмом — продиктованное отчаянием, оно в то же время удивляло своим резким, вызывающим тоном. «Сир, — писал Марсель, — ваш народ в Париже весьма ропщет против вас и вашего управления… недовольство народа достигло предела, ибо ничто не сделано для его защиты, но все приведено в действие, чтобы предать народ голодной смерти…» Заканчивалось письмо то ли требованием, то ли просьбой вернуться в Париж, «дабы взять добрых горожан под защиту и покровительство».
Регент не ответил. В конце апреля под Клермоном состоялась наконец его встреча с Наваррцем. Оба Карла, каждый со своей свитой, съехались в поле — как бы случайно, на прогулке. Благо, день был солнечный, совсем уже по-летнему теплый. Кузены обменялись обычными в таких случаях любезностями, поговорили о положении в Париже. Регент сказал, что его звали обратно, но он и думать не хочет о возвращении — хватит с него взбесившихся суконщиков и бакалейщиков.
— Надеюсь, кузен, вы не соблазнитесь, если они станут звать вас? — спросил он Наваррца.
— Помилуй бог, ни за все золото Аравии! — отвечал тот. — Парижане обнаглели, их следует проучить. Вы правильно сделали, что захватили крепости в верховьях; кстати, Мо я хотел забрать сам, ваш Жуаньи меня опередил.
— Да, и самое забавное — этот плут Сула сначала принял его копейщиков за ваших и радушно их приветствовал. Убедившись в ошибке, он велел было запереть ворота, но не успел — те уже обезоружили стражу. А вот теперь я его за это оштрафую, пускай-ка раскошеливается. В нашем положении и лишняя сотня ливров не помешает!
Кузены посмеялись над злополучным мэром, не сумевшим вовремя распознать, кто есть кто; потом Наварра поинтересовался, как себя чувствует мадам Жанна.
— Благодарю, она теперь там, в Мо, со своим двором. Жалуется, что скучно сидеть на острове, да еще с таким неблагозвучным названием, как «Рыночный», но что поделаешь. Там зато дамы в безопасности. Как вы считаете, разумно ли созывать майские Генеральные штаты в Париже? Может…
— Ни в коем случае! Соберем их где-нибудь здесь — в Бовэ, в Суассонэ…
— Нет-нет, подальше от Лаонского диоцеза, там все отравлено ядовитым дыханием монсеньора Ле Кока. Можно в Компьене, если вы не против.
— Сир мой кузен, — любезно ответил Наваррец, — вы теперь регент королевства, вам и решать…
Оставив свиту позади, они съехали с дороги прямо на луг, пустив коней шагом. В свежей траве ярко желтели первые одуванчики, где-то высоко над головой заливался жаворонок; Карл Валуа, запрокинув голову и заслонясь от солнца ладонью, пытался разглядеть звонкоголосого певца в этой бездонной синеве. «Экий все же урод», — подумал Наварра, искоса окинув его внимательным, злым взглядом. С огорчением вынужден он был признать, что длинноносый выглядел не таким рохлей, как было осенью, уверенности ему явно прибавилось, да и посвежел на воздухе, окреп. В Лувре своем сидел, как полудохлая мышь, а тут смотрите-ка. Ну, ничего, ничего! Наварра подавил усмешку и сквозь перчатку нащупал на пальце перстень с жемчужиной. Всему свое время, милейший кузен.
Когда стало известно, что Генеральные штаты соберутся в Компьене — городе, известном своими симпатиями к регенту, — в парижском магистрате разразилась буря. Сторонники Жана Майяра заявили, что Марсель своими безответственными действиями добился только того, что Париж растерял всех сторонников. Что толку теперь рассылать грамоты фландрским городам, писать эшевенам Ипра и Гента? От них помощи все равно не будет. Брабант далеко, зато совсем рядом Нормандия и Шампань.
— Это капкан! — кричал Майяр. — Париж, как орех в щипцах, зажат между двумя враждебными провинциями, которые никогда не простят нам убийства своих маршалов! А я ведь тогда говорил Этьену — одумайся, пока не поздно, не дело ты затеваешь! Но он не слушал, куда там, он вообразил себя этаким народным вождем, трибуном вроде Артевельде или Риенцо! А теперь нам расплачиваться за просчеты этого безумца?!
— Измена!! — ревели сторонники Марселя. — Долой его, он продался регенту!!
— Я с регентом дел не имел! — отбивался Майяр. — А вот о чем Этьен всю зиму толковал с Наваррцем — это еще неведомо! За неделю до его отъезда он нас заверял, что тот остается здесь! И в деле с маршалами доподлинно ведь известно, что Злой посоветовал «быть решительнее»…
— Это известно всем. Марсель и не скрывал!
— Но неизвестно, каким количеством золота был подкреплен сей мудрый совет! Так кто же кому продался, я вас спрашиваю!
Шарлю Туссаку, который председательствовал на заседании, едва удалось угомонить разбушевавшиеся стороны. Жосеран де Макон поставил вопрос о посылке в Компьень представителей Парижа — после долгих препирательств решили послать тех же двоих, что уже ездили в Прованс, присовокупив к ним в качестве главы делегации Робера Ле Кока. Епископ, архидиакон и доктор — делегация выглядела внушительно, но худшего выбора сделать было нельзя.
— …не понимаю, отказываюсь понимать, — горячился Пьер Жиль, рассказывая вечером Роберу об этом заседании. — На них словно затмение нашло!
— Доктор Корби и архидиакон не справились в Провансе с более легкой миссией, Компьень им вовсе не по зубам, а монсеньора регент ненавидит как чуму, его приезд будет воспринят как нарочитое оскорбление…
— Зачем же тогда послали?
— Вот и я хотел бы знать — зачем? — Бегая по комнате, Жиль остановился перед Робером и потряс воздетыми руками — он был горяч, как все южане. Роберу сразу вспомнились итальянцы в Моранвиле, те тоже так вот горячились и размахивали руками при разговоре. — Зачем?! Не знаю! — Жиль присел к столу, налил себе вина и с жадностью выпил. — Слушай, Робер, — сказал он решительно, помолчав и побарабанив пальцами. — Тебе надо уезжать из Парижа. Ты, помнится, говорил, что Наваррец предлагал тебе службу?
— Не знаю… — Робер пожал плечами. — Он тогда сказал, может, и не всерьез. А почему мне надо уезжать? Вы мною недовольны?
— Э, не говори глупостей! Ты хороший парень, я ни разу не пожалел, что взял тебя. Но видишь сам, что делается! Париж брошен всеми: Наваррец изменил, провинции нам враждебны, о примирении с регентом нечего и думать. Кто тут виноват — вопрос другой, но я не хочу его касаться. Нам остается расхлебывать кашу, которую мы сами заварили, и, видит бог, мы ее расхлебаем. А ты тут ни при чем, ты человек случайный, поэтому лучше тебе уехать отсюда подобру-поздорову, пока не поздно. На службе у Наварры ты получишь все, чего хотел. По природе своей он предатель хуже Иуды, но это уж его дело, а служат ему всякие люди, и к солдатам своим он щедр, это говорят все. Так что не упускай случая — с Наваррой ты увидишь мир, объездишь всю Францию, побываешь в наших краях на юге. А я тебя на прощание не обижу — платил мало, мы ведь, купцы, не можем без того, чтобы кого-то не обсчитать, верно? — но к Наварре придешь не бедняком. Будет на что и запасного коня купить, и слугу нанять, и даже мула для него присмотреть…
— Вот сейчас вы меня и впрямь обижаете, сударь, — сказал Робер. — Я присягнул магистрату этого города служить ему оружно, что бы ни случилось. Но ежели вы действительно думаете, что я могу свою присягу порушить, то, может, нам и впрямь лучше расстаться. Обойдусь и без вашего капитанства, лучше быть простым солдатом в любом другом отряде, чем командиром, которому не верят.
Жиль снова вскочил, замахал руками, забегал по комнате:
— Что значит «не верят»? Кто это тебе не верит? Если бы я не верил, дурень, то не держал бы у себя, я не держу в своем доме тех, кому не доверяю! Ну хорошо, хорошо! Решено — ты остаешься! В конце концов, может быть, все еще и уладится как-то.
Отъезд мессира Гийома был назначен на Петров день, приходившийся в этом году на конец апреля, и Аэлис до самого последнего часа не находила себе места от страха и тревоги — а вдруг опять передумает? Но нет, сборы шли своим чередом: ковались лошади, было отобрано и проветрено парадное платье (благо мессир мог теперь блеснуть при самом пышном дворе, столько у него было кафтанов, шляп бархатных и шелковых, плащей, отороченных дорогими мехами), увязывались дорожные тюки, Симон лично проверил каждый ремешок и каждую железку у солдат охраны, отобранных сопровождать мессира. Капеллан уложил в дорожный короб достаточно мазей, порошков и сухих трав, чтобы в случае нужды вылечить ораву недужных. В кладовых и на поварне отливались во вьючные бочонки разные сорта вин, от самого простого для употребления челяди до самых изысканных, старых, на случай если мессиру придется принимать гостей, в кожаные мешки укладывалось жаренное впрок мясо и печеный хлеб, ибо не всегда можно было теперь раздобыть в пути достаточное количество припасов для такого отряда. Аэлис хлопотала, как положено заботливой хозяйке и любящей дочери, и все время ловила себя на мысли — ну скорее бы уж, скорей бы они все уехали…
Наконец 29-го утром, отслушав мессу, путники отбыли. Вернувшись в свою комнату, Аэлис достала спрятанное на груди колечко и, прижав его к губам, закрыла глаза. Сердце колотилось, ее бросало то в жар, то в холод, на какое-то мгновение она даже испугалась — такого не было с ней даже накануне свадьбы, что же это за наваждение? Но это наваждение она не променяла бы ни на что во вселенной, сейчас вселенная сошлась для нее в этом ожидании, в ослепительной, сжигающей все остальное уверенности, что завтра она увидит Робера и они снова будут вместе, вместе, вместе…
Осенью, после того случая, когда она оступилась на лестнице Фредегонды, Франческо приказал заколотить вход в проклятую башню, но замковый столяр, то ли не поняв распоряжения, то ли просто решив проявить добросовестность в работе, навесил там дубовую дверь с замком; месяц назад, когда Аэлис начала обдумывать свой план, она велела Жаклин под каким-то предлогом взять у него ключ от этого замка. Теперь ключ был надежно спрятан, а петли и замок обильно политы маслом. Самым удобным было то, что дверь можно было теперь запирать как снаружи, так и изнутри.
Испугавшись вдруг, не пропал ли ключ, Аэлис бросилась к своему тайнику в оконной нише, просунула руку за отошедшую деревянную панель и с облегчением перевела дыхание — ключ был на месте. На всякий случай она все же достала его и опустила в подвешенный к поясу мешочек — теперь можно было не опасаться, что кто-то случайно увидит, спросит, что это за ключ и зачем он ей. Теперь она вообще не опасалась ничего. Вернись сейчас муж, она и то не отступила бы от задуманного — просто пришлось бы изменить кое-что.
После обеда она вышла в сад. Перед входом в башню густо разрослась сирень, дверь была из окон не видна. А впрочем, хотя бы и увидели! Она вложила ключ в скважину, нажала, тот повернулся с легким звоном, дверь отошла без звука. Аэлис вынула ключ, проскользнула внутрь и заперлась. Здесь было тихо, холодно, пахло сыростью и каким-то тленом. Ей вдруг стало жутко. «Это только здесь, внизу, — сказала она себе, — там, на площадке, светло, жарко, солнечно». А ночью там тишина и звезды. Обломки кинжала она убрала оттуда уже давно, как только сошел снег, убрала и выбросила в ров. Была у нее мысль отдать их кузнецу — сломанные клинки, говорят, сваривают, но нет, зачем. Робер все равно не взял бы его…
Она вышла из башни, тщательно заперев за собой, и на хозяйственном дворе велела позвать Жаклин.
— Этот… как его, Тома? Пришли его ко мне, — приказала она, избегая смотреть на камеристку.
— Ах что вы, госпожа, еще рано! — возразила та развязным тоном соучастницы, понимающей свою незаменимость. — Потерпите уж до вечера, ничего с вами не…
Аэлис с наслаждением залепила ей пощечину.
— Хватит? — спросила она спокойно. — Или, может, еще и розог захотела? Пусть придет ко мне в комнату, я буду там.
Робер был уже в постели, когда ему сказали, что приехал человек по срочному делу и спрашивает его. Он оделся, сошел вниз. На улице, перед лавкой, держа в поводу лошадь, стоял парень, в котором он не сразу узнал арбалетчика Тома из моранвильской охраны.
— Ты? — спросил он недоверчиво и с тревогой. — Здорово! Кто тебя послал — Симон? Что случилось?
— Да ничего не случилось, сударь, — ответил Тома и полез за пазуху. — В замке все слава богу, а послал меня не мессир Симон, а госпожа.
— Что? — Роберу показалось, что на него пахнуло жаром, как из раскаленной печи. — Кто послал? Госпожа, ты говоришь?
Потом ему стало зябко, словно на ледяном сквозняке, а Тома достал из-за пазухи какую-то тряпицу и протянул ему:
— Это вот госпожа велела отдать вам, только сказала, чтобы в собственные руки, никому больше…
Медленно, уже догадываясь, зная, что найдет, Робер разворачивал шелковый мешочек на шнурке, который столько раз видел на поясе Аэлис, и его продолжало бросать изо льда в пламя, из жара в ледяной озноб.
— Что-нибудь она велела еще сказать? — спросил он, до боли стиснув в кулаке тоненькое колечко.
— Госпожа так сказала: если, мол, вы спросите, не велела ли чего передать на словах, то чтобы я сказал — «завтра ночью». А если не спросите, то и не говорить.
— Хорошо, Тома. Ты прямо оттуда?
— Прямиком, сударь.
— Сейчас тебя устроят на ночлег, идем.
— Благодарствую, но не надо, мне тут есть где… И лошадку пристроят. Так что я пойду тогда, доброй ночи…
Медленно, как старик, останавливаясь на каждой ступеньке, Робер поднялся к себе и сел на постель, глядя в раскрытое окошко, где в треугольнике прозрачной синевы между двумя соседними крышами уже зажглось несколько звезд. Как быть? Она предала его, теперь предает мужа… а впрочем, что он знает о ней, теперешней? Как можно судить, не зная? А он поклялся. «Ни камень, — сказал он, — ни железо не помешают мне прийти на твой зов. Что бы ни случилось, лишь бы я оказался нужен. Вот сейчас ты нужен. Но нужен ли? Или это просто прихоть, очередная блажь? Муж, наверное, уехал… он ведь много ездит, тогда вот был здесь в Париже, а сейчас мог уехать еще дальше…» Он пожалел, что не расспросил подробнее Тома. А впрочем, что он мог спросить — как, мол, живет госпожа со своим мужем? Но что делать? Что делать…
Утром он, осунувшийся и с покрасневшими от бессонной ночи глазами, сказал Жилю, что просит отпустить его на день-другой — съездить домой.
— Да, я слышал, вчера ночью тебя кто-то спрашивал на улице. Что-нибудь случилось?
— Да нет, дела там… — уклончиво отозвался Робер.
— Поезжай, ясно. Урбана возьми с собой, пусть выберет себе лошадь у меня на конюшне.
— Не нужен мне никакой Урбан, что вы!
— Не спорь, дороги сейчас небезопасные. Прямо сейчас отправитесь?
— Нет, попозже… Мне чтобы вечером там быть. После обеда тронемся.
— Понятно! — Жиль заговорщицки подмигнул и потрепал его по плечу. — Я ведь не зря посоветовал тебе не ехать без провожатого. С этими дамами, видишь ли, никогда не знаешь, как оно обернется; лишний клинок не помешает, а еще удобнее, когда есть приятель, который может и постеречь, и знак, в случае чего, подать…
— Да что вы такое говорите, — запротестовал Робер, чувствуя, что краснеет. — Я же вам сказал — у меня там дела!
— А я и не спорю! Только не спорь и ты, я тоже был молод, и у меня тоже случались дела, для которых надо было дождаться вечера…
Глава 22
Выехав из Парижа по большой королевской дороге на Руан, Робер благополучно миновал Понтуаз, где тоже пригодился пропуск, выписанный Пьером Жилем (понтуазцы еще держали сторону парижан против регента), и свернул вправо, на Шомон. Здесь дорога сделалась вдвое уже, в ширину не превышая пяти туазов, но была довольно безлюдной, так что можно было бы ехать быстрее, если бы не Урбан на своем перекормленном гнедом. Робер уже раскаивался, что связался с такой обузой. Глориан нес его легко, послушно переходя с рыси на галоп, с галопа обратно на шаг, и не обнаруживал никаких признаков усталости.
От Парижа до Моранвиля, через Понтуаз и Шомон, считалось около девяти лье. Выехали в полдень, значит, на месте будут задолго до полуночи — часа за три-четыре, как подсчитал Робер, в последнее время привыкший определять время по горологу. Разобраться в этом ему помог мэтр Пьер, сказавший, что колдовства там нет, а есть просто некая механика, составленная из большого количества зубчатых колес вроде тех, что передают вращение от мельничных крыльев или колеса к поставу с жерновами. От них-то и поворачивается стрелка горолога, но так медленно, что уследить ее движение глазом нельзя…
Робер представлял себе эти зацепленные одно за другое колеса, дивился хитроумию мудреца, который смог такое измыслить, и это помогало не думать о том, что ждет его там, дома. Ждать могло что угодно, но не было никакого смысла пытаться это предугадать. Пустив Глориана шагом, он прикрывал глаза и, расслабившись, отдыхал сам, даже задремывал по временам и нетерпеливо ждал, когда сможет опять перейти на рысь, а потом бросить коня в галоп и, стоя в стременах, снова под грохот копыт лететь сквозь этот солнечный и зеленый ветер — все дальше и дальше по ровной, как натянутый шнур, дороге.
В начале пути солнце грело ему левую щеку и тень бежала впереди справа, потом понемногу стала отставать, спряталась сзади, а солнце начало заглядывать в лицо, слепить глаза, все ниже и ниже клонясь над лесом. И всякий раз, когда Робер взглядывал на него, щурясь и прикидывая оставшуюся еще высоту, сердце у него замирало от невыразимого предчувствия.
Тени были уже длинными, когда всадники миновали каменный крест, где жизорскую дорогу пересекала другая, из Мерю в Маньи-ан-Вексен. Оставалась еще треть пути. Робер спрыгнул на землю размять ноги, прошелся взад-вперед, с наслаждением бросился на траву и закрыл глаза, отдаваясь тишине и покою благоуханного весеннего вечера. Урбан, кряхтя и жалуясь на судьбу, улегся было рядом, но Робер уже вскочил и стал нетерпеливо постукивать шпорой о его сапог:
— В седло, в седло! Живо, старина, спать будешь потом…
Помчались дальше. Уже в сумерках свернули у другого креста, взяв еще правее — прямо на Моранвиль; небо по правую руку загоралось первыми звездами, а слева еще стояла высокая розовая заря, обещая на завтра хорошую погоду.
Робер опять прикинул время: когда приедут, замковые ворота уже будут закрыты, но поднять шум — разбудить Симона, а что ему объяснить, зачем примчался? Придумать-то что-нибудь можно, но ведь надо сразу повидать Аэлис, а под каким предлогом уйти от Симона, что ему сказать? Нет, лучше войти через потерну. Если, конечно, ее еще не заложили. Потерна, прорезанная в подошве стены с северной стороны замка, выходила к самому рву, и Симон не раз говорил, что надо ее заложить на всякий случай или хотя бы навесить дверь покрепче, дубовую и окованную железом, и чтобы она всегда была на запоре, но сенешаль, которого не столько заботили военные соображения, сколько всякого рода хозяйственные дела, возражал, говоря, что служанкам из прачечной нужен выход ко рву, чтобы брать воду для грубой стирки, — не бегать же с ведрами через весь двор вокруг. Поэтому выход из потерны был снабжен обычной дверцей, которая с одинаковой легкостью открывалась как изнутри, так и снаружи; замковая челядь пользовалась ею для ночных вылазок в деревню, и ров в этом месте был даже завален камнями так, что его можно было перейти вброд, не замочив ноги выше щиколоток…
Месяц уже вставал над лесом, когда всадники поднялись на гребень последнего невысокого холма перед Моранвилем. Отсюда дорога уходила вниз, вдоль леса, левее белела квадратная звонница деревенской церкви, а еще дальше, на фоне светлого ночного неба, чернело нагромождение башен и стен самого замка. Там мерцало два-три огонька, а в деревне было темно, все давно спали.
Подъехав к самой околице, на опушке Робер придержал коня и сказал поравнявшемуся с ним Урбану:
— Сейчас проедем поближе, там я сойду, а ты вернешься сюда. Приметь место! Здесь и спи, лошадей расседлай, стреножь, пусть пасутся. Только сперва напоишь, когда остынут. Ручей вон там — слышишь?
Урбан прислушался, сказал, что слышит.
— Это рядом, там и спуск удобный — деревенские туда на водопой водят. Если меня до утра не будет, езжай потихоньку к замку, я выйду.
— А если кто спросит?
— Скажешь, что со мной. Приехали, мол, поздно, не хотели будить стражу, поэтому и заночевали в деревне…
На полпути Робер спешился, отдал повод Урбану.
— Ну, возвращайся. Будешь поить — смотри, чтобы хорошо остыли сначала.
— Да уж соображу. А вы что, так и пойдете, не поевши?
— Там поем. А впрочем, дай чего-нибудь.
Урбан развязал седельную сумку, протянул Роберу хлеб и кусок мяса. Тот стал есть на ходу, жадно, только сейчас почувствовав вдруг голод и усталость. Ломило спину, ноги одеревенели от непривычно долгой скачки. Хотя в Париже он и не упускал свободного дня, чтобы не выехать на Глориане куда-нибудь недалеко, все же такая возможность представлялась не часто, и от настоящей верховой езды он отвык. Завтра, наверное, мышцы будут болеть. А впрочем, какое «завтра»!
У моста он постоял, прислушался — было тихо, никто его не увидел и не окликнул — и пошел вдоль рва к тому месту, где был брод к потерне. Звонко орали лягушки, от воды пахло свежестью и тиной. Если дверь замуровали или ров расчистили, придется будить сторожа…
Брод оказался на месте; благополучно перебравшись через ров, Робер — почему-то на цыпочках — подошел к маленькой дверце, глубоко врезанной в нишу стены, и тронул щеколду… Дверь послушно открылась, он вошел — в конце сводчатого туннеля брезжил слабый свет, слюдяной фонарь с огарком свечи висел на крюке у двери в прачечную, тут же на охапке соломы храпел человек. Подойдя, Робер нагнулся и узнал арбалетчика, что приезжал вчера в Париж.
Поняв, что тот улегся здесь не случайно, он тронул его за плечо.
— А. это вы, — сказал Тома спросонья, ничуть не удивившись. — Я так и думал, что тут пойдете. Как добрались?
— Хорошо. Кто тебе велел тут ждать?
— Жаклин, кто же еще. Велела кликнуть, как приедете. Пойду скажу?
— Иди, я подожду здесь…
Жаклин прибежала скоро, всплеснула руками, увидев Робера, принялась восхищаться его видом: «Вы теперь истый парижанин, сударь, не то что здешняя деревенщина!» — и потащила за собой, приложив палец к губам.
— Ты ведь небось голодный? — спросила она, когда проходили мимо входа в поварню.
— Нет, я поел. Вот попить, если найдешь…
Они зашли. Жаклин стала шарить в темноте, пошепталась с кем-то и принесла Роберу жбан, он стал пить, проливая на грудь. Вкус вина — оно было слабое, прошлогоднего урожая — сразу напомнил ему трапезы в большом зале, на нижнем конце стола всегда подавали кларет из этой бочки. Сердце опять стало колотиться, он все еще не мог поверить, что снова здесь, дома, в Моранвиле…
Он был как во сне — или, напротив, сном было все то, оставленное там: Париж, дом на улице Сен-Дени, пропитанный запахами пряностей из лавки, вся та страшная зима, рев толпы в гулких дворцовых залах, брошенные в слякоть окровавленные трупы маршалов, — он так и не мог понять, во сне или наяву идет сейчас за Жаклин, та нетерпеливо тянула его за руку, вела куда-то по бесконечным переходам то вверх, то вниз, потом в лицо снова пахнуло свежестью, и открылось звездное небо, и свет месяца на темной зелени, а Жаклин исчезла в кустах и стала возиться там, негромко звякая железом.
— Иди же сюда! Эту-то дверь ты, конечно, помнишь? — спросила она со смешком и толкнула его внутрь. — Поднимайся, сейчас она придет…
Да, эту дверь он помнил, и вырубленную в стене лестницу тоже, но почему здесь, подумал он, и даже чего-то испугался на миг, продолжая подниматься привычным путем — первый поворот, второй, третий… «Я бы на ее месте просто не решился — здесь, на этом месте… А впрочем, может, так и надо, может, она понимает что-то, чего не понимаю я, наверное. Но как отважны бывают женщины, а еще говорят — „труслив, как женщина“… просто они боятся всякой ерунды — боли, лягушек, или мышей, или пауков… а настоящей отваги у них больше, я бы так не смог…»
Он вышел наверх, и площадка открылась ему, как в ту ночь, — пустая, слабо освещенная звездным светом, месяца здесь не было видно, его заслоняла громада донжона. «Все-таки я пришел, — подумал он (или в нем подумал кто-то другой), — простил все и пришел, и не только из-за той клятвы. Пришел, потому что ни на миг, даже когда запрещал себе думать о ней, вспоминать… даже когда сам верил, что ненавижу…»
Он недодумал этой мысли, потому что услышал шаги там, внизу, на лестнице, — легкие, торопливо бегущие, — и ему показалось, что он сейчас умрет, не в силах больше вынести этого бесконечного ожидания, растянувшегося на долгие месяцы — с той самой ночи. Бросился навстречу, но она уже была здесь — наяву, освещенная звездами, видимая, осязаемая, — он схватил ее на полпути, обнял, сразу ощутил ее всю под длинным темным плащом. «Любимый, о любимый, единственный мой, любимый, ты все-таки пришел, я знала, о моя любовь, спасибо тебе, любимый, любимый мой». — «Ты плачешь? Не надо, любимая, я ведь здесь, я никуда не уйду, не плачь, ты же видишь, я пришел, как и обещал, неужели ты могла подумать». — «Не обращай внимания, любимый, это от счастья, о Робер, Робер, Робер, я могу твердить без конца, как все это время, только уже не про себя, вслух, Робер, моя любовь…»
Она опустилась к его ногам, на колени, выскальзывая из его рук, из плаща, он тоже встал на колени, продолжая держать ее так же крепко, словно боялся уронить, упустить, опять потерять…
— Ты что, не оделась? — шепнул он. — Замерзнешь, тут свежо…
— Нет, что ты, я горю… Я ведь уже легла — хотела уснуть, даже собралась выпить макового отвару… Я ведь не ждала, что ты приедешь сегодня, думала — завтра… Но на всякий случай сказала Жаклин, чтобы стерегла, и она вдруг прибегает — я только вот плащ успела… О мой любимый, мое счастье, о моя любовь, спасибо тебе. Ты знаешь, в замке никого нет, Франсуа…
— Не надо о нем! — Он ладонью прикрыл ей рот, она отняла ее, стала осыпать поцелуями, продолжая горячечно шептать: —…отец тоже уехал, я могла бы тебя ждать у себя, о моя прекрасная любовь, Робер, но я хотела встретить тебя только здесь, на нашей башне, понимаешь, здесь, мой любимый… Я не могу без тебя, обними меня крепче, я ведь сейчас умру…
Отец Морель уже заканчивал мессу, когда увидел вошедшую в церковь Катрин, и сразу подумал, что в замке что-то случилось. Обычно девушка приходила к вечеру, если просто навестить или по другим делам, или уж к началу мессы, если хотела послушать ее здесь, а не в замковой капелле вместе со всеми. В столь неурочный час ее могло привести сюда только какое-то неожиданное событие.
После службы он подошел к ней, благословил и сразу спросил, что случилось.
— Робер приехал, — испуганно шепнула Катрин. — Мне стало страшно, отец, может, я и зря к вам прибежала, но…
— Робер? — Морель нахмурился, поджал губы. — Ты видела его?
— Нет, он пришел тайно, ночью, Жаклин проводила его через прачечную — ну, где выход ко рву, и зашла в кухню взять вина. А там спала Томаза — она спрашивает: «Что тебе», а Жаклин говорит: «Где тут у вас вино, господин Робер приехал, хочет пить»…
— Томазе это приснилось, наверное. С чего бы ему являться тайно, ночью? Он сперва ко мне бы зашел!
— Нет, отец, не приснилось, я сейчас бегала к вам, а навстречу едет от деревни солдат, огромный такой, страшный, верхом, а в поводу ведет того вороного, что прошлым летом госпожа подарила Роберу. И тот вороной заседлан, все честь честью, даже чепрак тот же, я узнала…
— Да что вы там, белены все опились? — рассердился Морель. — Одной дуре Робер ночью мерещится, другая видит, что его коня к замку ведут. Он что ж, по-твоему, по воздуху прилетел, а коня велел вести следом?
— Коня он ведь мог с тем солдатом где-то в лесочке оставить, чтобы ночью шума не подымать. А сейчас выйдет, сядет на него и приедет в замок, вроде как и не бывал там ночью…
Морель помолчал, нахмурился еще больше:
— Ладно, ступай! Никому ничего не говори, я приду в замок. Роберу, если увидишь, тоже не говори, что была у меня.
— Мне почему-то страшно, отец мой, — всхлипнула Катрин.
— Мне еще страшнее. Ступай! И утри глаза!
Ему действительно было очень страшно. Потому что именно этого он боялся уже давно, со дня исчезновения Робера. Слухам о какой-то ссоре, из-за которой Робер и уехал, он не верил. Все было куда серьезнее, не случайно брак Аэлис обернулся такой бедой. Как далеко зашли они тогда, отец Морель знать не мог, но то, что теперь, дорвавшись наконец друг до друга, они не остановятся ни перед чем, это он понимал хорошо.
Первым, кого он встретил, придя в замок, был Симон, радостно сообщивший ему о приезде гостя.
— Знаю, слыхал уже, — сухо ответил Морель. — Где он?
— Были с госпожой в саду. Робер такой ладный стал да красивый, госпожа на него прямо не налюбуется! Да и он на нее, — простодушно добавил старый солдат. — По правде сказать, отец Жан, ежели бы нашему парню родиться дворянином, то лучшей парочки не придумать. А то ведь с этим итальянским еретиком у девчонки что-то не получилось…
— Получилось то, что должно было получиться. А ты выкинь из головы неподобающие мысли, если не хочешь, чтобы я тебя посадил на покаяние до самого Рождества. Так они, говоришь, в саду?
По пути ему встретилась Жаклин, испуганно залопотала, что госпожу видеть нельзя, она велела, то есть просила, не беспокоить, она себя плохо чувствует… Морель, не останавливаясь, заверил, что сейчас госпоже станет куда лучше, и направился к дверце в садовой ограде. Жаклин еще попыталась удержать его, отчаянно вскрикнув, что туда нельзя, но он молча оттолкнул ее в сторону.
Они сидели на траве и, похоже, едва успели разомкнуть объятия. Робер увидел его первым и вскочил, глядя ошалелыми глазами; Аэлис, не оборачиваясь, шаловливо протянула руки призывным жестом.
— Мир вам! — громко сказал Морель, подходя ближе.
Теперь оглянулась и она, но осталась сидеть, опершись на руки у себя за спиной и глядя на него — даже не с вызовом, а с выражением такого безразличия ко всему вокруг, такой погруженности в свое греховное счастье, что отец Морель невольно перекрестился и перевел взгляд на Робера.
— Когда ты приехал? — спросил он.
— Сегодня… то есть ночью еще, — ответил тот, медленно заливаясь краской.
— И где спал? Твоего коня утром привели из деревни — почему ты оставил его там, а сюда пришел пешком?
— Я… было поздно, не хотел будить сторожа — я вошел через потерну, а спал на конюшне, в сене…
— Надеюсь, хорошо выспался! Пойдешь сейчас со мной, там господин Ашар приготовил кое-что для моих бедных, поможешь донести.
— Зачем же! — воскликнула Аэлис. — Я велю, вам все отнесут!
— Мне нужен Робер. А ты была сегодня у мессы?
— У мессы? — Она туманно улыбнулась. — У нас нынче не служили, отец ведь забрал с собой капеллана…
— Могла бы и ко мне приехать. Пойдем, я тебя исповедую.
Аэлис широко раскрыла глаза, пожала плечами:
— Но, отец Жан… ведь мой духовник — отец Эсташ, я обычно…
— А исповедоваться можно не только у духовника. Так ты не хочешь?
Она медленно покачала головой и одарила его улыбкой столь пленительной, что у отца Мореля потемнело в глазах и явственно почуялось, как в этом благоуханном весеннем саду потянуло сернистым духом из преисподней.
— Vade retro, Satan![80] — крикнул он, замахнувшись посохом, и пошел к выходу, поманив за собой Робера.
Всю дорогу до деревни они молчали. Морель шагал быстро, взметая пыль обтрепанным подолом сутаны, Робер плелся следом. Несколько раз пытался заговорить то о местных делах, то о парижских, но Морель разговора не поддержал, и он молча тащил корзину, со страхом думая о предстоящем. Когда пришли, Морель отпер церковную дверь, велел идти в исповедальню и ждать там.
— …но ты хоть понимаешь, что вы наделали? — спросил он, услышав подтверждение тому, что уже и так знал. — Понимал и вчера, надо думать. И все-таки пошел на это, взял на душу такой грех! Ну ладно, твоя. А о её душе ты подумал?
— Нет, — честно сознался Робер. — Не до того было, по правде сказать.
— А зря! Потому что ее грех тяжелее, она изменила мужу. О муже ты тоже не подумал?
— О муже я думал раньше… Мне даже жалко его было, я его видел раз… в Париже, в соборе Богоматери. Он там молился. Я увидел его лицо, и мне стало его жалко, потому что я понял, что он несчастен. Но, отец мой, она ведь все равно его не любит! Так какая разница…
— Какая разница, хочешь ты сказать, верна ли она своей клятве или нарушила ее? Разница та, что клятвопреступников ждет геенна, вот какая разница!
— Да мало ли кто нарушает клятвы… Вон, в Париже говорили — и король Наваррский, и сам дофин, они тоже столько раз…
— Опомнись, безумец, при чем здесь твои дофины и короли? Я говорю о женщине, которую ты, как только что сказал, любишь!
— Но ведь я тоже согрешил?
— Еще бы ты не согрешил! Ты нарушил заповедь Господа нашего — «Не пожелай жены ближнего твоего…»
— Ну, какой он мне «ближний». И если уж на то пошло, он отнял Аэлис у меня, а не я у него. Но раз я тоже согрешил, выходит, меня тоже ждет геенна?
— Можешь не сомневаться, — пообещал отец Морель. — Можешь не сомневаться!
— Ну, если вместе, тогда не страшно.
— Безумец, безумец… Она что, и впрямь околдовала тебя? Опомнись, Робер, ну что с тобой творится, как мне проникнуть в твое окаменелое сердце?
— Да вовсе оно не окаменело, с чего вы взяли… Я вот сегодня вас увидел, и мне так хорошо стало… и стыдно, правда. Я ведь знал, что ругать станете.
— Робер, сынок, уезжай отсюда!
— Уеду, ясно, я ведь отпросился всего на пару дней.
— Уезжай сегодня, тебя затягивает трясина, еще шаг — и вам уже не спастись, ни тебе, ни ей… О ней подумай, если не думаешь о себе!
— Вот о ней-то я и думаю. Как же мне уехать сегодня? Ведь она помрет, если я ей скажу такое, да у меня скорее язык отсохнет! Нет, уехать мне сейчас невозможно. Завтра, может быть.
— Хорошо, завтра. Даешь слово?
— Лучше я не буду давать слово, мало ли как там обернется. Но обещаю, что попытаюсь уехать завтра, ну или чуть позже. Как же я могу не уехать? В Париж-то вернуться надо!
— Вот и возвращайся! И обещай не встречаться больше с Аэлис — потом, я хочу сказать.
— Ну, опять же, как такое обещать… А если случайно встретимся?
— Случайно — дело другое, — терпеливо разъяснил Морель. — Обещай, что не будешь искать с ней встреч; не губи ее окончательно, ты ведь должен пожалеть ее, если любишь.
— Хорошо, я… постараюсь не искать встреч.
— И чтобы она не искала!
— А вот за нее поручиться не могу. Вы же знаете, отец мой, какая она… если чего захочет. Только нынче зря вы ее сатаной обозвали, она ведь не со зла.
— Я не ее personaliter[81] обозвал сатаной, я просто узрел духа зла за всем тем, что случилось, а она, несомненно, сейчас в его власти. И чем скорее опомнится, чем скорее очистится раскаянием, тем лучше для нее же. Пойми, сынок, нет греха, которого не смывает чистосердечное раскаяние. Без следа смывает, каким бы черным он ни был!
— Так мы раскаемся, — повеселевшим голосом заверил Робер. — Может, не сразу, но после — обязательно! А сейчас я не могу еще, вы уж не гневайтесь, да и она тоже не захочет…
Когда он вернулся в замок, Аэлис рассеянно спросила, сильно ли ругал его отец Морель, и сказала, что не беда, ее тоже будет ругать, ну и что? Робер сказал, что кюре требует его отъезда.
— Вот еще вздор! — изумилась Аэлис. — Не зря его зовут «безумным попом». Надеюсь, ты сказал, что никуда не собираешься уезжать?
— Но мне действительно придется уехать.
— Куда и зачем?
В Париж, моя любовь, меня ведь ненадолго отпустили.
— А я тебя вообще не отпускаю. Ты кого любишь, меня или своего бакалейщика?
— Аэлис, ну при чем тут это, как ты не понимаешь…
— При том, при том! Как ты только мог сказать такое: «придется уехать»! Ты хочешь, чтобы я умерла?
— Бог не допустит этого, моя любовь.
— Еще как допустит!
Аэлис разрыдалась, он принялся ее утешать. В конце концов пришли к согласию, что он пробудет здесь еще два дня, уедет на третий, утром, а потом она приедет в Париж; вспомнив о своем письме к мужу, которое послала с Беппо, Аэлис решила воспользоваться своей же выдумкой и в самом деле навестить кузину де Траси.
— Остановлюсь у нее, — сказала она, — а там придумаем что-нибудь. Жаклин уверяет, что в Париже есть дома, где дамы могут встречаться со своими кавалерами. Ты слыхал про такое?
Робер сознался, что слыхать про такое ему не доводилось.
— Непотребные дома есть, — сказал он, — я жил напротив. Но ведь это, наверное, не то?
— Думаю, что нет. Ладно, что-нибудь придумаем, — повторила она решительным тоном.
Остаток дня прошел как во сне, а следующие дни — тем более, потому что уже третью ночь они почти не смыкали глаз, лишь ненадолго забываясь в дремоте, и тут же снова просыпались, разбуженные своим счастьем. Позже Робер совершенно не мог вспомнить, что было в эти три дня, запомнился ему лишь разговор с отцом Морелем в то первое утро, после исповеди, а дальше запомнились лишь те короткие часы, что им удавалось побыть с Аэлис вдвоем. Это было не так просто. Симон не отпускал его, расспрашивал о парижской жизни, о службе, давал советы касательно обучения отряда, и ведь от него нельзя было отделаться, это было бы попросту опасно. Их спасала непостижимая наивность старого вояки, но, если бы Симон что-то заподозрил, он, пожалуй, мог бы убить Робера на месте, потому что в его глазах тот стал бы не просто прелюбодеем, соблазнившим чужую жену, но и — что куда хуже — предателем, обесчестившим дочь сюзерена.
На четвертую ночь они все-таки немного поспали — уже под утро. С вечера Робер велел Урбану быть готовым к выезду на рассвете. Он проснулся первым, когда уже светало, встал, осторожно высвободил руку из-под головы спящей Аэлис и раскрыл окно, впустив в комнату зябкую рассветную свежесть и гомон просыпающихся в саду птиц. Прислушавшись, Робер уловил протяжный скрип раскрываемых ворот и чуть погодя гулкий перестук подков под въездной аркой.
Что там? — сонным голосом спросила Аэлис.
— Похоже, кто-то приехал.
— А-а-а… Иди ко мне… Ты прямо сейчас и уезжаешь? — спросила она потом, когда он уже заканчивал одеваться. — Ну хоть позавтракаем!
— Нет, поем в дороге. Надо поспеть в Париж до закрытия ворот, позже не пропустят через заставу… Так ты когда приедешь?
— Вернется отец, и я сразу начну собираться. Надо ведь его еще уговорить, но это будет нетрудно, он сам как-то зимой советовал мне побывать при дворе герцогини Нормандской. Вот я и скажу, что решила…
— Погоди. — Робер озабоченно поглядел на Аэлис. — Говорят, супруга дофина покинула Париж, со всеми своими дамами…
— Ну и что? — Аэлис пожала плечами. — Придумаем что-нибудь…
— Любовь моя, ты только обязательно меня предупреди, когда соберешься ехать. Непременно, слышишь?
— Хорошо, я пришлю Тома!
— Да, и обязательно дождись его возвращения, прежде чем выезжать. Я передам, все ли в порядке.
— А что может быть не в порядке?
— Что угодно! В Париже неспокойно, я ведь тебе говорил…
— Ах, да что мне за дело до всех этих дурацких марселей! Я приеду к тебе, и это главное.
— До свидания, моя любовь…
— Робер! Любимый…
Прыгая через две ступени, Робер сбежал по парадной лестнице, обернулся и, подняв голову, помахал высунувшейся из окна Аэлис. Потом, уже не оглядываясь, зашагал через двор к Урбану, который держал под уздцы оседланных коней. Навстречу, от конюшни, шел человек в необычной для замковой челяди одежде. Поравнявшись, Робер рассеянно глянул и узнал итальянского слугу господина Донати; взгляды их на миг встретились, и Беппо прошел мимо с непроницаемым лицом.
Книга третья ДЕНЬ ГНЕВА
Глава 23
Ассамблея Генеральных штатов в Компьене затянулась, но мессир Гийом был тому рад. Давно уже он не чувствовал себя так хорошо, словно помолодел в хорошо знакомой ему среде политиков и придворных интриганов, каждый из которых, участвуя в общей игре, одновременно вел и свою, тайную. Каким наслаждением было следить за всем этим, заводить полезные знакомства, ловить сплетни и слухи, одни опровергать, другие тут же перебрасывать дальше, словно при игре в мяч…
Общий смысл происходящего был, впрочем, ему пока не очень ясен. Да и не только ему. Наваррская партия, еще недавно имевшая все шансы захватить власть в королевстве, стала вдруг терять силы. Оставшийся для всех полной загадкой внезапный отъезд Карла д’Эврё из Парижа в марте выставил короля перед парижанами в самом дурном свете: вероломным и ненадежным союзником, который сегодня делает то, что еще вчера клятвенно обещал не делать. Братья Пикиньи, как и все их единомышленники, очень рассчитывали, что он выступит на ассамблее с одной из своих зажигательных речей, которыми всегда умел убедить слушателей в чем угодно. Но Злой вообще не появился в Компьене, хотя и обещал…
Надо ли удивляться, что — после Санлиса и Прованса — Штаты в Компьене тоже высказались за регента, а парижскую делегацию, возглавить которую не постеснялся монсеньор Лаонский, прогнали с позором и поношением. Мятежная столица оказалась без союзников.
Как ни странно, к такому повороту событий Гийом де Пикиньи, в отличие от Жана, отнесся довольно спокойно. «Наваррская интрига», в которую он вложил столь много (вплоть до судьбы собственной дочери), таяла как мираж, а ему было чуть ли не все равно. Не совсем так, конечно; сознавать свою ошибку всегда неприятно.
Сам Наваррец тоже виделся ему теперь в несколько ином свете, хотя знал он его давно и считал, что знает хорошо. Здесь, в Компьене, брат Жан в минуту редкой для него откровенности за кувшином вина поделился некоторыми подробностями переговоров, которые братья д’Эврё давно уже ведут с англичанами. Для мессира Гийома сам факт переговоров новостью не был, но деталей он не знал, узнав же теперь, призадумался. Речь шла ни много ни мало о разделе Франции: в обмен на коронацию в Реймсе, Карл готов был отдать Плантагенету чуть ли не половину страны.
Да, игра заходила слишком далеко, она уже перерастала пределы обычной династической распри. Но если их перейти, борьба за корону может легко обернуться государственной изменой. Гийом де Пикиньи все чаще спрашивал себя, так ли уж далек Карл Наваррский от этой опасной черты.
Ему вдруг захотелось домой — делать здесь, в Компьене, было уже нечего, начался разъезд представителей. Мессир Гийом велел своим людям готовиться к отъезду в последний день мая, можно было бы и раньше, но на 29-е был назначен прощальный обед у регента, отсутствовать на коем Пикиньи счел неудобным.
А домой тянуло все больше, он теперь постоянно думал о дочери, прикидывал разные способы помирить ее с мужем, но ничего дельного на ум не приходило. Может, сама перебесится! К этим мыслям примешивалась и тревога, потому что в последние дни в Компьень стали приходить вести о том, что в Бовэзи становится неспокойно: то ли появились новые отряды рутьеров, то ли беглые вилланы стали собираться в шайки и, вооружась, нападать на путников. Последнему, впрочем, верили мало, ибо представить себе вооруженного и нападающего виллана — «жака-простака», как его называют в этих местах, — было просто нелепо.
Поверить, однако, пришлось. В тот самый день, когда представители дворянского сословия пировали у регента, веселье было вдруг прервано громким шумом в дверях. Расшвыривая королевских сержантов, в зал вепрем вломился Тибо де Пикиньи, и вид его ужаснул всех. В разорванном плаще, с серым от пыли лицом и пятнами засохшей крови на камзоле, сьёр де Монбазон прошагал в середину составленных «покоем» столов и, остановившись перед регентом, хрипло крикнул сорванным голосом:
— Беда, государь! Подлый люд поднялся по всему равнинному краю и истребляет дворян! Взгляните — на моих руках кровь благородного Ги де Форе, которого дикое мужичье растерзало, словно волки оленя! К оружию, мессиры!! — заорал он, обернувшись к гостям и обводя их налитыми кровью глазами. — На коней! Истребляйте хамово отродье до последнего выродка, топчите их как гадюк, если не хотите, чтобы они сожгли наши замки и овладели нашими женами и дочерьми! К оружию, и забудьте слово «милосердие»!!
Так узнали в Компьене о начале великой смуты. Никто не мог толком рассказать, с чего она началась, но один факт можно было считать достоверным: 28 мая в деревушке Сен-Лё-д’Эссеран крестьяне напали на небольшой отряд людей регента, собиравших в округе очередную дань. Стычка эта стоила жизни пятерым оруженосцам, а также четырем рыцарям, среди которых оказался Рауль де Клермон — племянник маршала Франции, погибшего в битве под Пуатье. Брат Рауля, говорят, во всеуслышание поклялся отомстить за его смерть так, как еще никто никогда не мстил; и тогда в мятежных вилланов словно вселился дьявол. В Сен-Лё ударили в набат, поднялись окрестные села — Крамуази, Нуантель. Быстро увеличиваясь, толпа бунтарей — вначале их было не более сотни — двинулась к ближайшему замку, крича, что пришел час истребить всех дворян до последнего, ибо они предали королевство и грабят народ, вместо того чтобы оборонять его от врагов. В пути к ним присоединялись новые группы крестьян, спешно вооружившихся чем попало — кто косой, кто топором, кто просто дубиной или заостренным колом. Когда наступила ночь, небо над долиной Уазы уже кровянилось заревами пожаров — это пылали твердыни феодалов, еще недавно казавшиеся такими неприступными…
По-разному восприняли в Компьене страшную новость. Регент растерялся и медлил, не решаясь действовать, хотя теперь уже не приходилось сомневаться, что местный бунт перерастает в настоящее восстание, быстро распространившееся на прилегающий к Бовэзи район, охватив долину Терена, Пикардию и Суассонэ. В течение первых же дней в пределах епископства Лаонского, окрестностей Суассонэ и Санлиса было разрушено более ста замков и даже несколько богатых монастырей.
Зато дворяне рвались в бой. Перед этой неожиданной и грозной опасностью отступили личные счеты — никогда еще французское дворянство не было так единодушно, как в эти дни, сплоченное ненавистью и страхом.
Все громче раздавались голоса, открыто обвинявшие регента в губительном бездействии, требовавшие примириться с Наваррой и совместно ударить на жаков. Еще недавно порицавшие Карла д’Эврё за «шашни с горожанами» — теперь открыто превозносили решительность Наваррца, его воинственный нрав, даже его общеизвестную жестокость. Популярность Карла Валуа снова начала падать.
Регент видел все это, но делал вид, что не замечает. Пожалуй, именно тогда начали проявляться в нем те дарования и черты характера, благодаря которым ему суждено было войти в историю Франции под лестным прозвищем Мудрый. Растерявшись при первом известии о восстании, он быстро оправился от испуга, и нерешительность его была лишь кажущейся; уступить требованиям жаждущих мести дворян было проще всего, но он уже понимал то, чего до конца жизни так и не смог понять его отец: что народ, вверенный его попечению, состоит не из одних дворян и что благополучие страны зиждется как раз на тех, чьей крови от него сейчас требовали. Далекий от сочувствия бунтовщикам, он все же видел в них своих подданных, понимая неизбежность кровопролития, еще надеялся сделать так, чтобы крови пролилось меньше.
Мессир Гийом де Пикиньи с самого начала восстания не мог думать ни о чем, кроме безопасности Моранвиля, где осталась Аэлис. Вполне доверяя опыту Симона, он все же не находил себе места от тревоги; вечером, после злополучного обеда у регента, он, спускаясь по лестнице, оступился и повредил себе ногу, да так, что она распухла снизу чуть ли не до колена; отец Эсташ запретил ему садиться в седло по крайней мере дня два-три и велел лежать. А пуститься в путь в носилках он не рискнул, боясь насмешек. Припарки, впрочем, сделали свое дело, и, хотя нога еще побаливала, мессир велел готовиться к отъезду.
Вечером пришел шамбеллан и сообщил, что его высочество регент хотел бы повидать мессира Гийома де Пикиньи перед его отъездом из Компьеня. Гийом отправился немедля и был принят с отменной любезностью.
Расспросив про ногу и велев принести от мэтра Жамблю горшочек какой-то чудодейственной мази, регент пожелал ему счастливого пути и осведомился, не вместе ли с братом, мессиром Тибо, они едут.
— Брат действительно едет со мной, сир, — подтвердил Пикиньи.
— Разумно, — одобрил регент, — сейчас лучше ездить большими отрядами, а сьёр де Монбазон — человек отважный, истинный воин. Я только вот о чем хотел бы вас попросить… К нему самому я не решился бы обратиться с подобными увещеваниями, но вы, мессир Гийом, человек иного склада и, я уверен, поймете меня правильно. Мы все в равной мере ужасаемся бедствиям бунта и тем преступлениям, что творятся ныне на нашей земле. Как регент королевства, я могу заверить каждого из моих дворян, что ни одно не останется безнаказанным. Но, согласитесь, одно дело — законное наказание преступников, и другое дело — месть вообще, слепая и не отличающая правого от виноватого. Сейчас многие призывают именно к этому, и среди них едва ли не громче всех звучит голос вашего брата Тибо. Но пристало ли благородному рыцарству Франции уподобляться в кровожадности темному люду? Ибо народ наш темен, мессир Гийом, он невежествен и к тому же сверх меры озлоблен бедствиями долгой войны; надо ли удивляться, что озлобление его прорывается в таких вот ужасающих деяниях… Да, злодеи не щадят ни детей, ни жен наших баронов; однако ваш брат во всеуслышание призывал к тому же в отношении мятежных вилланов, а ведь он рыцарь и дворянин, ему негоже соперничать с вилланом в зверстве и неистовстве…
— Увы, ваше высочество, мой брат — человек неистовый.
— Именно поэтому я веду этот разговор не с ним, а с вами. Его призывы могут найти отклик в сердцах многих. Дворянство тоже озлоблено, ибо оно боится, а страх порождает злобу. Попытайтесь образумить вашего брата. Любая месть порождает ответное насилие… или бросает в почву его семена, которые прорастут рано или поздно. Сыну негоже осуждать действия отца; но разве мы не убедились, какую смуту вызвала в Нормандии королевская месть за убийство коннетабля? Разумеется, Деласерда был умерщвлен злодейски, кто же спорит, и граф д’Аркур со своими друзьями совершил преступление, даже если действовал по наущению моего кузена Наварры, но ведь и расправа с ними тоже была беззаконной! Вместо того чтобы вызвать убийц коннетабля на суд парламента, король повелел схватить их у меня за столом — я тогда пригласил в Руан представителей лучших семей Нормандии, рассчитывая достичь наконец какого-то примирения между королем и нормандским дворянством; ничего себе получилось «примирение»! Моих гостей выволокли из пиршественного зала и немедля казнили без суда и следствия. А в каком положении оказался я? И знаете, — дофин доверительно понизил голос, — я вижу не просто случайность в том факте, что под Пуатье мой отец вынужден был отдать меч не английскому рыцарю, а некоему де Морбеку, уроженцу Нормандии. Из тех, что пошли служить англичанам… Вот вам пример, к чему приводит необдуманная месть!
— Сир, вы, несомненно, правы, — согласился Пикиньи. — То, что д’Аркура и его друзей обезглавили без суда, было прискорбной ошибкой.
— Такой же ошибкой может оказаться и наша, излишне горячая, реакция на события в Бовэзи. Мятеж должен быть подавлен, он будет подавлен, и все виновные понесут заслуженное наказание, но боже нас упаси распространить месть на тех, чья вина окажется сомнительной и недоказанной. Этому я буду препятствовать в меру возложенной на меня власти, но, мессир Гийом, будем смотреть на вещи трезво, власть эта пока эфемерна. Мне просто не обойтись без поддержки умных людей, способных понять смысл моей политики. А смысл этот в том, что я хочу наконец вернуть мир французской земле…
Возвращаясь к себе, мессир Гийом снова подумал, так ли уж он был прав, поставив в свое время на Карла д’Эврё. Карл Валуа неожиданно начинал выглядеть умнее и дальновиднее своего кузена; как знать, не суждено ли наконец Франции обрести в его лице истинного короля — первого за последние полвека… Из всей череды незадачливых преемников Филиппа Красивого Иоанн оказался едва ли не самым бездарным, отмеченным даже в облике явственной печатью вырождения — этот блуждающий взгляд, нелепо удлиненный подбородок, безвольный рот, — и надо же, чтобы у этакого дурака оказался такой сын. Неглуп, совсем неглуп! Дело, понятно, не в сострадании к вилланам, но что при подавлении мятежа нельзя дать волю чувствам — в этом регент прав. Стоит перегнуть палку, и вилланы станут толпами уходить к англичанам.
Утром, когда их отряд уже порядком удалился от Компьеня, Гийом пересказал брату вчерашний разговор с регентом. Мессир Тибо, как и следовало ожидать, обозвал регента трусливым выродком и стал всячески поносить королеву Бонну, которая уж точно прижила его от какого-нибудь свинопаса, ибо король хоть и дурак, но зато истинный рыцарь, чего не скажешь о старшем сынке.
— Пуп Вельзевула!! — орал он, тесня брата конем. — И такому привязали золотые шпоры! Да ему тонзуру надо было выстричь, и в рясу его, в рясу, чтобы проповедовал на здоровье свои бредни о снисхождении к мужичью! Мало того что эта люксембургская шлюха погубила доблестного графа Рауля…
— Ну при чем тут граф Рауль? — поморщился мессир Гийом.
— А притом, что королева сама зазывала его в постель, об этом знали все, кроме короля! Он, понятно, тоже узнал — добрые вести не залеживаются, — да только поздно, когда коннетабль был уже в английском плену! А иначе почему бы, ты думаешь, его обезглавили немедля по возвращении? Вот то-то и оно! Объявили, понятно, что граф повинен в сговоре с врагом, но какой к черту сговор, просто королю стыдно было сознаться, что мадам Бонна уподобила его оленю! Но уж нашего милого Карла она прижила не от коннетабля, это бы еще полбеды, ибо он был рыцарь; скорее всего, дофин-регент — отродье какого-нибудь блудливого монаха, из тех, что ошиваются вокруг знатных дам. Вот они вдвоем и спроворили этого трусливого ублюдка!!
— Сударь, — строго сказал Гийом, — я запрещаю вам в моем присутствии говорить в столь неучтивых выражениях о наследнике французской короны.
Тибо, изумленно глянув на брата, разразился хохотом:
— Ах ты, хорек, да ты никак уже подумываешь снова переметнуться? Ну, каналья! Может, все-таки не стоило выдавать дочку за менялу? Теперь ты с ее помощью мог бы обстряпать дельце повыгоднее — на этот раз в пользу Валуа!
И, не дав онемевшему от возмущения брату опомниться, пришпорил коня и ускакал вперед, нагло окатив Гийома пылью из-под копыт.
Ехали не спеша, рассчитывая переночевать в Клермоне и быть в Моранвиле к вечеру следующего дня. Еще накануне Гийом подумывал, не поехать ли осторожности ради более длинным путем — в объезд, огибая с севера охваченную смутой бовэзийскую равнину, но потом устыдился чрезмерной осторожности. В конце концов, не в одиночку же он путешествует! Его собственная охрана, да еще головорезы Тибо, это уже немалая сила, достаточная, чтобы не опасаться нападения мужичья…
Человек, однако, предполагает, а Бог располагает. Лучше бы барон де Пикиньи прислушался к голосу рассудка! Уже вечерело, и отряд, приближаясь к Клермону, достиг перекрестка двух лесных дорог, одна из которых уходила на юг, к Лианкуру; стражник, ехавший впереди дозором, воротился и сказал, что дорога завалена.
— Так разберите завал, — распорядился Гийом. — Возьми еще людей и растащите деревья!
— Да не дадут, — отозвался стражник, сняв саладу и рукавом размазывая по лбу грязный пот. — Их там много; велели сюда не ехать, а чтобы обратно на Компьень…
— Кто такие?
— Кто их знает, мессир, жаки, надо думать…
— Ну наконец-то! — взревел Тибо и обернулся к своим людям. — К бою!! Сейчас они у меня получат, кровь Господня!!
— Стоять всем! — Гийом поднялся на стременах и протянул руку повелительным жестом. — Здесь я командую. Всем стоять, а мы проедем вперед — узнаем, что за люди и чего хотят. Впрочем, поезжайте следом, но медленно и не обнажая оружия. Пьер, Жакен, следите, чтобы никто не ослушался!
Он тронул коня шпорами, посылая его вперед. Странно, вчера почти боялся, а сейчас — когда возникла действительная угроза — страха не стало, он был уверен, что сумеет покончить дело миром. Будь у тех, кто завалил дорогу, всерьез враждебные намерения, они уложили бы дозорного на месте, не дав ему вернуться и предупредить остальных…
— Не валяй дурака, брат, — сказал подъехавший сзади Тибо. — Вышлем вперед спешенных арбалетчиков, под их прикрытием разберут завал, а потом ударим — ни одна тварь не уйдет!
— Не спеши, сперва разберемся…
Когда завал был уже совсем близок и можно было различить толпящихся за ним людей, поверх головы Гийома свистнула стрела. Он пригнулся, но тут же сообразил, что промах с такого близкого расстояния едва ли случаен, — стрела прошла слишком высоко, она была просто предупреждением. Пикиньи принял гордую осанку и поднял руку.
— Слушайте меня, добрые люди! — крикнул он. — Вы видите, я выехал к вам без оружия, приказав не обнажать его своим солдатам, — они там, сзади, и их много. Пропустите нас в Клермон и разойдитесь с миром, если вы добрые французы! Не слушайте смутьянов, которые подбивают вас на дурные дела! Я вчера говорил с его высочеством регентом; верьте мне, он знает о ваших нуждах, его главная забота сейчас — замириться с англичанами и покончить со смутой, чтобы наконец-то мир воцарился на нашей земле! Мир, который всем нам так нужен! А можно ли ждать мира, если французы будут убивать друг друга!
Жаки, выходя из лесу по сторонам и из-за поваленных поперек дороги деревьев, понемногу приближались к всадникам, окружая их, но не проявляя пока враждебных намерений. Оружие свое они держали на плечах, как крестьяне привыкли держать косу, вилы или мотыгу, возвращаясь с поля. Подоспевший тем временем отряд скучился позади братьев Пикиньи, солдаты настороженно поглядывали на жаков, которых становилось все больше.
— Не слушайте этого краснобая! — крикнул кто-то. — На словах они все добрые! Сказано, чтобы всех дворян — под корень!
— Очень хорошо, — сказал Гийом, стараясь сохранить спокойствие. — Дворян — под корень, а воевать кто будет? Кто будет защищать вас от англичан? Или от фламандцев — те тоже могут прийти, почему же нет, пусть только узнают, что французы перебили своих дворян!
— Покамест мы от своих больше зла видели, чем от фламандцев!
— Кто же спорит, добрые люди, кто же спорит, — продолжал увещевать Гийом, — есть и дурные бароны. Найдется управа и на них, дайте срок, надо только сперва прогнать англичан да всех этих пришлых бригандов, от которых уже житья нет…
Его слушали довольно безучастно, но и без возражений, если не считать отдельных выкриков; Гийом решил уже, что все обойдется, когда вдруг увидел, как один из жаков, стоя позади остальных и чуть поодаль, поднял лук, целясь, как ему показалось, прямо в него. Он не успел ни крикнуть, ни отшатнуться, стрела просвистела снова, но на этот раз совсем низко, она пролетела правее его плеча, сзади кто-то вскрикнул, послышался шум падения. Залязгало вырываемое из ножен железо, свирепо заржал вздернутый на дыбы конь мессира Тибо — тот бросил его прямо на толпу, вырывая из ремней притороченный позади седла боевой топор. И сир де Пикиньи понял, что все пропало, что ему уже не увидеть ни дочери, ни башен Моранвиля, что не надо больше прикидывать, гадать, рассчитывать, что все это было пустым и ненужным, если может сейчас кончиться вот так, сразу, внезапно и только потому, что поехали этой дорогой, а не свернули в сторону… Все было тленом и суетой, и как странно, что в полной мере это понимаешь лишь в самый последний миг. Когда уже ничего не поправить.
Его ударили по голове чем-то тяжелым и острым, бархатная шляпа лишь едва смягчила удар, кровь стала заливать глаза. Падая, он еще успел увидеть, как брата стаскивают с коня, зацепив за шею и плечи крюками-«расседливателями»; мессир Тибо отбивался, слепо рубя направо и налево, потом выронил топор и взревел, точно пронзенный кошем вепрь. Гийом по-своему любил брата, но сейчас его гибель не вызвала печали, он знал, что тоже умирает, с головокружительной быстротой его уносило течением все дальше, туда, где больше не будет времени, туда, где — он знал — он увидит и покойную жену, и всех, кто был ему когда-то дорог, а со временем — и Аэлис. Это было главное, он с бесконечным облегчением и радостью сознавал это, и сроки уже не имели значения, ибо время сомкнулось…
Глава 24
Вести о крестьянском мятеже в Бовэзи достигли Парижа в первые дни июня, почти одновременно с письмом Гийома Каля — «генерального капитана» мятежников, — в котором тот обращался к Этьену Марселю с предложением действовать сообща. «Каждый из нас по своему разумению и возможностям борется за наши права и свободу, — писал Каль, — так не разумнее ли будет, ежели мы объединим силы? Ведь порознь ни одному из нас не одолеть врага, сколь бы ни были велики наши старания и жертвы…» Письмо это, зачитанное Марселем в ратуше, вызвало бурю негодования и разногласий между эшевенами. Большинство было возмущено наглостью мужицкого вождя, более умеренные высказались в том смысле, что, хотя в послании и немало здравых мыслей, было бы неосмотрительно высказать с ними согласие, проявив некую общность замыслов между столичным «третьим сословием» и бунтующей деревенской чернью. Всех удивил Пьер Жиль, показав себя истинным гасконцем, — те, как известно, славятся непредсказуемостью поступков. Вопреки своим прежним высказываниям, бакалейщик примкнул к партии меньшинства, допускавшей возможность немедленного и открытого союза с жаками.
— Неужели вы тут до сих пор не поняли, — кричал он, потрясая кулаками, — что нам и так ничего другого не остается? Вы что, перестали сколько-нибудь здраво рассуждать? Или иной из вас уже подумывает о том, что неизвестно, как оно еще обернется? И не лучше ли подумать о совсем другом союзе? Всегда ведь можно найти козла отпущения!
После этого заседание едва не перешло в драку. Даже единомышленники Жиля осудили его за несдержанность, остальных же удалось унять только после того, как негодующий гасконец хлопнул дверью.
Между тем человек, который мог бы покончить с разногласиями, впервые не чувствовал в себе силы сделать решительный шаг. Этьен Марсель колебался, упуская единственный шанс изменить ход событий в свою пользу.
— Ты теряешь рассудок, Этьен! — уже уходя, крикнул ему Пьер. — Попомнишь мои слова, это последняя возможность припугнуть дофина — другой не будет!
Но Марсель уже не был способен на смелые решения. Принятое им теперь — после долгих колебаний — не сулило никакой пользы, однако перевело парижан в лагерь открытых врагов королевской власти: Марсель решил послать на помощь восставшим два отряда, один под командованием Пьера Жиля, другой под началом старшины монетчиков Жана Вайяна. При этом, верный своему коварству, обоим дал указания по возможности не сотрудничать с жаками и соблюдать в этой экспедиции прежде всего интересы коммуны, а именно: показать силу городского ополчения и нагнать страху на окрестных дворян. Главной же задачей отрядов было сровнять с землей все окрестные замки, могущие быть использованы при осаде Парижа.
Решение это было принято дня через два после бурного заседания в ратуше. Пьер Жиль успел поостыть; вернувшись домой, он вызвал к себе Робера и, рассказав о полученном предписании, с усмешкой добавил:
— Итак, капитан, завтра мы выступаем, вроде бы на помощь жакам — на самом же деле, как я понимаю, позлить дофина и надергать перьев у окрестных дворян.
Робер, хмурый и озабоченный, пожал плечами:
— Глупая затея, не в обиду вам будь сказано. Кому нужна такая помощь? Вот уж ни богу свечка, ни черту кочерга!
— А что делать? Хорошо, если Марсель просто устал… А если изверился? Тут у меня выбор простой — или порвать с ним, или поддерживать его до конца, какие бы ошибки он ни делал. Да впрочем, это уже и не имеет значения, одной дурью больше, одной меньше… После того что сделали в феврале…
Да, убийство маршалов, этим все и началось, подумал Робер. Один неверный шаг — и… а, да черт с ними, с маршалами. В конце концов, что было, то было — прошлого не воротишь, а вот ему-то самому что делать? Как быть дальше? С тяжелым сердцем смотрел он на Пьера, уже почти тяготясь связавшей их службой. Еще какой-нибудь месяц назад все было бы просто, но теперь… теперь он более не сомневался в любви Аэлис, и перед этим отступало все. Нет, он и не думал о том, чтобы сбежать, бросив свой отряд; это было бы изменой, а как он мог изменить человеку, который ему поверил? Но безнадежность происходящего становилась все более очевидной. Не на что надеяться взбунтовавшимся жакам, не на что надеяться Марселю и его сторонникам — не на что и не на кого. Еще недавно кичились «нерушимым союзом» с королем Наварры — уж он-то нас в обиду не даст, с ним мы как за каменной стеной, никакие Валуа нам не страшны! А что получилось? Наваррец оказался сущим иудой, сбежал и теперь, говорят, затевает какие-то тайные шашни с дофином…
Так надо ли ему самому упорно закрывать глаза на свое положение во всей этой каше? Для него главное сейчас — Аэлис, уж теперь-то ее у него не отнимут, он просто увезет ее во Фландрию, в Лангедок, куда получится, лишь бы не сыскали. Но если оставаться в этом обреченном Париже…
Пьер Жиль продолжал толковать о своем, расхаживая по комнате, потом глянул на Робера и оборвал себя на полуслове. Да, вот и этот уже не с нами, во всяком случае душой… Что ж, парня можно понять!
В комнате повисло молчание. Робер неподвижно глядел в одну точку, точно грезил наяву… Пьер вздохнул и, подойдя, тронул его плечо:
— Наскучил я тебе с нашими делами, Робер. Ну, тогда давай поговорим о твоих.
— О чем? — Робер настороженно смотрел на Пьера.
— Однажды, помнится, я тебя уже спрашивал об этом, теперь хочу спросить еще раз, может, пришла нам пора расстаться?
«Вот оно, — подумал Робер, — словно сама судьба подсказывает».
— Трудно ответить вам, мэтр Жиль. Видит бог, я желал идти с вами до конца, но… когда я был в Моранвиле, вот в этот последний раз, случилось такое, что… одним словом, я обещал и теперь…
— Все понятно, парень! — Пьер Жиль ободряюще улыбнулся. — Слово положено держать.
Лицо Робера пошло багровыми пятнами.
— Я ведь вам тоже дал слово и вот… теперь вот вроде сбегаю… понимаю, выглядит это не очень…
— Да брось ты! Я ведь сам много раз советовал тебе подумать о лучшем выборе. Предлагал еще поступить на службу к Карлу дʼЭврё… Помнишь?
— Я все помню, мэтр Жиль, — тихо ответил Робер. — Вы были добры ко мне, поэтому-то мне и трудно сейчас…
— Верю. Ну а теперь ближе к делу — когда ты хочешь уйти, теперь или после нашего «военного похода»?
Робер попытался улыбнуться:
— Так быстро вам от меня не отделаться! Конечно же, после похода.
— Вот за это спасибо. — Пьер помолчал, потом спросил: — Если не секрет, к кому решил податься? Или хоть знаешь куда?
— Куда — знаю. А вот к кому… — Робер пожал плечами. — Еще не решил, может, буду сам по себе.
— Этого не делай! Одному нынче не устоять, мигом затопчут. Почему бы тебе не подумать о Наварре?
— Не по душе он мне. Скользкий какой-то, криводушный. Какой это рыцарь!
— А тебе что, рыцарских подвигов захотелось? Тогда ступай к этому безумцу Гийому Калю, вместе головы и сложите. Глупо, зато красиво.
— Да нет, что мне там делать… — Робер задумался, потом спросил: — А не рано вы его хороните, мэтр Жиль? Ведь в такой заварухе можно и выиграть, если вовремя раскинуть мозгами.
— Можно, если мозги не набекрень. Но у твоего приятеля их вообще нету.
— У моего… Он уж скорее ваш приятель — к вам-то я по его подсказке пришел!
— За это ему спасибо. Я и в самом деле давно знаю Каля и всегда имел о нем самое доброе суждение — человек он честный и верный. Однако мыслями иной раз так его заносит, что слушаешь и только диву даешься. Особенно теперь, когда пошла вся эта неразбериха! Ну хорошо, соберет он эту свою мужицкую армию, а потом что?
— Это вы, со всем уважением будь сказано, рассуждаете как человек невоинский, — не без лихости возразил Робер. — Мало ли «что потом»! Когда приходит время подраться, об этом не спрашивают.
— Ну конечно, куда уж мне до такого вояки, как твоя милость, господин капитан.
— Вояка не вояка, но воевать мне случалось. А как же тогда, мэтр Жиль, вы в ратуше сами выступили за союз с армией жаков?
— У нас есть другая? Понятное дело, лучше бы заполучить в союзники тех же фламандцев, да как? У них там своих забот хватает с избытком! А сам по себе Париж не устоит — Наваррец нас подло бросил, регент после убийства маршалов наш злейший враг… И увидишь, теперь они помирятся — нам на голову. А против Валуа и д’Эврё Парижу не устоять, — повторил Жиль, — это я и пытался втолковать нашим эшевенам. Жаки какие ни есть, а все-таки подмога…
На другой день отряды ополчения начали покидать Париж. Сворачивая за угол улицы Сен-Дени, Робер придержал Глориана и оглянулся с тяжелым сердцем: лавка возле церкви Святой Оппортюны была единственным местом, куда Аэлис всегда могла прислать весточку. А теперь? Как знать, куда забросит начинающаяся война, где его потом можно будет отыскать…
А начиналась эта война как-то нескладно. Впрочем, Робер не знал, как ей положено было начаться. Он со стыдом вспоминал недавнюю свою похвальбу — «мне, мол, воевать случалось». Никакого опыта войны у него не было, если не считать нескольких мелких стычек; убить могли и там, но настоящей войны он еще не знал, представлял себе ее лишь по рассказам Симона. И по тем рассказам выходило, что война — дело развеселое, где можно и силами помериться с достойным противником, и добычей поживиться, и на досуге развлечься с бабенкой не из пугливых. Развлечения и нажива Робера не привлекали, а помериться силами с врагом еще как хотелось бы, да где взять достойного?
Отряд Жиля держался указаний Марселя: в течение одной недели разрушили и предали огню крепости Палезо, Трапп, Энгьен и несколько усадеб в окрестностях Парижа, чем и нагнали страху на окрестных дворян. Кровопролития по возможности избегали, отряд почти не понес потерь, зато шуму и крику было много. В одной из усадеб (владелец даже не был дворянином) Пьер, разругавшись с хозяином, который не хотел безвозмездно снабдить их продовольствием и фуражом, велел подпалить все подворье, выпустив из хлева и конюшен запертый скот. Усадьба запылала разом с четырех концов под веселое улюлюканье ополченцев, а владелец, потеряв голову, схватил вилы и с ревом кинулся на Пьера. Его скрутили и, оглоушив, «чтобы малость поутих», бросили в канаву. Кто-то из молодых предложил вздернуть жадину, чтобы другим было неповадно, но Жиль не позволил. «Хватит с него, очухается — умнее будет…»
Робер хмуро наблюдал за всем этим, не понимая Пьера. Разве дело мужчин играть в войну? А ведь их действия иначе как игрой не назовешь, хотя и, безусловно, опасной игрой — количество врагов множится с каждым днем. И ведь никто потом не вспомнит, что Пьер избегал кровопролития, зато все дружно поднимут крик, что он пожег их дома и потоптал посевы. Глупая затея. Но чему удивляться? Ремесло буржуа — торговля, а не война.
Между тем крестьянский мятеж продолжал полыхать, охватывая с быстротой пожара близлежащие области. Теперь уже и многие города встали на сторону жаков; рассказывали, что Жан Сула — мэр города Мо, где в цитадели укрылась вместе со многими благородными дамами супруга дофина, — тоже собирает местное ополчение, посулив взять штурмом герцогиню и весь ее курятник. В эти дни, судя по слухам, основные силы жаков под командованием самого Гийома Каля, побывав в Бою, где учинили жестокую расправу над пленными дворянами, миновали Клермон и Компьень, не открывших перед ними своих ворот, и теперь идут на Санлис.
Робер в тревоге выслушивал сообщения о передвижениях крестьянских отрядов, боясь услышать, что они уже действуют в пределах Вексена. Конечно, Моранвиль хорошо укреплен и застать Симона врасплох не так просто, но там Аэлис, и одна мысль о возможной опасности заставляла его холодеть. Будь он неладен, этот «военный поход»! Бывали минуты, когда он едва сдерживался, чтобы не послать все к черту, злился на себя, на Пьера, на этих проклятых жаков, из-за которых жизнь Аэлис в любой день может оказаться под угрозой; только огромным усилием воли удавалось ему взять себя в руки, вспомнить, что долг есть долг и он не мог поступить иначе…
Порушив замки на юге и юго-западе, отряд Жиля направился в сторону Мо, где им надлежало соединиться с ополченцами Вайяна. Численность отряда к этому времени возросла более чем вдвое, дойдя до шести сотен; последствия же такого пополнения не замедлили сказаться самым худшим образом. Одичавшая и озлобленная толпа совершенно дикого люда (это были даже не местные вилланы, а скорее всего бродяги, сами не знающие, откуда они родом) превратила дисциплинированное вначале городское ополчение в огромную шайку грабителей, с азартом тащивших все, что попадало под руку.
Раздражение его росло, соратники и впрямь начинали казаться ему сущими безумцами. Ведь не сегодня завтра дворяне опомнятся, и тогда за каждую шелудивую овцу, за каждую меру заплесневелого зерна придется расплачиваться кровью. Видит бог, лучше бы думали, как объединиться, как защитить себя… Впрочем, что с них возьмешь? Не понимал он и Пьера Жиля, который окончательно махнул рукой на мародерство в отряде, занятый какими-то чисто гасконскими замыслами касательно цитадели города Мо. «Вот прихватим этих баб, тогда увидишь», — говорил он загадочно. Робер слушал его вполуха, сейчас его мучило одно: удастся ли воспользоваться всеобщей смутой, чтобы бежать с Аэлис из этих краев? Он даже мог рассчитывать на небольшой отряд, который Жиль обещал ему выделить, и было на что прожить первое время — еще в Париже хозяин щедро расплатился с ним за все месяцы службы. Но главное, с ним была любовь… любовь, о которой поют менестрели, — не ведающая ни страха, ни раскаяния…
Ни разу за все эти дни не подумал он о том, что не просто собирается бежать с любимой, но хочет украсть жену у человека, который любит ее не меньше, ни разу не подумал, как посмотрит в глаза отцу Морелю, если встретит его в Моранвиле. Не страшили ни смерть, ни вечные муки ада, только одного он боялся — снова потерять Аэлис… Терпение его было на исходе, и он решил, что покинет Жиля, как только тот двинется на Мо. Но в Корбейе их разыскал гонец от Вайяна, который вместе с людьми Каля участвовал в эти дни в осаде замка Эрменонвиль, и привезенные гонцом вести положили конец колебаниям.
Замок был взят и разрушен еще три дня назад, после чего между капитанами началась грызня. Взятие Эрменонвиля оказалось единственным согласованным действием городского ополчения с крестьянскими отрядами, дальше их интересы круто разошлись — каждый тянул в свою сторону. К тому же неистовая жестокость жаков испугала горожан и подтолкнула к полному разрыву: гонец был послан сообщить, что Жан Вайян намерен вести свой отряд прямиком к городу Мо, как и было договорено ранее, и полагает быть там не позднее кануна праздника святого Варнавы, то есть в девятый день июня.
Пьер Жиль слушал гонца, огорченно поглядывая на стоявшего рядом Робера.
— Озверели, говоришь? — Пьер с сомнением покачал головой. — Ну… в таком деле без крови не обойтись, ясное дело!
Посланец Вайяна, Жюстен, веселый парень, которого Робер не раз встречал в доме старшины монетчиков, хохотнул:
— Без крови? Ладно бы просто кровь, а там почище дела творились, мэтр Жиль. Одного барона живьем поджарили, точно кабанью тушу, да еще на глазах у жены и детей, их тут же связанными держали, заставили смотреть!
— А не врешь? И что же их капитан, сам-то Каль, неужто разрешил?
— Крест святой, не вру! — Жюстен перекрестился и с увлечением продолжал: — А что капитан? Капитана там не было, а пока хватился, готово! Беднягу уже изжарили, а супруга тут же, не сходя с места, ума лишилась. Каль хотел было поваров повесить, так не дали. Такое поднялось, чуть на него самого с вилами не кинулись. Одно слово, озверелый люд! И управы на них никакой нет. Ну, значит, поглядел на все это наш мэтр Вайян и наотрез отказался дальше впутываться в ихние дела. Спорили они с капитаном Калем долго, даже переругались, на том и разошлись. Каль в ту же ночь собрал отряд из самых доверенных и ушел — кто говорит к Парижу, кто другие места называет. Ну и остальные жаки тоже куда-то подались, вроде бы к Амьену, а там — сатана их знает. Всех к утру как ветром сдуло! — закончил Жюстен весело и подмигнул Роберу.
Робер отвернулся и отошел, ему не хотелось разговаривать с Жюстеном. Вообще ни с кем. Он тихо свистнул, подзывая Глориана; тот подбежал, ткнулся теплыми мягкими губами ему в плечо, шумно задышал над ухом. Ведя его в поводу, Робер отошел подальше и там, в поле, нарвав свежей травы, стал тщательно чистить лоснящиеся бока коня. Глориан удовлетворенно пофыркивал, нетерпеливо переступая ногами, и, видимо чувствуя настроение хозяина, нервно косил умным, горячим глазом. Впрочем, Робер уже спокойно думал обо всем услышанном. А что, собственно, нового? Такие вещи делались и будут делаться, пока не наступит второе пришествие и на земле не будет покончено со злом. Но вот что ему довелось об этом услышать, это как знак: нельзя больше медлить ни одного дня, ни одного лишнего часа…
Вернувшись к отряду, он разыскал Пьера и сообщил ему о своем решении. Пьер озабоченно помолчал.
— Эх, черт, как неловко выходит! Я тебе обещал, что отпущу, а теперь видишь какое дело — Колен де Три велит выделить часть отряда, чтобы идти на Жизор. Вот я и подумал… Моранвиль твой вроде ведь в тех краях?
— Да, там от Жизора рукой подать.
— Дело, понимаешь, в том, что ослушаться этого чертова де Три я не могу, — он командует всем ополчением, нравом же свиреп, за непослушание повесит не раздумывая. Может, пойдешь? А там, если что, сам с ним договоришься. Он ведь дворянин, и если ты скажешь, что боишься, мол, за дочку барона Пикиньи…
Робер глянул на него изумленно — выходит, Жиль все уже знал, не иначе Урбан проболтался, а может, еще кто. Но теперь это уже не имело значения. Спорить тоже не приходилось: как бы то ни было, он на службе и не подчиниться приказу командира не может. Колена де Три он немного знал еще по Парижу — это был один из тех немногих дворян, которые примкнули к восставшим, за золото или приключений ради согласившись осуществлять военное руководство. Мессир Колен был и впрямь свиреп, но отходчив; пожалуй, с ним можно будет договориться…
— Ну что ж, — сказал он, — надо так надо!
Занявшись подготовкой похода на Жизор, он все же снова отправил в Моранвиль Урбана (которого уже посылал к Аэлис в первый же день, когда в Париже стало известно о восстании) с еще одним малым, наказав немедля прислать малого обратно с известиями, все ли там благополучно, а самому оставаться в замке и во всем слушаться Симона.
— Госпоже передашь, чтоб ждала, долго мы под Жизором не задержимся, — сказал он. — И запомни, если с госпожой что случится, я тебя на медленном огне изжарю, вон как того барона — слыхал?
— Ну, это само собой, — согласился Урбан. — С меня одного жиру сколько натопите!
— Скачите немедля, разузнай там все, и чтобы он тут же возвращался. Мы на Жизор пойдем отсюда через Шеврёз, Трапп, Маньи-ан-Вексен — соображаешь? Вот пусть на этой дороге нас и разыскивает…
На следующее утро они распрощались с Жилем — тот повел отряд на север, к Мо, а Робер со своими людьми двинулся обратно на запад — по тем самым местам, где они недавно прошли, разоряя укрепления. Двигались медленно, но посланец Урбана догнал их лишь на четвертый день, уже под Жизором.
— Все там спокойно, — заверил он Робера. — Да у них и не было особой смуты.
— Что, совсем нет жаков?
— Почему нет, жаков там тоже хватает, они и в замке побывали.
Робер схватил его за ворот рубахи:
— Что ж ты, болван, говоришь, что все спокойно?!
— Так они никого не тронули — пришли, госпожа велела ворота открыть, хлеба им выдали, зарезали двух коров, бочку вина выкатили. Господин-то Симон не хотел, говорит — надо бы мессира Гийома дождаться, как тот скажет, да с госпожой ведь не поспоришь…
Посланец вдруг хихикнул, словно вспомнив смешное.
— Ты чего?
— Да ведь мессира-то им долго придется ждать! Я, уже как оттуда уехал, встретил ихних людей — как раз в замок поспешали. Я сразу смекнул, что неладное приключилось, потому как они с собой рыцарского коня вели, заседланного точно к бою, да без седока, только щит подвешен к седлу. Ну, расспросил, и выходит, что порешили жаки мессира Гийома…
— Как — порешили?
— А это уж я не знаю, только порешили его вместе с братцем ихним, они из Компьеня в Клермон ехали, там и угодили в засаду…
Робер снял шляпу, перекрестился. Мессира он пожалел, тот был не худшим из баронов, но, в общем, известие не очень его тронуло. Конец как конец! Пожил немало, большого зла не чинил, а значит, в чистилище не задержится… Но он сразу подумал об Аэлис — та, конечно, будет горевать, она любила отца. Ему снова захотелось оказаться сейчас рядом с ней, впрочем, сейчас это ни к чему. Лучше ей побыть одной. Пускай успокоится, да и чем бы он мог ей помочь? Сейчас нужнее отец Морель…
Под Жизором собралось к этому времени уже несколько отрядов ополчения из Парижа и других городов — тех немногих, что поддержали Марселя и парижан. Колен де Три похвалил Робера за то, что привел своих людей хорошо вооруженными и не растеряв половины по дороге.
— А то ведь эти твари разбегаются как крысы от каленой кочерги, — сказал он. — Трусливое отродье, разрази меня гром! Эх, зря я связался с этими мокрицами…
— Куда пойдем отсюда? — поинтересовался Робер.
— А дьявол их знает! Велено пока ждать и «собирать силы». Силы! В Вельзевулову задницу такое войско, — меланхолично изрек мессир Колен.
Глава 25
Гонец от Аэлис приехал в конце апреля, одарив Франческо почти забытым ощущением счастья, — таким непривычно нежным был тон ее письма; но радость оказалась недолгой. Не слишком ли много ласковых слов? Подозрения вернулись, теперь уже с удвоенной силой. Странной была вся эта затея — ехать в Париж, охваченный мятежом, — зачем? Насколько помнится, Аэлис никогда не рассказывала о такой уж нежной дружбе с кузиной де Траси; Мадлен даже не было на их свадьбе! Зато в Париже тот наглый оруженосец. Не хотелось допускать такой мысли, и все же… Не выдержав, он поделился своими подозрениями с другом, но тот его высмеял, хотя в душе опасался еще худшего.
— …черт побери, — кричал Джулио, — ты становишься ревнивцем, точно выживший из ума подагрик! Да, согласен, нрав у монны Аэлис бывает несносный, и я первый — вспомни! — порой советовал тебе хорошенько ее поучить. Но нельзя же за ее капризами всякий раз усматривать увлечение очередным оруженосцем!
— Не прикидывайся, будто не понимаешь, — устало сказал Франческо. — Кто тебе говорит об очередных? Я о том парне, что исчез из замка перед нашей свадьбой. Ты не обратил внимания, какой конь был у него под седлом? Ха, один из лучших в тамошней конюшне, да еще в полном убранстве! Так вот, Беппо дознался, что коня этого ему подарила Аэлис. Ничего себе очередной! Очередным таких подарков не делают.
— Подумаешь — конь! Каприз избалованной девчонки, не более того. В конце концов, их вроде бы связывала детская дружба?
— Брось, Джулио. Не ты ли сам советовал мне избавиться от мальчишки…
— Да, советовал! Оставлять его в замке было неразумно, но что из этого следует? Что, теперь при каждой твоей отлучке монна Аэлис будет сломя голову мчаться в Париж, дабы украсить тебя рогами? Да ты спятил!
— Наверное, я действительно не в своем уме, — печально согласился Франческо. — У меня уже просто нет сил…
Силы его и в самом деле были на исходе. Кончался второй месяц со дня отъезда из Моранвиля, но разлука ничему не помогла. Что Аэлис его не любит, он понял уже давно. Понял — и смирился, трезво понимая свою неблаговидную роль в этой драме. Жила в глуши наивная девочка, не избалованная ни богатством, ни обилием поклонников; жила в давней — с детства — дружбе с простым деревенским парнем, которого потом решили почему-то (уж не с ее ли подсказки) перевести в замковую стражу, и при ежедневном общении странно было бы, если бы дружба не переросла в нечто совсем иное…
И вдруг является он — со своим золотом, со своими куртуазными манерами, со стихами Петрарки и рассказами о путешествиях. Как тут было не увлечься? Понятно, что увлеклась. Но надолго ли могло этого хватить… Мысль о том, что жена его разлюбила, не была оскорбительна — не он первый. Оскорбляла — и терзала безжалостно — мысль о ее возможной измене. Не мысль даже, а леденящая кровь уверенность, что это случится рано или поздно. Если еще не случилось!
Что касается Джулио, то он успел монну Аэлис уже чуть ли не возненавидеть. Он часто желал ей скорой и по возможности безболезненной смерти, сам был бы не прочь при удобном случае удавить своими руками. Удавил бы не задумываясь, знай только наверняка, что это освободит друга от чар кельтской ведьмы. Но вот это было сомнительно! Похоже, бедняге Франчо ничто уже не может помочь, разве что время…
А время не помогало. Безразличие ко всему овладевало Франческо, знакомые раздражали, женщины вызывали отвращение. Представители других банкирских домов, старики, имевшие дело еще с Донати-старшим, не узнавали младшего. В Льеже достопочтенный Гвидо Анзолли, старейшина тамошних ломбардцев, пригласил их к себе, и отказаться на сей раз было невозможно. За ужином гости не могли надивиться происшедшей с Франческо перемене — еще недавно молодой глава дома Донати был не только умелым дельцом, но еще и обходительным кавалером, остроумным мастером застольной беседы. В этот же вечер всех поразила его хмурая подавленность. Он почти не прикасался к еде, зато много пил, угрюмо отмалчивался или отвечал невпопад, а когда стали говорить о тонкой банковской операции, с помощью которой мессир Гвидо сумел ловко обойти своего мадридского коллегу, Франческо слушал с таким безучастным видом, что все поняли — даже дела перестали его интересовать. Это было невероятно! Когда встали из-за стола, хозяин подхватил Джулио под руку и отвел в сторону:
— Я не буду ходить вокруг да около, ты уж не обижайся на старика. Какая беда скрутила нашего Франчо? Он ведь на себя непохож!
Джулио давно ждал этого вопроса, поэтому не растерялся и отвечал почтительно, но твердо:
— Простите, но его заботы — это его заботы, и не мне их обсуждать.
Ломбардец сердито фыркнул:
— Ты глупец! Я знал его деда, дружил с отцом, так неужто спрашиваю из праздного любопытства? Говори прямо, помочь могу?
— Нет, мессир, не можете. Ни вы, и никто другой.
— Стало быть, дело в бабе. — Старик Анзолли понимающе кивнул. — Уж не жена ли его тут виной, дочка этого, как его там… Ну что ж, я всегда говорил, что Франчо когда-нибудь доиграется со своим неистовым блудом. Но как только ему в голову могло такое прийти — взять в жены француженку! Все они, если разобраться, сущие путаны.
— А эта, говорят, еще и кельтских кровей, — не удержался Джулио. — Слыхали про таких? Это значит, что она не просто путана, но еще вдобавок и стрега.[82] Она напустила на него чары!
Старик набожно перекрестился и поцеловал один из висящих на груди медальонов, тщательно перебрав и найдя самый подходящий к случаю.
— Да, мне приходилось слышать о подобных делах, — сказал он сокрушенно. — Это уже худшее, что можно себе вообразить! Если к распутству добавить ведьмовство, то от такой женщины живым не уйдешь. Джулио, прислушайся к совету старого, много повидавшего человека и преданного, поверь, друга семьи Донати. У нашего бедного Франчо есть лишь один выход: такую жену надо убить.
— На это он не решится, — с сожалением сказал Джулио.
— Боюсь, ты прав, — вздохнул Анзолли, глянув на сидящего поодаль Франческо. — Ты прав, он уже не мужчина. Но тогда ты, Джулио! Донати столько для тебя сделали, хотя бы из благодарности окажи ему эту услугу…
— Я? — испуганно переспросил Джулио. — Помилуйте, мессир… Не скрою, мне часто хотелось удавить монну, но чтобы вот так — в действительности… Все-таки какая ни есть, а она жена моего друга!
— Эх вы, молодежь! — Анзолли махнул рукой и отошел в сторону, явно утратив интерес к разговору.
Джулио пожал плечами: «Возможно, мы, молодые, уже не таковы, какими старики хотели бы нас видеть, но и не всякого старца можно счесть примером здравомыслия. „Окажи ему услугу“, черт побери! Легко сказать, а как он себе это представляет на деле?»
За ужином Франческо изрядно выпил, слугам даже пришлось подсаживать его в седло. Он вообще не был, как говорят французы, «врагом бутылки», любил и умел кутнуть, но прежде все бывало по-иному — опьянение связывалось с чем-то приятным, будь то общество друзей, удача в делах или любовная интрижка. Слегка захмелев (помногу он никогда не пил), Донати делался особенно остроумен и галантен, веселье било из него через край, и в таком состоянии дамы находили его совершенно неотразимым. Не случайно большинство своих куртуазных побед Франческо одержал в союзе с Вакхом.
Сегодня же, напротив, хмель лег на душу гнетущей тяжестью, веселья не было и в помине. С трудом удерживаясь в седле (не хватало лишь свалиться наземь, подобно пьяному скифу!), Франческо не отвечал на болтовню едущего рядом Джулио и мысленно проклинал его за то, что уговорил принять приглашение, а себя еще больше — за то, что дал уговорить…
Ночью ему было совсем худо. С похмелья обычно сон крепок и хорошо прочищает мысли, но сегодня не было и этого: Франческо проснулся под утро совсем разбитым, во власти то ли неясной тревоги, то ли стершегося воспоминания о чем-то приснившемся. Вспомнить, что именно снилось, он не мог, но это было связано с Аэлис, с какой-то явной для нее угрозой или опасностью. Будучи вольнодумцем, Франческо не склонен был преувеличивать значение снов и отваживался утверждать, что далеко не все они предвещают грядущее, но сейчас он испугался, вспомнив услышанный вчера за столом обрывок разговора о том, что на севере Франции неспокойно: вокруг Бою вилланы бунтуют и жгут замки.
Это не так уж и близко от Моранвиля, подумал он с облегчением, но все же хорошо, что Аэлис в Париже. Париж, конечно, тоже не назовешь теперь спокойным местом, но эта ее родственница, кажется, близка ко двору герцогини Нормандской, и уж какую-то безопасность супруге дофина и ее окружению, надо полагать, все же постараются обеспечить…
Успокаивая себя этой мыслью, Франческо снова задремал, однако сон повторился — такой же неясный, как в тумане, но по оставленному впечатлению еще более тревожный. Поэтому за завтраком Франческо сказал, что немедленно возвращается во Францию.
— Ну, если тебя так встревожили твои сновидения, поезжай, — сказал Джулио, — а я закончу здешние дела и последую за тобой. Но ты не забыл, что вызвал сюда Гуарди из нашей парижской конторы? Он должен приехать со дня на день; может быть, разумнее было бы его дождаться? В конце концов, ты ведь не знаешь, в Париже ли сейчас монна Аэлис, — там неспокойно, семейство де Траси могло оттуда уехать, и твоя жена могла тоже уехать с ними или вернуться в Моранвиль. Где ее искать?
Франческо не мог не признать правоту друга и, подавив нетерпение, согласился дождаться приезда управляющего. Тот приехал через неделю, и все это время слухи о событиях во Франции становились все более тревожными — бунт, похоже, разрастался и грозил обернуться серьезной смутой. Слушая вести о поджогах замков и нападениях на дворян, Донати уже жалел, что уступил другу и не вернулся раньше. Хотя верно и то, что было совершенно неизвестно, где теперь Аэлис.
Гуарди наконец добрался до Льежа, был немедленно принят патроном и стал обстоятельно рассказывать о деятельности Парижского отделения банка Донати. Франческо слушал его внешне спокойно, листал бумаги и не мог только унять предательской дрожи в руках.
— Благополучно ли прибыла в Париж монна Аэлис? — спросил он наконец, передавая Джулио наспех просмотренные счета. — Беппо с ней? Он обращался в контору за деньгами?
Управляющий поднял брови:
— Разве госпожа в Париже? Мне об этом неизвестно, мессир. Беппо заезжал, когда ехал к вам в Гент, и на обратном пути тоже, но он ни словом не обмолвился о приезде госпожи…
Франческо помолчал, прикусив губу.
— А семейство де Траси? — спросил он. — Ты должен знать — они наши клиенты. Они сейчас в Париже?
— Насколько мне известно, мессир, Мадлен де Траси покинула Париж вместе с двором герцогини Нормандской.
— А где сейчас двор герцогини?! — крикнул Франческо, уже не владея собой.
— Говорят, укрылся в крепости Мо, так я слышал.
— Когда они туда уехали?!
— Да вроде не так давно, но точно не знаю, не интересовался, по правде сказать. Поскольку был занят составлением отчета…
Ни о чем более не спрашивая, Франческо обернулся к другу. Голос его был ровный, но какой-то чужой:
— Значит, в Мо, Джулио, и немедля!
Льеж уже был охвачен тревожными слухами, и нанять дополнительную охрану, без которой безумием было бы пускаться в дорогу, оказалось не просто — мало кто хотел угодить в пекло, которым стали в эти дни северные французские провинции; только посулив королевское вознаграждение, им удалось наконец сколотить отряд в десять человек, прихватив с собой и Гуарди с его слугой. Они покинули Льеж на закате солнца, и скачка началась — бешеная, изнуряющая, на износ…
В превосходном настроении возвращались из дальних краев граф Гастон Феб де Фуа и его кузен, такой же неутомимый искатель приключений, капитан де Бюк. Оставшись год назад — после Бордоского перемирия — без достойного рыцарей дела, они услышали о Крестовом походе, затеянном Тевтонским орденом против каких-то тамошних язычников — то ли эстов, то ли пруссов, то ли московитов, кузены мало в этом разбирались. Меченосцы Тевтонского ордена слыли варварами, но Крестовый поход есть Крестовый поход, и если рыцарям христианского мира почти сто лет не удается помериться силой с неверными в Святой земле, то грех упустить случай потрепать язычников хотя бы в Пруссии. Кузены так и сделали: проехали насквозь всю империю, до самых берегов холодного белесого моря, где драгоценный янтарь находят прямо в песке, словно ракушки; вдоволь подрались, попьянствовали и поблудили, истратили до последнего лиара четыре тысячи золотых экю, взятые в долг у еврея в Брюгге, и наконец, стосковавшись по солнцу родной Гаскони, тронулись восвояси. Чем кончился крестовый поход против эстов, они так и не поняли.
На обратном пути, уже в Шалоне, судьба послала им известие, о каком иной странствующий рыцарь тщетно мечтает всю жизнь. В харчевне, где они остановились, все только и говорили о прекрасных дамах, осажденных в какой-то крепости толпою взбунтовавшихся мужиков; граф велел позвать хозяина и расспросил его сам.
— Похоже, кузен, мы подоспели в самый раз! — воскликнул он, выслушав рассказ об осаде Мо. — Этот болван Карл не мог придумать ничего лучше, как оставить свою Жанну со всем ее двором на каком-то Рынке, а сам таскается неведомо где! Придется нам разогнать обнаглевшее мужичье. Хвала Господу, что подгадал нас вернуться в такой момент!
— Разгоним, — согласился немногословный де Бюк.
И отряд, вместо того чтобы следовать дальше своим путем на Труа и Осер, тронулся берегом Марны на запад, в сторону Эпернэ.
В Шато-Тьери, когда до осажденной крепости оставался один дневной переход, они встретили знакомого, с которым пили в Льеже две недели назад, и Жюль сказал им, что тоже спешит в Мо со своим другом — флорентийцем, жена которого попала в осаду со свитой герцогини.
— Какое совпадение! — изумился граф Феб. — Но тем лучше, присоединяйтесь к нам. Вы выехали из Льежа вслед за нами?
— Мы пять дней как оттуда.
— Пять дней?! — не поверил де Фуа.
— Да, но как мы гнали! Вы не поверите, но у меня от зада ничего не осталось…
— Нарастет, — утешил де Бюк.
— Надеюсь. А, вот и мой друг! Иди сюда и позволь представить тебе наших попутчиков из Льежа — помнишь, я тебе рассказывал… Сеньоры тоже спешат в Мо.
— Мы знакомы, — сказал второй итальянец. — Если помните, граф, два года назад, в Авиньоне.
— Ну конечно же! Теперь помню отлично; в первый миг ваше лицо показалось мне знакомым, но потом я подумал — нет, ошибся. Вы изменились, сеньор Донати!
Сейчас и в самом деле трудно было бы узнать Франческо даже тем, кто видел его не так давно. Сильно похудевший, с обветренным, загоревшим лицом и свалявшимися от пыли волосами, он сейчас мало походил на прежнего изнеженного щеголя. Да и лет ему можно было сейчас дать на добрый десяток больше.
— Я слышал, вы женились на дочери одного из Пикиньи, — продолжал граф де Фуа, — это которого же?
— Моим тестем был Гийом де Пикиньи, сьёр де Моранвиль.
— Был?
— Третьего дня мне сообщили, что мессир Гийом убит Жаками. Вместе со своим братом Тибо, сьёром де Монбазон.
Граф и де Бюк перекрестились.
— Печально, надеюсь, они успели прихватить с собой хоть полдюжины мерзавцев. Какое счастье, мессир Франсуа, что вы заблаговременно отправили свою юную супругу ко двору герцогини; я много наслышан о красоте дамы Аэлис. Представляю, как она извелась без вашего общества! А вам не кажется, что это неосторожно — уезжать так надолго, будучи чуть ли не новобрачным? А то ведь, знаете, молодые дамы бывают иной раз так проворны и хитроумны, что поди их устереги! — Де Фуа подмигнул и расхохотался, не заметив, как еще больше потемнело лицо итальянца.
Джулио, от внимания которого это не укрылось, поспешил перехватить разговор.
— Говорят, Мо осажден огромными бандами пополанов, — сказал он, — там и парижское ополчение, и какая-то шушера из местных…
— Огромными, вы сказали? — оживился де Фуа.
— Меня уверили, что там собралось не менее шести сотен этой сволочи. К сожалению, это десятикратно превышает численность нашего отряда…
— К сожалению?! — негодующе воскликнул граф. — Вы удивляете меня, ведь это просто замечательно, что их больше! Какая же честь дворянину разбить врага слабого и малочисленного? Тем более когда речь идет о черни! Их и должно быть больше, много больше. Вы согласны, кузен?
— Руки только марать, — буркнул де Бюк, презрительно покосившись на флорентийца.
Сведения Джулио были верны. В этот день — пятницу 8 июня, что приходилось на канун праздника святого Варнавы, — парижские ополченцы с развернутыми знаменами вступили в город Мо. Их встречали радостными криками, цветами и угощением, на площади были расставлены столы; в городе царили веселье и уверенность в несомненной победе. Все предвкушали скорое взятие цитадели на Рыночном острове.
Командовавший ополченцами Пьер Жиль не очень верил в успех, но возражать не стал, — возможно, это и впрямь их последний шанс. Мысль захватить заложниками семью дофина принадлежала Марселю; мысль опасная, но говорить о благоразумии было поздно.
Утром подошел второй отряд парижского ополчения, которым командовал Жан Вайян, и было решено штурмовать остров немедля. Вооруженные отряды горожан, выставив впереди лучников, заняли подступы к каменному мосту, соединяющему город с крепостью. Остров, на котором она располагалась, был искусственный, с одной стороны его омывала Марна, с другой — канал Корнийон. Высокие стены с могучими круглыми башнями опускались прямо в воду, и войти в крепость можно было только через этот единственный мост. Даже малого гарнизона было достаточно, чтобы защитить Рынок, — в этом дофин не ошибся; но и осаждавшие не понесли бы большого урона, если бы не де Фуа. Неопытные в военном деле и потому беспечные, горожане даже не заметили, как отряд графа проник в город. Защитники крепости сделали внезапную вылазку, и, когда на мосту завязался бой, гасконцы ударили с тыла. Закованные в броню рыцари зажали осаждающих на узком мосту, и исход боя был предрешен. Первыми дрогнули парижские лучники — в тесноте и давке лишенные возможности воспользоваться своим оружием, они побежали, сея смятение и страх в собственных рядах. Напрасно метался Пьер Жиль, призывая их образумиться и не бросать товарищей, его просто не слышали. Собрав своих «ветеранов» — ополченскую пехоту, — он долго и исступленно бился у самого подступа к проклятому мосту, а потом пришлось отступить и им. Все громче раздавались ликующие крики рыцарей, смешиваясь со стонами и проклятиями умирающих; Пьер Жиль тоже что-то кричал, пот заливал ему глаза, сердце рвалось из груди, а рука, которой он рубился, точно одеревенела. Он уже понял, что попытка взять остров штурмом провалилась, продолжать губить людей было бессмысленно. И Пьер Жиль, уводя с собой остатки поредевшего отряда «ветеранов», стал пробиваться в город.
На следующий день подоспели новые рыцарские дружины, началось избиение повстанцев. За ними охотились, травили как диких зверей. Мэр Жан Сула был повешен, город подвергся разграблению и горел две недели. А затем запылали окрестные деревни; не довольствуясь учиненной в Мо расправой, рыцари рассыпались по окрестным селениям, сжигая их дотла и убивая без разбору. Наконец-то наступил сладостный час возмездия!
Еще неделю назад Франческо и не подумал бы ввязаться в смуту, тем более на стороне дворян, но так получилось, что жаки оказались на его пути: там в крепости была Аэлис, он обязан был ее защитить; всякий, кто был в этом помехой, становился его врагом. И он убивал без жалости и колебаний.
Мало что запомнилось Франческо из схватки на мосту, где был он ранен; почему-то особенную ярость вызвало в нем то, что там оказались парижские ополченцы — горожане, которым он всегда сочувствовал и которые сейчас вознамерились отнять у него Аэлис… Наверное, чрезмерная ярость его и подвела, и, если бы не подоспевший в последний миг Джулио, быть бы ему сейчас в числе мертвых. Тот же верный Джулио помог выбраться из схватки и дотащил на себе до ворот цитадели, куда уже въезжали латники де Фуа.
Голова Франческо кружилась, в ушах звенело, — похоже, он потерял немало крови. В крепости, наскоро перевязанный и едва придя в себя, он кинулся расспрашивать о де Траси, но найти Мадлен среди множества всполошенных дам было не просто. С бьющимся сердцем бросался Франческо к каждой новой группе женщин, ища глазами Аэлис, ведь она могла быть где-то тут, рядом…
Рана снова начала кровоточить, и он уже с трудом держался на ногах. Наконец их окликнул маленький паж.
— Не вы ли, сеньоры, разыскиваете мадам Мадлен де Траси? — спросил он, вынырнув из самой гущи взволнованно кудахтающих женщин.
— Где она?! — крикнул Франческо и сам не узнал своего голоса.
— Мадам здесь, рядом! Я сейчас… — И мальчик кинулся назад, мигом затерявшись в толпе.
Франческо увидел Мадлен. Высокая, белокурая молодая женщина шла им навстречу, тревожно вглядываясь в незнакомца, а потом ахнула и заторопилась.
— Вы ли это, сеньор Донати?! Какими судьбами?! А кузина Аэлис? Она что, неужели тоже… — Недоговорив, она остановилась, испуганно глядя на Франческо.
Он уже все понял, едва только она заговорила, и все же заставил себя спросить:
— Разве Аэлис не с вами? Разве она не была… в Париже?
— А она должна была приехать в Париж? — Мадлен удивленно подняла брови. — Я впервые об этом слышу!
Глава 26
В Моранвиле оплакивали сира Гийома. Каждый день служились в замковой капелле заупокойные мессы, и народу набивалось много — не пройти. Все решили, что хозяином он был добрым, а уж рыцарем — одним из первых в королевстве; если и было что плохое, то теперь это забылось, тревога за будущее окрашивала прошлое во все более светлые тона.
А тревожиться приходилось, потому что неведомо было, кто теперь будет в замке управителем. Хорошо, если останется Симон; а ну как пришлют кого со стороны? Все дело в том, объяснял Филипп, как судьи в парламенте решат насчет наследства. А решать сей казус будет юридически не просто, ибо он запутан чрезвычайно: феод мог перейти либо по прямой нисходящей линии — к дочери сьёра де Моранвиль, либо по косвенной — к кому-либо из братьев. А мог и к сыну Тибо, Тестару, ибо отцовский феод унаследовал не он, а его старший брат. Конечно, не так уж много прав у этого Тестара, зато проворства хватит на троих, его легисты могут апеллировать к салическому закону, по которому женщина власть не наследует. Вопрос — какую власть? Закон говорит о королевской, но истолковать его могут и в таком смысле, что получится — о любой. Большая ли, как у короля, или малая, как у барона, власть остается властью. Еще же более, добавлял Филипп, осложняется дело тем обстоятельством, что молодая госпожа вышла замуж за чужеземца и, что всего хуже, не дворянина; тут уж легисты Тестара своего не упустят, вцепятся, что гончие в оленя…
Сам Филипп ожидал худшего. Он совсем пал духом в эти дни, слишком уж привык хорониться за спиной сира Гийома, и то и дело приходил к Симону за поддержкой и утешением. А у того хватало своих забот, иной раз он с трудом удерживался, чтобы не выкинуть рыжего мозгляка в окно, как однажды покойный Тибо выкинул отца Мореля.
Симон не столько горевал по мессиру, сколько тревожился состоянием молодой госпожи. С мессиром все было в порядке: от смерти никуда не денешься, а смерть от оружия — вообще лучшее, на что мужчина может рассчитывать. Не гнить же в постели от болячек! Да и пожить сир Гийом успел вдоволь. Когда убивают совсем молодых — это жаль, а так что ж… Но вот с госпожой было неладно, и это Симона тревожило, даже пугало.
Он хмурился, вспоминая день, когда оруженосец Анри принес черную весть. Аэлис так билась и кричала, кощунственно требуя от Бога какой-то для себя кары, что ее пришлось спеленать, как малого ребенка, — иначе разбила бы себе все лицо. Такой скорби он еще не видал, а уж ему-то довелось повидать всякого. Госпожа горевала больше, чем может горевать мать, потеряв последнего сына, или оставшаяся без кормильца вдова с дюжиной детей. Да и те, коли они добрые христиане, так не убиваются. А этой чего? Плоть мессира ее отца окончила свой земной путь вполне достойно, а о душе, насколько понимал Симон, беспокоиться нечего. Покойный не был таким уж закоренелым грешником, без нужды никого не обижал, храмов не грабил, монастырей не жег, посты, когда мог, соблюдал…
Может, Аэлис знала про отца такое, чего не знал Симон? Да нет, тут дело не в отцовских грехах, она себя за что-то винит. Но с этим пусть уж разбирается отец Морель.
Без старого попа Симон вообще не знал бы, что и делать. Отец Эсташ в замок так и не вернулся; тело мессира предали земле в Клермонском аббатстве, и там же остался негодный капеллан — под тем предлогом, чтобы служить заупокойные мессы, на самом же деле попросту испугался снова пускаться в путь по мятежным местам. Хорош пастырь — разрази его гром! — даже не подумал о своей духовной дочери. Насколько капеллан и рыжий легист показали всю свою душевную хлипкость, настолько отец Морель — неожиданно для тех даже, кто знал его много лет, — оказался тверд как скала. Он выходил молодую госпожу: поил травами, подолгу с ней тихо о чем-то говорил, даже спал в каморке неподалеку, строго наказав Жаклине звать немедля, если ночью проснется и опять станет плакать.
Мало-помалу Аэлис успокоилась, стала даже отдавать распоряжения по хозяйству. Но была она теперь совсем другая — суровая, словно замкнувшаяся от всех, ни для кого не находящая доброго слова или хотя бы теплого взгляда. Ходила все время в старом темном платье, почти рубище, босая и простоволосая, и большую часть суток проводила в часовне. Лишь однажды вышла она из своей отрешенности, когда навстречу ей в недобрый час попался Урбан. Придя вдруг в неистовое бешенство, Аэлис осыпала беднягу самыми страшными проклятиями и стала кричать, что, если он, исчадие Сатаны, тотчас не уберется из замка, она велит утопить его во рву, как паршивую собаку.
Симона, как на грех, поблизости не оказалось, а прибежавшие на крик стражники, недолго думая, схватили Урбана и пинками вытолкали за ворота, не дав даже забрать узелок с пожитками. Бедняга, ничего не понимая, но окончательно удостоверившись, что в госпожу вселился бес (хорошо еще, если один, а то ведь они обычно промышляют шайкой, точно рутьеры), решил, что без попа тут не обойтись, и отправился в деревню.
Отец Морель хмуро выслушал его рассказ, а рассуждения о числе и свойствах вселившихся бесов прервал, огрев Урбана посохом по лбу.
— Не твое дело судить о столь тонких материях, — сказал он. — Ты знаешь, что делают в преисподней с болтунами?
— Да я ведь к чему — думал, может, изгонять пора, — виноватым тоном ответил Урбан. — Я в Париже видел, как из одной изгоняли. Ох ее же и корчило! Ровно тринадцать их выскочило.
— Дурак, ты считал?
— Не, мне плохо было видать. Люди считали — говорят, тринадцать.
— Дурак, — повторил отец Морель. — У госпожи Аэлис никогда не было падучей, она здоровая женщина. Жить будешь у меня.
— Да я в Париж думал, раз такое дело получилось…
— В Париж ты сейчас не пойдешь, господин Робер должен знать, где тебя найти. Он тебя здесь оставил, здесь и сиди. А сейчас ступай в лес, наруби хворосту, может, дурь за работой и выйдет.
Урбан послушно достал с полки топор. Из деревни они вышли вместе, на развилке расстались, и отец Морель направился к замку.
Аэлис он нашел в капелле — она лежала на полу, раскинув руки крестом и прижавшись щекой к истертой ногами каменной плите. Отец Морель обошел ее вокруг и тронул посохом.
— Встань! — сказал он сурово. — Встань и выйди отсюда, таким, как ты, здесь не место. Не смей оскорблять Спасителя лживой молитвой!
Таким тоном он еще никогда с ней не говорил. Аэлис вскочила и осталась стоять на коленях, глядя на него так, словно не верила своим ушам.
— Лживой? — переспросила она тихо. — Это у меня — лживая молитва?
— Да, у тебя! Сердце твое окаменело в ожесточении и гордыне, а с таким сердцем не приближаются к алтарю. Что тебе сделал этот добрый человек, которого ты выгнала, как пса?
— Вам ли спрашивать! Или вы забыли, кем он здесь оставлен?! А я не должна — не хочу никакой памяти о нем!!
— Тогда и раскаяние твое было таким же лживым. О ком ты не хочешь памяти — о человеке, которого сама склонила к блуду? Или ты забыла, что рассказывала на исповеди — как уговорила отца уехать, как послала кольцо…
— Не надо!! — закричала Аэлис, прижав ладони к ушам.
— …чтобы вызвать сюда Робера и впасть с ним в грех? Его это не оправдывает — заповедь Господа нашего он нарушил в здравом уме и по своей воле. Но твоя вина больше, ибо ты сама — вспомни! — сама все это задумала, позволив бесу похоти угнездиться в твоем сердце и овладеть твоими помыслами…
— Простите меня! — Она поползла к нему на коленях, схватила обтрепанный край сутаны, прижалась лицом к пыльной, грубой ткани. — Простите, отец мой!
— Не у меня проси прощения. Не у меня!
До Тестара де Пикиньи, находившегося с самой зимы в войсках Наварры, известие о гибели отца и дяди дошло в начале июня. Нельзя сказать, что он был сражен горем, но ярость его и жажда мести были неподдельны: проклятое мужичье осмеливается поднимать руку на дворян! Он поклялся отомстить страшной местью всем, хотя бы косвенно виновным в их смерти.
Вести, особенно дурные, расходятся быстро. И случилось так, что вскоре дошел до Тестара рассказ о том, какой радушный прием был оказан нечестивым жакам в замке Моранвиль; словно в насмешку, явились они туда в первый день июня, то есть именно тогда, когда и совершилось злодейское нападение на дороге в Клермон. Лицо Тестара, когда он узнал об этом, стало страшным. Великое бесчестье нанесено всему роду де Пикиньи, и кем же? Самой дочерью покойного! «Сука подлая! — орал, беснуясь, Тестар. — Распутная тварь!»
Зная расстояние от Клермона до Моранвиля, он хорошо понимал, что не только Аэлис не могла еще в тот день знать о смерти отца, но и подступившая к замку шайка жаков явно не была причастна к его убийству, но какое это имело значение?
Кузину свою он возненавидел еще с того памятного февральского вечера, когда она осмеяла его и выгнала из замка. Вообще-то, Тестар, толстокожестью весь пошедший в отца, коего недаром звали Вепрем, мог и не обратить внимания на подобный афронт, но тот случай его задел и оскорбил по-настоящему. С тех пор и затаил он желание рано или поздно поквитаться с гордячкой. Еще больше он сатанел, когда думал о ее браке с паскудным красавчиком-ломбардцем; эта дрянь, ясное дело, польстилась на золото. Его, родича, наследника знатного пикардийского рода, отвергла — а предложить себя подлому торгашу не постеснялась!
И теперь первой его мыслью было, что уж на этот-то раз он с ней сочтется; а вторая мысль была о наследстве. Она пришла не сама, ее высказал брадобрей Бодри — самое доверенное лицо из Тестаровой челяди и мерзавец, каких мало; подлости его дивился порой сам Тестар. Он-то и подсказал — когда господин метался по шатру, пиная скамьи и громко понося шлюху-кузину, — что дама Аэлис осталась теперь вроде бы законной, насколько он, Бодри, может судить, наследницей Моранвиля; а жаль, потому что если бы не она, то феод достался бы мессиру — как родному племяннику усопшего, еще не имеющему своего феода…
Услышав это, мессир племянник перестал орать и метаться. Бодри проворно подставил уцелевшую от разгрома скамью, поднял и заботливо протер полою погнутый оловянный кубок. Тестар сел, потребовал вина. Когда вино принесли, он стал жадно пить прямо из кувшина, потом грохнул кувшином об стол и перевел дух.
— Ну, выкладывай, что еще придумал, — велел он, утирая рукавом небритый подбородок.
— Я только хотел обратить внимание вашей милости, — угодливо сказал Бодри, — что ежели, к примеру, стало бы известно, что действия дамы Аэлис споспешествовали распространению смуты, то ей, будучи обвиненной в пособничестве и злой измене, куда труднее было бы отстоять свое право наследования…
— Да как же они не спо… не спосше… — тьфу, черт, не выговоришь! — ежели эта паскуда раскрыла перед злодеями ворота, кормила их и ублажала и, наверное, выдала им все оружие, что было в замке!
— Если и не выдала, то этого никто не знает, — подсказал Бодри. — Пусть станет известно, что выдала. И пусть это станет известно всем. Чем больше об этом будут говорить, тем легче мы сможем…
— «Мы»! — усмехнулся Тестар, снова потянувшись к кувшину. Бодри подскочил, налил в кубок, подал. — Кто это «мы»? Говори, тварь, да не заговаривайся, если не хочешь отведать плетей… Впрочем, ты прав. Если дело выгорит, хочешь быть управителем Моранвиля?
— С вашего позволения, нет. Я хотел бы всегда неотлучно находиться при вашей милости.
— Верно, — кивнул Тестар, — нам друг без друга не обойтись. Придется оставить в Моранвиле Симона.
— Это было бы большой ошибкой, мессир…
После разговора с брадобреем Тестар велел созвать на ужин побольше народу и не жалеть ни вина, ни припасов. Вечером в его шатер набилось более двадцати человек — самого Карла д’Эврё в лагере не было, но пришли некоторые дворяне из его свиты, все выражали сочувствие вдвойне осиротевшему молодому рыцарю и клялись перебить подлое мужичье без остатка. Сирота принимал соболезнования с сокрушенным видом. Когда выпито было много и кое-кто из гостей уже — за неимением под рукой парочки-другой вилланов — порывался рубить подпорки шатра, Тестар признался еще в одной постигшей его беде: кузина, дочь покойного дяди Гийома, с коей они дружили с детства, забыла свою дворянскую честь и спуталась с мужичьем — принимала их у себя в замке и снабдила едой и оружием.
Гости встретили известие так, что Тестар понял — кое-кто об этом уже слышал. Верно, Бодри поработал через слуг. Все были скорее смущены: действительно, дело некрасивое, но семейное, а кто станет высказываться по поводу чужих семейных дел? Аэлис знали многие, помнили недавнюю ее свадьбу. Кто-то из рыцарей высказал мнение, что тут не обошлось без порчи и виновник, скорее всего, не кто иной, как проклятый ломбардец; все, видевшие его тогда, сошлись во мнении, что вмешательство злых сил налицо: не может честный христианин иметь сразу столько видимых достоинств: красив, богат, учтив, да к тому же еще и обучен письму, чтению и счету, да и многому другому, чего и знать не положено…
— Я вот теперь просто не знаю, что и делать, друзья мои, — сказал Тестар, делая знак снова наполнить кубки. — Кузину мне жаль, но если она и впрямь…
— Если дама забывает честь, ее следует заточить в монастырь, — сказал кто-то. — Что с ней еще сделаешь? Не на поединок же вызывать.
— А ломбардца изловить и сжечь! Друг Тестар, если ты этого не сделаешь, то не будет тебе прощения ни на том свете, ни на этом!
Предложение было шумно одобрено, и многие тут же объявили, что ехать ловить ломбардца надо немедля и всем, прихватив с собой побольше собак; известно ведь, что колдун может в одночасье перекинуться хоть лисой, хоть зайцем. Тестар поблагодарил гостей и сказал, что расправиться с нечестивцем они успеют, а пока ему надо будет съездить в Моранвиль — попробовать потолковать с кузиной по-родственному и точно узнать, что же она там натворила.
Попойка длилась почти до утра, и Тестар проснулся, когда солнце стояло уже высоко. Люди, которых он отобрал накануне, дюжина отъявленных головорезов, ждали поодаль от шатра — кто метал кости, кто точил оружие, кто храпел, растянувшись на пыльной вытоптанной траве. Тестар вылил на себя ушат колодезной воды и, взбодрившись, велел седлать. До Моранвиля отсюда было около двух дневных переходов.
Аэлис все чаще — с раскаянием, сожалением и все более растущим беспокойством — думала о муже, от которого так и не было вестей. Впрочем, какие теперь вести! Если он, обманутый ее письмом, поехал в Париж, то там, наверное, и застрял. Слухи, доходившие до обитателей Моранвиля, становились изо дня в день тревожнее: в округе было вроде спокойно, но между Марной и Уазой мятеж, говорили, уже полыхает вовсю, Париж обложен то ли войсками дофина, то ли Жаками — и только ночами по Сене в город тайно пробираются иногда лодки торговцев съестным: там-де голод, едят уже кошек и собак. Вспоминая отдельные фразы своего лживого письма, Аэлис хваталась за голову и стонала, как от зубной боли.
После того как отец Морель отругал ее из-за Урбана, в ней произошла какая-то перемена — словно лопнула наконец жесткая корка озлобленного отчаяния, давившая ей на сердце все эти дни, и немного легче стало дышать. Немного, но все-таки. Она только теперь вспомнила про Франсуа (до этого вообще о нем не думала) — вспомнила его любовь, которую когда-то делила с такой радостью, его бескорыстную преданность уже после того, как ничего между ними не осталось, когда она не упускала случая, чтобы показать ему свое равнодушие, свою неприязнь, даже свое необъяснимое и жестокое отвращение ко всему ломбардскому…
И он ведь ни словом не упрекнул ее, только становился все молчаливее и печальнее и все вечера проводил со своим неразлучным Джулио («Джулио! — издевательски передразнивая, крикнула она однажды. — Неужели тебе трудно хотя бы при мне называть своего дружка по-христиански, Жюлем!»). Он даже не побил ее ни разу, как должен был бы сделать любой муж; а она и это ставила ему в вину.
Велика, неискупима была ее вина перед отцом, перед мужем. Но если отцу она не могла причинить никакого зла более того, что уже причинила, то Франсуа еще страдает из-за нее, и неизвестно, что с ним вообще. Может быть, она и его погубила своим обманом. Отец Морель прав, при чем тут Робер, он лишь взял предложенное; какой мужчина отказался бы? А ей нет на этом свете ни прощения, ни искупления, вот разве что вернулся бы Франсуа, — может быть, она со временем смогла бы, сумела стать ему хорошей женой, постараться этим хоть частично искупить свою ложь, свою жестокость, свое клятвопреступление…
В этот день впервые за многие месяцы ей захотелось вдруг заглянуть в ларец со свадебными подарками. Перенеся его в оконную нишу, где было больше света (солнце уже садилось, но ей не хотелось звать Жаклин, чтобы зажечь свечи), она повернула ключ в звонко щелкнувшем замке и откинула островерхую крышку, выложенную по черному дереву слоновой костью. Странно было видеть все эти блестящие побрякушки, которым когда-то так радовалась; взяв браслет, Аэлис приложила его к руке — рука была грязная, исцарапанная, с обломанными ногтями, украшение выглядело на ней нелепо. Аэлис бросила звякнувший браслет обратно, достала из ларца переплетенную в бархат с золотыми флорентийскими лилиями книжечку сонетов мессира Петрарки, раскрыла на заложенной лентой страничке и стала медленно читать вполголоса: «Благословенны день и час, и дол…» — те самые стихи, что Франсуа читал однажды ночью в саду, бесконечно давно, когда все было совсем другим, читал не ей, а какой-то другой Аэлис, которая звалась так же и выглядела похожей на нее, но была совсем другим человеком и потом куда-то пропала — почему, из-за чего… Господи, ей ли спрашивать… «Робер! Прекрасная моя любовь! Она всегда жила во мне и останется навеки, до последнего моего часа. Только теперь я сумею запереть ее в сердце, сокрыть глубоко, чтобы никто больше не страдал по моей вине — ни Франсуа, ни Робер…»
Заставка, расписанная золотом, лазурью и киноварью, расплывалась у нее в глазах, она опустила книжечку на колени и сидела, глядя в пламенеющее закатным солнцем окно, время от времени утирая ладонью бегущие по щекам слезы. Отец Морель прав и тут. Нет и не может быть никакого земного счастья, это обман, иногда более продолжительный, а чаще всего такой краткий, что и оглянуться не успеешь. Бог свидетель, у нее оно было, было с Робером и с Франсуа, совсем по-разному, но какое это имеет значение. И что же, надолго его хватило? И почему-то всегда следует кара — мгновенно, неотвратимо, впрочем, нет, не за счастье, а за грех, за предательство, которым она это счастье отравила…
Ей хотелось помолиться, но она не знала, может, ее молитвы действительно не доходят, потому что пусты, лживы, как и она сама. Она ведь всю жизнь только и знала, что лгала: сначала солгала Роберу — обещала любовь и верность, а сама вышла замуж за Франсуа, потом солгала и ему, и уже нельзя было остановиться, обман и предательство громоздились вокруг нее выше и выше, она вся измарана во лжи, от этого ей теперь не отмыться во веки веков. Погруженная в свои безотрадные мысли, Аэлис вздрогнула от неожиданности и испуга, когда из раскрытого окна донесся резкий протяжный клич рога — кто-то трубил у ворот.
По пути, пока добирались до Моранвиля, Тестар окончательно все обдумал. Просто приехать поскандалить с кузиной, даже задать ей трепку — это ничего не решает. Брадобрей верно сказал, все дело в Симоне. Эту дуру можно, конечно, увезти и засадить в монастырь, но как ее там удержишь? Не девчонка же малолетняя, к тому же у нее есть муж, человек влиятельный и с такими связями при дворе, что ему, Тестару, не снились. Отчасти благодаря богатству, этому проклятому ломбардскому золоту, а отчасти благодаря старым связям тестя. Каждый, знавший покойного Гийома, не откажет в помощи его дочери; так что, если дело дойдет до тяжбы, у него, Тестара, шансы не так уж велики. Симон — рыцарь, доверенное лицо покойного, его свидетельство может оказаться решающим. А он скажет простую вещь: жаков пустили в замок, чтобы избежать кровопролития, у них злых намерений не было (что, кстати, и подтвердилось тем, что замок не сожгли). А что никто не мог еще знать об убийстве братьев, случившемся в тот же день за десяток лье от Моранвиля, тоже всякий сообразит.
Значит, надо действовать иначе. Так, чтобы вообще некому было ни о чем свидетельствовать, кроме самой дуры, если у нее еще останется охота с ним тягаться. Может, и не останется. Может, она сама предпочтет удрать в какой-нибудь монастырь подальше. Или прыгнет с донжона вниз головой, вроде своей полоумной прабабки. А поп, разрази его чума! Там же еще этот треклятый поп-бунтовщик!
Когда к концу второго дня пути над лесом поднялись знакомые очертания моранвильских башен, Тестар окликнул ехавшего следом Фрелона, своего начальника стражи и подручного во многих предприятиях. Тот пришпорил коня, поравнялся с господином.
— Будем делать, как договорились, — сказал Тестар. — Когда Симон подойдет ко мне, станешь у него за спиной и следи, что я буду делать. Я тогда сниму шляпу и утру лоб — вот так. Неизвестно, сколько там солдат, да и торгаш мог явиться за это время со своим ломбардским сбродом… Словом, сначала поглядим. А если все как надо, ты возьмешь на себя Симона, а арбалетчики пусть сразу бьют по часовым на стене.
Подъезжая к замку, он велел развернуть прапор цветов герба Пикиньи. Всадники двигались неспешным шагом, беспечно растянувшись по дороге, как ездят в мирное время; только когда трубач въехал на мост, задние стали быстро подтягиваться. Мост был опущен, кулисная решетка поднята, в замке, судя по всему, не ждали опасности. Ворота, впрочем, были заперты.
Когда трубач протрубил, между зубцами надвратного барбакана[83] показалась голова в саладе.
— Чьи люди? — крикнул стражник, всматриваясь.
— Протри глаза, животное! — заорал Фрелон. — Ты что, герба не узнаешь? Скажи господину де Берну, что мессир Тестар прибыл засвидетельствовать почтение высокородной даме Аэлис!
Голова исчезла, через минуту на площадку вышел Симон.
— Добро пожаловать, мессир, — сказал он приветливо. — Ворота сейчас откроют, госпожа рада будет вас видеть…
Огромные створки стали медленно раскрываться внутрь, тяжело скрипя петлями. Тестар въехал первым, за ним Фрелон; сводчатый туннель наполнился гулким торопливым цоканьем подков о камень. Симон, выйдя из низкой двери караульного помещения, встретил гостей во внутреннем дворе.
— Здорово, друг де Берн, — сказал Тестар, остановив коня. — Как вы тут?
— Мессир, мы все осиротели в один день, — ответил Симон и, подходя, учтиво снял с головы саладу. — Примите мои соболезнования.
— Да, такое несчастье, — кивнул Тестар, — видно, чем-то мы прогневили Господа…
Фрелон тронул своего коня шпорами и послал его чуть вперед. Симон стоял теперь между ним и Тестаром — у самого его стремени.
— Муж моей кузины еще не приехал? — спросил тот.
— Нет, мессир, о нем ничего не известно.
— Сколько же стражников у тебя в замке?
— Двадцати человек не наберется, мессир, но люди надежные. Угодно вам спешиться?
— Сейчас-сейчас, дай дух перевести… — Он оглянулся, окинув взглядом зубцы замыкающей двор внутренней стены. — Жарко сегодня, — добавил он и, сняв шелковую шляпу, утер лоб рукавом.
Фрелон за спиной Симона взмахнул кистенем, который тем временем успел незаметно отцепить от седла, и де Берн рухнул, не издав ни звука. «Бей!!» — закричат Тестар во всю глотку и, выхватив меч и перегнувшись в седле, сверху вниз проткнул одного из двух стражников, вышедших вместе с Симоном; второго уложил тем же кистенем Фрелон. Послышались частые негромкие хлопки арбалетов и короткое вжиканье улетающих болтов; солдаты Тестара, спешившись, уже разделились, как было условлено, — часть вломилась в караульное помещение, часть бежала через двор к главному входу и к службам, где уже заметались с воплями слуги и женщины, вышедшие поглазеть на гостей и только сейчас сообразившие, что происходит.
Тестар рванул поводья, поднял коня на дыбы и, заставив крутануться на задних ногах, проскакал через двор и спрыгнул на ступени парадного крыльца. Навстречу ему солдаты волокли отчаянно кричащую и отбивающуюся Жаклин, он остановил их и схватил девушку за волосы.
— Где госпожа? — крикнул он, запрокидывая ее голову. — Ну?!
— Спасите, мессир, помилосердствуйте — велите им отпустить!
— Говори, тварь, где госпожа, иначе велю посадить тебя на кол!
— Она наверху, там, в своих покоях. Мессир, ради всего святого!
Он, не слушая, швырнул ее под ноги солдатам и бросился вверх по лестнице.
Аэлис еще ничего не знала. Окна ее комнаты выходили на другую, западную сторону, и она не могла видеть, что происходит в парадном дворе. Вскоре после того, как прозвучал рог, ей послышались отдаленные крики, и она послала Жаклин узнать, что там внизу делается. Крики продолжались и становились громче, теперь уже кричали где-то внутри. Потом по стене пробежали двое, но из-за низкого солнца она не могла разглядеть, кто бежал. Ей стало страшно — в замке явно что-то случилось, — а Жаклин все не возвращалась; она уже готова была сама бежать вниз, но тут дверь распахнулась от удара ноги и она увидела Тестара, запыхавшегося, как после схватки.
— Кузен! — воскликнула она изумленно. — Это вы! А я уже подумала, что на замок напали; что за крики? Что там происходит?
Тестар, тяжело ступая, подошел к ней со странной, перекошенной усмешкой.
— Привет, кузиночка, — сказал он, даже не поклонившись. — Вы прелестны, как всегда, но что это за вид — не причесаны, в рубище каком-то и даже… — он приподнял подол ее платья, — босиком? Не узнаю высокородную Аэлис Донати де Пикиньи. Это что же, вы и в этом решили сравняться с подлыми Жаками — не только вести себя, но и выглядеть как мужичка? Шлюха!! — заорал он вдруг и — Аэлис не успела отшатнуться — залепил ей такую пощечину, что она едва удержалась на ногах. — Ты еще спрашиваешь, что происходит?! Я приехал, чтобы искоренить в Моранвиле измену, вот что происходит! И сожалею, что не могу отправить в преисподнюю тебя, как только что отправил Симона! Не знаю, кто тут из вас первый снюхался с мужичьем, но думаю, что старику этого в голову бы не пришло, это тебя всегда тянуло на простолюдинов да торгашей, как муху на падаль…
— Ты — убил Симона?!
— А ты что думала! Сможешь потом пойти полюбоваться, он валяется там внизу.
— Ах ты, гадина! — негромко произнесла Аэлис. — Я всегда считала тебя просто хамом и дураком, а ты еще и подлец. Убийца, подлый трусливый убийца! Да родная мать со стыдом отвернется от тебя! Иуда!!
— Молчи, потаскуха!
— Пусть тебя в первом же бою поразит злая немочь, пусть твой клинок разлетится на куски, мерзавец, опозоривший рыцарское сословие! Да любой виллан благороднее тебя, чтоб ты горел в аду до скончания веков!!
— Ты замолчишь, дрянь? Или я тебя сейчас выволоку туда же, где валяется Симон, и отдам моим конюхам!
— О, еще бы! Тебя с твоим благородством и на это хватит!
— Не тебе рассуждать о благородстве, мужичья потаскуха! Подлые твари убили твоего отца, а ты принимаешь эту сволочь у себя в замке, даешь им хлеб и вино!
— Бог свидетель — я в тот день ничего не знала…
— А если бы знала? Распутная тварь, ты бы и тогда перед ними стелилась! Я ж говорю — тебе мужик что падаль навозной мухе! Признайся, небось уже и переспать успела с каким-нибудь простолюдином!
Собственно, Тестар уже считал свое дело сделанным: замок в его руках, люди Симона перебиты, с кузиночкой поквитался. Он не испытывал к ней прежней злости, тем более и она была по-своему права, обвинив его в подлости; с Симоном, конечно, расправились не по-рыцарски, что уж тут говорить. Что касается возможной тяжбы, то сейчас, увидев Аэлис в таком состоянии, он понял, что едва ли она окажется ему опасной соперницей. Скорее всего, отступится и она, и ее чертов муженек (если еще не подох где-нибудь); ну какой, в самом деле, феодальный барон из торгаша, да еще чужеземца! Поэтому последнюю свою фразу он сказал уже просто так, чтобы довершить расправу, и сам не ожидал, какое действие произведут его слова. Аэлис не вздрогнула, не вскрикнула, но в глазах ее промелькнуло такое смятение, такой внезапный испуг, что Тестар, хотя и был тугодумом, с изумлением убедился в попадании пущенной наугад стрелы. Это уже было слишком, этому даже он сам предпочел бы не поверить.
— Ты что?.. — спросил он охрипшим вдруг голосом. — Почему молчишь?
Она упрямо молчала, и глаза ее, которые только что смотрели на него с таким испепеляющим презрением, ускользали теперь куда-то в сторону. Кровь снова бросилась Тестару в голову; неужели и в самом деле она, его кузина, урожденная Пикиньи, с каким-нибудь мужиком…
— Почему прячешь глаза? — спросил он почти испуганно. — Скажи, что это не так!
Быстро оглядевшись, он увидел на стене распятие, сорвал его и, подойдя к Аэлис вплотную, грубо схватил ее за плечо, поворачивая к себе лицом.
— Клянись на этом! — крикнул он, сунув распятие к ее губам. — Клянись, что не наставила своему мужу рога с каким-нибудь холопом!
— Вот пусть муж и спросит! — вырвалось у Аэлис. — Почему я должна давать эту клятву тебе?
Тестар отшвырнул распятие.
— Ах вот оно что! — прошипел он. — Значит, и в самом деле. Ах же ты распутная дрянь, ах подлая! Да тебя… тебя голую надо бы протащить по улицам, стегая плетьми! Чем они тебе заплатили, мужицкая шлюха?!
Взявшись за ворот ее платья, он рванул его книзу, разодрав до пояса; Аэлис, с трясущимися губами на побелевшем лице, стала отступать, правой рукой пытаясь собрать на груди края разорванной ткани, чтобы скрыть наготу, а левой нашаривая опору у себя за спиной, пока не ухватилась за резной столбик надкроватного балдахина.
— Видит бог, — тем же шипящим от ярости голосом продолжал Тестар, — я бы уехал, не тронув тебя пальцем… Но коль скоро ты сама, по своей воле, превратила этот дом в непотребный вертеп… — Он задохнулся и стал дергать завязки своего кожаного камзола, словно ему не хватало воздуха. — Тогда почему и мне не повести себя как в вертепе?! Конюхам я тебя не отдам — им хватит и твоих девок, но уж от меня, высокородная дама Аэлис, ты на этот раз легко не отделаешься!
Глава 27
Урбан провел этот день в лесу. Накануне в деревню заходил человек, который сказал, что парижский отряд идет к Жизору и должен быть там не сегодня завтра; Урбан решил побывать в Жизоре и спросить у Робера, как быть дальше — то ли ждать, пока к госпоже вернется рассудок, то ли оставаться с отрядом. А пока надо было еще разок сходить за хворостом, да притащить побольше, чтобы отцу Морелю хватило надолго.
Вернувшись вечером с огромной вязанкой на спине, он застал в деревне смятение. Какие-то люди, сказали ему, еще засветло проехали в замок, и там творится неладное — слышны были истошные крики, а потом прислали за кюре и велели идти туда.
Услышанное Урбану не понравилось. Свалив хворост у дома, он отправился к замку, чтобы попытаться самому выяснить, что же там произошло: что за люди приехали и почему были крики. Уже почти стемнело; не пройдя и половины пути, он остановился и прислушался, всматриваясь в сумерки: кто-то, похоже, бежал навстречу, задыхаясь и всхлипывая, бежал легко — ребенок или девушка. Когда бегущий приблизился, Урбан вышел на середину дороги. Женщина пронзительно вскрикнула и метнулась в кусты, но теперь он ее узнал — это была Катрин.
— Не бойся, это я — Урбан, — позвал он. — Что с тобой?
Катрин свалилась в траву на обочине и стала рыдать взахлеб. Урбан, присев рядом, долго не мог ничего понять. Но даже потом, уяснив наконец из ее бессвязного рассказа, что случилось, он не сразу поверил.
— Так ты говоришь, это родич твоих господ? — переспрашивал он. — Что-то я не пойму… А Симона точно убили?
— Да убили же, я говорю! Сама видела, он лежит там, и всех стражников перебили, — может, только кто успел где схорониться. «А госпожу, — он кричал, — надо отдать конюхам на забаву…»
Выглядело все это непонятно, но не могла же Катрин такое придумать, да и перепугана она взаправду…
— Ладно, пойду посмотрю, — сказал он, — а ты ступай к попу, жди там.
— Куда ты пойдешь? — Катрин схватила его за руку. — Мост они подняли, да и что ты сделаешь один, пропадешь там — их ведь знаешь сколько! А Роберу кто весть пошлет?
— Это верно, весть послать надо. А ты как из замка выбралась?
— Там дверца есть через прачечную, выходит в кусты над самым рвом, ров в том месте совсем мелкий — слуги знают, они часто так на деревню ходят, а больше никто. Нет, ты туда и не думай…
— Ладно, подумаем, что делать. Погоди-ка…
Он опять прислушался — от замка слышался приближающийся топот копыт. Спрятавшись в кусты, они пропустили всадника, галопом проскакавшего в деревню, потом пошли следом. Когда подходили к дому кюре, еще издали различили в сумерках коня, привязанного у ворот; в окошке, сквозь щели ставни, мелькал свет.
— Стой здесь, — велел Урбан.
Подойдя к коню, он ощупал седло, проверил стремена, подпругу, успокаивающе похлопал животное по холке, потом крадучись вошел в дом. В комнате пахло незнакомым человеком, и человек этот, держа над головой факел, стоял на коленях перед раскрытым сундуком, выбрасывая оттуда убогие пожитки отца Мореля.
— Чем занят, приятель? — спросил Урбан.
Человек обернулся, глянул равнодушно.
— Поджечь велено, так я вот думаю, может, что найдется ценного. Поверишь, даже оловянной чашки ни одной…
— Ложи все обратно.
— Ты чего, парень? Ему это больше не понадобится, ха-ха…
Кулак молотом рухнул на затылок грабителя, вбив смех ему в глотку. Урбан подхватил падающий факел, сунул в кадку с водой, за ногу выволок обмякшее тело из дома и перекинул через седло.
— Ты убил его? — испуганно шепнула подошедшая из темноты Катрин.
— Еще нет… Принеси-ка веревку, там, на хворосте…
Катрин принесла веревку, он крест-накрест привязал руки и ноги оглушенного к стременам и взял коня под уздцы.
— Поеду искать господина Робера, — сказал он. — А ты иди к кузнецу, спрячься там. Сюда не приходи, слышишь?
— А что, отец Морель…
— Его пока не будет. Ну, ступай! Дорога на Жизор — та, что через лес?
— Да, все прямо и прямо… Прощай, Урбан, храни тебя Бог, и поторопись!
— Потороплюсь…
Отойдя от деревни подальше, Урбан привязал повод к дереву, ощупал своего пленника и, расстегнув на нем пряжку, снял пояс с большим тяжелым ножом. Потом развязал веревку и сдернул пленника с седла; свалившись на землю, тот попытался подняться, стал что-то бормотать. Урбан за шиворот сволок его в кусты и, оттянув кверху щетинистый подбородок, перерезал горло от уха до уха. Перекрестился, сел на коня и с места бросил его в галоп.
Робер так и не понял толком, что в тот вечер заставило его покинуть жизорский лагерь. Он в последнее время был спокоен за Аэлис. Защитой замка командовал Симон, в округе было относительно спокойно, да и едва ли Моранвилю грозило вторичное нашествие жаков — разве что забрели бы какие-то из «чужих». Так что опасаться было нечего.
Но в тот день, с утра, он стал ощущать необъяснимую тревогу — беспричинную, казалось бы, но совершенно определенную. И тревога была за Аэлис. Как ни пытался Робер себя успокоить, неясное ощущение беды не проходило. Напротив, оно становилось все более отчетливым.
Может быть, убеждал он себя, это вовсе и не касается Аэлис, а все дело в усталости, в разочаровании общим ходом дел: поход оказывался все более бессмысленным, принять участие в боях парижским ополченцам так пока и не довелось — были бестолковые передвижения с места на место, случайные стычки с небольшими дворянскими отрядами, воровство, мародерство. И еще — несогласованность действий, нескончаемые переговоры, обмен гонцами, долгие ожидания. Вот хотя бы сейчас: договорились ведь, что под Жизором соединятся с ополченцами из Понтуаза и вместе пойдут на Руан, а когда пришли, понтуазцев не оказалось. Разбили лагерь, послали гонца — тот вернулся с вестью, что выступление отряда готовится, но магистрат медлит с выдачей провианта; так что и здесь придется ждать…
После обеда Робер прилег отдохнуть и незаметно уснул, а проснулся внезапно, словно разбуженный толчком, — опять от того же чувства тревоги, которое было теперь таким острым и определенным, как если бы он услышал зов о помощи. Раскрыв глаза, он даже привстал на локте и прислушался, но ничего тревожного не услышал, за багряно просвеченной заходящим солнцем стенкой палатки лагерь шумел привычно и успокаивающе: рядом негромко разговаривали, вдалеке пели, где-то заржала лошадь, от походной кузницы звонко доносились удары по металлу. Робер вышел наружу, постоял, щурясь на закат, и решительно направился к шатру Колена де Три.
Капитан сидел за жбаном вина, мрачно обсасывая мокрый ус. Услышав, что Робер хотел бы отлучиться до завтрашнего полудня, он махнул рукой:
— По мне, хоть до следующей Пасхи! Слушай, что я тебе скажу, друг Робер. Ты молод, но ты настоящий солдат, поэтому меня поймешь. Никогда, ни за какие посулы не нанимайся командовать этим городским сбродом, лавочниками да портняжками. Разве это война, пуп Господень! Сколько людей берешь с собой?
— Да никого мне не надо. — Робер пожал плечами. — Ну, может, одного-двух — на всякий случай.
— Бери десяток! Все равно им здесь, лодырям, делать пока нечего. Бери десяток, и по пути — если Бог захочет — загляните в Шомон, проведайте тамошнюю мать аббатису. — Колен де Три захохотал жирным смехом. — Монашки, и не только молоденькие, обожают такие посещения, побей меня гром! Визгу будет много, но это так, приличия ради. Помню, ходили мы с Черным принцем разорять Гиень…
Когда стемнело, Робер уже мчался по дороге. Глориан легко нес его своей широкой, размашистой рысью, позади в слитном гуле копыт следовали другие. По совету капитана он все-таки взял с собой одиннадцать человек из тех, кого сам обучил в Париже; может, предчувствие это и впрямь сулит какую-то опасность. Пытаясь заглушить голос тревоги, Робер убеждал себя, что снарядил такой солидный отряд просто из тщеславия — чтобы показать Симону, что и сам теперь командует воинскими людьми…
Около полуночи — уже луна встала, и пропели петухи, а справа низко над лесом повисла звезда Аль-Таир,[84] по которой отец Морель учил его когда-то определять время, — он распорядился сделать короткий привал, чтобы дать отдых коням. Троих выслал вперед дозором. Растянувшись на влажной от росы траве, он смотрел, как летит в легких разорванных облачках тонкий серп месяца, и ждал, пока он достигнет вершины дуба. Даже сейчас, когда он знал, что скоро — утром — увидит Аэлис, тоска и тревога не оставляли его. Он попытался заглушить их воспоминаниями о последней встрече, но странно — именно о ней вспоминалось сейчас как-то… он сам не умел бы определить это ощущение — нет, не стыд, не раскаяние, этого не было — в чем раскаиваться, чего стыдиться? — но память словно избегала задерживаться на том, что еще недавно вспоминалось как минуты неземного счастья. И он вспоминал другие свидания, раньше, намного раньше — в пронизанном солнцем саду или на раскаленной полуденным зноем верхней площадке Фредегонды, — когда все еще было впереди, только предчувствовалось, предугадывалось…
Месяц запутался наконец в верхушке дуба, и он вскочил на ноги, скомандовал: «В седло!»; ему подвели Глориана, конь пофыркивал, скреб землю передней подковой, словно тоже торопил в путь. Не успели тронуться, как впереди завиднелись возвращающиеся дозорные — один поскакал навстречу, но там — это уже было отчетливо видно на белеющей в лунном свете дороге — все еще оставалось трое. У Робера перехватило дыхание, когда он узнал в осадившем перед ним всаднике Урбана.
— Беда, господин! — крикнул тот. — Слава Пречистой Деве, это Она подсказала вам тронуться в путь; я уж боялся не успеть…
— Что случилось?!
— Тестар де Пикиньи изменой взял замок, господин Симон и вся охрана перебиты! Насчет госпожи толком не скажу.
— А ты? — Робер надвинулся на него, толкнул конем. — Ты жив?! Ты, которого я оставил ее стеречь!
— Меня там не было, госпожа сама прогнала меня из замка… еще раньше. Кабы не эта ее причуда, злую весть принес бы тебе другой.
— Прогнала? Почему?
— Богом клянусь, не ведаю! По моему разумению, в нее бесы вселились, но отец Морель мне об этом рассуждать не велел…
— Тогда и не рассуждай, а рассказывай, что знаешь!!
Урбан рассказывал, и сердце Робера каменело, наливаясь смертным холодом. Ведь чуял — с утра было не по себе, — что стоило выехать сразу, не успокаивая себя дурацкими утешениями! Может, и успел бы, а будь он в замке — Тестара бы и к воротам не подпустили, уж он-то знал, что было между Аэлис и ее кузеном…
— Катрин, говоришь, вышла из замка через ту дверцу, что в прачечной? — спросил он, когда Урбан кончил свой рассказ. — Тогда надо успеть до света, иначе придется ждать следующей ночи.
— Поспеем, господин, если кони выдержат, — заверил Урбан.
Кони выдержали, и они успели — едва-едва. В деревню въехали перед рассветом, в самый глухой час ночи — «между волком и собакой», как говорят в этих местах. Коней оставили у кузнеца, дальше пошли пешком, подъезжать к самому замку верхом было опасно. На их счастье, к этому времени нашли тучи, стало темнее, а у самого рва еще и туманом слегка подзатянуло, так что перебраться к стене удалось незамеченными; впрочем, сверху не доносилось ни звука — ни шагов, ни голоса. Возможно, на стене вообще не было стражи. Кузнец сказал им, когда принимал коней, что около полуночи сам ходил к замку и слышал, как там горланили, — видно, попойка еще продолжалась. Служанки помоложе, кто успел, за ночь сбежали тем же путем, что и Катрин.
Когда все перешли ров и собрались под стеной, Робер толкнул дверцу и первым шагнул во мрак, пахнущий погребной сыростью. Высекли огонь, зажгли заранее приготовленные факелы — здесь уже таиться было нечего.
— Я тут все знаю, — сказал Робер, — идите следом. Как только выйдем, ты, Урбан, бери с собой пятерых и — в караульное помещение у ворот. Остальные со мной. Убивать каждого, кто с оружием! Идемте…
Обширный замковый двор был уже залит бледными сумерками рассвета. Взбегая по ступеням парадного крыльца, Робер услышал позади, в воротах, истошный короткий вскрик. Дверь оказалась не заперта — распахнув ее ударом ноги, он едва не столкнулся со стариком-выжлятником,[85] тот от испуга уронил ведро костей, собранных после ночного пиршества. Робер зажал старику рот:
— Тише! Это я — не узнал, что ли. Где госпожа?
— Там, там!! — забормотал псарь, тыча дрожащим пальцем вверх. — Только ведь и они все там — наших-то всех побили, и господина Симона, и господина кюре…
— Отца Мореля?!
— Повесили, сынок, там в саду и повесили, под окнами у госпожи, — с вечера висит…
Робер отшвырнул старика, бросился к лестнице, где опередившие его солдаты схватились уже с людьми Тестара. Тех было человек шесть, но они не успели ни протрезветь, ни сообразить, что происходит, и их перебили без труда; один, правда, умер не сразу и так выл, ползая по полу с распоротым животом, что перебудил остальных. В большом зале бой пошел уже по-настоящему.
Здесь еще догорали по стенам факелы, было чадно, пахло вином и блевотиной. Роберу не раз приходилось уже принимать участие в схватках, но никогда еще не дрался он с такой бешеной яростью, испытывая от убийства дикое, темное наслаждение. Настигнув у камина, он наотмашь, сплеча рубанул какого-то кривоносого, но тот ловко увернулся — лишь для того, чтобы тут же опрокинуться навзничь с торчащей из груди жавелиной,[86] — а клинок Робера разлетелся пополам от удара о край гранитной плиты. Он подобрал брошенный кем-то топор и, задыхаясь, огляделся, отыскивая взглядом Тестара.
И тот действительно появился среди дерущихся — выскочил из боковой двери, свирепый, как вепрь, весь в отца. Робер окликнул его, он оглянулся и пошел тяжело и косолапо, отставив локти и покачивая в правой руке меч, словно пробовал его вес. К этому времени в зал уже ворвался со своими людьми Урбан, и наемники Тестара отступали в угол, затравленно отбиваясь.
Тестар и сам понимал, что дело плохо, но бежать было некуда, а на пощаду рассчитывать не приходилось. Увидев Робера, он свирепо оскалился:
— А-а-а, мессир холоп! Добро пожаловать в Моранвиль! Это уж не вас ли дарила своей благосклонностью моя целомудренная кузина? Дьявольщина, как это я раньше не догадался! Ну ничего, мы теперь, можно сказать, породнились, ха-ха-ха… Защищайся, хамово отродье!
— Подлый ублюдок! — Робер, тоже нагнувшись и обеими руками сжимая перед собой трехфутовую рукоять тяжелого боевого топора, стал медленно обходить противника посолонь.[87] — Когда встретишь в аду своего отца, спроси, с какой шлюхой он тебя прижил…
Тестар прыгнул, со свистом разрубив воздух рядом с Робером, тот отскочил, погрозил топором. Противники продолжали кружить один вокруг другого.
— …и почему взял в замок, а не оставил в сточной канаве, где тебе самое место! Сними шпоры, трусливый пес, пока их тебе не обрубили на эшафоте!
— Сначала я обрублю ноги тебе, вонючий виллан!!
— Руби! — поощрил Робер. — Ну?.. Чего ждешь, мокрица? Привык воевать с женщинами да священниками?
— Да, уж с дамой Аэлис я в эту ночь навоевался всласть! Жаль, ты сейчас издохнешь, не успев у нее спросить, осталась ли она довольна!
— Сам издохни, шелудивый предатель!!
Они прыгнули одновременно, и меч Тестара со звоном отлетел в сторону, выбитый из рук страшным ударом, которому Робера научил когда-то Симон, — в корень клинка, у самой гарды.[88] Не дав Тестару опомниться, Робер снова занес топор и с резким выдохом, как колют полено, разрубил ему череп до самого подбородка.
…Он шел по коридору, пошатываясь, время от времени опираясь рукой о стену. Жаклин, растрепанная и зареванная, в изорванном платье, тащила его, хватала за руки. «Она здесь, здесь, — твердила она, — я ее спрятала, бедняжку, она еще не в себе…» Потом он увидел Аэлис в полутемной каморке, пахнущей сыростью и мышами, она сидела на полу, забившись в угол, завернутая в какое-то рядно. При виде Робера глаза ее расширились от ужаса, она стала трястись, затыкая руками рот.
— Любимая моя… — Он опустился около нее на колени, осторожно прикоснулся к руке. — Не бойся, я его убил…
Она закивала, глядя на него с тем же ужасом. Снова появилась Жаклин, всхлипывая и громко шмыгая носом, стала тряпкой стирать что-то с его груди; он оттолкнул ее, снял кожаную безрукавку и бросил Жаклин: «Ступай вымой!»
— Ты узнаешь меня, любимая? — снова обратился он к Аэлис.
— Только не трогай меня, — выговорила она с трудом, едва слышно. — Ради всего святого, не надо… Бог вознаградит тебя, я до конца жизни буду Его об этом молить, но сама я… я не могу больше!
Она стала клониться и упала, как тряпичная кукла, лежала на полу, обхватив голову руками.
— Я не могу больше жить — среди этих зверей, в этом аду! — выкрикнула она глухо. — Если у тебя сохранилась хоть капля — не любви, Бог свидетель, — а простой жалости! — убей меня на месте, я не хочу больше жить!!
— Успокойся, — сказал Робер. — Я… я все сделаю.
Он вышел, состарившись на десяток лет. В зале его встретил Урбан.
— С победой, мессир, — сказал он, поклонившись. — Ты нашел госпожу?
— Да. Друг, ты пока останешься здесь управителем, или… нет, пусть Гитар остается.
— По мне, так лучше он, как же я без вас?
— Хорошо. Ты уже позаботился о… наших?
— Тела господина Симона и господина кюре уже обмывают.
— Потом отнесите их в часовню. А сейчас собери слуг и узнай, где Бертье. Он мне нужен. Да, вот еще что — пошлешь потом в Монбазон, чтобы приехали забрать Тестара. Здесь пусть все вымоют, и скажи Жаклин, чтобы одела госпожу. Но сперва — Бертье! Я буду в скриптории.
Рыжего легаста привели довольно скоро, — видимо, он сам выбрался из своего укрытия, услышав, что власть в замке сменилась, и даже успел наспех переодеться.
— Робер, мальчик мой! — закричал он, простирая руки. — Я всегда говорил, что ты станешь великим воителем!
— Рад видеть вас живым, мессир легист. — Робер подозрительно принюхался. — В какой это выгребной яме вы прятались?
— Где уж было выбирать! Когда эти нечестивые и звероподобные филистимляне,[89] сея вокруг себя ужас и смерть modo ferarum…[90]
— Я понимаю, — прервал Робер. — Грамоте от страха не разучились? Тогда садитесь и пишите.
Филипп робко уселся за пюпитр, прошуршал, как мышь, листами пергамена, выбирая подходящий.
— Такого хватит? — спросил он, показывая лист Роберу.
— Это уж вам виднее. Будете писать матери аббатисе, в Шомон, дабы заранее было все приготовлено к прибытию высокородной госпожи Аэлис, ну, как там сказать — изъявившей желание укрыться в аббатстве. До возвращения ее супруга.
Бертье понимающе покивал, задумался.
— Но ведь супруг… — начал он осторожно.
— Супруга отыщете вы. Сегодня же отправляйтесь в Понтуаз и найдите там банкирскую контору. В Понтуазе есть контора?
— Надо полагать…
— Если нет там — узнайте, где есть. Банкирам скажете, что надо немедля известить господина Донати, что на замок было нападение и госпожа укрылась в Шомоне. Мне говорили, банкиры все друг друга знают, а связь у них не хуже королевской почты.
— Это так, — подтвердил Бертье. — Когда госпожа выезжает?
— Как только сможет. Грамоту напишите немедля, я отправлю с гонцом…
В зале было уже убрано, служанки домывали полы горячим щелоком, в распахнутые высокие окна вливалась свежесть дождливого утра, и ничто не напоминало о недавней бойне.
По дороге в часовню к Роберу подошел Урбан.
— Не знаю, господин, как ты захочешь, — сказал он неуверенно, — но тело господина де Пикиньи я пока велел отнести на ледник… Подумал, что, может, не надо им вместе…
— Правильно сделал. Пусть его отпевают в Монбазоне. Послушай, вот еще что — вели узнать, есть ли в замке конные носилки; если нет, пошли в деревню за плотником и кузнецом. Госпожа отсюда уезжает, а верхом ей не доехать.
…Они лежали рядом на наспех сколоченном широком помосте, застланном черным сукном: Симон, большой и грузный, с застывшим на восковом лице выражением сурового гнева, с мечом, рукоять которого была подсунута под сложенные на груди руки, — точь-в-точь надгробное изваяние крестоносца, — и маленький, щуплый отец Морель в чистой холщовой рясе, с кипарисовым крестиком в руках. Рясу и крестик принесла утром Катрин, достав из разворошенного вчерашним грабителем сундучка. Лицо священника было спокойным; Робер перекрестился, с благодарностью подумав, что, наверное, Бог послал ему смерть легкую и мгновенную, — возможно, когда его тащили к петле…
Два самых близких ему человека, кроме Аэлис, и он потерял всех троих разом. Как он им сейчас завидовал, этим двоим, чьи тела лежали в тишине и покое, под колеблемыми сквозняком огоньками высоких погребальных свечей. Может, было бы лучше, если бы Тестар убил и его; Аэлис все равно не осталась бы в его власти, от Урбана и его людей ему, так или иначе, было не уйти. А им уже не быть вместе, никогда — это Робер понял сразу, поэтому и не стал ни уговаривать, ни утешать. Наверное, это действительно был великий грех то, что они сделали; недаром отец Морель столько раз говорил ему: «Забудь о ней, забудь, не смей даже в помыслах…»
Теперь жить не для кого. Раньше, что бы он ни сделал, ему всегда думалось — вот за это меня похвалил бы Симон, это понравится отцу Морелю, про это я буду рассказывать Аэлис. А теперь? Он с трудом проглотил сдавивший горло комок, еще раз преклонил колени и, встав, пошел к выходу, не оглядываясь.
У дверей часовни ему послышалось, как кто-то тихо плачет. Он всмотрелся в полумрак: у каменного столба стояла на коленях Катрин, опустив лицо в ладони.
— Не плачь, глупая, — сказал он и, сделав шаг в ее сторону, коснулся ее волос. — По ним плакать не надо, им теперь хорошо…
Глава 28
Когда Робер, оставив Аэлис в Шомонском аббатстве, вернулся в лагерь под Жизором, там уже был получен приказ идти на соединение с главными силами Гийома Каля. Судя по тому, что Колен де Три узнал от гонца, предстояло решительное сражение: отряды жаков и дворянское войско Карла Наваррского с разных сторон стягивались к плоскогорью Монтатер.
— Уноси-ка ты, парень, ноги, — сказал Роберу мессир Колен, — дело все равно пропащее. Наварра вручил командование Жану де Пикиньи, а тот поклялся отомстить за гибель братьев. И уж будь спокоен, отомстит! Жакам конец, а ты пришел с парижским ополчением и имеешь полное право увести своих горожан. Что тебе до этого мужичья?
— А вы почему не уходите?
— Ты за меня не беспокойся, я и перебежать могу, коли увижу, что дело плохо. А такие, как ты, не перебегают, для этого вы слишком глупы. Дураки же гибнут в первую очередь.
— Лучше погибнуть дураком, чем жить как иуда, — запальчиво ответил Робер.
— Ну, это уж как кому по душе. — Де Три пожал плечами. — Хочешь помирать — помирай, мне-то что!
«А зачем мне теперь жить, — подумал Робер, выходя из шатра. — Зачем, для кого?» Аэлис он потерял навсегда, Симона и отца Мореля нет в живых — ни одной души не осталось, кому он был бы хоть немного нужен. Да и ему не нужен никто… Если задуматься — что ему жаки, что ему парижане, он все это время жил только одним — своей любовью, надеждой, которая не переставала теплиться в нем даже тогда, когда сам он всячески старался убедить себя, что надеяться не на что. И зря старался, все-таки судьба еще побаловала его напоследок, вознаградив так по-королевски, что теперь и умереть не жалко. Что из того, что всего этого было ему отпущено так немного? Зато щедро! Он изведал то главное, предназначенное мужчине, ради чего стоило прийти в этот мир. Упился и любовью — в те два дня и три ночи, что провел с Аэлис, — и мщением, когда зарубил Тестара. И горем. Страшным горем, бескрайним, от которого солнце делается черным. Это ему тоже дано было изведать. Чего же теперь бояться — собственной смерти, ран, телесных страданий? Да, бывает такое, что страдания плоти жаждешь, как прохлады в палящий зной, — только бы избавиться от душевной муки…
Собрав отряд, он приказал готовиться к походу и сказал, что будет сражение с большим дворянским войском, но неволить он никого не неволит: парижских ополченцев, кроме них, тут нет. Вайян с Жилем ушли воевать город Мо, а жаки сами по себе.
— Поэтому, — продолжал он, — вас тут не держит ни служба, ни присяга. Кто хочет, возвращайтесь в Париж или догоняйте отряд Жиля. Хочу только остеречь: дворяне сейчас набирают силу и тех, кто уйдет поодиночке, могут переловить, как куропаток. Может, безопаснее держаться пока вместе, а в сражении… как там еще получится. Короче, я вместе с капитаном де Три иду к Мелло, и кто хочет, становитесь сюда. Остальные отойдите в сторону.
Подумав и пошушукавшись, отошли всего несколько человек — остальные остались, то ли из осторожности, то ли следуя примеру командира. Обходя свое воинство, Робер вдруг остановился, с недоумением вглядываясь в незнакомого парнишку, который стоял позади и словно бы прятался за спины других.
— Эй, ты! — поманил он. — Выйди-ка сюда, храбрец! Чего-то я тебя не припомню, откуда ты взялся?
Парнишка, выбравшись из строя, пробормотал что-то едва слышно, не поднимая головы. На голове у него, несмотря на жаркий день, был нахлобучен род капюшона, скрывающий плечи и верхнюю часть лица, — местные крестьяне обычно носят этот головной убор в непогоду. Робер бесцеремонно его содрал и, не веря своим глазам, отступил на шаг.
— Побей меня гром! — сказал он, задохнувшись от гнева. — Ты что, ума лишилась?! Урбан, чтоб тебя разразило, откуда тут эта чертова девка?! За каким чертом… Кто разрешил?!
— Так она еще в Моранвиле попросилась, — объяснил Урбан, кашлянув. — Сказала, что поедет в Шомон, чтобы, значит, прислуживать госпоже, вроде ты ей разрешил. А в монастыре, гляжу, она уже перерядилась, я, говорит, с вами пойду, все равно мне деваться некуда…
— Когда таким некуда деваться, — бешено крикнул Робер, — то идут в непотребный дом!
— Грех тебе такое говорить, — дрогнувшим голосом отозвалась Катрин.
— Грех такое говорить?! А вести себя как распутница — не грех?! Обрезать волосы и разгуливать в штанах — не грех? Какой дьявол попутал тебя оставить госпожу и увязаться за нами? Приключений захотелось?!
— Тебе ли не знать, почему я решилась на такое. — Глаза ее наполнились слезами.
— Не знаю и знать не хочу! — крикнул Робер, стараясь не встречаться с нею взглядом. — Не хватало мне еще девки в отряде! Сейчас же соберешь свои пожитки, и чтоб духу твоего тут не было! Ступай с теми, что возвращаются в Париж, они тебя проводят до Шомона.
— Бог не допустит этого, — тихо, но твердо возразила Катрин. — По своей воле я туда не пойду, так что тебе придется связать меня и заткнуть рот кляпом. Если позора не боишься, потому что невелика честь для воина — мериться силой с женщиной…
Заинтересовавшись необычным препирательством, солдаты Робера столпились вокруг, и он чувствовал себя дураком. Чем не потеха — переодетая девка перечит капитану, а тот ничего не может сделать.
— Ты еще чести вздумала меня учить! — Он уже терял над собой контроль. — Пошла прочь, дура, или я сейчас возьму плетку и так тебя поучу, что не забудешь до самого Рождества!
Катрин вспыхнула, потом побледнела, упрямо прикусив губу и продолжая смотреть Роберу прямо в глаза. Наверное, он и в самом деле прибил бы ее, если бы не вмешался Урбан.
— Не дело задумал, господин, — сказал он. — Девка, она ведь не кошка, просто так не выкинешь… Да и то сказать — ежели что с ней потом приключится… а время сейчас сам видишь какое… тогда ведь не только за тобой, а за нами всеми грех тот потянется, а нам это совсем уж ни к чему, и своих хватает…
— Верно он говорит, — подхватили солдаты, — от своих бы отмыться! Оставь девку, господин! Кому она мешает?
— Еще и польза будет, — прокричал один, вылезая из-за спин товарищей, — она стряпать умеет и травы ведает! Вон, у Берто чирей был на шее — в кулак, чтобы не соврать! — так она там, в монастыре, травы нажевала и привязала тряпицей, а нынче утром он уже вполовину менее стал! Покажи капитану шею, Берто!
Берто и впрямь стал было разматывать тряпку, другие закричали, тоже требуя оставить девку в отряде. Робер махнул рукой, почувствовав новый приступ безразличия ко всему на свете.
— А-а-а, да черт с вами… пускай остается, мне-то что! Завтра в бою подцепят ее на копье, тогда сама пожалеет.
— Бог милостив, — обрадовано сказал Урбан, — мы уж за ней приглядим… А что в штанах она, так оно и впрямь сподручнее среди мужиков, чужой-то и не признает, что она не парень…
Ночью он лежал в высокой траве, смотрел в обрызганное звездами небо и, смирившись с тем, что все равно уже не уснуть, снова и снова вспоминал последнюю встречу с Аэлис. Не там, в пахнущей тлением и мышами каморке, где он нашел ее после ночного боя полубезумной, кутающейся в какое-то тряпье, и не потом — в часовне, где мэтр Филипп за отсутствием капеллана читал заупокойную мессу по убиенным Морелю и Симону. Там они стояли рядом, но не обменялись ни словом. Была еще одна встреча, ночью, накануне отъезда в Шомон, — встреча, оставшаяся в памяти полусном, полуявью. Последнюю ночь в Моранвиле он провел в той же комнате, где жил раньше, год назад: в ней все оставалось по-прежнему, он обратил на это внимание, лишь когда проснулся — внезапно, словно его кто-то позвал, проснулся с колотящимся сердцем и четким сознанием, что надо куда-то спешить, иначе опоздает… Вскочив, он сидел, прислушиваясь, в ожидании неведомого; была глухая, предрассветная пора ночи, и бледный свет заходящей луны слабо высвечивал знакомые предметы: кованый сундук у противоположной стены, угол стола, глиняный кувшин на столе и подсвечник в подтеках застывшего воска. Из окна тянуло прохладой, запахами полевых трав, конюшен, болотной сыростью застоявшейся во рву воды, и что-то невыразимо тоскливое было в этом мертвенном лунном свете, этих запахах, этой — он даже не сразу понял, откуда это гнетущее чувство, потом сообразил — тишине, да, дело было в тишине — непривычной, зловещей тишине, какая поселяется в жилищах покинутых, пораженных горем и смертью. Впрочем, он тут же забыл об этом, потому что снова, и теперь уже явственно, почудилось ему в этой тишине какое-то шевеление, шорох, словно едва слышный плач…
Не смея поверить догадке, он бросился к двери. Аэлис — она вся была закутана в черное, но он узнал ее не зрением, а всем своим существом, — Аэлис нерешительно вошла в комнату и остановилась возле стола. Он прикрыл дверь и тоже стоял, не смея подойти, разрываясь между желанием обнять ее, как-то утешить и пониманием, что ничего этого уже нельзя и никакого «утешения» быть не может.
— Робер, — сказала она негромко, каким-то сдавленным, непохожим на ее прежний голосом, — мы не увидимся больше в этой жизни, и не знаю, увидимся ли в другой, потому что мне, наверное, не найдется места там, где будешь ты. Я предала всех, кого любила, предала тебя, потом предала мужа, предала отца — это ведь я виновна в его смерти, я уговорила его ехать в Компьень, он не хотел, не собирался… а я уговорила, чтобы остаться одной и позвать тебя. Впрочем… мужа я не любила, нет, мне только показалось, что я его люблю, это было как наваждение… По-настоящему я любила только тебя, ни на день не переставала, даже когда предала. Ты знаешь, когда я в первый раз была с мужем… в ту первую ночь… когда я была в его объятиях, мне казалось, что это ты, а не он, и именно этого я потом не могла ему простить. Хотя разве он виноват? Прощай и прости меня за все, моя любовь. Ты хорошо придумал насчет Шомона, я, наверное, там и останусь — мне теперь жизни не хватит замолить хотя бы малую толику того, что я натворила. И ты, если сможешь простить, молись за меня хоть изредка, твоя молитва дойдет скорее моих…
Он больше не заснул в ту ночь, а когда в окне стало светать, растолкал Урбана и велел, чтобы вычистили его снаряжение. Побив людей младшего Пикиньи, отряд был теперь отлично вооружен, некоторые щеголяли в поножах, нагрудниках или шлемах с чеканкой и золотой насечкой: кое-что было остатками полного доспеха самого Тестара, который по праву должен был перейти к Роберу. Тот от добычи отказался, и ее разыграли в кости — кому что досталось. Сам Робер, предпочитая легкое снаряжение, довольствовался бригандиной лосиной кожи с наклепанными на груди стальными полосками, которую надевают поверх кольчужной рубахи, а вместо закрытого шлема носил саладу бордоской работы — плоскую, вроде стальной шляпы с круглой, лишь слегка усиленной продольным гребнем тульей и низко опущенными полями. Двойная застежка подбородного ремня позволяла носить саладу сдвинутой к затылку — тогда поле зрения было открыто полностью; перед боем же ремень застегивался так, что салада надвигалась на глаза, защищая верхнюю часть лица вместе с носом, и смотреть приходилось сквозь сетку мелких крестообразных отверстий, прорубленных на уровне глаз.
Робер часто устраивал смотры своему отряду, проверяя исправность оружия: правильно ли заточены лезвия, крепко ли сидят на ясеневых рукоятках топоры и боевые молоты, нет ли где потертого или пересохшего ремешка; но он не требовал от солдат показного щегольства, когда каждая пряжка и каждый кусок стали начищаются и полируются до серебряного сияния. Доспех не должен быть ржавым, а потемнел ли он, чистили ли его речным песком или порошком кирпича, толченого и просеянного сквозь тонкое сито, — на эти вещи особого внимания никогда не обращалось. Но в то утро Робер посулил оторвать голову каждому, кто осмелится сесть на коня в непотребном виде.
Солнце было уже высоко, когда он велел позвать Жаклин и спросил, готова ли госпожа к отъезду. Та ответила, что госпожа молится в часовне и скоро выйдет. Он приказал седлать. Потом сидел на своем Глориане, ожидая ее выхода, сидел в полном вооружении, низко надвинув на глаза саладу, держа руки в латных перчатках на передней луке высокого боевого седла. За его спиной фыркали и звякали уздечками солдатские кони, кучка молчаливой перепуганной челяди жалась в углу парадного двора, наискось затененного башней Фредегонды. Как в тумане, сквозь расплывчатую сетку прорезей увидел он, как Аэлис, вся в черном с ног до головы, вышла на крыльцо и, помедлив, стала спускаться по ступеням. Подвели носилки — прикрепленные к длинным гибким шестам, они были подвешены меж двух коней, один впереди, другой сзади; оба ездовых уже сидели в седлах. Аэлис помогли подняться в носилки, сбежались прощаться челядинцы — ловили ее руки, некоторые женщины плакали. Робер поднял перчатку, тронул коня шпорами, натягивая левый повод; и Глориан, выгнув шею и оглушительно — как ему показалось — грохоча подковами по истертым каменным плитам, понес его, плавно покачивая, к черному зеву надвратной башни…
Он и сам потом не понимал, откуда взялись силы выдержать медленный, из-за носилок, и потому показавшийся бесконечным путь до Шомонской обители. Аббатиса была уже предупреждена, их ждали. И здесь надо было проститься еще раз, уже прилюдно, у всех на глазах, не мог же он просто повернуть коня и ускакать прочь, чтобы не видеть, как сомкнутся за ней монастырские ворота. Нет, выдержал и это — спешился, помог ей выйти из носилок. Оруженосец, провожающий свою госпожу. У самых ворот они на миг посмотрели друг другу в глаза — под десятками взглядов солдат и монастырской челяди.
— Прощайте, дама Аэлис, — произнес он, с трудом проталкивая слова сквозь закаменевшую гортань.
— Господь да благословит вас, сир Робер, — побелев лицом, ответила она.
…А теперь он вспоминал все это и снова думал, что жить больше незачем, что он потерял все, и единственное, что у него еще осталось, — это честь. Мессир Колен, может, и в самом деле опытный военачальник, но сущий дурак, если мог предложить ему такую сделку — спасти жизнь ценою бесчестья. Отдать за горсть праха единственную настоящую ценность, которая у него осталась?
Как он мечтал когда-то о золотых шпорах! Теперь больше не для кого их добывать, но последовать главному завету рыцарства — встать на сторону гонимых и обреченных — он еще может, и этого права у него никто не отнимет. Дело жаков уже проиграно, а значит, и для него все наконец скоро закончится…
Парижский отряд прибыл под Мелло в ночь с 8 на 9 июня. Было уже темно, и огромный лагерь армии жаков пылал огнями бесчисленных костров; дальше был мрак, а в нем — линия других огней, пригашенных расстоянием. Робер, придержав коня на взгорье, долго смотрел на далекие костры вражеского лагеря, пытаясь на глаз определить, больше их или меньше, чем здесь, у жаков. Получалось вроде если и больше, то ненамного, но сказать с уверенностью было нельзя. Да и количество огней не всегда соответствует действительной численности войска: бывает, если хотят заранее припугнуть противника, зажигают много лишних костров, а бывает и наоборот: на них скупятся, чтобы ввести врага в заблуждение своей якобы малочисленностью…
Колен де Три послал солдата разыскать генерального капитана и сообщить о прибытии парижан, а сам распорядился устраиваться на ночлег. Робер тоже решил поспать, если удастся. Как ни странно, удалось; заснул он быстро, хотя и отказался выпить несмело предложенного Катрин травного зелья, приносящего, по ее словам, сон и отдохновение.
Утром сказали, что генеральный капитан велел всем собраться у его шатра, — он-де хочет держать совет с войском. Вместе с другими Робер отправился к середине лагеря, где на невысоком холме ветерок лениво шевелил вздетое на копье полотнище огненно-золотого, цветов орифламмы,[91] стяга с вышитыми королевскими лилиями. Пока добрались, Каль уже начал говорить, взобравшись на повозку. Сказав о том, что позиция, занимаемая войском жаков, выбрана хорошо и может считаться неприступной, он сообщил, что собралось здесь более шести тысяч вооруженных людей, в том числе около шестисот конных, что оружия хватает, хотя и не у всех оно самого лучшего качества.
— Да это и не беда, — продолжал он, — в бою ведь как: убил противника — и первым делом хватай его оружие, если твое хуже. Хватать, понятно, надо с разбором, не зариться на то, что подороже, а брать себе по руке. Рыцарский длинный меч, к примеру, стоит целое состояние, но в бою кто на него польстится? Разве что дурак, потому что такая добыча — верная погибель. Пешему он ни к чему, драться им несподручно, да и привычка нужна. Это уж после боя подобрать — дело другое, а в бою бери у врага топор, кинжал, алебарду, пику, ну и само собой — пехотинский меч, он короток и удобен. Но не это главное, братья, и не об этом хочу я с вами теперь потолковать. Мало — иметь оружие, надо еще, чтобы в руках привычка к нему была; такая же привычка, как у землепашца — к плугу или вилам, как у кузнеца — к молоту. У многих ли из вас есть привычка к оружию? Вы еще неделю назад косили траву своими косами, а сейчас хотите употребить их против вон тех дворян, каждый из которых сызмальства обучен владеть мечом и копьем. Сколько их там собралось, доподлинно мы не знаем, но что много — это и так видно. Против нас стоят здесь три войска: личная армия короля Наварры, предателя и злого изменника; приведенные им же безбожные годоны-англичане, коих главарь, именем Робер Серкот, собрал головорезов со всей округи; и, наконец, дворянское ополчение под стягами виконта де Кена и барона Жана де Пикиньи, который поклялся сторицею отплатить нам за смерть двух своих братьев, убитых неведомо кем под Клермоном…
Толпа, слушавшая Каля, начала шуметь и волноваться; он поднял руку, призывая к молчанию, и повысил голос:
— К чему я все это говорю? Не для того, чтобы внушить вам, братья мои и соратники, робость перед боем. Военачальники так не поступают, ибо страх лишает воина силы, а кто же станет нарочито ослаблять свое войско? Но вы почтили меня доверием, избрав своим генеральным капитаном, и я был бы иудой, если бы послал вас на смерть, скрывая истинное положение дел. Позиция наша крепка, это я могу повторить еще раз, и, если нас атакуют здесь, мы с Божьей помощью отобьемся и сможем продержаться долго. Ну а дальше? В открытом поле нам против дворянской армии не устоять, они окружат нас, оставив без продовольствия, и возьмут измором. Я не призываю вас отдаться на милость врага, но прошу подумать: не лучше ли с наступлением ночи сняться отсюда и идти к Парижу? Там в округе еще не все укрепления разрушены, мы могли бы занять какие покрепче — тогда и одолеть нас окажется не так просто, да и помощь от горожан будет…
Толпа взревела, заглушая речь Гийома Каля негодующими возгласами. Тщетно пытался он их унять, наконец махнул рукой и соскочил с повозки. На его место с трудом вскарабкался старый Бертран — рыцарь-госпитальер, неведомо по какой причине присоединившийся к жакам и игравший при генеральном капитане роль главного военного советника. Хромой и одноглазый, с темным, как кора дуба, лицом, наискось разрубленным страшным шрамом, он молча дождался, пока стихнут крики и поднял руку в кольчужной перчатке.
— Вы воины или стадо баранов? — спросил он хриплым каркающим голосом. — Мессир генеральный капитан предложил вам самое разумное, что можно сделать. Не хотите — будете пенять на себя. Тот, кому посчастливится унести отсюда свою шкуру в относительной сохранности, пусть потом не винит вождей. Они сказали все, что надо было сказать, а решать вам самим — вам, и никому другому. Насильно никто никого спасать не будет. А теперь хватит блеять, бой может начаться уже сегодня, так что расходитесь и начинайте готовиться. Все повозки выкатить вон туда, — он указал в сторону противника, — ставить их надо боком, я уже показывал, немного под углом, чтобы одна заходила за другую. И покрепче вязать между собой — связывать колеса, дышла, чтобы непросто было расцепить. Арбалетчики, а также все умеющие стрелять из лука займут место за повозками…
Робер прошел в полосатый шатер, где помещалась ставка генерального капитана. Каль, увидев его, не удивился, предложил сесть к столу и велел подать вина. Солдат принес деревянный жбан, две глиняные кружки; генеральный капитан мог бы позволить себе и оловянную посуду, подумалось Роберу. Похоже, Каль подавал пример — не хотел поощрять подчиненных, склонных попользоваться захваченным в замках рыцарским добром. Но что толку, замки все равно оказывались разграбленными.
— Значит, ты все-таки решился, — сказал Каль, утирая усы (вино, хотя и из простого жбана, было превосходным).
— Так вот вышло, — отозвался Робер.
— Не скажу, что рад тебя видеть, — продолжал Гийом. — Ты, помнится, говорил, что нам против дворянского войска не устоять. Что ж, похоже, так оно и будет… — Он помолчал, допил вино, потом сказал просто: — Нас тут перебьют, парень, это конец.
— Я знаю.
— И все-таки пришел?
Робер молча пожал плечами, разговор был ему в тягость.
— Да… жаль что не сумел я угомонить свое войско. Но ежели мужика довести до крайности, он становится вроде бешеного быка, никакими уговорами не остановишь. Я ли не пробовал!
— Так стоило ли с ними связываться?
— Стоило, — твердо сказал Каль. — Остановить их нельзя, а направлять помаленьку можно. Не сразу, конечно…
— Куда направлять? И кого? Ты сам сказал, всех перебьют в первом же бою…
— А если боя не будет?
— Как это?
— А вот так! Почему, ты думаешь, Наварра здесь со своей армией? Смекни сам: он всю зиму якшался с Марселем, Марсель послал отряды на помощь жакам, так пристало ли королю поднять оружие против союзников? Для него главный противник — не жаки, а дофин-регент. Поэтому, я думаю, здесь он не случайно оказался…
— Опять ты за свое, — произнес каркающий голос. Старик Бертран только что вошел в шатер и, видно, слышал последние слова Гийома. — Главный враг для Наварры — вы все, когда ты, наконец, это поймешь? Со своим кузеном он грызется из-за короны, как два пса из-за кости; но это полюбовная драка, между собой псы могут грызться сколько угодно, пока волка не учуяли. А как учуят, тут уж они кидаются на него вместе.
— И кто же, по-твоему, этот волк?
— Вы все. — Госпитальер поднял жбан и понюхал вино, но пить не стал. — И жаки, и горожане, и такие вот, как ты. Все, кто затеял эту «войну против дворян».
— Выходит, себя, мессир рыцарь, вы к волкам не причисляете? — спросил Робер. — Как же тогда понять, что вы здесь, а не там?
— Не надо тебе этого понимать. Почему я здесь — это никого не касается, у меня с домом Валуа свои счеты. Пришел я к вам по своей доброй воле, и измены от меня опасаться не стоит, я слишком стар, чтобы губить душу вероломством, а остальное уж не ваше дело.
— Извини моего друга, — примирительно сказан Гийом, — он молод. Я бы тебе этого вопроса не задал, я тебе верю.
— Да ты всем веришь. — Бертран махнул рукой. — Ты и Наварре готов поверить, слыхал уже.
— Я не то что верю Наварре, я просто думаю, что он достаточно умен, чтобы не развалить сдуру то, что он так терпеливо создавал.
— И что же он создал — уж не союз ли с Марселем?
— Союз с городами! Что Марсель? Сам по себе Марсель не так уж много значит, но он представляет большую силу, города: вот чего не может не понимать Наварра! Ты ведь сам говорил, что он умен, что он строит свою политику, как партию в шахматы…
— Из двух игроков в шахматы один проигрывает. Наварра умен, ты прав, но душа его охвачена злом, а зло — плохой советчик. Что касается городов, то где-то в чужих краях, я слыхал, они и впрямь становятся силой, но не у нас. О Париже и говорить нечего. Марсель свою игру уже проиграл, и Наварра это знает. Поэтому и привел сюда свою армию — против вас.
— Еще неизвестно, против кого, — упрямо возразил Каль. — Я думаю, он здесь как посредник, чтобы попытаться покончить дело миром, понятно?
— Ну-ну, — усмехнулся Бертран и заковылял к выходу. Уже взявшись рукой за дверное полотнище, он обернулся. — Не пейте больше, становится знойно — может ударить в голову. Хотя сегодня, я думаю, они не начнут — поздно, солнце уже вон где…
День и в самом деле прошел спокойно. Из вражеского лагеря ветром доносились шум, пение труб, обрывки музыки — дворяне, похоже, развлекались ристанием или жостами, а может, просто пировали, уверенные в завтрашней победе. До самого вечера Каль с Бертраном, Коленом де Три, Робером и другими капитанами обходили войско, указывая отрядам их места, проверяя оружие, отдавая последние распоряжения. К ночи все, что можно было сделать, было сделано; оставалось положиться на Божье милосердие и заступничество святого Дели, не раз уже спасавшего здешний люд от разных напастей.
Было уже совсем поздно, и Робер сидел у догорающего костерка, вокруг которого храпели вповалку его солдаты, когда из темноты появилась Катрин. Вспомнив, что не видел ее целый день, Робер довольно неприветливо спросил, где это она шлялась, и велел ужинать — если еще осталось чем.
— Я не голодна, спасибо, — отказалась она и протянула Роберу крошечный букетик полевых цветов. — Смотри, что я насобирала! Тут все кругом вытоптано, но кое-где еще осталось, совсем немного…
Робер озлился, представив себе эту дуру собирающей цветочки среди готовящегося к бою военного лагеря.
— И никто не дал тебе хорошего пинка в зад, пока ты там выискивала невытоптанные? Веночек бы еще сплела — завтра в самый раз пригодится.
Катрин беспомощно уронила руку, державшую цветы, и глаза ее наполнились слезами.
— Почему ты такой недобрый со мной, — прошептала она, — я ведь хотела приятное тебе сделать… может, в последний раз…
— Ну, если накликать решила, тогда, конечно, в самый раз, — проворчал Робер, но сам устыдился, что зря обидел девчонку. — А хныкать нечего, я на тебя зла не держу. Иди спать, раз есть не хочешь. Ступай в обоз, разыщешь там наши повозки и ложись.
— Нет, я лучше здесь посижу с тобой…
— А я сейчас сам спать буду! Я целый день был делом занят, не цветочки собирал.
— Конечно, Робер, ложись, я просто посижу рядом, — безропотно согласилась Катрин.
Поняв, что от нее все равно не отделаешься, Робер не стал настаивать.
— Сиди, коли охота, а я посплю, — сказал он и растянулся на попоне. — Захочешь спать — ложись тоже, места хватит. Только смотри, в ухо мне не сопеть, я этого не терплю.
Утро 10 июня занялось в тумане. Проснувшись с первыми звуками труб, поднимавших лагерь, Робер вскочил, растолкал Катрин, которая спала, свернувшись калачиком за его спиной. Та вскочила, испуганно озираясь:
— Что, уже?
— Пока все тихо, не бойся. Да может, ничего и не будет, видишь, туман какой — в пяти туазах ничего не видать…
Говоря это, Робер ощутил дрогнувшую в груди надежду: может, и впрямь сражения не будет; все-таки он побаивался, уж самому-то себе мог в этом признаться. Кое-какой воинский опыт у него был, но до сих пор доводилось ему испытать себя лишь в небольших схватках, которые быстро кончались и где число дерущихся было сравнительно невелико — десяток-другой. Воины же бывалые, вроде покойного Симона, всегда говорили, что по-настоящему проверить себя можно только в большом сражении — там-де все по-другому. Конечно, оружие там такое же и враг точно так же норовит вспороть тебе брюхо или разрубить череп, но, просто когда вокруг тебя несколько тысяч человек орут и режут друг друга от восхода до заката, надо быть действительно мужчиной, чтобы устоять, не побежать без оглядки…
— Ты все-таки ступай сейчас в обоз, — продолжал он, не глядя на Катрин. — Увидишь, что дела наши плохи, беги в лесок, что в низине по правую руку, — видала вчера? Найдешь там какую-нибудь лисью нору и сиди тихо как мышь, пока все не кончится. Буду жив — там тебя и разыщу, а если что, то пробирайся ночами к Парижу. Найдешь там у Малого моста мастерскую иллюминатора Оливье — это мой друг, он тебе поможет…
— Нет, Робер, нет, не говори так, не надо! — Катрин зажмурилась, замотала головой, вцепившись в его рукав. — Мне без тебя все равно не жить! Пусть тогда и меня — рядом с тобой…
— Еще чего! — прикрикнул он. Ему стало жаль ее, захотелось утешить, приласкать, но он понимал, что этого нельзя, потом ей будет еще больнее. Поэтому он повысил голос и продолжал резко, словно распекая нерадивого солдата: — Ты это брось, Катрин, я тебе не для того разрешил остаться в отряде. Сам теперь жалею! Думаешь, мне легче от мысли, что тебя могут зарезать рядом со мной? Не взваливай на меня еще и эту заботу, если ты… Пойми, мне и без того нелегко!
— Да, я не подумала, прости… — Катрин виновато опустила голову.
— Ступай, — сказал он уже мягче, коснувшись ее плеча. — Сделай, как я сказал, и не забудь: Оливье, иллюминатор. Он картинки в книгах рисует, маленькие такие — с твою ладошку, и там все представлено: и святые, и люди, и зверье разное — залюбуешься… Только не перепутай — это у Малого моста, по ту сторону реки, где университет.
— У Малого моста, — покорно повторила Катрин, — по ту сторону.
— Да, перейдешь сперва в Ситэ, где собор, а после еще один мост, там спросишь. Ну, будь здорова, Като, ступай, мне теперь недосуг.
— Господь да сохранит твою жизнь, Робер. Ты бы меня поцеловал хоть разочек, а?
Он нагнулся и тронул губами ее щеку, она мимолетно коснулась пальцами его руки и, еще ниже опустив на лицо свой нелепый капюшон, исчезла в белесой мгле.
Туман, впрочем, скоро начал редеть, просвечиваясь первыми солнечными лучами. К тому времени, когда капелланы отслужили раннюю мессу, даль совсем очистилась, и все увидели готовое к бою дворянское войско, перегородившее поле во всю ширину. Впереди, выставив в синее июньское небо частокол копий, пестро расцвеченный знаменами и прапорцами, неподвижно сидели на боевых першеронах закованные в сталь рыцари, за ними нестройно шевелился лес пик и алебард вспомогательной конницы и пехоты.
Что жакам против такой силы не устоять, Робер понял сразу, как ни мал был его ратный опыт. Повозки, наспех врытые в землю рогатины и заостренные колья — вся эта «оборона» не выдержит первого же натиска, лучники успеют выпустить лишь по пять-шесть стрел, пока их не сомнут, арбалетчикам вообще не выстрелить больше трех раз — даже самым ловким. А повозки эти рыцарская конница просто обойдет стороной, не так уж их много оказалось…
Так же ясно он понимал, что ему самому не пережить этого дня. Колен де Три со своими пешими ополченцами сможет еще уцелеть, если повезет и если драться будет умело. А небольшой конный отряд Робера был по приказу Бертрана в качестве усиления придан главному боевому ядру крестьянского войска — его немногочисленной кавалерии, которой предстояло встретить атаку рыцарей на полпути и задержать ее, приняв на себя первый удар. Тут уж рассчитывать на везение не приходилось.
Робер подобрал поводья, удерживая нетерпеливо приплясывающего Глориана, и оглянулся назад. Что ж, конница жаков выглядела вовсе не убого, хотя не было здесь ни развевающихся знамен, ни богатой сбруи, ни расшитых родовыми гербами чепраков до самой земли; Гийом Каль с самого начала позаботился о том, чтобы подобрать сюда самых надежных и опытных бойцов, снабдить их хорошим оружием и лучшими из коней, захваченных в замковых конюшнях. Почем знать? Под Креси и под Пуатье все это блестящее рыцарство оказалось не таким уж грозным, как выглядело, и англичан в обеих битвах было куда меньше, однако же победили…
Робер подбадривал себя этими мыслями, но сам хорошо понимал, что им-то рыцарей не победить. Хорошо, если удастся немного задержать, чтобы у пехоты было время опомниться, наладить оборону. Первый таранный удар тяжелой конницы всегда страшен, главное — выдержать его. А там, может, и устоят. Хоть бы Катрин успела удрать в лесок. Хотя и там могут найти… жаль ее, надо было с ней помягче…
Впрочем, сейчас все это уже не имело значения, сейчас он должен был приготовиться к последнему своему испытанию. После всего, что они с Аэлис наделали, после всего зла, которое произошло, ему просто не оставалось ничего другого, кроме как умереть. И хорошо бы — не струсив напоследок…
Солнце поднялось уже высоко, становилось жарко, тучи слепней и оводов вились над войском, немилосердно жаля коней и всадников. Робер тронул шпорами Глориана, подъехал к Калю, намереваясь спросить, что же делать дальше и долго ли обе армии будут вот так стоять одна против другой; но спросить не успел, увидев вдруг, что со стороны дворянского войска сюда направляются трое — пестро одетый рыцарь, а за ним трубач и знаменосец со стягом Наварры.
— Герольд, герольд, — зашумели вокруг, когда всадники подъехали ближе и можно было разглядеть на первом расшитый шелками и золотом табард с теми же, что и на знамени, цепями наваррского герба.
В сотне шагов от того места, где находился Каль со своими капитанами, герольд осадил коня и поднял руку. Протяжно, долго пропела труба, потом герольд встал на стременах.
— Высокородный Карл, король Наварры и граф д’Эврё, — громко и нараспев закричал посланец, — движимый христианским человеколюбием, а также желая избежать ненужного кровопролития, приглашает к себе доблестного капитана, именуемого Гийомом Калем, дабы немедля приступить к переговорам о мире! Кой мир он, высокородный Карл, граф д’Эврё, считает возможным и достижимым, буде обе стороны проявят необходимую в столь смутное время мудрость…
Он еще продолжал выкликать что-то, но это уже были обычные формулы вежливости, главное было сказано и услышано. Каль обернулся к Бертрану, сидевшему рядом с ним на могучем караковом брабансоне:
— Ну, кто оказался прав? Не говорил ли я, что он начнет переговоры?
— Начать — еще не значит довести их до доброго конца, — отозвался госпитальер. — Спроси, почему он не прислал заложников?
— Эй, Наварра! — крикнул Каль, именуя герольда (как того требовала учтивость) титулом его господина. — Кто поручится, что меня там…
— Я привез тебе слово короля! — ответил тот. — Какая порука весит больше?
— Не соглашайся, Гийом. — Робер подъехал вплотную, загораживая дорогу белому жеребцу Каля. — Или хотя бы не езжай один, возьми меня с собой — я однажды встречался с королем, он звал меня на службу! Может, это поможет переговорам?
Каль, уже трогая жеребца шпорами, глянул на Робера с добродушной насмешкой:
— Так он тебя и запомнил, как же! Нет, парень, зовут меня одного, и один я поеду. В случае чего, там ты мне ничем не поможешь, а здесь у нас каждый командир на счету. Ты нужен мессиру Бертрану.
— Еще нужнее мне ты, — сказал старый рыцарь. — Если тебе не дорога жизнь, подумай о тех, кто тебе доверился! Что будет с войском?
— Ну, у тебя опыта поболе моего. Как я откажусь от переговоров, коли предлагают покончить дело миром?
— Наварра лжив и вероломен, разве не он предал Марселя?! — закричал Робер.
— Капитан Гийом Каль! — крикнул герольд, багровея лицом. — Я прибыл безоружный, с королевским посланием, и негоже мне выслушивать, как подлый пес своим черным языком марает доброе имя моего сюзерена!
Робер повернулся в седле, бросив руку на рукоять меча:
— Не будь ты герольдом, змеиное отродье, я бы обрубил язык тебе, чтобы все увидели, какого он цвета! Зеленый небось, как у василиска!
— Молчи, Робер, — вмешался Каль. — А ты, мессир, не взыщи с моего молодого друга, он погорячился. Вернемся к твоему делу.
— Есть ли смысл? — надменно спросил посланец. — Если ты намерен прислушиваться к трусливым речам таких советников, как этот молокосос, то мне лучше вернуться. И да падет тогда на твою голову вся кровь, которая здесь прольется!
Гийом задумался, хмуро глядя под ноги своего коня, потом вскинул голову, молча посмотрел на Робера, на Бертрана и прощальным жестом вскинул руку.
— Я готов, — сказал он, подъезжая к герольду.
Тысячи глаз следили за всадниками, пока они медленно преодолевали расстояние между двумя изготовившимися к битве армиями. Смотрел на них и Робер, вернувшись на то место, где стоял его отряд. Он видел, как расступилась живая стена рыцарей, пропуская внутрь Каля с герольдом и сопровождавшими их знаменосцами и трубачом. Потом брешь сомкнулась. И тогда взревели трубы.
Он сам только что предупреждал Каля о вероломстве Наварры и все равно в первый миг не поверил ни ушам своим, когда услышал хриплую перекличку труб и боевых рогов, ни глазам, когда увидел, как по переднему краю рыцарей прошло движение, копья все разом опустились в положение атаки — за ними позади обнаружился второй ряд — и застоявшиеся першероны тронулись с места, медленно набирая скорость.
— Измена! — закричал Робер, вырывая из ножен меч, и шпорами послал коня вперед. — Измена!! Каль в западне!
Они сближались не прямо в лоб, а под углом — конница жаков, легче вооруженная и поэтому более быстрая, шла как бы наперерез рыцарской, чтобы встречным косым ударом заставить ту отклониться от заранее выбранного направления атаки и повернуть на повозочное заграждение с укрытыми за ними лучниками. Ветер резал глаза, Робер оглянулся, проверяя — не слишком ли далеко вперед унес его взъярившийся уже Глориан, увидел пригнутую голову и широкие плечи скачущего следом Урбана и еще раз крутанул над головой мечом, давая знак «быстрее». Рыцари тем временем тоже успели уже разогнать своих громадных коней до скорости галопа; их ощетиненная копьями живая стена, отчасти потерявшая первоначальную прямолинейность, неслась вперед в обвальном грохоте копыт, окутанная пылью, сквозь которую искрометно проблескивала сталь оружия и доспехов. И с каждым мгновением все это становилось все ближе, все грознее, все оглушительнее нарастал гром копыт — это была смерть, близкая, осязаемая, настолько ощутимая, что уже не вызывала ни страха, ни каких бы то ни было мыслей, кроме одной — доскакать, врубиться, хоть ненамного погасить размах этого чудовищного живого тарана… Глориан легко шел своим летящим галопом, мерно вздымаясь и опадая под вставшим на стременах всадником, ветер обжигал лицо и забивал дыхание. Робер опустил меч к стремени, чувствуя, как рука тяжелеет и наливается силой. Сзади нарастал нестройный рев: «А-а-а!!» — он не сразу услышал, но, услышав, подхватил сам, тоже закричал. Это было уже совсем близко — рядом, вот оно, рукой подать! — и Глориан, прижав уши, взвизгнул вдруг свирепо и пронзительно, словно предупреждая хозяина об опасности. Робер без жалости ударил его шпорами, чуть сгибая в локте руку с мечом, пробуя вес клинка, примериваясь для удара.
— Монжуа-а-а!! — кричал он сквозь пыльный горячий ветер, забивающий дыхание. — Монжуа-а-а-а!!![92]
Глава 29
В схватке на Рыночном мосту Донати легко отделался — клинок горожанина скользнул по руке, не задев кости и причинив, в сущности, не более чем глубокий порез. Правда, он потерял довольно много крови, чем и объяснялся постыдный обморок на глазах у Мадлен де Траси — обморок, снискавший ему симпатию всех герцогининых фрейлин, восхищенных чувствительностью флорентийского кавалера. Мыслимо ли, спрашивали они, чтобы наш грубый француз упал в обморок, не встретив в условленном месте своей жены? Да он только рад будет, тут же поскачет к очередной шлюхе!
Два дня в постели и заботливый уход сделали свое дело, и Франческо начал уже говорить об отъезде в Моранвиль, но Джулио уговорил его, что сейчас пускаться в путь еще рано. «Жаки рыщут по всей округе, — говорил он, — против них собрано большое войско, и не сегодня-завтра со смутой будет покончено; что изменится, если мы выедем на пару дней позже?»
И действительно, скоро в крепость пришли вести о побоище на Монтатерском плато, где отряды жаков были буквально втоптаны в землю соединенными силами наваррцев, англичан и местного дворянского ополчения. Узнав о разгроме мятежников и о пленении их главного предводителя Гийома Каля, собравшиеся на Рыночном острове бароны так ликовали, что на радостях сделали вылазку в город, перебили еще дюжину-другую жителей и подпалили Мо с другого конца, относительно пощаженного недавним пожаром. Искали, чтобы повесить мэра, но злой изменник Сула, к их великому огорчению, уже был схвачен и казнен сразу после сражения на Рыночном мосту.
На другой день, еще не протрезвившись после празднования успеха вылазки, некоторые горячие головы стали кричать, что в Мо измену вывели, делать тут больше нечего, а в равнинном краю Бовэзи охота на жаков только начинается — не стыдно ли, мол, сидеть в такое время сложа руки. На призыв откликнулись не многие, большинство местных дворян подумывало уже, что пора бы и по домам, — была середина июня, жатва не за горами, а хватит ли в этом году жнецов? Но отряд в десяток копий все же удалось собрать, и к вечеру они с развевающимися знаменами торжественно отбыли по санлисской дороге.
Остатки отряда вернулись через два дня в самом плачевном виде. Оказалось, что, дойдя до Санлиса, они нашли ворота запертыми и стали требовать открыть их именем герцога Нормандского — на что не имели никакого права, ибо регент не собирался брать Санлис под свою руку и никого не уполномочивал действовать от его имени. Испросив несколько часов на размышление, горожане согласились открыть ворота, и отряд победоносно вступил на главную улицу — довольно узкую, прямо от городских ворот круто поднимавшуюся вверх, к ратуше и собору. И вот тут-то обнаружилось все коварство «сдавшихся», ибо испрошенное время было использовано ими отнюдь не для размышлений. В верхнем конце улицы, у ратуши, они приготовили несколько тяжелых дубовых бочек, прикрепив к их днищам остро отточенные ножи и серпы, а также нагрузили камнями и повозку, из которой во все стороны торчали пики и косы; и все это смертоубийственное дьявольское измышление загромыхало вдруг под уклон — прямо на дворянский отряд, уже втянувшийся в узкую улицу. Вдобавок из окон их стали осыпать стрелами и камнями, и даже горожанки, забыв о приличествующей кротости, опорожняли им на головы ночные посудины и, хуже того, кипящие кастрюли. Благо городские ворота так и оставались нараспашку, что позволило уцелевшим унести ноги. Случившийся конфуз отбил охоту к поискам других приключений, и они бесславно вернулись в Мо; тем временем стало известно, что Карл д’Эврё якобы призвал дворян не увлекаться преследованием разбитых жаков и даже своей королевской властью пригрозил карать ослушников, так что охота на подлое мужичье становилась делом не таким уж привлекательным…
Франческо со злорадством встретил новость о возвращении незадачливых вояк, хотя еще несколько дней назад они были его товарищами по оружию. Он вообще пребывал в последнее время в состоянии жестокого внутреннего разлада. Прежде всего его мучило сознание, что он, потомок пополанов[93] и убежденный республиканец, оказался в одном лагере с нобилями, причем нобилями самого дикого и неистового рода, чье презрение ко всему недворянскому граничило уже с какой-то манией; с людьми, для которых самый образованный легист, самый искусный ремесленник, самый талантливый поэт или живописец были человеческим мусором под ногами любого титулованного болвана — лишь бы тот имел родовой герб и умел владеть оружием. Франческо доводилось общаться с нобилями во Флоренции, в Падуе, но там они были другие, они знали Платона и Аристотеля, читали великого Данте, наследственный аристократизм духа сочетался в них с умственной пытливостью простолюдинов. Здешние же нобили были грубыми и невежественными дикарями, покойный тесть выглядел в их среде белой вороной — читал книги, даже покупал их… Зато уж братец Тибо — вот кто был на своем месте!
Иногда Франческо казалось, что он вообще переживает все это в тягостном сновидении, — настолько мучительным был и его брак с Аэлис, и то, что он теперь невольно оказался втянут в эту кровавую междоусобицу, причем даже не на той стороне, которую избрал бы, будь его воля. К жакам — дикарям еще более диким, нежели их феодальные господа, — он, понятно, никакой симпатии не испытывал; но города, городские коммуны, и в первую очередь парижская, поначалу так умело возглавленная Этьеном Марселем, — вот кому он сочувствовал, вот в ком видел растущую силу. Он даже был согласен поддержать своим громадным займом «Наваррскую интригу» — ведь Карл Злой делал год назад все, чтобы прослыть другом горожан, защитником их интересов…
Впрочем, он и сейчас продолжал им прикидываться. И самое удивительное, ему продолжали верить, хотя за этот год Карл д’Эврё десятки раз показывал свое вероломство, обманывая то Карла Валуа, то Марселя, то обоих одновременно. Да и Марсель был не лучше. После битвы под Мелло, где вместе с Жаками полегло и немало парижских ополченцев, купеческий старшина не нашел ничего лучше, как пригласить Наварру в Париж и предложить ему почетную должность «генерального капитана».
Джулио, рассказывая об этом, казался удрученным настолько, что Донати даже удивился, — обычно его друг не принимал французские дела так близко к сердцу.
— Ну и черт с ними, — сказал он. — Что Марсель спятил, я понял уже давно. Нам-то что? У меня сейчас одно желание: поскорее уехать из этой сумасшедшей страны.
— Как уедешь?.. — пробормотал Джулио, не глядя на него. — Слишком мы глубоко здесь увязли…
— Ты о чем, о займе? Пустое! Какую-то часть денег мы вернем, пусть не сразу. А вообще банковское дело всегда рискованно, иначе оно не было бы таким прибыльным. Так Наварра, говоришь, уже там?
— Да, вчера выступал перед народом на Гревской площади. Клялся защищать Париж и радеть о его интересах, как о своих собственных, и заверял в своей преданности Франции.
— То-то он уже разделил ее с Плантагенетом! — усмехнулся Франческо. — Жать, что только на бумаге! Может, эту страну и впрямь следует всю раздробить на мелкие княжества… Легче было бы навести порядок. Но послушай, я давно не видел тебя таким озабоченным. Может быть, — спросил он с внезапным испугом, — ты что-то от меня скрываешь?
Джулио поднял голову и посмотрел ему в глаза.
— Да, — сказал он. — Прости, я… не знал, как сообщить. Видишь ли, приехал мэтр Филипп…
— Кто? Какой Филипп?
— Филипп Бертье, нотарий из Моранвиля.
— Так, — сказан Франческо охрипшим вдруг голосом и, помолчав, продолжил: — Что же он рассказывает? Впрочем, нет, не надо! Погоди…
— Я пришлю его к тебе.
— Хорошо, пусть идет. Вести дурные?
— Да. Очень дурные.
— Аэлис… что с ней?
— Она жива, — быстро сказал Джулио. — Филипп тебе все расскажет…
Когда Бертье вошел в комнату, Франческо не обернулся. Он сидел, крепко взявшись за подлокотники кресла, и смотрел в узкое окно, глубоко врезанное в толщу стены. Окно выходило на север, к реке, и сейчас синий прямоугольник неба то и дело затягивался клубами дыма — город на правом берегу Марны продолжат гореть.
— Как вы нашли нас здесь, мэтр? — спросил Франческо.
— Я сперва приехал в Париж, в вашу контору, — торопливо заговорил нотарий, — а конторщик сказал, что только что вернулся из Льежа, где видел вас, и что вы с сеньором Гвиничелли решили ехать в Мо. По дороге сюда я встретил Беппо, он тоже разыскивал вас по всей Фландрии… вместе и приехали…
— Рассказывайте дальше.
— Я привез дурные вести.
— Рассказывайте. Что с моей женой?
Мэтр Филипп кашлянул и заговорил еще тише:
— Мессир, дама Аэлис стала жертвой насилия…
Он умолк, словно сам испугавшись сказанного. Молчал и Франческо, в тишине было слышно, как за рекой кричит вороньё, уже который день кружащееся над местом недавней резни. Потом оглушительно громко — нотарий даже вздрогнул — раздался треск сломанного подлокотника. Франческо медленно повернул голову и страшными глазами уставился на Бертье.
— Кто? — хрипло спросил он. — Жаки?
— Нет-нет, мессир! Жаки приходили в замок в самом начале смуты, госпожа ничего еще не знала о кончине отца и… велела раскрыть ворота, дать им еды, они и ушли с миром… Это уже после…
— Кто?! — Франческо повторил вопрос свистящим шепотом, подавшись вперед всем телом. Жилы на его висках вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут.
— Тестар де Пикиньи, — так же тихо ответил нотарий. — Кузен госпожи. Но его уже нет в живых.
— Посмели убить — без меня?!
— Бога ради, мессир, вам надо выпить успокоительного, вы же себя убьете!
Не слушая возражений, Бертье выскочил за дверь и скоро вернулся с кружкой; покорно опорожнив ее, Франческо немного успокоился.
— Рассказывайте, мэтр, — попросил он тихо, сидя с закрытыми глазами. — Все, ничего не утаивая и не пытаясь меня щадить. Я хочу знать все.
Всего он не узнал, потому что всего не знал и сам мэтр Бертье, но и услышанного было достаточно. Когда нотарий умолк, Франческо отпустил его жестом, не в силах вымолвить ни слова. Больше всего он хотел бы сейчас заплакать, но слез не было, не было даже мыслей, горе оглушило его, выжгло душу, оставив пустоту и пепел. Только воображение продолжало работать, услужливо высвечивая картины, от которых впору было потерять рассудок. Почему не послушался он своего сердца и не вернулся раньше? Зачем вообще оставил ее одну, тогда, в феврале? Сам обрек на горе и позор… Франческо стиснул зубы, чтобы не застонать, негнущимися пальцами рванул на вороте пуговицы. От охватившего вдруг удушья сердце забилось неровными болезненными толчками, гулом отдаваясь в ушах, а комната закружилась, поплыла перед глазами… И только ли на страдание обрек он ее своим малодушием? В мае этот оруженосец был в Моранвиле, когда рядом с ней никого не было, даже отца… кто мог помешать им? Если его подозрения верны, тогда понятно, почему был оставлен в замке Урбан, понятно ее письмо… Слепо, не глядя, Франческо нашарил на столе кувшин, стал жадно пить прямо через край, не замечая, как вино струйками стекает по подбородку, марая светлый бархат камзола… Потом он долго сидел, уставясь невидящими глазами в пустоту, пытался собраться с мыслями. Если его подозрения верны… вот именно, если! Ведь он ничего толком не знает, да и в этом ли дело. Ведь он, на свою беду, все равно любит ее, и он кругом виноват — виноват, что предоставил ее самой себе, всем искушениям и всем опасностям. Разве же справедливо, что не ему довелось спасти Аэлис, что другому было дано отомстить за ее позор? Но может, прав легист и это просто детская дружба? Господь видит, как хотел бы он верить в ее чистоту…
Ему вдруг вспомнилось — Беппо! Нотарий сказал, кажется, что они приехали вместе? И Беппо разыскивал его по всей Фландрии… зачем? Что заставило Беппо покинуть Моранвиль, если он приказал ему присматривать за госпожой? Неужели…
Похолодев от догадки, Франческо нерешительно протянул руку к колокольчику, отдернул ее, снова протянул. Наконец позвонил, и тотчас же, словно дожидался под дверью, вошел Джулио.
— Что, Беппо тоже здесь? — неповинующимися губами спросил Франческо.
— Да, он приехал с легистом.
— Пусть войдет.
— Может, не стоит сейчас, а? Ты бы отдохнул, у тебя плохой вид…
— Пусть войдет, я сказал!
— Как хочешь, дорогой. — Джулио пожал плечами.
Беппо был из тех доверенных слуг, которых ценят за собачью преданность, но к которым не привязываются. С ними, впрочем, и не расстаются до самой смерти. Не было такого поручения, которое Беппо не исполнил бы, не было преступления, перед которым он остановился бы, исполняя волю господина. Он был необычно жесток даже для уроженца полуязыческой Сицилии; Франческо иной раз становилось не по себе, когда он встречался взглядом с его черными, близко посаженными, немигающими, как у змеи, глазами.
Войдя в комнату, Беппо поцеловал у господина руку и, пятясь, отступил назад к двери.
— Ты, я слыхал, долго меня разыскивал? — спросил Франческо.
— Почитай месяц. Куда ни приедешь — были, говорят, да уже отбыли…
— Почему уехал из замка?
— А чего мне там было делать? Про что ты хотел узнать, я узнал. Ну и я так понял, что надо об этом доложить.
— Что же ты узнал? — поинтересовался Франческо ровным голосом.
— А то, что у тебя рога почище оленьих. Я, когда привез тебе письмо от госпожи, вернулся в замок, а этот парень уже там…
— Какой парень?
— Оруженосец этот, Робер, которому еще госпожа прошлым годом подарила вороного, — помнишь? Я тебе тогда сразу сказал: смотри в оба, господин, такие подарки зазря не делают…
— Я помню, что ты сказал тогда. Я хочу знать, что ты видел теперь!
— Видел, как госпожа смотрела на этого Робера из окна. Я как раз приехал, а он уезжал, час был ранний — солнце еще не взошло. Она смотрела на него, и он все оглядывался — шел к коню и оглядывался, точно привороженный. Господин, в их глазах был блуд, я это видел.
— Видел, и позволил ему уехать?
— А что я должен был сделать?
— Повесить его, вот что ты должен был сделать, негодяй, — медленно сказал Франческо. — Но сперва ты должен был оскопить его у нее на глазах!
— Ну… — Беппо пожал плечами. — Оно ведь как получилось… Понял-то я сразу, но доподлинно все выведал позже, когда его уже не было.
— Что выведал?
— А все — и как госпожа лучника в Париж посылала за этим Робером, и как они на башне миловались, и как он к госпоже в опочивальню приходил. Лучника этого я в лес увел, связал — он не хотел говорить — и отрезал один палец, другой… Когда на правой руке пальцев не осталось, он все и выложил. Я его, понятно, прикончил — беспалому-то что за жизнь, верно?
— Это он тебе сказал, что оруженосец приходил к госпоже?
— Да, от камеристки узнал, та видела.
Франческо долго молчал. Что Беппо никому другому не мог говорить того, что сказал сейчас ему, он не сомневался. Но сколько людей уже знало о его позоре? Лучник (хотя этого уже нет), камеристка… это какая же? Наверное, Жаклин. Что ж, тем хуже для нее. И наконец, сам Беппо — это животное, дикарь… Можно себе представить, с каким нечистым любопытством собирал он все эти подробности, как высматривал, вынюхивал…
— Я доволен тобой, — сказал он наконец и, поднявшись из кресла, подошел к дубовому поставцу, взял оловянный кубок, налил вина. — Выпей, у тебя, наверное, глотка пересохла. Но сперва отопри-ка вон тот ларец…
Он отцепил от пояса ключ, кинул Беппо; пока тот возился с замком, Франческо повернул на пальце перстень с крупной геммой и, держа руку над кубком, прижал выступ оправы к его краю. Едва слышно щелкнула пружинка, и выпавший шарик мгновенно растворился в темном вине. Поворачивая перстень обратно, камнем наружу, Донати подошел к Беппо и, когда тот откинул крышку ларца, велел ему взять лежащий внутри кошель.
— Это тебе за труды, — сказал он. — Оставь ключ в замке, я запру сам.
Беппо алчно схватил кошель, с недоверчивым изумлением взвешивая его на ладони:
— Ты слишком щедр, господин!
— Я всегда щедр с теми, кто мне верен. Выпей и иди отдыхай.
Слуга медленно подошел к столу, взял кубок. Уже поднеся его к губам, он вдруг задержал руку и оглянулся, словно вспомнив что-то или желая о чем-то спросить, с кубком в одной руке и увесистым кошелем в другой.
— Пей, пей, — поощряюще сказал Франческо. — У тебя, помнится, большая семья?
— Большая, господин.
— Ну ничего, этого им хватит надолго. Да и я обещаю позаботиться о них… в случае чего. Кстати, ты хорошо сделал, что не убил оруженосца, у меня это получится лучше…
— Твое здоровье, господин! — Беппо осушил кубок, поставил на стол и положил рядом кошель. — Это пусть пока лежит у тебя, мне и спрятать такое некуда — украдут.
Значит, догадка была верна, думал Франческо, продолжая смотреть на закрывшуюся за слугой дверь. Значит, она его действительно обманула, предала, опозорила — с мужиком, с простым деревенским парнем, после всего, что он для нее сделал, дал ей свою любовь, богатство…
Он старался разжечь в себе гнев и ярость, представлял себе то подробности их свиданий, то картины возмездия, от которого — Бог свидетель! — не уйдут ни он, ни она; представлял себе, как приведет Аэлис на верхнюю площадку Фредегонды и заставит смотреть и слушать, как ее любовника будут учить не покушаться на честь замужней дамы. Все это было справедливо, и он знал, что так и сделает, как только мерзавец попадется к нему в руки, но странно — сейчас предвкушение мести не радовало его, не облегчало боли, потому что настоящей мужской ярости не было сейчас в его сердце. Франческо не узнавал самого себя.
В голове у него мутилось, он встал, с трудом дошел до постели и рухнул, раздирая на груди камзол, словно в комнате стало вдруг не хватать воздуха. За что ему эти муки, чем он их заслужил, разве не хотел он одного — сделать ее счастливой?
«Нет-нет, не этого ты хотел, — отвечал ему внутренний голос, — о ней ты не думал, ты сам хотел быть счастливым, обладая ею. Наивно, глупо, но ведь так всегда бывает: обладание всегда представляется счастьем, пока оно не свершилось. О ней самой ты не думал просто потому, что ничего о ней не знал. Да и узнать, наверное, не стремился. Вот, нотарий сказал, что у нее с этим оруженосцем была „детская дружба“; а если не только дружба? Если они уже любили друг друга, когда ты появился и стал умело соблазнять наивную провинциальную девочку — своим блестящим видом, рассказами о поездках, стихами Петрарки… Может быть, украв у тебя жену, оруженосец просто сквитался с тобой, укравшим у него любимую?»
И как понять его последний поступок — отвезти Аэлис в аббатство, оставить там, а нотария послать за ним, — что это, нарочитое глумление? Приходи, мол, и забирай то, что мне уже не нужно? Мужчина обычно презирает женщину, не сумевшую остаться добродетельной. Но если оруженосец испытывал такое презрение к Аэлис, то что заставило его драться за нее с Тестаром? Что ни говори, а он ее спас… нет, тут другое… видит бог, как бы он хотел быть на его месте…
Франческо забылся тяжелой, не приносящей отдохновения дремотой, а потом, проснувшись внезапно, как от толчка, увидел рядом Джулио, который говорил ему что-то успокаивающим тоном, похлопывая по плечу.
— Тебе приснилось дурное, дорогой, ты опять кричал, — объяснил он. — Я позову лекаря, у тебя жар, мне кажется.
— Что? Лекарь? Какой лекарь, мы должны ехать, и немедля!
— Мы никуда не поедем, покуда не поправишься, — решительно возразил Джулио. — Один уже доездился, хватит.
— Кто доездился, о чем ты?
— Помер бедняга Беппо, только что. Видно, надорвался; это бывает от слишком долгой скачки, а он за нами по всей Фландрии рыскал, вот и перетрудил сердечную жилу.
Франческо перекрестился.
— Requiescat in расе…[94] Джулио, там на столе кошель — возьми, отошлешь его семье с первой оказией…
Он действительно серьезно расхворался и пролежал в горячке до Иоаннова дня. Крепость тем временем опустела: регент забрал двор герцогини к себе в Шель, где собирал армию, чтобы идти на Париж. Разъехались и бароны, одни подались за регентом искать воинских утех, другие вернулись в свои замки (у кого они уцелели) поднимать порушенное Жаками хозяйство. Лишь к концу последней недели июня отряд Донати покинул наконец Рыночный остров и, проехав через пепелище Мо, где уцелевшие горожане рылись среди головешек, разыскивая остатки своего добра, тронулся на Санлис.
Париж решили объехать подальше, потому что мятежная столица была обложена со всех сторон: северные подступы к ней были в руках наваррцев и англичан, на юге бесчинствовали банды вообще неведомо чьи, а с востока стояла осадная армия регента, и его люди тоже жгли и опустошали парижские предместья — от Монтрея до Шарантона. Военные действия происходили в окружности десяти лье, но дальше было спокойно, и до самого Санлиса отряд не встречал никаких следов бедствия. Зато дальше пошел уже разоренный край — черные от копоти развалины замков, пепелища деревень, стаи воронов над виселицами; именно в этих местах бушевал такой короткий — всего десять дней! — но такой опустошительный шквал народной ярости, за которым последовала вакханалия мести…
Первых трех висельников Франческо велел снять и предать земле, потом пришлось хоронить еще одного, лежащего при дороге, беднягу — виллана, судя по рубищу, — у которого отсутствовали голова и кисть правой руки; но потом повешенные и обезглавленные стали встречаться в таком числе, что устраивать каждому христианское погребение сделалось попросту невозможно. Край казался вымершим, до того он обезлюдел, редко где можно было увидеть старуху, ребенка, двух-трех женщин. Большинство деревенских жителей, очевидно, пряталось по окрестным лесам… Это же подтвердил и предводитель небольшого воинского отряда, встретившегося Донати на второй день пути.
— Мужичье разбежалось, — сообщил он довольным тоном, — мы им тут такого жару задали, надолго запомнят!
— А кто будет работать на полях? — поинтересовался Джулио.
— Да они же и будут! Побегают и вернутся, никуда не денутся, жрать-то им тоже надо. Самых зловредных мы перебили, остались те, что посмирнее, — пусть живут. Я думаю, такая перетряска время от времени даже полезна, а, мессиры? — Предводитель захохотал. — По крайней мере здесь теперь долго можно будет ничего не опасаться…
Но пока опасаться приходилось — край был лесной, изобилующий удобными для засады местами, и изголодавшиеся беглецы, случалось, нападали на неосторожных путников. Поэтому, располагаясь на ночлег, Джулио расставлял вокруг лагеря сторожевые посты.
Лагерь обычно разбивали засветло, чтобы успеть загасить костер до наступления темноты и не привлекать ненужного внимания. Так сделали и на этот раз — слуги с привычной сноровкой развели огонь, носили воду и хворост, расставляли маленький походный шатер. Джулио, освежившись в ручье, сидел рядом с Франческо в ожидании ужина, веткой отбивался от комаров и допытывался у Мадонны и всех святых, скоро ли кончатся его муки.
— В конце концов, я ведь не прошу многого, — говорил он убеждающе. — Мне нужен всего-навсего постоялый двор, самый скромный, но чтобы он не был сожжен или разграблен, чтобы были кровати с набитыми свежим сеном тюфяками, чтобы из очага не торчали ноги зарезанного накануне хозяина…
— Ты, я вижу, становишься сибаритом, — заметил Франческо.
— Тут станешь! Если когда-нибудь я все-таки вернусь на берега Арно, меня до конца дней будет прошибать холодный пот при одном слове «Франция»… Что за омерзительная, дикая страна! Черт надоумил моего великого тезку ее завоевывать.
— Ну, если он уж и Британией не побрезговал…
— Ты прав, наши предки и впрямь были неразборчивы.
К костру подошел начальник охраны Карло:
— Мессир, там в лесу люди — мужчина и женщина и еще кто-то на повозке. Похоже, раненый.
— Что нам до них? Пусть идут своей дорогой, — сказал Джулио.
— Я просто подумал… Дело вот какое — конь-то у них из моранвильской конюшни…
— Что за вздор! Это он сам тебе представился?
— Помилуйте, мессир, — возразил старый солдат, — мне ли не узнать такого коня — вороной, а на груди звездочка, вроде как голова сокола…
— Как ты сказал? — тихо спросил Франческо. — Вороной? И с белой звездочкой?
— Да точно он, мессир, я его сразу признал! На нем еще Симонов оруженосец ездил, с ним этот конь после и исчез…
— Сюда их! — приказал Франческо. — Всех троих — и живыми!
— Хорошо, мессир. Только я возьму тогда с собой еще людей, а то бродяга этот такой дюжий да свирепый — вдруг добром не пойдет…
— Бери кого хочешь, но чтобы они немедля были здесь — целые и невредимые, слышишь?
— Ты думаешь… — начал Джулио, когда Карло удалился, кликнув с собой подмогу.
— Я ничего не думаю! Я хочу видеть, кто это!
— Хорошо, дорогой, хорошо, разве я против? Пожалуй, схожу сам прослежу…
Джулио исчез вслед за солдатами. Медленно сгущались сумерки, воздух наполнился пронзительным комариным звоном. Франческо сидел у гаснущего костра, не отрывая взгляда от раскаленных угольев. Наконец вдалеке послышались крики, женский визг, треск ломаемых кустов. Шум приближался, на поляне появились солдаты — трое пинками гнали перевязанного веревками бродягу, грудная клетка которого была столь широка и могуча, что напоминала упакованный тюк шерсти, четвертый нес на плече вопящую женщину, пятый вел под уздцы запряженного в повозку коня. Подошел Джулио.
— Ты оказался прав, — тихо сказал он, — это твой птенчик. Но только он без памяти — ранен… Андреа! Давай девку сюда!
Солдат поставил женщину на ноги, Джулио взял ее за волосы и подвел к Франческо.
— Узнаешь? — спросил он, запрокидывая ее голову.
Франческо недоуменно глянул на эту нищенку, одетую в невообразимое рубище, с космами свалявшихся волос и серым от грязи лицом. Лицо, впрочем, кого-то напоминало. Неужто это… одна из тамошних горничных?
— Перестань выть, — поморщился он, — иначе велю забить тебе кляп. Тебя ведь зовут…
— Катрин, добрый мессир! Велите им отпустить нас, мы ведь ничего дурного…
— Не вой, я сказал. Кто там на повозке — этот, как его… Робер?
— Это он, добрый мессир! Это он! Он побил людей господина Тестара, когда господин Тестар захватил замок и убил господина Симона и господина кюре, и он еще из Моранвиля послал к вам господина Бертье, чтобы сообщить, где госпожа. Может, Бертье просто вас не нашел, никто ведь не знал… А госпожу отвез в Шомон, к монахиням…
— Нотария я видел. Давно ты из Моранвиля?
— Давно уже, мессир, вот сразу, как все это приключилось, госпожа сказала, что уезжает, я сперва с ней поехала — а после Жаклин сказала, что госпоже никто не нужен, и я тогда в мужское переоделась и ушла с отрядом Робера, с его людьми… Я ведь как чуяла, что нельзя ему без меня, его там под Мелло всего, как есть, изрубили, ну вот когда было большое сражение, хорошо еще, что мне травы ведомы…
Франческо подошел к повозке, за ним другие. Откинув холстину, он долго смотрел на раненого — не в пример грязным и оборванным Катрин и ее спутнику, Робер был умыт и ухожен, и даже повязки на нем были чистые.
— Он что же, вот так и лежит без памяти? — спросил он.
— Когда как. Это я ему отвар такой даю, ему теперь надо дольше спать, от этого кровь успокаивается…
— Оставьте нас, — сказал он, продолжая смотреть на неподвижные губы Робера — губы, которые целовали его Аэлис.
Джулио и другие солдаты удалились. Взгляд Франческо скользил по телу раненого, и вдруг его полоснула острая боль — сквозь дыры на рубахе Робера блестел медальон с королевскими лилиями…
— Да, лучше было ему умереть там, на поле битвы, — сказал он, словно думая вслух.
Катрин испуганно перекрестилась:
— Да что же вы такое говорите, мессир…
— Или ты думаешь, — он усмехнулся, — я могу оставить этого человека в живых?
— Что-то я вас не пойму, — прошептала она, глядя на него со страхом.
— Тогда ты еще глупее, чем кажешься. Ты была в замке, когда он туда приехал?
— Была, добрый мессир, это ведь я и послала Урбана — вот его. Велите ему подойти, и он скажет, что все так и было: я убежала из замка и сказала ему, чтобы скакал к Роберу и сказал, что господин Тестар…
— Я о другом спрашиваю. В начале мая, когда мессир Гийом уехал в Компьень, а этот появился в замке и провел там три дня, — ты была там?
Катрин молча покивала, пытаясь что-то сказать, но он остановил ее движением руки:
— Стало быть, ты знаешь, почему этот человек должен умереть. Ему надлежало бы умереть медленной и лютой смертью, в тяжких муках, как умирают предатели, но он храбрый солдат и отбил замок у Тестара и поэтому умрет легко. Он ничего не почувствует. — Франческо достал из ножен маленький стилет с узким, в палец, лезвием и показал девушке. — Я просто приставлю его к его груди и слегка нажму — и у него остановится сердце. Но я хочу еще услышать от тебя правду о том, что там произошло. Заметь, я не сказал «узнать» — я ее уже знаю, но я хочу услышать это от тебя, хочу, чтобы ты мне это подтвердила. Если солжешь — умрешь вместе с ним, поэтому не пытайся его выгораживать, это бесцельно. Расскажи правдиво все, что знаешь, и ступай своей дорогой.
— Что же я могу рассказать? — с отчаянием в голосе воскликнула она. — Я не знаю, о чем вы? Робера кто-то оболгал перед вами, это навет!
Повторяю — я убью тебя сейчас, если будешь лгать! — Держа кинжал в правой руке, Франческо левой стиснул ее плечо так, что она охнула от боли. — В ночь своего приезда с кем он был на башне? Ну, говори!
— Мессир, с ним была я.
— Ты? С ним, на башне? Лжешь!
— Клянусь спасением души, мессир, там была я.
— Лжешь!!! — крикнул он в бешенстве. — Как ты отперла дверь в башню? Кто дал тебе ключ?
— Я украла ключ у госпожи…
— Откуда? Где госпожа держала ключ? — отвечай быстро! Ну?..
— Он… он был в ларце, который вот с такой крышкой, госпожа однажды показывала нам с Жаклин свои украшения, что вы ей подарили, и я увидела, что ключ от башни там…
Франческо, с погасшим вдруг гневом, почти брезгливо, отшвырнул ее от себя; она не устояла на ногах, упала и тут же вскочила, отступая к повозке.
— Дура, — сказал он с бесконечной усталостью в голосе, — ты и лгать-то не умеешь. Госпожа никогда не держала ключ от башни в ларце, она прятала его в тайнике, в оконной нише…
Он сел на ствол поваленного дерева, бессильно сгорбился, опустив руку с кинжалом. Ему хотелось одного: умереть. Как просто было это сделать — приставить себе к груди напротив сердца и ударить по рукоятке. Но стоит ли губить душу из-за того, что невмоготу стало жить? А ведь эта — погубила, поклялась спасением души, и солгала. Или такое клятвопреступление не считается? Она ведь ради него, надеясь спасти. Бог с ним, пусть живет, не ему брать на себя бремя возмездия; оно все равно придет, если есть за что. А если нет? Почем знать, в самом деле, кто из них виновнее… Может быть, больше всех виноват он, Франческо Донати, — и прежде всего перед Аэлис, которую сгубил своей прихотью. Зачем была ему нужна эта «Наваррская интрига»? Действительно, что ли, захотелось помочь здешним простолюдинам возвести на трон «своего» короля? Да нет, под красивыми фразами скрывалась привычная, бессмысленная алчность менялы — желание заработать на этом злосчастном займе, сторицею получить за риск, когда Наварра коронуется в Реймсе… А когда подвернулась Аэлис — игра сделалась еще увлекательнее, награда — еще заманчивее. И не потому ведь, что полюбил сразу, с первого взгляда, как Петрарка — Лауру; нет, потом это пришло (к несчастью), но пришло позже, а вначале была просто прихоть. И можно ли теперь так уж строго судить Аэлис за ее измену — она ведь не любит его и никогда не любила, наверное, любила своего Робера — все как положено: дочь барона, пригожий юный оруженосец… Если уж в чем виновата, так это в том, что пошла к алтарю с нелюбимым, но ведь тогда и она, вероятно, этого не сознавала. Долго ли вскружить голову наивной и пылкой девочке! И, видит бог, за эту свою вину она уже поплатилась…
Так же как и он — за свою. Все, все поплатились! Каждый — точно в меру содеянного. Странно, Церковь обещает нам воздаяние после смерти, но как часто оно приходит уже здесь, в этой жизни, просто мы не всегда понимаем смысл того, что случается потом с нами, с нашими близкими…
Не понимаем и поэтому пытаемся мстить своими руками, хотя это не нужно, бессмысленно — не потому ли акт мести никогда не приносит истинного удовлетворения?
Он медленно поднялся, оглянулся на повозку. Катрин стояла перед ней, неловко держа в руках слишком тяжелый для нее арбалет, — видно, достала из-под холстины, которой был укрыт раненый.
— Не подходите! — крикнула она отчаянным голосом. — Богом заклинаю, мессир, не подходите — иначе выстрелю!
— Глупая, у тебя не хватит сил его взвести, — устало отозвался Франческо. Хотя было уже довольно темно, он видел, что тетива не натянута. — Что это тебе, прялка? — Он подошел, взял оружие из ее рук и положил на повозку. — Куда вы его везете?
— В Париж, мессир, — все еще дрожа, ответила Катрин, — там у Робера есть дружок, он еще раньше говорил, чтобы к нему, — он поможет…
— Наверное, это разумно, — задумчиво согласился Франческо, — там легче укрыться, здесь вас поймают… Но только туда тоже не просто пробраться, город обложен.
— Да нам бы только до Сен-Дени, — Катрин, почувствовав перемену его настроения, говорила уже живее и свободнее, — а там Урбан все устроит, он там знает все ходы-выходы!
— Ладно, поезжайте, может, и в самом деле проберетесь. Карло! Скажи, чтобы развязали этого малого, и пусть проваливают!
Катрин упала на колени, стала ловить его руку. Он оттолкнул ее и, не оглядываясь, пошел к Джулио.
Урбана тем временем распаковали; ворча и злобно озираясь, он потребовал назад отобранный при пленении нож, сунул его за пояс и погрозил кулаком одному из схвативших его солдат:
— У-у-у, жабоеды! Придумали тоже, втроем на одного прыгать! Поодиночке бы я вас как вшей…
— Не понимаю тебя, дорогой, — сказал Джулио, когда повозка исчезла в зарослях. — Не понимаю и не узнаю…
— Я и сам себя не узнаю, — отозвался Франческо неожиданно повеселевшим голосом. — А понять не пытаюсь. Чего ради? Я просто чувствую, что мне стало немного легче… Глупо, наверное, но это так, Джулио, завтра мы разделимся — бери с собой людей, и езжайте в Моранвиль, в Шомон я поеду один.
Глава 30
Досточтимая Беренгария, настоятельница Шомонской обители сестер-кларисок, восприняла прибытие племянницы как явную кару Господню. Неведомо только — за что? В аббатстве царило благочестие, чего отнюдь нельзя было сказать о других обителях, иные из которых сделались в последнее время истинными вертепами разврата; видя кругом устрашающее падение нравов, Беренгария особенно строго пасла своих овец, ужесточив дополнительными запретами и без того суровый миноритский устав, которому подчинялся орден Святой Клары. Когда началась смута и каждый день приходили вести о разграблении все новых замков и монастырей, мать аббатиса оставалась спокойной, будучи уверена, что небесное милосердие оградит ее паству от неистовства жаков. И действительно, жаки обитель не тронули.
Но поистине пути Господа неисповедимы — именно теперь, когда в округе стало поспокойнее, аббатисе было послано совсем уж непредвиденное испытание: явилась эта распутная Аэлис, чьи греховные страсти давно уже смущали воображение шомонских затворниц. Все началось с прошлогодней поездки матери Беренгарии в Моранвиль, на свадьбу, куда она имела неосторожность взять с собой двух молодых послушниц. Как выяснилось значительно позже, в ходе проведенного Беренгарией дознания, одна из них, вернувшись в обитель, рассказала подружкам о том, что у невесты была до свадьбы нежная любовь с молодым оруженосцем и что оруженосца этого накануне свадьбы велели не то утопить во рву, не то замуровать в колодце, — как бы то ни было, исчез он без следа. Конечно, узнай об этом аббатиса сразу, она сумела бы пресечь разговоры, живо отучив кого следовало от греховного любопытства, но она не знала, поэтому разговоры шли всю зиму, а питаемое ими любопытство все росло и росло, к вящей радости лукавого, испытывающего, как известно, особо изощренное удовольствие от внушения грешных мыслей Христовым невестам. На беду, обитель издавна поддерживала тесную хозяйственную связь с Моранвильским феодом, в частности получала с тамошних коптилен рыбу, через ездивших в Моранвиль монастырских работниц и наладилась передача разного рода слухов и сведений. Замурованный в колодце любовник был уже оплакан половиной монахинь, как вдруг вместе с возом карпов, доставленных к Великому посту, пришло известие, что мученик жив-здоров и обретается в Париже; тут-то все и раскрылось, ибо настоятельница не могла не заметить странного оживления среди сестер, которые стали теперь шушукаться и перешептываться даже во время служб. Обычно не поощрявшая в обители слежку и наушничество, Беренгария вынуждена была поручить одной из своих келейниц разузнать, в чем дело; и та разузнала такое, что аббатисе пришлось отворять кровь.
Все виновные в распространении соблазна понесли наказание, но содеянного было уже не исправить, соблазн угнездился в душах, тем более что последняя новость, полученная из Моранвиля, до того как аббатиса пресекла все связи с замком, касалась приезда Робера в отсутствие как мужа грешницы, так и ее отца. Узнав об этом, Беренгария решила, что сама отправится к старому дураку, своему кузену, и раскроет ему глаза на непристойное поведение дочери. Но не успела — Гийом вместе с Тибо оказались едва ли не первыми жертвами смуты.
И вот теперь грешница сама явилась в обитель. Как женщина, аббатиса не могла ей не посочувствовать, но не могла в то же время и не подумать, что лучше бы племянница избрала себе для покаяния другое место — подальше от Шомона. Как будто мало того, что на протяжении всей зимы послушницы и монахини помоложе спорили, кто же в конце концов был отцом ребенка, которого недоносила дочь сьёра де Моранвиль, а весной заключали пари — отважится ли дерзкий оруженосец посетить даму своего сердца…
Да и насколько искренне это покаяние? Мать Беренгария была женщина трезвого и уравновешенного ума, и любая чрезмерная экзальтация вызывала в ней недоверие; во всяком случае, такого рода чувства она считала непостоянными и непрочными. А что, если племяннице не удастся изгнать беса и он снова возьмет верх? Опасность для обители была слишком велика, чтобы отнестись к этому без должной осмотрительности.
Моранвильский нотарий, который предупредил аббатису о приезде Аэлис, вкратце рассказал о случившемся в замке, поэтому первые несколько дней она вообще не виделась с племянницей, решив дать ей время успокоиться и прийти в себя. Лишь через неделю пригласила к себе.
Аэлис пришла в подпоясанном веревкой рубище, босиком, под закрывающим лицо черным покрывалом. Мать Беренгария неодобрительно поджала губы — покаяние покаянием, но не слишком ли все это? Веревка особенно ей не понравилась.
— Рада тебя видеть, хотя и в таких печальных обстоятельствах, — сказала аббатиса. — Где похоронили отца?
— В Клермоне, — отозвалась Аэлис едва слышно. — Отец Эсташ, жалкий трус, побоялся везти его домой.
— Не осуждай священнослужителя, это грех. В то время мужики бесчинствовали по всем дорогам, везти тело и впрямь было опасно. Сними-ка покрывало…
— Мадам, вы меня не узнаете. — Аэлис, помедлив, откинула покрывало.
Беренгария помолчала, перебирая четки.
— Конечно, ты… повзрослела за этот год, — проговорила она наконец. — Но чтобы не узнать — вздор, не так уж ты изменилась…
Прозвучали ее слова неискренне, аббатиса и сама это понимала. Изменилась Аэлис страшно, какое там повзрослела — она погасла, выгорела; действительно, трудно было узнать ту лучезарно сиявшую невесту, на чьей свадьбе она еще так недавно присутствовала.
— Надолго к нам? — осторожно осведомилась настоятельница.
— Надеюсь, навсегда.
«Бог этого не захочет», — со страхом подумала мать Беренгария и еще быстрее защелкала четками.
— Ты что же, решила уйти из мира?
— Мне не остается ничего другого.
— Твой муж еще жив, насколько я понимаю. Жена не может постричься без согласия мужа, это тебе известно?
— Ну, он-то возражать не станет.
— Почем знать. Ты, я вижу, не слишком привыкла с ним считаться?
Аэлис, не ответив, еще ниже опустила голову.
— Впрочем, — продолжала аббатиса, — в любом случае это дело долгое, так что говорить пока не о чем. Скажу одно: я не приняла бы от тебя обета. А пожить здесь… что ж, обитель не вправе отказывать тем, кто приходит в эти святые стены, нуждаясь в утешении. Но только я не очень понимаю, в чем нуждаешься ты.
— По-вашему, мадам, в утешении я не нуждаюсь?
— Ты его уже получила, просто не поняла пока этого. Еще недавно душа твоя была отягощена грехами — лжи, клятвопреступления, прелюбодеяния… да что толку перечислять, ты свои грехи знаешь лучше. Многие живут с таким грузом долгие годы, свыкаются с ним, иные даже начинают его любить. И только в конце жизни, когда теряют цену суетные радости, ради которых была осквернена душа, грешник задумывается: а какова же будет расплата? Ибо расплата приходит неминуемо, и она оказывается тем страшнее, чем дольше жил человек в грехе и без покаяния. Бог явил тебе великую милость, наказав сразу, едва ты согрешила; а ведь в самом наказании уже отчасти как бы содержится прощение. Не полное, так как необходимо еще раскаяние, но это уже зависит только от тебя. Поэтому я не вижу, в чем тебя надо утешать. Будь ты истинной христианкой, ты уже сегодня чувствовала бы облегчение от бремени греха, а если не чувствуешь, значит, мало в тебе христианского смирения. Но тут никакими утешениями не поможешь.
— Тогда чем же? — спросила Аэлис. — Вы говорите, если наказана, то уже прощена — ну, если еще и раскаялась. Раскаиваюсь я все время, вы сами не представляете, как я раскаиваюсь; но я вовсе не чувствую себя прощенной, я ведь не знаю, соответствует ли наказание греху, достаточно ли того, что со мной случилось, чтобы искупить все причиненное мною зло отцу, мужу… Ведь это я уговорила отца поехать в Компьень, чтобы остаться одной и позвать Робера…
— Об отце не беспокойся. Бог призвал его к себе, и ты тут ни при чем. Слишком самонадеянно думать, что мы своими действиями можем изменить сроки человеческой жизни, — они в воле Всевышнего.
— А убийство?
— Убийца не сам убивает, он лишь орудие.
— Тогда и он не виноват?
— Почему же? В Писании сказано: «Должно прийти в мир соблазну, но горе тому, через кого он приходит». Так что, повторяю, об отце не думай; коль скоро пробил его час, он умер бы не по дороге на Компьень, а у себя в спальне. Твой грех, разумеется, от этого меньше не становится, но это грех не убийства, а лжи и прелюбодеяния. За него ты уже наказана, и наказана в точном соответствии с виной. Ты согрешила, дав волю своей похоти, и сама стала жертвой похотливого насилия. Неужели это не понятно? Тебе следовало бы смиренно благодарить Небо, что Тестар взял Моранвиль.
— Какие страшные слова вы говорите…
— Жизнь вообще страшна, — заметила аббатиса. — Разве для веселья приходит человек в эту юдоль? Единственное, чем мы можем облегчить себе земной путь, — это неуклонное соблюдение заповедей Господа нашего. А если стать рабом своих страстей… впрочем, ты и сама убедилась, к чему это приводит.
Они долго молчали, потом Аэлис проговорила:
— Но почему же тогда вы не одобряете моего решения расстаться с миром? Я ничего не сумела в своей жизни…
— Ты и не старалась, — возразила Беренгария. — Всегда поступала так, как тебе хотелось, как было приятнее. Ты и сейчас хочешь поступить так же, разве я не вижу?
— Мадам, — с упреком сказала Аэлис, — я говорю о том, чтобы принести обет!
— Я поняла, о чем ты говоришь. Но ты сейчас хочешь обмануть Бога, так же как обманывала своих близких. Неужели ты думаешь, Ему будет угодна такая жертва?
— Но почему же «хочу обмануть»? — воскликнула Аэлис уже в отчаянии. — Я действительно хочу принести обет!
— Истинный обет должен быть актом смирения, у тебя же он свидетельствовал бы о гордыне. И о слабости, потому что проще замаливать свои грехи, вместо того чтобы искупать их делом…
— Каким делом? Каким таким делом могу я их искупить? Бога ради, что вы говорите!
— У тебя ведь есть муж, не правда ли? Ты только что сама признала, что причинила ему зло, а между тем он тебя любит…
— Но я-то его не люблю! Я жалею его, я чувствую свою вину перед ним, но не люблю, не люблю!
— А это уж, моя милая, никого не касается. Об этом надо было думать раньше, пока ты не поклялась ему в любви и верности. Воображаю, во что превратился бы мир, если бы нам было позволено с такой легкостью нарушать клятвы! Сегодня поклялась, завтра передумала… Ты, кстати, и монашеский обет нарушила бы с такой же легкостью.
Аэлис уронила лицо в ладони и разрыдалась.
— Не знаю, как поступит твой муж, — продолжала аббатиса бесстрастным тоном, — он может и отказаться от тебя. Установленный факт прелюбодеяния дает церковному суду повод для аннуляции брака. Но если нет и если ты действительно хочешь делом искупить зло, которое причинила человеку, поверившему тебе, ты должна вернуться к нему и кротостью заслужить прощение. Вот все, что я могу тебе сказать. А теперь ступай, я хочу помолиться…
Вернувшись к себе в келью, Аэлис тоже попыталась молиться, опустившись на колени перед черным деревянным распятием, но не смогла — в душе не было ничего, кроме горечи. Наверное, ей и в самом деле нечего думать о монашестве — кому она такая нужна? Раскаяние и то не получается, потому что — ей много раз говорили отец Морель и капеллан — истинное раскаяние умягчает душу, омывает ее от грехов, приносит облегчение. Выходит, все то, что чувствует она — стыд за себя, отвращение к себе, — выходит, это еще не истинное раскаяние?
Возможно, настоятельница и в самом деле права и единственный способ попытаться исправить сделанное зло, это вернуться к Франсуа. Если, конечно, примет. Лучше бы не принял, наверное. Но если?.. Представить это себе страшно — на всю жизнь, до старости, до конца дней…
Колени мучительно болели, у нее уже образовались там незаживающие ссадины, постоянно растравляемые грубой колючей тканью. Презирая себя за слабость, Аэлис не выдержала, легла на пол, раскинув руки и прижимаясь щекой к шершавому граниту. Камень казался ледяным, здесь вообще царил постоянный холод — даже в эти знойные дни середины лета; раньше пол был покрыт камышовой циновкой, но Аэлис велела ее убрать, как и соломенный тюфячок с постели, — спала на голых досках, даже без подушки.
Сейчас она лежала, чувствуя, как в тело медленно проникает холод камня — мертвящий, вечный, не знающий ни времени года, ни дня, ни ночи. Живая плоть теряла чувствительность, наливаясь этим холодом. Наверное, так бывает, когда умираешь. Если бы умереть! Прямо сейчас, а еще лучше было бы умереть раньше, до того как все случилось. Но что — все? За последнее время случилось так много всего, что теперь уже и не вспомнить, с чего начались ее беды. Может быть, с того далекого дня, когда она — чтобы выманить отпускную грамоту для Робера — пообещала отцу быть любезной с итальянцами? Или когда итальянцы приехали и она сразу поняла, что ей не придется принуждать себя к любезности, особенно с Франсуа? Или когда согласилась стать его женой, или когда послала Роберу кольцо?
Дверь протяжно заскрипела на ржавых петлях. Аэлис не подняла головы, не оглянулась — никто, кроме Жаклин, сюда не входил.
— Что тебе нужно? — спросила она, не открывая глаз.
— Да там этот приехал, легист. Говорит, хотел бы вас видеть.
— Зачем он мне? Я не приму его, поди скажи, чтобы уезжал.
— Мадам, он говорит, что нашел мессира Франсуа… Франсуа? — Аэлис приподнялась, опираясь на руки, Жаклин помогла ей встать. — А почему он вообще его искал, кто ему велел это делать?
— Ну как же, мадам, господин Робер, когда мы уезжали из Моранвиля, отправил его найти мессира и сказать ему, что вы здесь!
Аэлис медленно подошла к столу, на котором стояла кружка воды, прикрытая ломтем темного ячменного хлеба, села, опираясь подбородком на переплетенные пальцами руки.
— Где он? — спросила она глухо после долгого молчания.
— Ах, я и не спросила толком, но только вроде в Париже мессира не было…
— Дура, я про Филиппа спрашиваю.
— А, он там — ну, возле привратницкой есть такой домик. Или спросить, — может, его сюда пустят?
— Не надо… проводи меня…
Помещение для свиданий с посетителями — в тех нечастых случаях, когда такие свидания дозволялись, — было пристроено к внутренней ограде, отделявшей сад от расположенного непосредственно у ворот хозяйственного двора. В помещении было две двери — одна выходила в сад, другая, через привратницкую, вела наружу. Узорная кованая решетка от пола до сводчатого потолка перегораживала пополам небольшой покой, слабо освещенный через узкое окно.
Войдя сюда из солнечного сада, Аэлис не сразу разглядела за решеткой легиста, одетого в темную дорожную робу.
— Что привело вас ко мне? — спросила она неприязненно.
— Я думал, Жаклин сказала…
— Да, она сказала. Как вам удалось так быстро выполнить поручение?
— Я сразу поехал в Париж, в тамошнюю контору, и встретил там человека, который видел господина Донати в Льеже. Он сказал мне, что оттуда ваш супруг отправился в Мо…
— Мо? Где это?
— Это в Шампани, мадам, не очень далеко. Дело в том, что ваш супруг собрался ехать в Париж, когда началась смута, ибо считал, что вы там, у госпожи де Траси, и опасался за вас — в столице ведь сейчас беспокойно. Но парижский конторщик сказал ему, что де Траси уехали в Мо вместе с двором дофины…
— Я понимаю, — перебила Аэлис, — он решил, что я тоже там. Вы… рассказали ему, что произошло в Моранвиле?
— Для этого я и ездил, мадам. Я сказал, что вы будете ждать его здесь.
— И он… намерен приехать?
— Как только сможет, мадам. Он был ранен там, в Мо, хотя рана неопасная.
Аэлис долго молчала.
— Благодарю вас за добрые вести, мэтр Бертье, — сказала она наконец. — Вы теперь возвращаетесь в Моранвиль?
— Пока да. Кстати, мадам, вы не думали о судьбе феода?
— Какое мне до него дело. — Аэлис пожала плечами.
— Но вы наследница; как женщина, вы не можете принести homagium[95] иначе как через представителя.
— Понимаю, и как же это делается?
— Естественно, представителем в таких случаях становится муж. Однако захочет ли господин Донати связать себя вассальными обязательствами?
— Не думаю. Он — и вассал? Сомневаюсь…
— В таком случае, мадам, поскольку феод не может оставаться без присягнувшего владельца, Моранвиль придется продать.
— Хоть завтра, — сказала она равнодушно. — Впрочем, обсудите это с моим мужем. Да, вы сказали — он был ранен?
— Неопасно, мадам, поверьте моему опыту.
— Там хоть есть кому за ним ухаживать?
— О, конечно!
— Я рада. Кстати, Беппо не с ним?
— Бедняга Беппо! — воскликнул нотарий. — Он тоже разыскивал вашего супруга — не знаю зачем, но ездил за ним по всей Фландрии; мы встретились с ним уже возле Мо, прибыли туда вместе. А там он помер.
— Как помер?
— А вот так, внезапно. Поговорил с господином Докати и…
— Странно, — прошептала Аэлис, помолчав.
— Да, странно, — согласился нотарий. — Господин Жюль считает, что у него лопнула сердечная жила; конечно, бывает и такое. Мадам, позвольте откланяться.
— Прощайте, мэтр… Скажите, а… Беппо разговаривал с мужем до вас или…
— Нет, позже.
Выйдя в сад, Аэлис без сил опустилась на каменную скамью. Итак, Франсуа знает все… Недаром в то утро — когда уезжал Робер — она, увидев вдруг неизвестно когда вернувшегося Беппо, испытала мгновенный леденящий ужас, как будто невзначай коснулась змеи. Он пробыл тогда в замке несколько дней, а потом — незадолго до начала смуты — исчез снова, и вместе с ним исчез Тома. Тогда она не придала этому значения, обрадовалась только, что не видит больше соглядатая с его немигающими глазами гадюки…
Что ж, доносчик свое получил (зная Франсуа, она не сомневалась в причине этой смерти), но теперь очередь за ней. Франсуа сказал как-то, что Беппо предан как пес, большей преданности он не видел ни в ком. И если смог не задумываясь отравить самого верного слугу (ясно, что отравил, с чего бы тому помереть внезапно? Франсуа всегда носит яд с собой, показывал ей перстень с черным камнем) — отравить только за то, что тот принес ему злую весть о ее измене, то что тогда будет с ней самой? Да точно то же и будет.
Если не хуже. Ей вспомнилось, как Франсуа рассказывал однажды о каком-то своем знакомом, убившем жену за то, что дала повод для ревности: вернулся домой и, ни о чем не спрашивая, заколол кинжалом. Аэлис сказала тогда что-то в том смысле, что едва ли бедняжка заслужила столь суровое наказание, а он удивленно поднял брови: «Суровое? Клянусь Гекатой, я бы сумел наказать иначе…» — сказал это с таким выражением, что у нее мороз пробежал по коже. И это были не пустые слова. Хотя ей самой за недолгое время их брачной жизни ни разу не случалось в этом убедиться, она почему-то была уверена, что он, при всей его утонченной куртуазности, способен на крайне жестокие поступки…
Аэлис поняла вдруг, что думает о смерти спокойно, даже с облегчением. Наверное, смерть в самом деле нисколько не страшна. Тут, конечно, две стороны: первая — это то, что будет потом, и в этом смысле ей есть чего опасаться… Хотя если Франсуа ее убьет, это, наверное, будет зачтено в ее пользу, как и то, что сделал Тестар. Отец Морель всегда говорил, что чем труднее человеку здесь, тем легче там, потом. А вторая сторона смерти — то, что она обрывает эту здешнюю жизнь, — так здесь и вовсе не о чем сожалеть…
Монастырский сад был невелик и очень запущен, настоятельница не поощряла цветоводства, полагая, что это может дать мыслям греховное направление. Когда-то давно, при прежних аббатисах, здесь, похоже, был цветник, но сейчас все заросло густой жимолостью и шиповником. Затененный старыми вязами сад одной стороной примыкал к глухой, поросшей плющом стене хозяйственного двора, а вдоль трех других шла низкая галерея, римские арки которой опирались на толстые столбы. Посредине, заваленный сухими листьями и мусором, был расположен восьмиугольный бассейн бездействующего фонтана, украшенный небольшой статуей Девы на изъеденном непогодой цоколе из седовато-желтого песчаника.
Всё здесь — и этот давно иссякший водоем, и беспорядочные заросли кустарника, и неровные плиты галереи с прорастающей в трещинах травой, — все несло на себе печать запустения, напоминало о неумолимом беге времени, о бренности всего сущего; но в этот солнечный день, когда солнце ласкало древние камни, а над усыпанным мелкими розовыми цветочками шиповником деловито гудели пчелы, сад был полон обманчивого очарования. Обманчивого потому, что оно лишь ласкало взор, не давая ни утешения, ни даже простой радости. Напротив, подчеркивало разобщенность между прекрасным в своем совершенстве миром и населявшими его людьми. Казалось бы, такие уголки созданы для счастливой жизни, а между тем сколько горя видели эти камни и эти деревья…
Все, все в жизни оказалось обманом, пустой видимостью. И прежде всего — мечта о счастье. В юности все живут этой мечтой, верят в нее, ждут чего-то… А потом счастье или вообще не приходит, или — если приходит на какой-то миг — влечет за собой столько горя, что лучше бы, наверное, и не приходило…
Когда-то они с Робером жили ожиданием счастья, совершенно несбыточного, потому что им все равно не суждено было быть вместе: не появись Франсуа, отец выдал бы ее за сына какого-нибудь барона. Правда, им довелось хоть испытать несбыточное, три дня они были счастливы. Много это или мало? Другим жизнь не дает и такого, и уж второй раз это не дается никому. Теперь, наверное, Робера уж нет в живых — Жаклин слышала от кого-то о недавнем побоище под Мелло, где рыцарское войско разгромило жаков, истребив их до последнего человека. Аэлис толком не знала, с кем он отбил замок у Тестара; возможно, это были парижские ополченцы, но могли быть и жаки, а если так, то и он должен был быть на Монтатерском плато. А ведь в живых там, говорят, никого не осталось. Уаза в тот день текла красная от крови…
Если бы самоубийство не было таким страшным грехом! Если бы можно было выбрать себе самый легкий вид смерти и самой тихо уйти из жизни, которая стала безрадостной пустыней… Нет, душу губить она не станет, но поскорее бы он приехал, думала Аэлис, подняв лицо к мерцающему сквозь листву вяза солнцу, бессознательно впитывая кожей его теплую ласку. Поскорее бы приехал и зарезал ее, как тот ревнивый кавалер из Флоренции…
Аэлис теперь жила этим ожиданием, мыслью о желанной и скорой смерти. С нею она засыпала, с нею просыпалась, с нею проводила день за днем — вместе со всеми ходила в церковь, пыталась молиться, пела в хоре — и думала об одном: когда же наконец кончится это мучительное ожидание неизбежного.
Так прошло около двух недель. Однажды под вечер — уже прозвонили Angelus[96] и она собралась идти к вечерне — в ее келью ворвалась Жаклин:
— Госпожа, мессир Франсуа приехал!
Аэлис застыла на месте, чувствуя слабость в коленях:
— Погоди, пусть… пусть подождет там, я сейчас…
— Он сюда идет, он велел сестре-привратнице вызвать даму Беренгарию, и та ему разрешила…
— Хорошо. — Аэлис попыталась овладеть собой. — Хорошо, ступай, оставь меня…
Она приложила руку к губам, словно боясь закричать, когда он войдет в келью. Но не закричала, просто смотрела во все глаза, не в силах произнести ни слова. Он, войдя, тоже стоял и смотрел.
Мадам, вы можете не рассказывать, — сказал он наконец, с трудом выговаривая слова. — Я знаю все и ни о чем не спрашиваю.
Аэлис опустилась на колени:
— Я виновата перед вами, супруг мой и господин. — Она сама удивилась, как спокойно и ясно звучит голос. — Я не сожалею о том, что сделала, но раскаиваюсь в зле, которое причинила вам, и готова принять любое наказание. Если вам так легче, дайте мне яд, и я сделаю это сама.
Франческо обвел взглядом голые каменные стены, медленно прошел к столу, сел.
— Поднимитесь, мадам, — сказал он негромко, устало. — Я не могу говорить с вами, когда вы стоите на коленях, словно проворовавшаяся служанка… раньше в ваших манерах было больше достоинства. Велите принести еще один табурет или сядьте на кровать, нам есть что обсудить.
Аэлис послушно поднялась, присела на край постели, судорожно сцепив пальцы на коленях. Франческо смотрел на ее исхудавшее лицо со следами слез на щеках — она, видно, умывалась здесь не каждый день, а плакала незадолго до его прихода — и чувствовал, как неожиданно, непрошено и неудержимо растет в сердце всепоглощающая жалость к этой девочке с широко раскрытыми, испуганными глазами на замурзанном личике, к своей неверной жене, которой он еще недавно желал жестокой смерти. Впрочем, нет, это было давно; вчера — там, в лесу, возле повозки с лежащим в беспамятстве Робером, — он понял, что не только не может мстить ни ему, ни ей, но не может и осудить до конца, бесповоротно, не осудив так же строго и самого себя. Потому что его вины было во всем этом нисколько не меньше.
Он ехал сюда не требовать объяснений, не упрекать, ему нужно было увидеть ее в последний раз и сказать, что все кончено, что он обратится в понтификальный трибунал с ходатайством об аннуляции брака, а она вольна устраивать свою жизнь, как ей будет угодно. Приняв такое решение, он успокоился, оно казалось мудрым и справедливым, он гордился тем, что сумел подавить в себе темную жажду отмщения.
Но сейчас он ничего этого не чувствовал — ни гордости, ни покоя. Ничего, кроме жалости и любви, слепой и нерассуждающей.
— Что вы думаете делать дальше? — спросил он глухо.
— Это решать вам, мессир. Я думала принять постриг… если вы меня отвергнете. Если нет, то я постараюсь быть вам доброй женой и, может быть, исправить когда-нибудь то зло, что вам причинила. Франческо долго молчал.
— Вы действительно не любили меня, Аэлис? Совсем не любили? Мне казалось, что вначале…
— Думала, что люблю, — вздохнула она. — Я не лгала вам перед алтарем, я была так уверена… но что я тогда знала о любви!
— А теперь знаете?
— Теперь знаю больше…
— И говорите, что постараетесь меня любить?
— Я буду молиться, чтобы Господь укрепил меня в этом.
— Аэлис… — Он помолчал, глядя в пол. — Наверное, это будет трудно, но давайте все же попробуем… еще раз. Поедем во Флоренцию, если вас не пугает мысль покинуть эти края. Поживем там год-другой, и, если вы все же предпочтете монастырь, я не стану вас удерживать. Вы тогда вернетесь сюда или выберете себе любую обитель там, где вам захочется. Но пока… быть может, если бы у нас был ребенок…
— Хорошо, мессир, давайте попробуем, — не поднимая головы, прошептала Аэлис.
Глава 31
Месяц, когда, перевалив вершину эклиптики, солнце спускается в созвездие Рака, всегда был неблагоприятен для короля Наварры. Об этом его еще в Памплуне предупреждал звездочет, за большие деньга переманенный из Кордовы. Звездочет, правда, оказался негодяем и снова сбежал к неверным, но кое-какие полезные сведения он все же успел дать, и время подтвердило разумность его советов. Он сказал однажды, что июль — месяц неблагоприятный, лучше в июле воздерживаться от важных решений.
Впрочем, никаких решений Карлу д’Эврё принимать уже, в сущности, не приходилось. Он все чаще ловил себя на странном ощущении: будто уподобился щепке, которую крутит и несет неудержимым потоком. Раньше гордился своим умением управлять людьми и событиями, теперь же люди все чаще переставали ему повиноваться, а события принимали непредвиденный оборот. Хотя началось это гораздо раньше, наверное еще в тот февральский день, когда он пообещал Жанне покинуть Париж, сделав вид, что верит ее наивным намекам на что-то большее в будущем. Ему ли было не знать своей кузины? И все же он разыграл с ней этот нелепый фарс. Зачем? Наверное, затем, что она была и оставалась единственным человеком, перед которым ему было важно хоть в чем-то выглядеть по-рыцарски, пусть даже в малом…
В том, что с ним перестают считаться даже подданные, Наварра смог убедиться сразу после битвы под Мелло. Истребив армию жаков, победоносные рыцарские дружины принялись опустошать всю округу, убивая без разбору. Зная, что кузен Карл запретил бессудные расправы над вилланами, и понимая мудрость такой позиции регента, Наварра, после жестокой казни Гийома Каля, тоже счел уместным призвать своих рыцарей к умеренности и напомнить им заповедь милосердия. Призыву подчинились, но тут пришло письмо от Марселя с приглашением прибыть в столицу; не желая упустить возможность примириться с парижанами, король покинул войско, и в его отсутствие рыцари словно с цепи сорвались — стали истреблять компьенских и бовэзийских крестьян, словно зверей на облавной охоте.
Узнав о столь открытом неповиновении, Наваррец был уязвлен, но сделал вид, что это его не трогает. Да, в сущности, так оно и было — теперь его больше интересовало, удастся ли восстановить позиции в Париже, занять предложенную Марселем должность генерального капитана.
Пятнадцатого июня Карл с балкона ратуши держал речь перед тысячами парижан, заполнивших Гревскую площадь.
— Любезные сограждане! — взывал он и раскидывал руки, готовый обнять и прижать к сердцу всю эту шумливую и дурнопахнущую толпу. — Меня недруги часто обвиняли в небрежении к интересам Французского королевства. Бог свидетель, сколь облыжны подобные наветы, ибо кому же, как не мне, радеть о сих интересах? Я возрос среди лилий, и, будь моя мать мужчиной, она унаследовала бы французский престол, ибо была единственной дочерью короля Франции! Что же до вас, добрые парижане, то я готов жить и умереть с вами, защищая ваши права и вольности…
Группы крикунов, заранее расставленные Марселем в разных местах площади, время от времени прерывали его воплями: «Наварра! Наварра!!» — и тогда вся толпа разражалась оглушительным ревом. От имени эшевенов выступил затем Жан Туссак, который сказал, что королевство «дурно управляется» и что только король Наварры способен навести в нем порядок, а посему и надлежит провозгласить его генеральным капитаном.
Провозглашение состоялось. Карл д’Эврё торжественно пообещал парижанам «крепкую защиту и доброе управление», но предупредил, чтобы чудес от него не ждали и не винили бы потом, если что не заладится.
Оставалось неясным, что это за чудеса и каковы вообще обязанности генерального капитана; скорее всего, сам он понимал их как верховную власть в стране. Таким образом, регенту был брошен вызов.
Регент ответил ордонансом о созыве оста — всеобщего королевского ополчения, что означало особую опасность для державы.
Это был смелый шаг, потому что никто не мог сказать с уверенностью, откликнутся ли вообще вассалы на призыв некоронованного и обладающего не столь уж прочной властью сюзерена. Вассалы, однако, на этот раз не подвели, и причиной тому было безрассудное поведение Наваррца, в Париже открыто вставшего на сторону мятежных горожан. В Шель, где расположился двор Карла Валуа, со всех сторон потянулись вооруженные отряды — из Бургундии, рыцарство которой оказалось самым единодушным в поддержке регента, Шампани, из Лотарингии. К концу месяца герцог Нормандский располагал уже армией в пять тысяч копий;[97] и в последние дни июня осадная армия подступила к стенам столицы с востока, обложив ее от Монтрея до Шарантона. Потребовав открыть ворота, регент объявил, что в противном случае Париж, взятый приступом, будет отдан на разграбление.
Парижане храбрились, со стен обзывали осаждающих разными зазорными кличками, изобретательно поносили герцога Нормандского и его ближайших родственниц, но на душе у них было неспокойно. Особенно тревожило горожан отсутствие нового генерального капитана, который снова исчез, отправившись со своими наемниками захватывать никому не нужные городки и крепости по Уазе.
За ним послали гонцов. Известие о том, что кузен Карл, этот носатый недоносок, начал против Парижа военные действия, настигло Наваррца под стенами Санлиса, и настигло вовремя. Взять город он, понятно, мог, но это потребовало бы сил и времени, а наемники не любят, когда их заставляют проливать кровь без особого толку. Овладение же ветхим гнездом Меровингов[98] и впрямь не принесло бы им ни славы, ни добычи.
Поэтому гонец из Парижа прибыл как нельзя более вовремя. Наварра пригласил в шатер своих капитанов и с удрученным видом объявил, что долг прежде всего, а посему войско возвращается, дабы оказать помощь осажденной столице.
Помощь эта, впрочем, оказалась странной. Расположив армию у стен Парижа, генеральный капитан предоставил своим союзникам-англичанам полную свободу грабить западные предместья, не препятствуя солдатам регента жечь и разорять восточные. Сам же обосновался в Сен-Дени, где принимал то приезжающих от Марселя парижских эшевенов, то тайных гонцов королевы Жанны,[99] не теряющей надежды примирить его с Валуа.
В Париже стало голодно, подвоз продовольствия сократился настолько, что лишь самые богатые могли позволить себе свежее мясо или хлеб из чистой муки. Но это было бы еще полбеды, оставайся у горожан надежда на перемены к лучшему, а как раз этой-то надежды и не оставалось. Марсель, которому еще недавно все так верили, делал ошибку за ошибкой и быстро терял популярность. Теперь его уже винили не только за союз с Наваррцем, многократно доказавшим свою лживость, но и за необдуманные шаги, делавшие невозможным примирение с регентом. Припоминали и февральские убийства маршалов, и учиненную месяц назад расправу над двумя королевскими чиновниками — Марсель объявил, что они якобы сговорились ввезти в Париж солдат регента, укрыв на баржах со строительным лесом; обоих казнили без судебного разбирательства, и куски разрубленных тел до сих пор висели у восьми городских застав, распространяя рои мух и невыносимое зловоние.
А Наварра между тем делал все, чтобы еще больше уронить престиж купеческого старшины. Вернувшись в Париж после неудачных переговоров с регентом, он был встречен с открытым уже недоверием и недовольством и, чтобы поправить дело, не нашел ничего умнее, как ввести в город четыре сотни своих английских головорезов, которые, сделав пару вылазок через Сен-Антуанские ворота, ничего толком не добились и начали предаваться в Париже подвигам иного рода, захватывая в плен горожанок.
Четырнадцатого июля переговоры двух Карлов возобновились, на этот раз решили для разнообразия встретиться на воде: наплавной мост через Сену у Шарантона, где была ставка регента, покрыли коврами, уставили креслами и обтянутыми сукном скамьями, для защиты от солнца и дождя подняли на шестах полосатый балдахин, украшенный пучками страусовых перьев. Состав участников был теперь более представительный — кроме Наварры и Валуа с их советниками, присутствовали трое князей Церкви, уполномоченные папой Иннокентием VI сделать наконец что-нибудь для прекращения прискорбной смуты во Французском королевстве.
Сделало ли свое дело присутствие папских легатов, или просто все уже и без них понимали, что пора кончать, — так или иначе, договориться удалось быстро. Парижане согласились отдаться на милость регента и принять его требования; регент, со своей стороны, заявил, что прощает мятежной столице ее непокорство и немедленно снимает осаду, чтобы пропустить в Париж обозы с продовольствием.
Карл Валуа уже на следующий день распустил армию. Многие увидели в этом свидетельство его веры в прочность предварительного соглашения с парижанами, но дело объяснялось проще: истощенная казна не могла больше оплачивать содержание армии, к тому же истекал сорокадневный срок службы, и вассалы все равно начали бы разъезжаться по своим замкам.
Парижане отнеслись к перемирию с опаской. Осада была снята, по Сене прошла первая баржа с мукой, но людей регента, появившихся на одной из застав, стража задержала и взашей вытолкала обратно, крича: «Проваливайте к своему герцогу!» Казначей двора, мэтр Матьё Гет, все же ухитрился пробраться в город, но был опознан на улице и подвергся побоям; на сей раз, правда, у Марселя хватило ума вмешаться, отбить его у толпы и укрыть в безопасном месте. Впрочем, запоздалое благоразумие уже ничем не могло ему помочь.
Озлобленные, изверившиеся во всем, парижане готовы уже были взбунтоваться против собственного магистрата, который довел столицу до нынешнего жалкого положения. Случай направил их ярость в другую сторону: пьяная банда «наваррских годонов» попыталась взять приступом дом некоего пирожника на Университетской стороне, неподалеку от Нельского отеля. Сбежавшиеся соседи уложили на месте дюжину англичан, а потом кто-то закричал, что надо их перебить всех до единого, прикончили сгоряча еще нескольких, подвернувшихся под руку. В Нельском отеле, принадлежавшем Карлу д’Эврё, квартировали приглашенные им английские капитаны; услышав шум побоища, один из них имел неосторожность выйти взглянуть, в чем дело; преследуя его, толпа ворвалась в отель, и все годонские предводители были схвачены — сорок семь нечестивых душ. Пришибить их на месте все-таки не осмелились, но отволокли в Лувр и заперли в подземелье. Охота за англичанами пошла по всему Парижу, и к вечеру все, сумевшие уцелеть, сидели в луврских подвалах.
Случилось это в субботу, а в воскресенье с утра площадь перед ратушей заполнилась вооруженными людьми, требовали Наварру, и Наварра скоро появился на том же балконе, с которого месяц назад клялся Парижу в любви и верности. На этот раз тон его был другим — взбешенный расправой над своими годонами, он обрушился на парижан с упреками в неблагодарности и вероломстве к своим союзникам. Но говорить ему не дали.
— Хватит с нас таких союзников!! — ревела толпа. — Перебить их всех, чтобы духу не было! Веди нас на Сен-Клу!
Сен-Клу, маленький городок к западу от столицы, с некоторых пор стал главной опорной базой английских рутьеров, известных своей алчностью и свирепостью. Воодушевленные вчерашним избиением англичан на улицах города, парижане рвались покончить с ними и в окрестностях. Ремесленники, торговцы, мастеровые и никогда не упускавшие случая пошуметь и подраться школяры из Сорбонны разбушевались вовсю. Потрясая над головами палками, пиками и топорами, они не давали Карлу д’Эврё говорить, заглушая его слова громовым ревом:
— На Сен-Клу!! Бей годонов!! На Сен-Клу!!
Карл сделал непристойный жест и ушел с балкона, через некоторое время на его месте появился Марсель в сопровождении нескольких эшевенов; выждав, пока стихнет шум, он объявил, что, коли такова воля сограждан, ополчение выступит сегодня же.
И оно действительно выступило — на свою беду. Когда в ратуше обсуждали план вылазки, Наварра предложил действовать двумя колоннами, чтобы ударить на англичан с двух сторон. Честь вести первую колонну он предоставил Марселю, сказав, что сам поведет вторую, вспомогательную. Так и сделали. Силу Париж выставил большую — полторы тысячи всадников и около восьми тысяч пехотинцев, но Марсель получил лишь половину, вторая осталась в распоряжении генерального капитана. Добравшись к наступлению темноты до Монмартрского холма, Наварра объявил привал, а сам послал к англичанам тайного гонца.
Тем временем первая колонна приблизилась к Сен-Клу. Уже предупрежденные, рутьеры разыграли панику и стали шумно спасаться бегством; забыв об осторожности, неискушенные в хитростях воинского искусства, парижане бросились в погоню. Заманив их на топкое заболоченное место в чаще Булонского леса, англичане начали со всех сторон расстреливать ополченцев из луков, настигали и рубили убегающих.
Разгром был полный. Утром, когда остатки первой колонны, потеряв более шестисот человек, добрались обратно до Парижа, вся ярость и возмущение обернулись против Марселя. О предательстве Наварры еще не знали (он опять скрылся, и больше в Париже его не видели), поэтому виноватым оказался купеческий старшина — его чуть не растерзали горожане, еще вчера требовавшие похода на англичан.
Начинался последний акт драмы. Еще недавно казавшаяся неоспоримой, власть Этьена Марселя над Парижем становилась все более призрачной, а партия Валуа усиливала позиции с каждым днем. В ратуше тайными ее вождями были эшевены Белло и Майяр, после перемирия они постоянно переписывались с канцелярией регента, обсуждая условия его возвращения в Париж. Регент непреклонно требовал лишь одного — выдачи ему двенадцати зачинщиков смуты, включая Марселя. «Дабы поступить с ними по своему усмотрению». Сторону регента открыто держали и дворяне, в свое время укрывшиеся в Париже от Жакерии, и самыми деятельными среди них были Жан, сьёр де Шарни и еще один рыцарь по имени Пепен Дез-Эссар, родственник второй жены Этьена Марселя и ярый его противник.
Вечером 29-го было перехвачено письмо, подписанное секретарем герцога Нормандского. В письме снова повторялось требование выдать регенту главарей парижского «мятежа». Несмотря на поздний час, Марсель собрал в ратуше тех, чьей выдачи так упорно добивался Карл Валуа, — Туссака, Жиля, Леблона, Жиффара и еще с полудюжины смутьянов.
— Теперь сами можете убедиться: в городе заговор, — сказал он, зачитав письмо. — Так что же, ждать, пока всех нас поволокут на эшафот связанными, словно баранов под нож? Клянусь терниями, лучше убивать, чем самому быть убитым! Мы должны немедля истребить всех изменников, а в город пустить Наварру, если не хотим, чтобы вошел Валуа!
— Истребить всех не так просто, — заметил Филипп Жиффар. — У герцога в Париже много сторонников, всех не перережешь.
— Достаточно управиться с сотней главных, — возразил Туссак. — Завтра распорядимся пометить мелом определенные дома, и ночью…
— К ночи не успеть, — сказал Марсель. — Возьмем себе еще сутки. Днем раньше, днем позже — это уже дела не меняет.
— Тогда что же, в ночь на первое августа?
— Выходит, так. Надо только, чтобы к вечеру тридцать первого ключи от ворот Сен-Дени были в наших руках.
— Сен-Дени охраняют люди Майяра, эти ключей не отдадут.
— Значит, отберем силой!
— Майяр давно продался Валуа, нельзя было доверять ему такой большой участок стены…
— Кто же знал, что так получится…
— Ладно, — прервал Марсель, — теперь об этом толковать нечего! Майяра тоже пометить, а еще лучше уберем его раньше, чтобы не помешал. Завтра пошлю человека к Наварре, чтобы он к ночи вызвал англичан из Сен-Клу. Как только ворота будут наши, зажжем наверху огонь, и пусть входят. А с предателями к тому времени управимся. Клянусь терниями, регенту не видать Парижа как своих ушей!
Регент тем временем и сам пришел к такому же неутешительному выводу. Как он и опасался, достигнутое на мосту соглашение осталось пустым набором слов, армия растаяла, казна была опустошена. Дворянство заверяло его в преданности, но что толку? Даже верные бургундцы и те разбрелись по своим замкам, как только поняли, что платить больше не будут (видно, и в самом деле прошли добрые старые времена, когда вассал служил сюзерену как рыцарь, а не как наемник). Многочисленные титулы, на которые имел право старший сын короля, тоже мало что значили: герцогом Нормандским его теперь можно было называть разве что в насмешку, ибо в Нормандии грабительски хозяйничали злокозненные братья д’Эврё, регентство не давало пока никакой реальной власти. Его даже изгнали из собственной столицы — скоро полгода, как он топчется вокруг стен Парижа, словно попрошайка, надеющийся пробраться в дом с заднего крыльца…
Был, правда, еще титул дофина, и о нем Карл Валуа вспоминал теперь все чаще и чаще. Он любил свое новое владение — Дофинэ, одну из красивейших провинций королевства. Места несказанного очарования: горы, виноградники, чистейшие воды Дрома и Дюрансы, живописные города, и первый среди них — Гренобль, жемчужина края… Особенно приятно было, что население относилось к нему хорошо, его там любили, потому что провинция не была завоевана или насильственно присоединена к королевским доменам; последний ее правитель, бездетный Юмбер II, сам по доброй воле сделал его, Карла Валуа, своим наследником. Уехать бы туда, на юг, где много солнца, где люди приветливы и не гоняют своего правителя, точно затравленного зайца…
Он долго не решался заговорить с Жанной об отъезде: стыдно было признать свое поражение — регент, старший сын короля, и ничего не смог, не сумел, вынужден отступить перед шайкой обнаглевших суконщиков. Можно себе представить, какая слава пойдет о нем по всему королевству, уж кузен-то любезный об этом позаботится. Наконец решился, поговорил, и жена успокоила его: что за вздор, еще не хватало этих забот! Кузен пусть болтает, что ему будет угодно, его дела тоже не блестящи, со всем своим лукавством он пока мало чего добился. А мысль о том, чтобы поселиться в Дофинэ, обрадовала герцогиню несказанно: Жанна Бурбон давно уже тяготилась пребыванием на этом унылом, нищем, разоренном бесконечными смутами севере. О Париже после февральских ужасов она вообще не могла думать без содрогания.
Решено было ехать немедля. Карл распорядился ладить обоз, послал в Гренобль гонца, чтобы там все было приготовлено. Но 1 августа, едва отобедали, регенту доложили о прибытии делегации из Парижа.
Сразу догадавшись, что произошло нечто важное, Карл прошел в кабинет. Там стояли трое в пыльном дорожном платье, всех их он знал в лицо: Симон Майяр, брат Жана, и двое судейских — Этьен Альфонс и Жан Пастурель. Симон Майяр шагнул вперед на негнущихся от долгой скачки ногах.
— Сир, — сказал он, — соблаговолите вернуться в Париж, Этьен Марсель убит.
Регент долго молчал.
— Как это случилось? — спросил он наконец. — Когда?
— Сегодня ночью, сир. Изменник хотел открыть ворота англичанам короля Наварры, мой брат зарубил его на месте…
Странно, в эту минуту, когда сбылось то, чего он так долго желал, Карл Валуа не испытал радости, не ощутил вкуса победы. Первой мыслью было: как же так, ведь уже все решили, и Жанна так радовалась… Теперь ничего этого не будет — ни солнечного зеленого Дофинэ в кольце снежных гор, ни покойной жизни среди мирных и доброжелательных подданных…
У Симона прервался голос, он бросил взгляд на серебряный кувшин на столе. Заметив это, регент подошел, сам налил вина и подал Симону:
— Промочите горло, друг, вы устали. — Пока Майяр жадно пил, Карл обернулся к Пастурелю. — Domine magister,[100] я все же хотел бы знать подробности…
Адвокат кашлянул и начал говорить своим высоким, хорошо натренированным голосом, на той беглой упрощенной латыни, которая обычно служила в парламенте основным рабочим языком:
— Bene. Praepositus mercatorum mandavit regi Navarrae quod congregaret suos homines et veniret Parisium de nocte, et quod portas sibi patentes inveniret…[101]
Регент слушал невнимательно, — в сущности, все это не так уж его и интересовало. Это был не его личный триумф, сам он мало что сделал для того, чтобы события приняли такой оборот. Скорее уж судьба, знак свыше — и именно в момент слабости, когда уже готов был бросить все, отказаться, подобно Исаву продать право первородства. Какой был соблазн — предоставить Францию самой себе, пусть выкручивается как знает, что ему до этой огромной, враждебной, разодранной смутами страны… Но нет, не получилось! Регент подавил вздох и, глядя на Пастуреля, снова изобразил на лице заинтересованное внимание.
— Tunc mandavit rex suis Anglicis qui erant in Sancto Clodaldo ut venirent ad eum, — продолжал тот монотонно и деловито, словно зачитывая протокол допроса, — et congregavit quotquot potuit habere de hominibus et itr arripuit tendens Parisius…[102]
Карл сочувственно покачал головой, представив себе, как должен был беситься любезный кузен, когда очередная хитроумная затея пошла прахом. Видно, это и впрямь разные вещи — любить власть или иметь к ней подлинное призвание. Вот он, Валуа, не властолюбец; видит бог, никогда к власти не стремился, всегда рассматривал ее как бремя, порою невыносимое, превышающее человеческие силы. Может быть, именно поэтому он и станет когда-нибудь неплохим правителем?
Глава 32
Робер встал на ноги через неделю после встречи с отрядом итальянцев. Но Донати оказался прав — пробраться в Париж им тогда так и не удалось. Возле Энгьена Урбан оставил их с Катрин у знакомого лошадиного барышника, а сам отправился разведать как да что. Пропадал он целых два дня, но ничего утешительного не принес. Ему одному, сказал он, проникнуть в город, может, и удастся, если повезет; на худой конец, можно было бы попробовать вдвоем, но чтобы с конем и девкой — об этом и думать нечего. Предместья все выжжены от Батиньоля до Менильмонтана, там ни укрыться, ни прошмыгнуть даже в темноте, и всюду полно наваррцев, а от них ни одна девка не уйдет, не говоря уж о коне…
— Может, вдвоем попытаемся? — предложил он нерешительно. — Этих тут оставим, после вернемся, как поспокойнее станет…
Робер подумал и сказал, что если барышник согласится подержать Глориана в своих тайных конюшнях (он и сейчас продолжал приторговывать лошадьми, несмотря на окрестное разорение), — если согласится, то можно оставить на время. Катрин же оставлять не захотел.
— Да на кой она тебе, господин? — удивился Урбан. — В Париже, что ли, мало этого добра…
— Дурак, она мне спасла жизнь, выходила меня — забыл?
— Понятное дело, выходила, а чего ей еще было делать! Для того в отряде и держали. Да я и не говорю, чтобы вообще ее прогнать! Тут бы пока и пожила, поработала бы у папаши Пьера, он вроде без служанки остался. А после уж как получится… да нет, не забудем! За конем-то все равно сюда вернемся.
— Нет, пойдем вместе, — оборвал Робер.
Папаша Пьер долго торговался, но наконец согласился присмотреть за конем, хотя и заломил непомерно большую плату с условием, что если до Дня Всех Святых с ним не рассчитаются, то Глориан перейдет в его собственность.
— До Дня Всех Святых еще далеко, — успокаивающе сказал Урбан, когда они вышли от папаши Пьера, — в Париже всегда можно заработать. На худой конец, зарежем кого-нибудь, ограбим!
Седло и все конское убранство оставили при Глориане, дальше пошли налегке, увязав котомки. Урбан нес на плече свой арбалет, изображая воинского человека. Теперь, впрочем, мало кто ходил невооруженным, разве что клирики да самые бедные вилланы, кому уж и вовсе нечего было защищать.
Робер чувствовал себя неплохо, но быстро уставал, к дождю начинало болеть разрубленное левое плечо, ныли долго не заживавшие колотые раны на ногах. На время, пока Катрин выхаживала его своими травами да возила в тележке, словно младенца, он отвык ходить пешком и сейчас не представлял себе, как сможет одолеть весь оставшийся путь.
А путь предстоял неблизкий — посоветовавшись, они решили податься на юг, чтобы подойти к Парижу с другой стороны. Там, говорили люди, вообще спокойнее — бесчинствовавших на дорогах бригандов поприжали, а главное было то, что в тех краях не шла охота за беглыми жаками, которая еще продолжалась здесь, между Сеной и Уазой. Если спуститься по Сене до Буживаля, можно лесами пройти прямо на Кламар, а оттуда до парижских застав рукой подать.
Так и сделали, в Эпинэ еще с вечера Урбаном была присмотрена лодка, привязанная простой веревкой, без цепи и замка; дождавшись позднего часа, он украл ее и пригнал в условленное место, где прятались Робер и Катрин. Плыли долго — летом Сена мелеет, течение здесь медленное, а весла в лодке не оказалось. Хорошо, Урбан догадался прихватить на берегу обломок доски — с ее помощью и правил, кое-как выгребая на середину, когда лодку слишком сносило к берегу. Перед рассветом сделалось совсем холодно. У Катрин даже зубы стали постукивать, но она уверяла, что ничуть не озябла, и исправно вычерпывала воду найденным черепком. Становилось все светлее, над водой курился легкий туман, наконец слева из-за холмов появилось солнце. Урбан показал на холм поближе и повыше других:
— Вон она, Валерьянова гора. За ней опять Сена — она тут петлями кружит, — а на том берегу уже Булонский лес. Чащоба страшная, не зная, запросто можно пропасть, такие есть гиблые места. Я там косуль иногда стрелял…
— Опасный промысел, — заметил Робер, подавляя зевок.
— То-то и оно! Дружка моего, да покоится в мире, королевские лесники повесили прямо на месте. Сперва руку отрубили, а после и самого — на дуб… Скоро нам вылезать — вот как станет река вправо заворачивать, так и сойдем. Она тут так и петляет до самого Мёлана…
Когда поднявшееся еще выше солнце оказалось за кормой, Урбан выгреб к левому берегу. Берег был илистый, топкий, поросший камышами; они порядком вымокли и извозились в грязи, пока сумели выбраться на сухое место.
— Ну вот, а теперь тронемся вон туда. — Урбан показал на лесистые холмы, подступающие близко к пойме. — За ними места уже знакомые — мы были там, помнишь, как ходили разорять крепости…
— Ну, то дальше было.
— Дальше, понятно, я говорю — в ту сторону. Палезо, Трапп, нам так далеко и не надо. Сейчас холмы перевалим, а там прямо к восходу. Ну, не прямо, а чуть поправее. Прямо-то в самый раз угодили бы к англичанам, ихнее там самое гнездовище, еще с зимы сидят…
За два дня без спешки добрались до Кламара. Урбан и здесь разыскал приятелей, пропьянствовал с ними всю ночь и узнал много полезного. В Париж сейчас торопиться не следует, там неспокойно; ходят слухи о каких-то переговорах, то ли с герцогом, то ли с королем, но толком никто ничего не знает. Эшевены засели в ратуше и лаются до хрипоты, обвиняя друг друга в злых умыслах, а по улицам бродят вооруженные шайки, нападают на прохожих, и каждая заставляет кричать свое: одни за Марселя и Наварру, другие за Майяра и Валуа.
— Покричать-то можно, — рассуждал Урбан, — отчего не покричать, если просят, но худо другое: Марселю, говорят, всюду мерещатся герцогские лазутчики и теперь городская стража хватает всякого подозрительного — откуда взялся, да с чем идешь, да к кому… Сразу волокут в Шатле, а там пыточники знаешь какие мастера!
— Ну, нам этого бояться нечего, — возразил Робер, — меня в квартале Сен-Дени каждая собака знает, да и ты тоже был в отряде Жиля, на него, в случае чего, и сошлемся.
— Э-э-э, тут все не так просто! — Урбан заговорщицки понизил тон. — Мы почем знаем, с кем теперь твой Жиль? Если переметнулся к Майяру, то его называть — это все равно что сознаться, что ты прямо от герцога!
— Нет, Жиль не мог переметнуться, — подумав, сказал Робер. — Не из таких он, я-то его знаю, говорил с ним не раз.
— Да что «говорил»! Это когда было? Тогда, может, и сам Майяр был заодно с Марселем, а теперь видишь как дело обернулось…
— Хорошо. Но мы-то с тобой служили у Жиля раньше, когда все эшевены были заодно. Так если они потом перелаялись, мы тут при чем?
— Опомнись, господин! Да ты просто ничего не соображаешь — со всем уважением будь сказано. Ты был моим капитаном и буквы знаешь не хуже клирика, но сейчас рассуждаешь, как самый распоследний простак. Ты что же, пыточникам в Шатле будешь все это растолковывать — когда служил да почему? Да не будем про нас с тобой говорить, мы все-таки мужчины, хотя там и не таких ломали. А про нее подумал? — Урбан кивнул в сторону Катрин, которая сидела поодаль, шила, не принимая участия в разговоре. — Ты же ее оставлять не хотел — значит, вместе хочешь идти? Так вот сообрази, если ее на кобыле растянут — что будет? Да она от одного страха такого им нарасскажет, что было и чего не было…
— Грех тебе это говорить, — спокойно отозвалась Катрин, не поднимая головы от шитья. — Чтоб у тебя твой поганый язык засох.
Урбан вскочил, едва не опрокинув скамейку.
— Чур меня, чур! — завопил он, показывая рожки из пальцев. — Ведьма!
— Успокойся. — Робер улыбнулся, подмигнув Катрин. — Сам виноват, ты ведь ее обидел. Разве она не доказала, что и мужчине не уступит в верности? Но я не спорю — если пока лучше в Париж не идти, давай подождем, куда спешить…
Спешить и впрямь было некуда. Робер и сам не знал, зачем, собственно, ему в Париж. Тогда, перед битвой, он наказал Катрин, в случае чего, пробираться к Оливье, вот они с Урбаном и решили тащить туда же и его самого. Но ему в Париже делать нечего… вот разве что девчонку пристроить. Может, Оливье женится на ней?
Ладно, с Като что-нибудь придумаем; если Оливье не соблазнится, можно в какой-нибудь монастырь отдать, и не просто так, а с хорошим вкладом, чтобы была там не хуже других. Вклад — это не задача; за Глориана дадут много, хотя и жаль расстаться с таким конем. Ну а потом? Может, действительно опять бригандом… Год назад ему это занятие не понравилось, но тогда он был в чужой банде, делал что велели, а теперь соберет свою, поставит дело по собственному разумению. Главное — знать, кого грабить. И для чего…
Эх, знать бы вообще, зачем жить! Раньше ему никогда не пришел бы в голову такой вопрос. Сколько он себя помнил, жизнь всегда казалась ему открытой во все стороны, как зеленая равнина солнечным летним утром. Его нисколько не угнетало даже то, что родился сервом; может, потому, что отец Морель сызмальства приучил его не придавать этому значения, говоря, что дело не в том, кем рожден, а в том, на что способен. Он верил в себя, и Аэлис верила в него; он всегда знал, что сервом не останется, что его ждет совсем другая судьба. И даже год назад, когда все уже случилось, когда мечты рухнули и ему пришлось бежать из Моранвиля, — даже тогда не было у него этого ощущения пустоты и ненужности жизни. Наверное, поддерживало мстительное чувство: Аэлис предала его, обманула, предпочла другого, — тем важнее казалось доказать ей, что и он чего-то стоит… Доказать уже не самой Аэлис, а судьбе, жизни, самому себе. Наверное, это было глупо, по-мальчишески, но во всяком случае это была цель, ради которой стоило жить. А впрочем, что душой кривить? Пусть не совсем осознанно, но в нем всегда теплилась надежда на то, что и с Аэлис все может обернуться как-то по-другому… И ведь обернулось! И снова, пусть лишь на миг, он поверил, что все возможно…
Да, теперь он возвращался в Париж совсем не таким, каким пришел год назад. Теперь он не знал, для чего жить дальше, зачем живет вообще, зачем Глориан вынес его, полумертвого, из боя, зачем рядом оказался Урбан с его медвежьей силой, Катрин с ее травами и бесконечным заботливым терпением… Не проще ли было умереть там, в тот день, среди лязга, хруста и истошных воплей, где нельзя уже было отличить человеческого крика от визга обезумевших коней. Конечно, это было бы проще и легче, а главное — Робер не мог подобрать слова — разумнее, что ли. Потому что эта, неизвестно зачем подаренная ему, жизнь теперь не имела в его глазах никакого смысла. Да простит ему Господь эту грешную мысль!
И дело было не только в том, что он потерял Аэлис, на этот раз уже окончательно, без тени надежды; в конце концов, мужчина живет не только любовью или для любви, есть ведь и другое: рыцарская честь, подвиги, доблесть. Но теперь все это потеряло смысл. Конечно, он давно знал, что Наварра лжив и вероломен, все это знали, но чтобы рыцарь и король вот так открыто, на глазах у двух армий, втоптал в грязь свое слово чести, открыто совершил самое подлое вероломство, предательски схватив человека, им же приглашенного на переговоры, — это было уже где-то рядом со святотатством, от такого иуды должны были бежать в ужасе его же ближайшие друзья — так ведь не бежали! Мало того, сам Этьен Марсель, уже зная о судьбе Каля, пригласил иуду в Париж, сделал его генеральным капитаном…
Выходит, и Марсель не лучше. Про Марселя, правда, давно уже говорили разное: и что властолюбив стал непомерно, и что всех своих родственников рассовал на теплые места. Это и Жиль еще говорил. Ну хорошо, а он сам? Урбан слышал, что Жиль вроде вернулся из-под Мо с остатками своего отряда; неужели и он голосовал за капитанство иуды?
Вот и выходит, что в мире только таким и хорошо, кто готов любую мерзость сожрать, если на закуску посулят власти или золота. А честь ничего больше не стоит. Это только в песнях менестрелей предателя настигает возмездие, а в жизни небось мессира Ганелона[103] не конем бы разорвали, а наградили хорошим феодом. Или тоже сделали бы генеральным капитаном…
Робер думал свои невеселые думы, отлеживаясь в каморке на постоялом дворе или бесцельно бродя по окрестностям Ктамара, среди полей уже готовой к жатве пшеницы. Этот край и в самом деле выглядел сравнительно мирным, рутьеры здесь бесчинствовали весной, а потом ушли, большинство — в армию Наварры, и без них стало спокойнее.
Глядя на работающих крестьян, он в который уже раз спрашивал себя, для чего так странно и необычно сложилась его жизнь, для чего понадобилось судьбе отдать его на воспитание отцу Морелю, свести с Аэлис, несбыточной мечтой отравить сердце… Почему из всех детей, осиротевших в тот год (а их было много, «черная смерть» косила сплеча и наотмашь), кюре выбрал именно его? Он мог бы вырасти в деревенской семье, жить обычной жизнью крестьянина, бесконечно далекой от жизни обитателей замка. Лучше это было бы или хуже? Как посмотреть… Уж во всяком случае спокойнее; но нет, он не избрал бы сейчас такой доли, если бы вдруг добрый волшебник предложил ему вернуться на десяток лет назад и чтобы все обернулось по-другому. Не избрал бы, даже зная — как узнал теперь, — что и на этом втором, таком заманчивом на первый взгляд, пути его не ждет ничего хорошего…
Однажды он попытался поделиться своими мыслями с Като. Он уже привык к ее ненавязчивому присутствию, она обычно была где-то рядом, тихая, всегда чем-то занятая — то починкой одежды, то стряпней, то травами, которые постоянно сушила и перебирала. Скорее молчаливая, не в пример иным женщинам, она могла вдруг озадачить каким-нибудь странным вопросом вроде: «Скажи, о чем ты сейчас думаешь?» Робер обычно всерьез на такое не отвечал, но однажды все-таки ответил — попытался, во всяком случае. Она выслушала его очень внимательно, а потом, помолчав, сказала, что покойный отец Морель его бы за такие рассуждения не похвалил.
— Это еще почему? — спросил Робер.
— Ты так рассуждаешь оттого, что в Промысле сомневаешься. Он всегда говорил, что это большой грех — сомневаться в Божьем промысле. Человек хочет одного, уж как добивается, а в жизни у него совсем по-другому выходит и всегда как лучше. Бог лучше знает, что кому из нас положено.
— Так-то оно так, но только всегда ли выходит как лучше? По-твоему, Калю тоже оказалось лучше, когда ему на голову насадили раскаленный таган?
— Неужто же нет? — Като глянула на него в недоумении, широко раскрыв глаза, явно дивясь его непонятливости. — Что может быть слаще мученической кончины за правое дело?
— Тебе бы такую сласть! — проворчал Робер.
— Страшно, конечно, кто ж спорит, — согласилась девушка. — Но это уж по слабости и еще оттого, что думать о смерти никому не хочется. Хотя каждый знает, что никуда от нее не уйдет, по великой милости Создателя. Ты может, хотел бы уподобиться тому несчастному, которого здесь, на земле, обрекли на вечную жизнь? Вот уж это страшно так страшно, по-настоящему. А умереть… ясно, всякому хотелось бы, чтобы это случилось не так скоро и лучше бы в мире и покое, но что наши сроки и наши страдания в сравнении с тем, что ждет там? Мученик зато сразу удостаивается блаженства, а так поди еще заслужи… в чистилище насидишься, сама рада не будешь. Ты лучше подумай о тех несчастных, кого предают лютой казни за разбой или за убийство, да мало ли за какие грехи; вот тех и в самом деле жалко. Страдать они страдают, а святыми мучениками их не назовешь…
— Вот-вот, — Робер пальцем постучал по столу, — а ты знай будешь твердить, что все выходит как лучше! Им-то почему такое?
— Бог про то ведает, не беспокойся…
Умом Робер понимал, что она права, ведь о том же говорил всегда и отец Морель, но принять все это сердцем было труднее. Наверное, слишком хотелось счастья уже сейчас, здесь, на земле. А для нее все так просто, ясно! Удача у тебя — хорошо, неудача — ладно, на том свете возместится… хотя, конечно, без воздаяния ничто не остается.
Впрочем, не так уж его занимали эти вопросы, он ведь не клирик, и нечего пытаться постичь непостижимое. Непонятно только было, как же теперь жить дальше — для чего, ради какой цели?
Урбан еще раз побывал в Париже, вернулся возбужденный, сказал, что там теперь такое делается — вообще ничего не понять. Дофин вроде объявил перемирие и распустил армию, снявши осаду, но в самом городе страсти разгорелись еще пуще; сперва горожане перебили наваррских годонов — ловили по всем закоулкам, иных даже из блудилищ выволакивали за ноги; после годоны перебили множество горожан в Булонском лесу (аккурат там, где он, Урбан, промышлял когда-то королевских косуль), и за то побоище винят теперь Марселя, будто он нарочно завел ополченцев в гиблое место. Громче всех кричат об этом люди Майяра, а люди Марселя в ответ грозятся в одночасье перерезать ночью всех дофиновых выкормышей с женами и детьми, чтобы и на развод не осталось.
Все эти новости Урбан принес во вторник, а двумя днями позже к хозяину постоялого двора примчался на взмыленной лошади племянник, служивший стражником в Вожираре. Герцог Нормандский, сказал он, нынче утром вступил в Париж, Марселя же порешили вчера у ворот Сен-Дени, которые он хотел открыть людям Наваррца…
Неделей позже, когда они вместе с каким-то торговым обозом вошли в Париж через заставу Сен-Мишель, город выглядел уже спокойным, будто и не было этих безумных месяцев. Лавки были открыты, возле коллегии каноника Сорбона, по обыкновению, горланили буйные школяры, лишь изредка по улице проезжали попарно конные сержанты с вышитыми на груди лилиями Валуа; прохожие делали вид, что их не замечают.
Робер с тревогой спрашивал себя, цела ли мастерская Оливье и в Париже ли он сам. Им-то с Урбаном нетрудно найти временное пристанище, а вот Като в каком-нибудь «Веселом петухе» не поселишь, можно было бы пристроить ее у дамы Маргот, но сейчас обращаться с такой просьбой неловко, ей теперь не до этого. О казни Жиля Робер уже знал, бедняга оказался в числе первых жертв: вместе с ним — в первые же два дня после занятия Парижа войсками регента — были обезглавлены на Гревской площади эшевен Шарль Туссак, казначей Карла Наваррского Жосеран де Макон, кастелян Лувра Жиль Гайяр, в свое время переметнувшийся на сторону Марселя и выдавший ему луврскую артиллерию.
К счастью, Оливье оказался на месте, цел и невредим. Когда Робер, приоткрыв дверь, заглянул в мастерскую, иллюминатор был занят обнюхиванием и ощупыванием листов пергамена, стопку которых держал перед ним мальчишка-рассыльный из лавки мэтра Беранже, знакомый Роберу еще с зимы. Оглянувшись, мальчишка подмигнул ему, как старому приятелю, и, кивнув на художника, скорчил неописуемую гримасу, словно приглашая разделить недовольство требовательностью заказчика.
— …нет-нет, — продолжал бормотать Оливье, — этот я не возьму, я ведь говорил уже в прошлый раз — не нужны мне эти итальянские выдумки, так хозяину и скажи. Пергамен должен быть хорошо выглаженным, кто же спорит, но не лощеным! А это что? Тут один мел, а уж залощено, что твоя слоновая кость. Зачем, а?
— Красивше так, — убежденно сказал мальчишка, шмыгнув носом.
— Ну, это знаешь, кому что нравится. Да не в том дело, красиво или некрасиво! Дело в том, что такой пергамен краску не держит, понятно тебе? Вот напишу я на таком, к примеру, Благовещение, а через сто лет мессир святой Гавриил останется без руки или без крыла или — чего Господь не допустит — у самой Девы краска на личике облупится? Соображаешь, что нам тогда с тобой за это будет?
— А, плевать, — ответил мальчишка вольнодумно.
— Это сейчас, — заверил Оливье. — Но когда тебе добавят лишнюю пару веков кипячения в смоле за то, что принес мне негодный товар…
— Ну, за это пускай мэтра Беранже кипятят, мое дело маленькое — ношу что дают.
— Он свое получит, не волнуйся! А сейчас забери это, и пусть хозяин пришлет дюжину листов хорошей пористой выделки, и чтобы мела было не слишком много, а то всякий раз скоблить приходится. Он думает, мелом затер — и уже высшее качество? Скажи, так только дурака можно провести…
Робер, потеряв терпение, шагнул вперед и хлопнул иллюминатора по плечу — тот, обернувшись, ахнул и выронил листы.
— Робер! — закричал Оливье. — Ты жив?!
— Не, он с того света явился, — объяснил мальчишка, подбирая с полу рассыпанный пергамен. — Пусть расскажет, что там с такими художниками делают, у каких краска не держится…
— Ну, пощупай, — улыбаясь, предложил Робер. — Я рад тебя видеть, друг Оливье.
— Да ведь мне сказали, что ты убит под Мелло! Из тех, кто оттуда вернулся, двое видели, как тебя топорами рубили…
— Меня, друг Оливье, простым топором не возьмешь, а заговоренный про мою душу еще не выкован. А вообще не врали они, я и сам не знаю, как уцелел, — конь вынес беспамятного, а выходила меня… — Он оглянулся и пальцем поманил свою спутницу, оставшуюся стоять на улице у дверей.
Катрин несмело вошла, следом наполовину протиснулся Урбан.
— Так я пойду тогда, ладно? — спросил он. — Раз ты своего дружка разыскал…
— Да-да, ступай, — сказал Робер. — А тебя где найти в случае чего?
— Да я сюда буду наведываться. Ну, так поклон честной компании и удачи тебе, господин! — С этими словами Урбан выдвинулся из мастерской обратно на улицу и исчез.
— С него Голиафа хорошо бы написать, — мечтательно сказал Оливье. — Или, еще лучше, Самсона. Да, так ты начал рассказывать…
— Я говорю, вот кто меня выходил тогда, после сражения. — Робер обнял девушку за плечи и привлек к себе. — Знакомься, это Катрин, подружка моя, считай сестренка. Кабы не она…
Он еще сильнее притиснул ее с грубоватой лаской и, мельком глянув на ее зардевшееся лицо, на миг даже смутился — столько радости, почти счастья было в ее глазах, широко распахнувшихся навстречу его взгляду. Смутился от неловкости, словно не подумавши дал кому-то обещание, которого не мог и не собирался исполнить…
— Травами меня отпоила, — продолжал он, — по травам она мастерица, истинная ведунья. У тебя, друг Оливье, нет ли какой хвори? Если что, Като мигом на ноги поставит!
— Нет, — рассмеялся Оливье, — врачевать меня не надо, а вот подкормить бы неплохо, служанка моя, похоже, захворала, потому что не пришла сегодня, и это некстати, — вас надо угостить, а сам я стряпать не умею. Когда она не приходит, обедаю в харчевне. Может, туда пойдем?
— Если господин позволит, — робко предложила Катрин, — я могла бы сама что-нибудь сделать…
Оливье тут же увел ее показывать кухню и кладовую, посетовав, что там почти пусто, — в последние дни с продовольствием в городе стало полегче, но все равно настоящего подвоза пока нет. Робер прошелся по мастерской, постоял перед рабочим пюпитром, где теснилось множество черепков и горшочков с разноцветными жидкостями и на наклонной доске был приколот лист пергамена, уже разлинованный для переписчика и размеченный свинцовым карандашом под будущую заставку. Выходит, все это время Оливье тут и просидел над своими картинками? Робер сам не знал, завидовать другу или, напротив, жалеть его за такую странную жизнь. Впрочем, наверное, не менее странной кажется художнику та жизнь, которую ведет он, Робер.
— Какая славная девушка, — с чувством сказал Оливье, неслышно войдя в мастерскую. — Я рад за тебя. Когда свадьба?
— Свадьба? — рассеянно переспросил Робер, разглядывая ярких крошечных человечков на уже готовом листе, повешенном для просушки. — Чья свадьба?
— Твоя с Катрин, чья же еще, я про вас спрашиваю.
— Ты что? — Робер обернулся и ошалело уставился на друга. — Какая свадьба, опомнись! С чего ты взял?
В свою очередь изумился теперь и Оливье:
— Как — а вы разве не… Ты же сам сказал — подружка!
— Да не в том вовсе смысле, я после сказал — сестренка, это вернее…
— Но ты говоришь, она тебя выходила…
— Так что с того, потрох дьявола! — заорал Робер, уже потеряв терпение. — А если бы меня выходила столетняя ведунья, я и на ней бы должен был жениться? На кой черт мне жена, я — солдат! Тебе Като понравилась? Вот и женись на ней, за чем дело стало, все равно надо ее куда-то пристраивать!
— Я бы женился, — серьезно ответил Оливье, — если бы хоть раз она посмотрела на меня так, как смотрит на тебя. Неужто ты не замечаешь? Давеча, когда ты ее обнял, она вся прямо осветилась изнутри…
— Брось ты вздор болтать. Расскажи лучше, как тут жил!
— Мне и рассказывать-то нечего, жил как всегда… работал. Поголодать пришлось, да это при тебе еще началось. Что я? У тебя-то больше было приключений!
— Да, у меня… приключений хватило, — невесело согласился Робер. — С Марселем как получилось, кто его прикончил?
— Никто толком не знает. Одни говорят — сам Майяр, а от других я слыхал, что старшину убил его свояк, рыцарь Дез-Эссар. Ночью дело было, а утром Майяр с братом прискакали верхом на Рынок, кричат: «Ноэль королю и герцогу!» — люди сперва и не поняли, какому королю, думали — Наварре… Ну, тут же послали к дофину. А тот двенадцать голов потребовал, говорят, иначе не соглашался. Из тех, кого он назвал зачинщиками, трое были убиты в ту ночь вместе с Марселем, оставалось восемь, вот их всех одного за другим на Гревскую площадь и свезли. Вчера казнили двух последних, легистов Годара и Люизьё. А Пьер Жиль, у которого ты служил, его…
— Да, я знаю, — прервал Робер. — Жиля мне жалко, хороший был человек… может, в чем и ошибался, но зла в нем не было.
— Да, мне о нем и отец приор… — Оливье вдруг вскочил и хлопнул себя по лбу. — Как же это я чуть не забыл!
— Про что?
— Приор из Сент-Элуа — мэтр Берсюир, тот, что Ливия переводит! Он мне еще с месяц назад сказал — ты, говорит, знаешь того молодого капитана, что служил у Жиля; так вот, когда они в поход уходили, мэтр Жиль просил передать, что ежели с ним что случится, а ты останешься живой, то чтобы непременно пришел к отцу приору.
— Это зачем же?
— Не знаю, может, оставил для тебя что из одежды? Сходи узнай.
— Схожу… А про супругу Жиля, даму Маргот, ничего не говорили?
Оливье сказал, что о ней ничего не слышат и что вообще старался в последнее время как можно реже бывать на Городской[104] стороне, ибо там большей частью и совершались все неистовства — казни, убиения и прочее.
— Англичан, впрочем, начали вылавливать тут, у нас, — добавил он не без гордости. — Я тогда едва успел запереться, а то бы и ко мне вломились…
— Надо будет туда сходить, — задумчиво сказал Робер.
— Куда?
— На Сен-Дени, навестить госпожу Жиль. Может, ей какая помощь нужна…
— Чем ты ей можешь помочь? Смотри, как бы самого не прихватили, ты ведь был из его людей.
— Не прихватят… Послушай, Оливье, если мы тут у тебя немного поживем — ты не против?
— Я уже Катрин показал, там есть для нее каморка, а ты со мной можешь, если между вами и впрямь ничего такого…
Робер с молчаливой благодарностью потрепал его по локтю.
На следующий день с утра он отправился на улицу Сен-Дени.
Проходя знакомыми местами, сообразил вдруг, что не так уж долго длилось его отсутствие — чуть более двух месяцев, а кажется, что прошла вечность. Неудивительно, что город вчера показался ему ничуть не изменившимся за то короткое время, когда для него, Робера, успел перевернуться весь мир. А тут все оставалось по-старому — кого-то поубивали, взамен кто-то народился на свет, а жизнь шла дальше, на Малом мосту возчики, так же как год назад, препирались с мытной стражей, оспаривая каждый лиар…
У собора он замедлил шаги, постоял в нерешительности, поднялся по ступеням паперти. Внутри было прохладно, пахло камнем и остывшим ладаном. Робер не стал подходить к главному алтарю, не будучи уверен, что имеет на это право, постоял и помолился в приделе — за упокой души Мореля, Симона, Каля и всех тех, чьи имена ведает один Бог, — зарубленных, утопленных, повешенных, затравленных охотничьими псами — всех, чья кровь так щедро напитала этим летом французскую землю. Потом помолился за госпожу Донати, прося для нее покоя и утешения. «Она ведь не виновата, Господи, пусть на меня падет вина за то, что мы сделали, она женщина, что с нее взять, спрос должен быть с мужчины — за двоих сразу, потому что решение всегда за мужчиной. Аэлис, прекрасная моя любовь, неужели это действительно было таким уж страшным грехом…»
Лавку Жиля он ожидал найти запертой и очень удивился, увидев еще издали открытую дверь. Стало быть, никого не тронули из служащих и торговля продолжается? Однако, войдя, он нашел в лавке незнакомых людей и все понял, увидев в руке одного из них короткий жезл с лилией на конце — знак судебного пристава. Незнакомцы рылись в ящиках, ларях, оттаскивали от весов мешки, нюхали и пересыпали из ладони в ладонь содержимое бочонков. Пристав диктовал писцу, разложившему на конторке свои бумаги:
— Гвоздику записал? Сколько — сорок семь фунтов? Верно. Теперь дальше: перец, четыреста тридцать два фунта… Корица — эй, Жанно, сколько там вышло корицы? Восемьдесят два, правильно, пиши — корицы восемьдесят два фунта. Имбирь очищенный, сто десять… Воск, восемьсот сорок пять. Мускатный орех, кожура, двести десять. Сахар, семьсот восемьдесят. Миндаль — вот миндаля у него залежалось изрядно, пиши — две тысячи триста восемьдесят шесть фунтов, видно, неходкий товар…
Тут пристав, случайно оглянувшись, увидел Робера и указал на него своим жезлом:
— А этот малый что тут делает? Чего тебе?
Робер учтиво поклонился:
— С позволения вашей милости — я тут работал когда-то, за хозяином остался должок…
— Должок! — Пристав рассмеялся. — Плакали твои денежки, парень, имущество казненного изменника взято в казну, а его высочество регент платить чужие долги не станет. Он и своих-то не платит!
— Так, может, мне у вдовы спросить?
— Ищи на здоровье вдову, только ее тут нет, потому как дом тоже конфискован и семейство изменника отсюда выселено. А куда, про то мне неведомо. Поспрашивай у соседей, здесь же тебе делать нечего. Ступай, ступай!
Робер пошел к соседу. Дама Маргот, сказали ему, уехала сразу после казни Пьера, на другой же день.
— В Лангедок, верно, подалась, к своим, они ведь родом оттуда, из Монпелье, — добавил кум Грегуар. — А ты-то сам каким чудом уцелел? Мы думали, тебя тоже спровадили…
— Да вот именно что чудом, — невесело усмехнулся Робер и пошел прочь, не оглядываясь.
Ему вдруг захотелось тоже уехать куда-нибудь далеко-далеко, не оставаться в этом огромном и чужом ему городе. К Пьеру Жилю он не мог относиться как к человеку по-настоящему близкому — это был его хозяин, богатый и могущественный господин, ближайший помощник самого Марселя. Робер, испытывая благодарность за доброе к себе отношение, никогда не забывал, что все-таки остается не более чем служащим, хотя и доверенным. Но все равно, ему было хорошо в доме Жиля, дама Маргот, дворянка, не проявляла к нему высокомерия, и дом их действительно стал для него как бы родным, а теперь пуст, разорен. Он еще подумывал, не удастся ли пристроить здесь Като… Да, жаль, что они так долго торчали без толку в этом Кламаре — вернись неделей раньше, он мог бы застать госпожу Жиль и, возможно, уехал бы с ней. Какая-то охрана ей ведь все равно была нужна!
А теперь здесь не осталось никого из близких или хотя бы знакомых — вот разве что Оливье. Но они с ним слишком уж разные… Кстати, не забыть бы про отца приора — зачем он ему понадобился?
Монастырь Святого Элуа располагался в Ситэ, на Бочарной улице. Робер хорошо знал это, потому что именно там стоял со своим отрядом в тот памятный февральский день, когда убили маршалов. Тем лучше, по пути и заглянет, все равно идти мимо.
Сейчас, проходя перед дворцом, он остановился и долго смотрел на громадные двери портала, через которые в то утро ломила разъяренная толпа. Он вспомнил дофина — тщедушного, насмерть перепуганного, в забрызганной кровью белой парче и шутовски нахлобученной набекрень красно-синей шляпе, кособоко съежившегося в громадном кресле с высокой резной спинкой. Какой ничтожной выглядела тогда королевская власть, униженная в лице ее наследника, какой полной казалась победа народа — и как скоро все вернулось к прежнему… Видно, и в самом деле не много стоят такие «победы», когда крикуны и зачинщики дорываются до власти, чтобы обделать свои дела, а расплачиваться приходится потом другим…
Теперь здесь тоже было многолюдно — громадный старый дворец уже при старом короле был частично отдан под разные судебные учреждения (здесь же помещался и парижский парламент), а регент и вовсе не захотел сюда возвращаться, поселившись в своем любимом Лувре. Робер уже отошел, когда его окликнули, — оказался мэтр Бертье, одетый легистом, в долгополой робе и даже с кожаным мешком, в каких носят документы.
— Робер, мальчик мой! — закричал тот обрадовано. — А мне господин Донати сказал, что тебя убили!
— Донати? — Робер задумался, прикусив губу. — Странно… он ведь говорил с Катрин…
— Она-то ему и сказала! Ну, благодарение Богу, видно, бестолковая девка что-то напутала…
«Ничего она не напутала, — подумал Робер, — тут что-то путает сам мессир Франсуа. Ведь, говоря с ней, он видел меня живым, хотя и в беспамятстве. Нет, это он придумал ради Аэлис. Но тогда… выходит, он все знает?»
— Говорят, если про кого облыжно скажут, что помер, то жить ему долго, — сказал он, шутливостью тона пытаясь скрыть вспыхнувшую снова тревогу. — А вы здесь что же, по его делам?
— Нет-нет, я теперь живу в Париже. Какие у него теперь дела? Они ведь в Италию уезжают — теперь-то уж уехали, наверное. Донати торопился, чтобы до осени, пока на море бури не начались, а то госпожа Аэлис боится.
— А-а-а. Так они вместе, значит?
— Да уж теперь, я думаю, после того, что случилось, он супругу ни на один день одну не оставит!
— Пожалуй, — согласился Робер. — Выходит, помирились? Зимой вроде они не ладили.
— Ну, без этого ни одна семья не обходится, все они так — нынче ссора, завтра опять любовь. Я не очень приглядывался, но он к госпоже такой заботливый…
— На кого же оставили Моранвиль?
— Его покупает сир де Луаньи. Крестьянам, пожалуй, это не очень-то будет по душе, да что делать.
— Пусть скажут спасибо, что не Бушар де Вандом.
— Бушара спалили в его собственном замке, ты разве не слыхал?
— Не слыхал, но рад, что услышал.
— Тсс! — Бертье приложил палец к губам, быстро оглянулся. — Мальчик мой, смута забыта и прощена — мы сейчас уже начинаем выдавать разрешительные грамоты[105] даже тем, кто ходил с жаками, — но говорить о ней одобрительно… Ты, кстати, чем теперь занимаешься? И что думаешь делать?
— Не знаю. — Робер пожал плечами. — Придумаю что-нибудь.
— Ты ведь грамотный, почему бы тебе не учиться? Я могу попросить, чтобы тебя взяли к нам — ну, для начала вроде младшим клерком, я буду с тобой заниматься…
— Куда это — к вам?
— Я работаю в конторе мэтра Пастуреля! — Нотарий уважительно понизил голос. — Он далеко пойдет, с ним сам регент то и дело советуется.
— Сам регент! — Робер усмехнулся. — Вы, помнится, не очень-то жаловали Валуа, мэтр Бертье, или я что-то путаю?
— Да-да, ты прав, мы во многом ошибались, — сокрушенно признал Филипп. — Что говорить обо мне! Донати человек сведущий в политике, и смотри как он ошибся в своем выборе — предоставил заем этому никчемному Наварре, теперь деньги наверняка пропали… А Карла Валуа многие тогда недооценивали, что верно, то верно. И еще верно другое — время еще не пришло для того, о чем мы мечтали. «Rex populi gratia»,[106] ха! Может быть, когда-нибудь… А пока надо выбирать из того, что есть. Марсель, между нами говоря, тоже оказался не…
— Ладно, чего о нем толковать, мертвых судить легче всего, прервал Робер. — Прощайте, мэтр Бертье, пойду я!
— Ты мне так и не ответил.
— Это насчет того, чтобы клерком? Нет, благодарю, я уж лучше рутьером стану…
После разговора с нотарием чувство тоски и одиночества, не покидавшее его все эти дни, вдруг нахлынуло на него с такой неожиданной силой, что он почти физически ощутил боль от страшного сознания своей ненужности в этом мире. Неужели потому, что услышал о ее примирении с мужем? Но ведь он только что молился о ее покое и утешении, так почему же не радуется теперь? Еще недавно боялся за нее, думая о том, что Донати может узнать все, не находил себе покоя, пока Като, добрая душа, не заверила его, что мессир Франсуа там, в лесу, расспрашивал лишь о здоровье госпожи (кстати, тоже соврала, теперь-то понятно, как и сам Донати соврал потом Аэлис, будто его убили), очень боялся, ведь ничего хорошего от итальянца он не ждал… так почему же не радуется теперь, когда понял, что тот все ей простил? «Госпожа Аэлис боится бури…» — сказал Филипп. Значит, и она примирилась со своей судьбой, иначе бы не боялась…
Горечь обиды подступила к самому сердцу — глупой обиды, Робер это понимал. Нет, он должен радоваться ее примирению с мужем, обязан радоваться, если по-настоящему любит ее… Однако представить себе Аэлис смирившейся, живущей какой-то своей, чужой ему, жизнью было трудно и больно… хотя так, наверное, и должно быть, женщины в таких вещах мудрее; возможно, она просто цепляется за любовь мужа, как за якорь спасения. И возможно, права…
Робер остановился, пытаясь сообразить, куда и зачем идет. Ах да… Но заходить к отцу Берсюиру расхотелось, зайти надо будет, только не сегодня; постояв, он пошел дальше, теперь уже не торопясь. А ему… Что делать ему? С собой, со своими воспоминаниями, с одиночеством. Ведь у него никого не осталось, кроме Като и Оливье. А если подумать, не столько даже Оливье — он хороший парень, и с ним занятно поговорить о его картинках, но… очень уж разная у них жизнь! Значит, остается одна Като. Вот она действительно за это время стала ему как родная — у них с ней даже воспоминания общие, недавно вдруг говорит: «А помнишь, как в Моранвиле лягушки во рву кричат, заслушаешься». Еще бы! Он ведь тоже помнит этот дружный лягушачий хор, ему он тоже вспоминается сладостно, как церковное пение… Но лучше не вспоминать, потому что тогда нынешнее одиночество становится непереносимым…
Робер уже хотел повернуть к дому, но вспомнил о Жиле и устыдился. Нет, в монастырь надо зайти сегодня, негоже медлить, когда дело касается воли покойного.
Брат-привратник долго не мог понять, от какого иллюминатора он явился и зачем ему отец приор, но в конце концов вызвал служку и велел провести. Отец приор принял его в своей келье, сидя за пюпитром, на котором была развернута громадная книга. При виде его Робер испытал самый, пожалуй, сильный испуг за всю свою жизнь. Оглянувшись на скрип двери, отец приор поднял голову, и глаза его полыхнули огнем, словно у зверя, глянувшего ночью на свет яркого фонаря; и самым страшным показалось Роберу то, что глаза эти были не круглые, какие положено иметь всякой живой твари, но четвероугольные, узко вытянутые в ширину. Обомлев, он готов был уже шарахнуться обратно за дверь, но страшные глаза приора вдруг погасли, и только тогда он разглядел, что блестели не сами глаза, а некие стеклянные дощечки, которые отец Берсюир неведомо зачем нацепил себе на переносицу. Впрочем, тот, очевидно заметив испуг посетителя, тут же снял с носа загадочное устройство, отцепив крючки, которыми оно было прикреплено еще и к ушам.
— Подойди, сын мой, — сказал приор. — Ты, стало быть, и есть тот самый юноша, что служил у Пьера?
— Да, патер, — отозвался Робер, приблизившись к пюпитру и с опаской косясь на стеклышки, положенные монахом поверх книги. — Мне Оливье сказал, иллюминатор, что у Малого моста…
— Совершенно верно, я его просил. Пьер говорил, что ты дружен с Оливье, а он мне хорошо знаком — работал для нашего скриптория. Поэтому я и подумал, что если ты появишься в Париже, то зайдешь к нему. Ты знаешь, зачем я просил тебя прийти?
— Нет, откуда же. — Робер пожал плечами.
— Бедняга Пьер, когда уходил со своим отрядом, передал мне на сохранение некоторую сумму — подозреваю, что немалую. Согласно его распоряжению я должен в случае его смерти либо вручить деньги тебе, либо — если ты не объявишься в течение года — употребить их на нужды обители. Ты объявился в срок, следовательно, деньги твои.
— Мои? — Робер был совершенно ошеломлен, не зная даже, что и думать. — Но… я не знаю, он мне ничего не был должен, может, тут какая ошибка?
— Нет-нет, никакой ошибки. Пьер был человек горячий, увлекающийся, но он все же умел мыслить трезво. Он предвидел возможность того, что случилось, и прекрасно понимал, что если партия Марселя потерпит поражение, то всем, кто его поддерживал, придется плохо. Считай, что эти деньги он просто решил уберечь от конфискации.
— У него ведь осталась жена…
— Жена! Она обеспечена. Госпожа Жиль — урожденная д’Ориак, в тех краях это одно из самых богатых семейств…
Отец Берсюир позвонил в колокольчик и велел служке позвать отца казначея, сказав, чтобы тот захватил с собой оставленное мэтром Жилем. Перехватив взгляд Робера, который то и дело с подозрением косился на лежащий на книге загадочный предмет, приор улыбнулся:
— Ты никогда такого не встречал?
— Никогда, отец мой…
— Это чтобы лучше видеть, когда зрение становится слабым. Не бойся, тут никакого волшебства, я ведь и Писание читаю при помощи этих стекол. Расскажи о себе, юноша. Ты был с жаками?
— Под Мелло мы все были вместе.
— Несчастная земля, несчастный народ… Пьер говорил, ты знал Каля?
— Да, и был в тот день рядом с ним… когда этот иуда позвал его на переговоры. Я хотел поехать вместе, он не дал.
— Правильно сделал, это ничем бы ему не помогло. Там действительно было такое побоище?
— Я не многое успел увидеть, на нас пришелся первый удар рыцарской конницы… Но слыхал потом, что из войска жаков не ушел никто.
— Оно было большим?
— Каль говорил — тысяч шесть…
Заскрипела дверь, вошел молодой монах и положил на пюпитр увесистый по виду кожаный мешочек, туго обвязанный крест-накрест и запечатанный красным воском.
— Это тот самый человек? — спросил он, глянув на Робера. — Тогда ему надо подписаться вот здесь…
Он достал свернутый в трубочку листок и развернул его на пюпитре, поставив рядом чернильницу с торчащей из нее тростинкой.
— Ты сумеешь написать свое имя? — спросил отец приор. — Если нет, поставь просто крестик, этого достаточно.
— Отчего же не сумею! — с гордостью сказал Робер.
Подойдя к пюпитру, он взял тросточку, осторожно обмакнул в чернила и стал аккуратно выводить букву за буквой. Когда подпись была готова, Берсюир нацепил свои стекляшки и одобрительно покивал:
— Робер из Моранвиля, все правильно. Возьмите, брат Ансельм.
Второй монах взял расписку и вышел. Приор подвинул мешочек к Роберу, повернув кверху печатью:
— Ты знаешь печать Пьера? Проверь, это она — в целости и сохранности. Кстати, тебе следовало сделать это прежде, чем давать расписку. Понятия не имею, сколько тут денег, — Пьер не сказал, — но полагаю, что сумма немалая… судя по весу. Как ты думаешь ею распорядиться? Какие у тебя вообще замыслы?
Робер немного подумал.
— Ну, в первую очередь я бы хотел что-то сделать для Пьера… Для его души, понятное дело, и для Других, которых тоже потерял этим летом… Может, я прямо сейчас оставлю часть этих денег? Пожертвую на монастырь, чтобы их вечно поминали и молились за их души каждый день…
— За душу Пьера у нас уже молятся, как и за всех убиенных в этой кровавой смуте. Но забота твоя похвальна, и Господь это учтет. Сделать пожертвование ты, конечно, можешь, только не сейчас. Отнеси деньги домой, пересчитай и подумай, как ты их хочешь распределить. Сумму, которую решишь уделить монастырю, принесешь потом и не забудь тогда оставить перечень имен тех, за кого ты просишь молиться.
— Само собой, оставлю непременно… — Робер замялся, потом неуверенно спросил: — А ежели за живых? За них тоже можно просить молиться?
— А почему же нет? Можно, конечно. Только напиши отдельно, благо ты грамотный, имя того, за кого просишь, и укажи, что он или она жива. Все понял? А теперь ответь на мой вопрос, что еще ты надумал, чем думаешь заняться?
— Заняться? Еще не знаю, отец мой… Да и прежде надо бы девушку одну в монастырь пристроить, а у нее самой ни лиара. Потому сделаю вклад и за нее. А тогда уж подумаю, как быть…
— Что же, дело доброе, — согласился отец приор. — А в какую обитель она хочет?
— Может, она вообще ни в какую не хочет, да только куда ее девать? Разве что отдать в служанки — так это все равно что определить ее прямо в непотребный дом, потому что рано или поздно…
— Погоди-погоди, что-то я тебя не очень понимаю. Откуда она вообще взялась, эта девица, и почему ты устраиваешь ее судьбу?
— Да это длинная история, отец мой…
— Ничего, спешить некуда, рассказывай.
Робер рассказал. Отец приор выслушал его не перебивая, потом вздохнул:
— Девицу не оставляй, ты ей многим обязан. Еще лучше постарайся выдать ее замуж. А вообще-то, дело простое, сам разберешься, без моих советов… Скажу одно: о монастыре и не помышляй, ибо это великий грех — принудить молодую женщину принять постриг. Сам-то ты чем думаешь заняться?
— Да я и вправду не знаю, — повторил Робер, — тянет меня отсюда уехать, а куда? Нынче вон один легист — он там, в Моранвиле, был нотарием, — так вот он звал к себе, на клерка, говорит, выучу. А я как представил, даже тошно стало… кругом одна измена, про Наварру все говорили, будто любит горожан, а он вон каким предателем оказался. Нет, уйду я отсюда!
— Этих твоих денег, — задумчиво сказал приор, — хватило бы, я думаю, чтобы купить несколько арпанов земли. Почему бы тебе не заняться земледелием?
— И потом дрожать перед любым сеньором, которому вздумается поохотиться на моем поле? Да и не знаю я по-настоящему крестьянской работы… — Робер помолчал, глядя в пол. — Я одно умею — драться… Вот только опять — за что?
— Драться, — повторил настоятель. — Это наука полезная, но опасная. Драться можно, нападая, — это, как правило, плохо, но можно драться и защищая… что-то или кого-то. Это совсем другое дело. Скажи-ка… Пьер тебе никогда не рассказывал о Фландрии? Если ты и в самом деле хотел бы пожить в чужих краях… Почему бы тебе не побывать в Генте? Фламандцы давно добились того, чего хотел добиться Марсель здесь, в Париже. Но мира там тоже нет, они претерпевают великие утеснения от графа Фландрского… и сами не остаются в долгу. Думаю, молодой Артевельде не откажется принять тебя на службу. Особенно с моей рекомендацией, а?
Когда Робер ушел от мэтра Берсюира, уже вечерело и светло-желтый песчаник исполинских башен собора казался алым от заходящего солнца. Служка снабдил его обрывком старого холста, и завернутый в тряпку мешочек с золотом выглядел непривлекательно, но все равно Робер шел торопливо, чтобы вернуться к Оливье до опасной темноты. Голова у него шла кругом от всего услышанного в келье отца приора. Фландрия, Гент… а почему бы и нет? Конечно, старый Артевельде якшался с годонами, но, в конце концов, и его можно понять — искал союзников, тут уж выбирать особенно не приходится, якшался же Марсель с Наваррой… Да Филипп, возможно, и не последует примеру отца… Ладно, это уж их дело. А помочь тамошним горожанам давать отпор рыцарям графа Фландрского — что ж, об этом стоит подумать… Путь на родину все равно заказан, да он и не мог представить себе жизни в опустевшем, чужом Моранвиле — таком же теперь чужом, как и этот ненужный ему Париж. Действительно, теперь уж его ничто здесь больше не держит. Он потерял всех, кого любил, и остался один, совсем один… Правда, есть еще Като, добрая, преданная Като! И конечно же, бросить ее нельзя, но и с собой как возьмешь? Всю жизнь девице странствовать с солдатней негоже! Вот если бы у них с Оливье как-нибудь сладилось… хорошо бы. Ну да это пускай решает сама, ее дело… А Фландрия… хм, пожалуй… все лучше, чем оставаться здесь!
«Надо подумать, — повторил он мысленно, — надо подумать». И ему становилось все более ясно, что думать тут, собственно, уже нечего. Фландрия оставалась единственным выходом. Спасибо отцу приору за подсказку.
Посмертный подарок Жиля своей приятной тяжестью оттягивал руку, внушая некоторую уверенность в будущем. Робер никогда особенно не стремился к богатству — слава, высокое положение привлекали больше, а сейчас он впервые в жизни ощутил тайное, невидимое снаружи могущество золота. Он придет туда не только с рекомендательной грамотой отца Берсюира; дюжина надежных мечей — это тоже рекомендация… Урбану сказать, чтобы подобрал человек шесть уроженцев севера, умеющих толковать с фламандцами, еще лучше — таких, что жили в тех краях. Этих денег наверняка хватит, чтобы снарядить отряд. Для начала, а там видно будет…
Оливье не было дома, когда Робер вернулся в мастерскую. Дверь открыла Като, и по тому, как осветились радостью ее глаза, он понял, что она заждалась его и уже начала тревожиться.
— Пришлось задержаться у отца приора, — объяснил он и бросил на стол тяжело брякнувший мешок. — Посмотри, что я принес, разверни!
Она развернула тряпку и недоуменно тронула пальцем печать:
— Что это?
— Сейчас увидишь… — Робер ножом разрезал шнур, залез рукой внутрь и достал новенькую золотую монету. — Вот, смотри.
— Ой! — Катрин испуганно глянула на Робера. — Столько денег? Откуда?
— Не бойся, — засмеялся Робер. — Я никого не ограбил.
— Уж ты скажешь, Робер! И в мыслях не держала такого, — укоризненно заметила Като. — Боязно как-то…
— Чего боязно, глупая? Как раз с деньгами-то можно и не бояться ничего на свете. Это наследство Жиля, у отца Берсюира лежало. Для того меня и звал.
Она подошла ближе, еще раз осторожно потрогала пальцем мешок.
— Как хорошо, Робер, ты теперь сможешь выкупить Глориана!
— И не только его. А где Оливье?
— Он понес нарисованные листы, сказал, что вернется поздно. Ты небось проголодался?
— Да, еще бы… Знаешь, Като, думаю, пора мне собираться в дорогу. Засиделся я здесь!
— А… куда? В Моранвиль?
— Что мне теперь там делать. Нет, я подумал о Фландрии.
— Это где язычники? — испуганно спросила Като.
— Вовсе нет, с чего ты взяла, там такие же христиане, как и мы, только говорят по-другому.
— Ты взаправду туда собрался?
— А почему нет, вот только… с тобой как быть?
— Что я… — Она помолчала, глядя в сторону. — Может, без меня тебе проще будет?
— Не знаю… Бросить тебя, не устроив, я не могу. Без тебя я давно уж пропал бы. Уже бы меня волки да лисицы давным-давно обглодали, кабы не ты.
— Урбану скажи спасибо, без него я бы тебя не выходила. Он и пропитание добывал, и опять же защита…
— Да, Урбан в таких делах незаменим, я бы хотел иметь его в своем отряде. А с тобой, Като, надо хорошенько подумать, как нам быть… После всего пережитого одну тебя я, конечно, не оставлю. — Робер ободряюще улыбнулся и ласково коснулся рукой ее зардевшейся щеки. — Не бойся, что-нибудь придумаем…
— Спасибо тебе на добром слове, Робер. По правде сказать, я, как в Париж пришли, ни дня без молитвы не пропустила, чтобы мне тут не остаться одной… А в тягость я вам не буду, я ведь и наняться куда поработать могу, как нужда придет, да и продать у меня есть что — на крайний случай берегла, даже Урбан не знает.
— Скажи на милость! — посмеялся Робер. — Может, зря я это золото тащил? Похвастала бы своим богатством.
Като, отвернувшись, достала что-то из-за выреза лифа:
— На вот, погляди, я-то в этом не понимаю…
В комнате было уже довольно темно, и Робер не сразу разглядел, что лежало у нее на ладони, а разглядев, изумленно присвистнул:
— Кровь Господня! Откуда это у тебя? — Он осторожно взял и поднес к свету тяжелый золотой перстень с зеленым камнем. — Неужто успела там с какого рыцаря снять?
— Боже упаси. — Она мотнула головой и, не глядя на Робера, тихо сказала: — Госпожа подарила… зимой еще. Сказала — пусть это тебе приданое будет…
Робер быстро, словно обжегшись, положил перстень на стол. Зимой, этой зимой… значит, уже после?..
Он долго молчал, потом так же осторожно взял кольцо и протянул Катрин:
— Ну что ж, приданое и впрямь баронское! Носи, раз подарили… И за женихом дело не станет… Выходи замуж, Като. Оливье только о том и мечтает. Мужем будет хорошим, и у меня на душе легче станет, зная, что ты пристроена.
Катрин отшатнулась, будто ее ударили, потом резко отвернулась и молча замерла, опустив голову и как-то вся разом поникнув.
Молчал и Робер. Ему было жаль ее, но что он мог ей сказать? Она действительно для него вроде сестры…
И ему вспомнилось, как однажды, ровно год назад, они с Аэлис зашли к отцу Морелю, когда тот вместе с Като разбирал сушеные травы, сели в сторонке, чтобы не мешать, а потом Аэлис шепнула ему на ухо, щекоча теплым дыханием: «Как она походит на тебя, друг Робер… Бог свидетель, сестра не могла бы походить более…» Неужто прошел только год? А кажется — целая жизнь…
У него вдруг не стало дыхания от ударившей беспощадной мысли: с его отъездом порвется последняя призрачная нить, связующая его с прошлым, неповторимым, как сон, — с тем прошлым, где была она… Аэлис, его подруга, его прекрасная любовь!
Примечания
1
Échevin (фр.) — советник магистрата, городского самоуправления в средневековой Франции.
(обратно)2
Аквитания (Гиень) — историческая область на юго-западе Франции, примыкающая к побережью Бискайского залива. В описываемое время принадлежала Англии.
(обратно)3
Ленник — лицо, находящееся в ленной зависимости.
(обратно)4
Господин Моранвиля.
(обратно)5
Имеется в виду одно из положений древнефранкского судебника «Салическая правда» (VI в.), согласно которому власть может наследоваться лишь по мужской линии.
(обратно)6
Ордонанс — королевский указ.
(обратно)7
Шамбеллан — камергер.
(обратно)8
Диоцез — епархия.
(обратно)9
Имеется в виду нынешний Лан, город в департаменте Эна. Здесь и ниже некоторые географические имена даны в той форме, как они произносились в описываемое время.
(обратно)10
Капетинги — французская королевская династия, последним представителем которой был Филипп Красивый (умер в 1317 г.).
(обратно)11
Лиар — старинная французская медная монета.
(обратно)12
Актуарии — делопроизводители.
(обратно)13
Талья — подать, оброк.
(обратно)14
Так в эпоху Столетней войны называли во Франции англичан. Слово представляет собой искажение английской божбы «God damn».
(обратно)15
Бальи — судебный пристав.
(обратно)16
«Защитник мира» (лат.) — программное сочинение Марсилия (1324 г.).
(обратно)17
Алеманией в то время называли нынешнюю Германию (отсюда — алеманцы).
(обратно)18
Сенешаль — дворецкий.
(обратно)19
Вальвасор — бывший крепостной, получивший рыцарство за какой-нибудь подвиг.
(обратно)20
«Кто посмотрит на изображение св. Христофора — в этот день не умрет злой смертью».
(обратно)21
Кокийяры — члены преступного братства «Раковина» («Le cocquille») в средневековой Франции.
(обратно)22
Либрарий (лат.) — собрание книг.
(обратно)23
В средневековой Франции обращение «мадам» применялось и к девушкам знатного происхождения независимо от возраста.
(обратно)24
La toise — старинная французская мера длины, равная 6 футам (1,8 м).
(обратно)25
Вальденсы — религиозная секта, основанная в XII в. лионским купцом Пьером Вальдо. Вальденсы, которых католическая церковь преследовала как еретиков, проповедовали возвращение к первобытной чистоте христианских нравов (отказ от богатства и т. п.).
(обратно)26
Серв (фр.) — крепостной.
(обратно)27
Знаки препинания в грамоте приведены в соответствие с подлинником аналогичной старинной грамоты.
(обратно)28
Кутюмы — местные нормы обычного права в средневековой Франции.
(обратно)29
Вексен (Vexin) — историческая область северо-западнее Парижа, граничившая с Нормандией.
(обратно)30
Палимпсест — соскобленный и зачищенный для нового письма пергамен.
(обратно)31
Миракль — театрализованное представление на религиозную тему.
(обратно)32
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, благословение Господне да будет с тобой.
(обратно)33
Ипокрас — смесь вина с медом и пряностями.
(обратно)34
Aleoir (ст.-фр.) — дорожка, проходящая по верху оборонительной стены.
(обратно)35
Фламберга — старинное оружие, предшественница шпаги.
(обратно)36
Салада — средневековый шлем.
(обратно)37
Донжон — центральное укрепление, оборонительное ядро любого замка.
(обратно)38
Кренелюры — бойницы.
(обратно)39
Барбикен — сторожевой пост на стенах замка.
(обратно)40
Следовательно (лат.).
(обратно)41
Масамор — подземная темница (от исп.-араб. Mazmorra).
(обратно)42
Распространенная в Средние века легенда связывала завоевание Испании арабами в VIII в. с любовью последнего готского короля Родерика (Родриго) к Флоринде, дочери графа Олиана — наместника Сеуты и Танжера. Когда Родерик обесчестил Флоринду, Олиан, чтобы отомстить королю, открыл маврам дорогу на полуостров.
(обратно)43
Господи помилуй (лат.).
(обратно)44
Петрарка, сонет XXXIX, перевод А. Эфроса. Ему же принадлежит и приведенный выше перевод XVI сонета.
(обратно)45
Апгерран де Мариньи — ближайший советник короля Филиппа Красивого. После его смерти был казнен по обвинению в казнокрадстве.
(обратно)46
Под страхом обвинения в вероломстве (лат.).
(обратно)47
Проник в королевские тайны (лат.).
(обратно)48
«Не ходи в совет, не будучи приглашенным» (лат.).
(обратно)49
Скрипторий — кабинет.
(обратно)50
Реверендиссимус — досточтимый.
(обратно)51
Брокат — парча.
(обратно)52
Еврейский остров — островок на Сене возле Парижа.
(обратно)53
Жак де Молэ — магистр ордена тамплиеров.
(обратно)54
Здесь автором допущен анахронизм. Описанный факт из биографии великого английского поэта Джеффри Чосера имел место позже — в 1359 г.
(обратно)55
Жоста — поединок.
(обратно)56
Карильон — набор особым образом подобранных колоколов для праздничного звона.
(обратно)57
Петрарка, сонет XXXIX, перевод А. Эфроса.
(обратно)58
Король Наварры был обвинен в подстрекательстве нормандских дворян к убийству коннетабля.
(обратно)59
Азинус (лат.) — осел.
(обратно)60
Тривиум — первая ступень средневекового курса наук: грамматика, риторика и диалектика.
(обратно)61
Прецептор (лат.) — наставник, учитель.
(обратно)62
Универсалии — в средневековой философии понятия об этике и гармоничном восприятии мира.
(обратно)63
Мафусаил — библейский патриарх, древность которого вошла в поговорку.
(обратно)64
Живее! (ит.).
(обратно)65
Иллюминаторами называли в то время художников-миниатюристов, иллюстрировавших рукописные книги.
(обратно)66
Трансепт — поперечный (короткий) неф храма, имеющего в плане вид креста.
(обратно)67
Дюрандаль — меч Роланда («Песнь о Роланде», французский эпос).
(обратно)68
Мамбрен — персонаж из «Песни о Роланде».
(обратно)69
Превотаж — управление городской стражи.
(обратно)70
В старофранцузском языке понятия «слон» и «слоновая кость» обозначались одним словом Olifant. «Олифантом», как известно, звался и рог Роланда.
(обратно)71
Имеется в виду крепость Гран-Шатле в Париже, где размещались карательно-судебные органы и тюрьма.
(обратно)72
В XIV в. во Франции якобинцами называли монахов-доминиканцев (по названию капеллы Св. Иакова, в которой размещался первый доминиканский монастырь).
(обратно)73
Якоб ван Артевельде — купец из Гента, возглавил борьбу городских коммун против феодальной власти и стал фактическим правителем Фландрии. Убит в 1345 г.
(обратно)74
«Колеблется, но не тонет» (лат.) — девиз Парижа.
(обратно)75
В данном случае «слава».
(обратно)76
Плавт — римский поэт, III–II вв. до P.X.
(обратно)77
Филипп II Август — французский король из династии Капетингов, XII в.
(обратно)78
Отелями в то время назывались резиденции знатных семей.
(обратно)79
Табард — нечто вроде разрезанной по бокам безрукавки, которую надевали поверх доспеха. На груди и на спине украшался гербом того, кому служит данное лицо.
(обратно)80
Отступи, Сатана! (лат.).
(обратно)81
Лично (лат.).
(обратно)82
Ведьма (ит.).
(обратно)83
Барбакан — элемент средневековой фортификации.
(обратно)84
Аль-Таир — голубоватая звезда в созвездии Орел.
(обратно)85
Выжлятник — охотник, приставленный к гончим псам для ухода за ними.
(обратно)86
Жавелина — короткое метательное копье, дротик.
(обратно)87
Посолонь — по солнцу.
(обратно)88
Гарда — предохранительная поперечина между клинком и рукоятью холодного оружия.
(обратно)89
Филистимляне — народ, давший свое имя Палестине.
(обратно)90
Наподобие диких зверей (лат.).
(обратно)91
Орифламма — небольшой штандарт (цвета золота с пламенем) французских королей. Главная воинская хоругвь королевских войск примерно до XV в.
(обратно)92
Военный клич французов в Средние века и девиз королей Франции. В полном виде: «Мон-Жуа Сен-Дени!» — «Наша крепость и слава в святом Дени!»
(обратно)93
Пополаны — политическая партия республиканских настроений в средневековой Италии.
(обратно)94
Да упокоится в мире… (лат.).
(обратно)95
Вассальная присяга (лат.).
(обратно)96
Католическая молитва, которой созывают к вечерне.
(обратно)97
Всего — с различными вспомогательными войсками — около 15 тыс. человек.
(обратно)98
Меровинги — первая династия франкских королей (кон. IV в.).
(обратно)99
Жанна — вдова одного из кузенов дофина.
(обратно)100
Господин магистр (лат.).
(обратно)101
Ну что ж, купеческий старшина послал сказать королю Наварры, чтобы тот собрал своих людей и ночью пришел к Парижу и что ворота он найдет открытыми… (лат.).
(обратно)102
Тогда послал король за своими англичанами, которые были в Сен-Клу, чтобы шли к нему… и собрал сколько мог людей и пустился в путь, направляясь к Парижу… (лат.).
(обратно)103
Ганелон — предатель, персонаж «Песни о Роланде».
(обратно)104
Париж в описываемое время делился на три основные части: Университетская (левобережная) сторона, Городская (правобережная) и остров Ситэ.
(обратно)105
В августе 1358 г. регент Карл объявил широкую амнистию всем участникам июньских событий. Подпавшим под ее действие выдавался на руки особый документ — «разрешительная грамота» («Lettre de remission»).
(обратно)106
«Король народной милостью» (лат.).
(обратно)




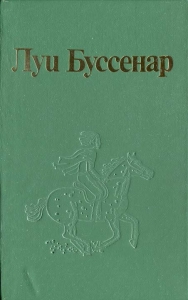

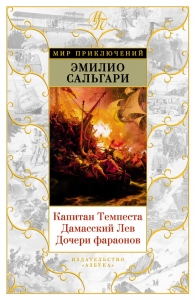
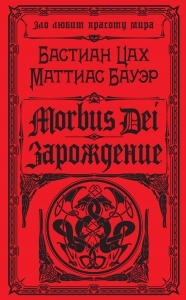
Комментарии к книге «Сломанный клинок», Айрис Дюбуа
Всего 0 комментариев