Игорь Болгарин. Расстрельное время. Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
День не заладился с самого раннего утра. Ещё вчера был веселенький, солнечный, с легким морозцем, а к утру небо над Харьковом затянуло тяжелыми тучами, подул пронизывающий ветер, и на землю посыпалась белая крупка, а потом и вовсе заморосило, захлюпало под ногами.
— Ну и погодка! — сказал Бушкин, как-то боком вышагивая рядом с Кольцовым: то ли пытаясь прикрыть его от порывов ветра, то ли пряча свое лицо от мокрого косого дождя. — Не то осень, не то зима! В такую погоду помирать не жалко!
— А вы, Тимофей, оставались бы при Иване Платоновиче, — посоветовал Кольцов. — Троцкий вас к нему откомандировал.
— Когда это было! Я с лета то при Иване Платоновиче, то при вас. Вернусь обратно, меня свободно могут в дезертиры записать, — не глядя под ноги, ступая по лужам, возразил Бушкин. — Не, я уж — при вас. Не хочу больше на бронепоезде кататься. Поначалу ничего, а потом приедается. Скукотища. А с вами — бедовая жизнь. Вон даже в Париже побывал. Такое и во сне не могло присниться.
— Да уж удали у нас — через край… — буркнул Кольцов.
Ставка Южного фронта несколько дней назад переместилась под Каховку. Вместе с Фрунзе поближе к фронту выехал и Менжинский[1] со своим Особым отделом. Но кто-то по каким-то причинам не успел на этот «литерный» эшелон. Они постепенно собирались в гулком опустевшем здании, занимавшем Особый отдел. Встречал всех Гольдман, составлял список. Часам к десяти собрались пятнадцать человек, вместе с присоединившимся к ним Бушкиным.
Больше ждать было некого. И они всей гурьбой двинулись на железнодорожный вокзал.
На переговоры с военным комендантом пошли двое: Кольцов и Гольдман. Еще ранним утром сотрудники Особого отдела сразу же выделили среди своей среды Кольцова, и со всеми вопросами и предложениями почему-то обращались именно к нему. Гольдман всем своим деловым видом показывал, что сейчас, в отсутствие руководства, является здесь главным: составлял списки, укоризненно отчитывал опоздавших, отдавал какие-то незначительные команды, которые никто не выполнял. Но вскоре и сам признал своим временным начальником несуетливого и не слишком разговорчивого Кольцова.
У военного коменданта станции было многолюдно, тесно и густо накурено. Сам комендант, горло которого было замотано в темно-серый шерстяной шарф, хрипло отбивался от посетителей. Особенно настойчиво наседал на него высокий и тощий морячок, похожий на калмыка.
— Понимаешь, у меня люди могут без харча остаться. А им — в бой. На пустое-то брюхо!
— Чего ж не понять? Очень даже понимаю… — хрипло отбивался комендант.
— Так предпринимай!
— А что я могу! Белгород с самого утра ни один эшелон на Харьков не выпустил.
— Это называется саботаж!
Остальные, поддерживая морячка, тоже забузотёрили.
— По законам военного времени… — почувствовав поддержку, морячок потянулся к болтавшейся у колена деревянной кобуре маузера.
— Вот этого — не надо! — протиснувшись к заваленному бумагами столу, твердо сказал Кольцов. — Что происходит?
— Саботажника, понимаешь, выявили! — обернулся к Кольцову морячок. — С утра ни одного эшелона с Белгорода не принял. Видать, сговорились. Надо бы туда кого-нибудь из ЧК направить, пусть разберутся.
— Ну, я из ЧК, — спокойно сказал Кольцов. — Ну и что ты хочешь?
— Так явный же саботаж! — не унимался матросик. — Давай, братишка, сообща их к ногтю! — с жаром предложил он.
— «К ногтю» — не вопрос. А, может, сначала разберемся, — и невозмутимый Кольцов обернулся к коменданту. — Я — из Особого отдела. И вот товарищ, — он указал глазами на Гольдмана.
Комендант узнал Гольдмана:
— Здравствуйте, Исаак Абрамович! — с облегчением вздохнул он. И затем сказал морячку с калмыцким лицом: — Вот, товарищи из ЧК[2]. Разбирайтесь. И, пожалуйста, не машите перед моим носом маузером.
— Доложите обстановку, — всё также спокойно попросил Кольцов.
— А чего докладать-то… Вчера и позавчера гнали эшелоны на фронт. А с ночи Белгород порожняк потребовал. Отправил все, что скопилось. Дорога не справляется. Вот и задержка. А этот… — комендант обиженно взглянул на морячка.
— Вы на него не сердитесь, — миролюбиво сказал Кольцов. — У всех у нас нервы сдают.
— А у меня, думаете, из каната нервы?
— Разумеется, нет… Сочувствую. Вот и давайте сообща подумаем, как из положения выходить. У меня тоже пятнадцать человек, и их ждут там, под Каховкой.
— Ваш «литерный» еще прошлой ночью отправили. Я думал, вы уже на фронте.
— Не все успели. Надо было кое-какие дела закончить, — объяснил Гольдман.
— Понимаю… Но, к сожалению, пока ничем не могу помочь, — с сочувствием сказал комендант и беспомощно развел руками. Затем пояснил: — Часам к четырем-пяти дня все рассосется, и, надеюсь, тут же отправлю всех вас до Павлодара, а там пусть эти… — он жестом указал на морячка и его команду, — пусть они там павлодарского коменданта маузером стращают.
Окружение морячка напряженно ждало, чем закончится этот разговор.
— Ну что ж. Подождем, — спокойно сказал Кольцов и тем самым обезоружил крикливое окружение морячка.
— Во! Видали! Люди сразу всё поняли, — сердито взглянул на морячка комендант. — А ты…
— А у меня три вагона продовольствия, — огрызнулся морячок.
— Продовольствие — не патроны, — сказал комендант. — В империалистическую мы больше всего за боеприпасы беспокоились. Без боеприпаса верная смерть. А без продовольствия…
— Да не протухнет твое продовольствие, — поддержал коменданта Гольдман и тут же спросил: — А скажи мне, Андрей Степанович, не найдется ли в твоем хозяйстве приличного пассажирского вагона. У меня народ измотан недосыпами. Хоть бы в дороге отоспаться…
— А вот с этими горлохватами и поедете, — мстительно указал комендант на морячка. — У него всего двенадцать человек, а занимает не по чину весь спальный вагон.
— Но-но! Полегче! Горлохваты! — взъерепенился морячок. — А насчет вагона, то нам с посторонними нельзя. У нас секретное донесение… На нем пять сургучных печатей.
— А они — из ЧК, — убедительно произнес Андрей Степанович, кивнув на Кольцова и Гольдмана. — Они до всех секретов допущены.
— Насчет ЧК надо бы ещё проверить! — высказался кто-то из окружения морячка.
— Во-во! А то часто такие фармазоны[3] случаются. Один поляк когда-то себя за российского императора выдавал. Проверили, а при нем никаких документов, — поддержали моряки своего сотоварища.
— Вы б, граждане, документы предъявили. Чтоб никаких сомнений, — вежливо попросил морячок.
— Документы! — дружно поддержали его свои.
— Насчет документов не возражаю, — согласился Кольцов. — Время военное, — и достал из бокового кармана своей кожанки удостоверение. Морячок бегло его просмотрел, протянул пожилому товарищу. Тот, прежде чем принять его, старательно вытер руки о полу шинели и приладил на носу очки. Лишь после этого взял удостоверение, прочитал:
— Пол-но-моч-ный пред-стави-тель ВЧК! — и, восхищенно покачав половой, повторил: — Полномочный представитель! Скажи, пожалуйста! И круглая печать! Всё чин-чинарем! Это вроде как товарищ на все имеет полномочия. Может в печь тебя сунуть и пепел не востребовать!
Возвращая удостоверение Кольцову, морячок сконфуженно сказал:
— Извините, не сразу признали!
— То-то же, оглоеды! Теперь поняли, с кем ехать будете? — отомстил комендант компании морячка за бузу. — Моду взяли, чуть что, хвататься за маузер.
— Ну и ладно! Ну и не серчай! Будем живы, после войны замиримся!
— Охо-хо-хо… Когда еще эта война кончится… — вздохнул комендант.
— Дня через три. От силы — через четыре, — убежденно сказал самый крикливый из компании морячка, эдакий крепенький боровичок в мохнатой овечьей шапке.
— Это кто ж тебе такое сказал?
— Знакомая цыганка.
— Ты больше им верь, цыганам.
— Верю. Она мне года три назад, еще в самом начале революции, сказала: смело ступай на войну, живой вернешься, и в хозяйстве прибыль будет. И что? Недавно случаем односельчанина встретил. Он мне и говорит: у тебя, Матвей, сын родился.
— Как же это? На побывку вроде не ездил, — высказал сомнение кто-то из команды морячка.
— Я и сам поначалу сумлевался. С полковым ветеринаром советовался. Сказал, может такое быть. Вполне, говорит, природное явление — задержка у бабы вышла. И ту цыганку недавно повстречал. Твое, говорит, дите.
— И правильно! И верь! — сказал пожилой. — Мужик в хозяйстве, чем не прибыль.
— И я так подумал, — согласился боровичок. — И что самое интересное, я опосля этого смерти перестал бояться. Могет, и на этот раз цыганка не сбрехала: живой с войны возвернуся.
Зазвонил телефон. Комендант схватил трубку, просипел:
— Ты, Забара? Погоди малость! — и, прикрыв ладонью трубку, нарочито сердито сказал посетителям: — А ну, братва, выметайтесь в залу! Накурили, наплевали! Не кабинет, а хлев, ей-богу! — и вновь приложил трубку к уху. — Слухай меня, Забара! Ты встречку помалу освобождай! Выпускай до меня груженые!
Посетители тихонько, на цыпочках, следом за Кольцовым и Гольдманом, освободили кабинет военного коменданта.
* * *
Вечером их прицепили к первому же прибывшему из Белгорода эшелону, и они покинули Харьков.
Команда морячка оказалась на редкость дружной, частью состоящая из хозяйственных мужиков, крестьян. На каком-то полустанке они добыли кипяток. Одно купе превратили в столовую. Из своих вместительных сидоров извлекли хлеб, лук, немецким тесаком мелко порезали увесистый шмат сала и разложили всю эту снедь на нижней спальной полке. На второй нижней хозяином уселся морячок и ещё трое, которые постарше. Остальные стояли в проходе или же забрались на верхние полки и уселись там, по-мусульмански подобрав под себя ноги. Еду передавали им наверх.
После того как поужинали все свои, морячок подошел к Кольцову, кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.
— Может, не откажетесь чуток повечерять. Я — Жихарев, начснаб Девятой. Вы, насколько я запомнил, Кольцов? У вас тоже день, гляжу, выдался колготной. Проголодались небось?…
— Ничего, до Снегиревки потерпим.
— Зачем же терпеть? Или все еще обижаетесь?
— Пока причин не было.
— Вот и договорились. Зовите своих. Разносолов нету, а хлебом с салом поделимся до самой Снегиревки. Кипятком тоже. Он хоть и не чай, а все же душу греет.
После ужина все перемешались — свои, чужие. Сбивались в кучки, разговаривали о наболевшем. Лишь один Гольдман немного побродил по вагону, а затем забрался на верхнюю полку и уснул.
К Кольцову подсели трое из компании морячка: пожилой, который проверял удостоверение, мужичок-боровичок и угрюмый крестьянин со злыми глазами.
Пожилой сказал Кольцову:
— Вы, конечно, извините, но имеется вопрос, а задать некому.
— Спрашивайте. Если сумею, то отвечу.
— Приезжал до нас в полк этот… как его… лектор. Грамотнющий! Про Карла Маркса рассказывал, про то, как он представляет нашу дальнейшу коммунистическу жизнь. Но шибко непонятно говорил. Слова все вроде русские, по отдельности понятные, а все вместе разуму недоступные. Вроде как-то по-иностранному. А вопрос такой: какая власть будет при коммунизме? Кто будет нами править? Промеж себя мы так решили, что будет царь. Как же без царя? Но будет он наш, коммунистический. Может, Ленина назначат, или кого другого?
Кольцов вспомнил свою недавнюю поездку в Париж.
Ехал он с делегацией крестьян, которая благодаря хлопотам норвежского ученого Фритьофа Нансена направлялась на конференцию, чтобы поучаствовать в ней и в конечном счете склонить французов отказаться от помощи Врангелю продовольствием и боеприпасами, и даже попытаться уговорить их прекратить войну с советской Россией.
Тогда-то он и стал свидетелем спора крестьянских делегатов о будущем переустройстве России.
Раньше, в семнадцатом году, лозунг «Мир народам, фабрики — рабочим, земля — крестьянам!» был понятен всем. Он служил далекой, но желанной целью. А сейчас, когда дело приближалось к окончанию войны, многие стали задумываться: а как все это будет выглядеть на деле? «Мир народам!» — тут все ясно и объяснения не нужны. А дальше? Как будет выглядеть новая власть? Каким образом получат рабочие фабрики, а крестьяне землю?
Каждый толковал это по-своему, и толкований было великое множество. Потому, как никогда в мире такой власти ещё не было.
Трое мужичков с интересом ждали, что ответит им комиссар. Он-то поближе к власти.
— Вопрос не простой, — после некоторых раздумий, чистосердечно ответил Кольцов. — Боюсь, я на него тоже не сумею внятно ответить. У меня, как и у вас, было не так много времени, чтобы во всем разобраться. Да и книг про это пока еще очень мало.
— Тогда спрошу по-другому, — не унимался пожилой. — Скажите, почему вы за эту власть воюете? Вы-то больше нас во всем разбираетесь. Значит, как-то представляете наше будущее? Чем оно вас завлекает?
— А вы? Вы, почему воюете? — вместо ответа спросил Кольцов.
— Мы? Известное дело, мы — за землю. Это если коротко объяснять. Потому, как если у тебя есть земля, а к ней еще две руки, то уже не пропадешь. Ни ты, ни твоя семья. Нет земли: куда податься? Только в батраки до помещика. Иного пути нет. А вы — другое дело. Вы грамотный, у вас есть до кого прибиться, вас везде примут.
— Не совсем так, — не согласился Кольцов. — Мой отец был клепальщиком на судоремонте, такая участь и меня ждала. Богатые в свой круг чужих не очень-то пускают. Грамотный, не грамотный — не столь важно. Как был мой отец для них «черной костью», таким и я останусь. И дети мои, и внуки.
— Стало быть, вы тоже за свой кусок воюете. Ну, не за землю, а, как бы это сказать, за власть?
— Нет. Мы, большевики, воюем не за власть, а за полное ее переустройство. Чтоб землей действительно владел и распоряжался крестьянин, фабрикой — рабочий. Чтоб все богатство, которое они своими руками создают, им и досталось. Чтоб все было по справедливости.
— А она есть хоть где-нибудь на свете, справедливость-то эта? — вклинился в разговор и мужичок-боровичок.
— Если богатства страны окажутся в руках народа, тогда только и возможна справедливость.
— Вот и вы, как тот лектор, — с некоторым разочарованием сказал пожилой. — Слова все вроде русские. И сперва все понятно: фабрики — рабочим, земля — крестьянам. А как поглыбже подумаешь про ту справедливость, так становится не очень-то и понятно. Вот, к примеру: одному чернозем достанется, а другому — сплошная глина. Уже неравенство. Чтоб вам понятнее: одна фабрика плуги выпускает, или там бороны, а другая — держаки для лопат. Тоже вещь в хозяйстве нужная. Ну и кто из них на своей продукции больше заработает? А вы говорите: справедливость.
— Справедливость будет устанавливаться законом. Больше работаешь — лучше тебе заплатят. Справедливо?
— Не знаю. Мне досталась плохая земля, сплошная глина. Сил в нее вкладываю немерено, а отдача втрое меньше чем у того, кому жирный чернозем достался. И как тут быть?
— Вот-вот! Где ж тут справедливость? — загудели остальные двое.
— Закон! — стоял на своем Кольцов. — С тебя государство меньший налог возьмет, а у кого чернозем — больший.
— Ну и где ж тут справедливость? Я втрое больше сил затратил, пока вырастил свое зерно, а он только слегка поднапрягся.
Загнали мужики Кольцова в тупик.
— Я думаю, закон и это учтет.
— Хорошие законы можно написать, бумага все стерпит. А вот кто их сполнять будет? И как?
— Царь нужен! — громко сказал мужик со злыми глазами. — Или кто заместо него править будет. И следить, чтоб закон справно сполнялся.
— Без царя никак нельзя! Народу какой-никакой, а царь нужен! — поддержал товарища мужичок-боровичок. — Лучше, конечно, что б наш, большевистский. А то у царских царей много родни набирается. То, понимаешь ты, сват, то брат, то кум, другая всякая родня, а еще разные кореша. Думаете, не подкинет он им чего-нибудь от свой милости, не порадеет за своих? Так закон подправят, что от справедливости одна память останется. Бедный как был, так и останется бедным.
— Государством будет управлять не царь, а сотня, может, две самых мудрых, честных и справедливых людей, — сказал Кольцов.
— А как их определишь? По физиономиям?
— Определим. Всем миром. Про хорошего человека молва далеко летит. Соберем самых лучших со всей России. Одни будут законы сочинять, а другие следить за их исполнением.
— Не выйдет! — решительно сказал первый мужик, который и затеял весь этот разговор. — Известно, человек слаб — подкупят его. Одного сразу, другого — чуток погодя. А честные и справедливые, если они останутся, ничего не смогут сделать. Потому что их на всю Россию, дай Бог, с десяток останется. А то и вовсе справедливые постепенно станут несправедливыми, и все законы станут выпускать себе на пользу.
— Такого не может быть! — убеждённо возразил Кольцов.
— Все может быть. Деньги любого человека сломают. Одного — малые деньги, а иного — тыщи.
— А ну, как опять несправедливые к власти придут и примут несправедливые законы? Что, начинай все сначала? Новую революцию? Силенок-то уже не хватит. А где гарантия, что такое снова не случится?
— Гарантия — маузер! — вмешался Жихарев, который все это время неприметно стоял в проходе и тоже слушал беседу. — Потому что людям нужен страх. Без страха рассейский народ никуда не сдвинешь, ни в какую сторону.
— Царь нужен! — снова повторил мужик со злыми глазами и, призывая к вниманию, поднял вверх указательный палец. — Только такой, чтоб из приюта, без родни и не женатый. На крайность, пущай на сироте женится. Один царь много не съест. А если с кучей родни и всяких разных дружков, такого Рассея уже не прокормит.
— От те и раз… Поговорили… — огорченно вздохнул пожилой. — Слова все понятные, а ничего не прояснилось.
В другом конце вагона Тимофей Бушкин рассказывал о Париже. Вокруг него собрались товарищи и снабженцы из команды Жихарева. Слушали, затаив дыхание.
Разбрелись по своим местам, когда за окнами уже забрезжила рассветная синева.
* * *
Проснулся Жихарев в полной тишине. Все спали. Лишь в конце вагона теплился слабый огонек керосинового фонаря, и Бушкин все еще продолжал что-то втолковывать нескольким жихаревским снабженцам.
Жихарев сунул ноги в сапоги, прошел к полуночникам и, смачно зевнув, спросил:
— Чего стоим-то?
— Так всю ночь: час едем, два стоим. Должно, какой-то полустанок.
Жихарев прислонился к грязному вагонному окну, но за ним ничего не было видно, лишь угадывалась белесая пелена.
— Снег, что ли?
— Всю ночь шел. Но такой…— снабженец поискал подходящее слово, — не регулярный.
Жихарев вышел в тамбур, отрыл дверь. В вагон тотчас заполз сырой воздух, пахнув снежной свежестью, заполняя все его прокуренное нутро. Полустанок окутывал плотный туман. Что за остановка, спросить было не у кого. Где-то вдали сиротливо перекликались маневровые «кукушки», и уже только это свидетельствовало, что стоят они вовсе не на крохотном полустанке.
Жихарев спустился на насыпь, под ногами зашуршала ракушечная подсыпка. Огляделся. Сквозь туманную пелену с трудом угадывалось безмолвное и мрачное нагромождение вагонов.
Осмотревшись, Жихарев решил проверить свое хозяйство — три, груженных продовольствием, вагона, а затем решил пройти вдоль эшелона дальше, к станции. Судя по всему, она находилась в той стороне, откуда доносились простуженные голоса маневровых паровозов.
Двери трех продовольственных вагонов были закрыты, на запорных крюках как и положено, свисали свинцовые пломбы. А дальше, за его вагонами, ничего не было — пустота. Похоже, их отцепили от состава и загнали в какой-то тупик.
Жихарев пошел к станции, исследуя окружающее пространство. Слева на путях светили ребрами искалеченные, давно вышедшие из строя товарняки, изуродованные и разбитые снарядами паровозы, зиял огромной дырой бронированный вагон.
Нет, это был не просто тупик, а станционное кладбище паровозов и вагонов. За что, за какие провинности их вагоны сунули именно сюда?
Он долго брел в тумане, стараясь не потерять «свою» колею. С любопытством разглядывал хлам, покоящийся на глухой привокзальной окраине.
По сторонам в серой туманной мути белесыми пятнами угадывались керосиновые фонари. Жихарев вглядывался в туман, надеясь увидеть кого-нибудь из железнодорожников. Но, увы, тщетно… Уходить далеко в сторону он боялся из-за тумана и скопления вагонов. И каждый раз, отойдя немного, снова возвращался на свою колею, опасаясь заблудиться и потерять свои вагоны из вида.
Наконец впереди он увидел какую-то странную фигуру в брезентовом до пят плаще и в остроконечном капюшоне.
Жихарев прибавил шаг, чтобы догнать незнакомца.
— Слышь, товарищ! Подожди малость, вопрос имеется! — окликнул он.
Человек в плаще остановился.
— Туман, понимаешь, мать его. Куда нас эти рас… загнали? Не можем, понимаешь, разобраться.
Человек в плаще обернулся. И из-под капюшона на него устремила вопросительный взгляд миловидная девушка.
Жихарев осекся.
— Извините, гражданочка. Как бы сказать, униформа подвела… И туман… Не разглядел спервоначалу. Не разъясните, что это за станция? Как называется?
— Синельниково.
— Так! Уже хорошая новость, — повеселел Жихарев. — А не подскажете, куда этот путь ведет? На Александровск, чи, может, на Екатеринослав?
— В тупик.
— Похужее новость. Идем дальше… Вот, если б я, к примеру, заблудился, каким макаром мне свои вагоны отыскать? Они на этом пути стоят.
— Спросите четвертый тупик. Вам подскажут, — посоветовала незнакомка.
— А вокзал, извините, в той стороне? — Жихарев махнул рукой.
— Ещё метров тридцать пройдете, и он будет справа. Туман уже рассеивается. Увидите…
И девушка торопливо двинулась по насыпи дальше. Жихарев зашагал следом.
— Спасибочко вам. Очень вы мне, извиняюсь, приглянулись. Война кончается, так, может, свидимся для дальнейшего, как говорится, продолжения беседы?
— Почему ж не свидеться! Очень даже возможно.
— Как же я вас найду?
— Просто. На этом же месте! — хохотнула девушка и свернула влево. Перешла через несколько путей, и обернувшись, крикнула: — Слышите, кавалер! Сворачивайте направо, выйдете прямо к вокзалу!
Жихарев хотел что-то ответить, но ее заслонил невесть откуда возникший маневровый паровоз. Он тащил несколько платформ со стоявшими на них артиллерийскими орудиями.
Жихарев замер в ожидании. Но когда проплыли платформы, девушка уже растворилась в тумане. Он еще немного постоял и пошел дальше, затем свернул к вокзалу.
Туман постепенно рассеивался, и он увидел, что часть вокзальных сооружений зияла пустыми окнами и проломами от разорвавшихся снарядов. Справа по ходу движения, в окнах уцелевшего здания, горел яркий желтый свет.
Жихарев прошел внутрь вокзала, спросил у проходившего мимо железнодорожного служащего:
— Не подскажешь, товарищ, где тут у вас вокзальное начальство?
— А я и есть начальство.
— Начальник станции? — обрадовался Жихарев.
— Я — вокзальное начальство: дежурный по вокзалу. А тебе, должно, начальник станции нужен? Так это вон в ту дверь. Но только ты туда пока не ходи. Только расчистили станцию, все эшелоны отправили. Пущай немного поспит.
Жихарев направился к кабинету начальника станции. Потихоньку приоткрыл дверь, ожидая увидеть хозяина кабинета, спящего где-нибудь в углу, на диванчике. Но он сидел за столом.
Лишь когда Жихарев приблизился к начальнику станции, увидел, что тот спит, сидя за столом, подперев голову рукой. Жихарев бесшумно уселся на стул напротив, решив дать ему ещё немного поспать. Но начальник станции, не шевелясь и не открывая глаз, спросил:
— Что у вас?
Это было так неожиданно, что Жихарев даже вздрогнул и огляделся по сторонам: может, кто-то другой, стоявший сзади, задал вопрос? Но в кабинете, кроме них двоих, никого не было.
— Как вы знаете, на Каховском плацдарме началось наступление, — начал было Жихарев. — А с доставкой продовольствия…
— Агитировать не надо, — не открывая глаз, оборвал Жихарева начальник станции. — Говорите дело…
— Три груженных продовольствием и спальный вагоны загнали в тупик…
— Знаю. Четвертый тупик. Что вас не устраивает?
— Ценный груз. Сопровождает комиссар ВЧК Кольцов. К тому же с ним секретный пакет с пятью сургучными печатями.
Начальник станции открыл глаза, удивленно спросил:
— Зачем вы излагаете мне ваши секреты? Какой пакет? Какие печати? Я отвечаю за подвижной состав.
Жихарев наклонился к начальнику станции и заговорщицки произнес:
— Я к тому, что очень важный человек. Надо как можно быстрее отправить четыре вагона на Херсон. Хочу предостеречь: могут быть неприятности.
— У меня? Нет! Все неприятности, которые могут свалиться на голову одного начальника станции, я уже испытал. Иных природа еще не придумала, — спокойно сказал начальник станции. — Повторяю, я регулирую грузопотоки, ведаю подвижным составом. Харьков мне сообщил о четырех ваших вагонах. Отправлю, как только появится такая возможность. И не морочьте мне, пожалуйста, голову. Дайте хоть немного поспать.
— Что доложить товарищу комиссару? Когда отправите?
— Посоветуйте ему тоже немного поспать. И не нервничать. Вам тоже… не суетиться без толку. Все!
Начальник станции снова подпер голову рукой и закрыл глаза.
Жихарев еще немного подождал, в надежде, что он скажет что-нибудь обнадеживающее. Но начальник станции заснул, тоненько похрапывая. И Жихарев ушел к себе, на четвертый тупик.
В вагоне уже не спали. Кто-то из снабженцев успел выяснить, что они стоят на станции Синельниково. Печальное зрелище зияющих проломами вагонов и разбитых ржавых паровозов навевало на них тоску и отчаяние. Ждали Жихарева, предполагая, что он отправился на станцию, дабы прояснить обстановку.
Жихарев появился перед ними сияющий, торжественный. На вопросительные взгляды присутствующих ничего не ответил. Подошел к Кольцову, небрежно сказал:
— Не надо суетиться. Я все уладил. Скоро тронемся на Херсон.
* * *
За Апостолово тяжело груженный боеприпасами «литерный», к которому прицепили и четыре продовольственных вагона, часто останавливался. На протяжении многих верст он двигался со скоростью пешехода. Совсем недавно здесь повсюду велись жестокие бои. Отступали белые — взрывали пути; красные ремонтировали. Отступали красные, и всё повторялось. И те и другие ремонтировали дорогу наспех, и поэтому скорость на ней была предельно ограничена.
Эшелон медленно двигался по ровной, как стол, таврической степи. Жихаревская команда и сотрудники Особого отдела прилипли к окнам. Здесь все напоминало о недавних боях. Врангель несколько раз пытался закрепиться на Правобережье Днепра с тем, чтобы затем привлечь к себе войско Симона Петлюры, а в дальнейшем соединиться с польской армией Пилсудского. Но ничего не получилось. И, как свидетельство этих жестоких боев, мимо окон вагона проплывали сожженные полустанки и наспех отремонтированные будки путевых обходчиков.
В селах люди, подобно муравьям, копошились возле своих покалеченных войной хат, ставили подпорки, крыши крыли невесть чем — соломой, камышом. Делали все для того, чтобы как-то пережить пришедшую и сюда, на юг, злую зиму.
— Затягивай пояса, мужики! — вздохнул кто-то из жихаревских. — Сколь годков понадобится, чтоб поднять Россию с колен.
— Поднимется! Эта земля кого только не повидала, и скифов, и половцев, и татар, и турок, и другой всякой нечисти. И кажный раз выживала, поднималась, — отозвался жихаревский снабженец со злыми глазами.
* * *
Ещё засветло они прибыли в Снегиревку, небольшое степное село, волею судеб ставшее на короткое время многолюдным и шумным перекрестком Гражданской войны.
Последние недели над Снегиревкой шли бесконечные дожди, словно отдавая долг высушенной летним зноем земле. Ночами стало подмораживать, прихватывая вязкую черноземную грязь непрочной коркой.
Утопая по щиколотки в грязи, Жихарев метнулся по улицам, где почти в каждом дворе находились на постое военные. В основном это были тыловые службы, которые встречали и затем направляли грузы и прибывающее пополнение по своим адресам, точнее, по своим дивизиям. Вскоре Жихарев отыскал ожидавших его каптенармусов[4].
Кольцова и его команду никто не ждал. А может, и ждали, да поди отыщи в этом людском муравейнике нужных тебе людей. Сговорились с двумя местными мужиками, владельцами телег, в каждой из которых без особой тесноты могли поместиться до десяти человек.
Когда зашел разговор о плате, возчики наотрез отказались от денег. У Гольдмана в запасе были и царские, и петлюровские, и керенские, а вот своих, советских, пока ещё не напечатали. Мужики попросили в счет оплаты дать им что-нибудь из одежды или обуви. Но ничего лишнего ни у кого из пятнадцати особистов не нашлось.
На их счастье, к ним подошел попрощаться Жихарев. Узнав о затруднении, отвел возчиков в сторону и долго с ними о чем-то договаривался. После чего они, в сопровождении одного из жихаревских снабженцев, куда-то ушли и вскоре, довольные, вернулись, неся с собой увесистые «сидоры».
Уладив дело с возчиками, Жихарев с некоторой торжественностью в голосе сказал:
— Хочу поблагодарить за компанию. Если что было не так — не обессудьте. Как говорится: повинную голову меч не сечет. Даст Бог когда свидеться — будем рады.
— Дороги у нас одни и те же, — сказал Кольцов. — Может, ещё когда и сведут.
Знал бы тогда Кольцов, какими пророческими окажутся эти его слова.
Гольдман тоже произнес несколько слов, поблагодарив за совместную поездку, за хлеб-соль, которыми щедро с ними поделились снабженцы. И конечно же за то, что помогли уладить дело с возчиками.
Кольцов, Гольдман и Бушкин с несколькими особистами разместились в первой телеге, остальные — во второй. Тронулись…
Жихаревские снабженцы долго месили грязь, вышагивая следом за первой телегой, провожая, как можно было понять, Бушкина. Напоследок они ему одному на ходу крепко пожали руки. И еще долго потом стояли на пригорке, провожая взглядами исчезавшие вдали телеги.
Когда Снегиревка скрылась вдали, Кольцов спросил у Бушкина:
— Тимофей, вы и прежде были знакомы с этими снабженцами?
— Откуда? В поезде спознались.
— Ha почве сала, — пошутил Гольдман.
Бушкин укоризненно глянул на Гольдмана, но промолчал.
— Странно, за что они вас так быстро полюбили? — спросил Кольцов.
— Обыкновенное дело. Завербовал, — на чистом глазу пояснил Бушкин.
— Куда?
— До себя в отряд.
— Что за отряд? Расскажите. Или это тайна? — допытывался Кольцов.
— Ничего такого, — пожал плечами Бушкин. — Договорились, сразу же после войны встретиться — и на Париж.
— К-куда? — удивился Кольцов.
— На Париж, говорю. А чего! Поможем французам советскую власть обустраивать.
Сидевшие в телеге особисты прятали лица в воротники, давясь от смеха.
— Может, нам бы сперва у себя разобраться?
— А чего тут осталось? — не согласился Бушкин. — Ну, неделя, ну, две… А дальше, пока то да се, пока будут законы сочинять и все такое, мы французскому пролетариату чуток подмогнём. Они ж на нас надеются. Военный опыт у нас имеется. И вообще… пока еще запал есть и от войны не остыли.
Кто-то из особистов не выдержал, расхохотался. Остальные тоже засмеялись.
— «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» — процитировал Бушкин слова городничего из «Ревизора», и затем назидательно добавил: — Вы вот так же легкомысленно, шуточками пропустите приход всемирной революции!
Смеялись уже в голос, не сдерживаясь, громко.
Глава вторая
Лошади привычно брели по разъезженной дороге, сами выбирая себе путь полегче: объезжали расхлябанные бочаги, а то и вовсе переходили на протянувшуюся вдоль дороги слегка подсохшую за день гряду. Они ездили здесь каждый день, запомнили каждый бугорок и приямок, глубокую лужу и канаву. Возчик лошадью не управлял, он намотал вожжи на выступающий из боковины телеги кол и, глядя на своих пассажиров, вслушивался в их разговоры, пытаясь понять и извлечь из них что-то для себя полезное. Но пассажиры говорили большей частью о непонятном.
Вечерело. Низкое солнце сгоняло последние облака. Днепр еще не был виден, но там вдали, где он протекал, небо очистилось и светилось поздним осенним багрянцем.
— Красота-то какая! — зачарованно сказал Гольдман.
— Это кому как, — вдруг отозвался своим хриплым прокуренным голосом возчик. — Кому красота, а кому беда.
— Красота, она и есть красота. Она для всех одинаковая, — не согласился Гольдман.
— Ночью заморозок будет, вона как небо разрумянилось. У меня беляки хату спалили, на подворье землянку спроворил. Сыро… В мороз не натопишь. Дети мерзнут, жинка кашляет. Вот и судите, радует меня така красота чи нет.
В Берислав они въезжали уже в полной темноте. Ночь наступила как-то сразу. Вдруг на небе высыпали яркие звезды, заискрившись в вышине.
— А звезды-то! Звезды! — вновь восторгался Гольдман, — Я таких больше нигде не видел. С кулак величиной…
Все одновременно посмотрели на возчика.
Когда колеса телеги застучали по каменной мостовой, возчик взял в руки вожжи, спросил:
— Вам на Пойдуновку, чи на Забалку?
— Езжай в самый центр, там разберемся.
По разбитой брусчатке они спустились вниз, почти к самому берегу Днепра. В глухой темени его не было видно, но ощущалось его чистое дыхание, к которому примешивался легкий запах разогретой смолы.
Днепр круглый год кормил местных жителей рыбой. Она была здесь не только продуктом питания, но и ходовым торговым товаром, таким же ценным, как зерно, соль и вино. Поэтому бериславские мужики всю заботу о земле в большей части возложили на своих жен, родителей и даже детей, а сами всю глухую пору года — позднюю осень, зиму и раннюю весну — проводили на воде. Днепр и Волга в дни военного лихолетья кормили рыбой, пусть и не досыта, всю Россию. Главным образом, воблой и таранью. Они даже входили в пайковое довольствие воинских подразделений.
Бериславские рыбаки всегда держали свой промысловый флот: лодки, каюки, шаланды, дубки в постоянной исправности, то есть проконопаченными и просмоленными. На берегу горели костры, и над ними висели ведра или казаны с расплавленной смолой. И дым от этой «кухни» постоянно витал над Бериславом.
Гольдман следил за движением телеги, время от времени поглядывал назад. Следом за ними, как приклеенная, тащилась вторая.
— Где-то здесь двухэтажный дом под железной крышей. Его бы найти, — подсказал возчику Гольдман.
— Дом Зыбина, что ли? Так он во-о-она, через дорогу, — протянул возчик.
— Глазастый ты, однако! — восхитился Гольдман. — В такой-то темени…
— Не я глазастый. Кони. Они кажный день на этом месте останавливаются. Сюда много разного народу прибывает.
Попрощавшись с возчиками, Кольцов со всеми своими спутниками гурьбой направились в дом Зыбина. Гольдман шел впереди.
Возле входа в дом неторопливо прохаживался пожилой часовой с винтовкой за плечом. Гольдмана он узнал еще издали и, улыбаясь, устремился навстречу.
— Что, Семёныч, темными окнами встречаете? — остановился возле часового Гольдман.
— А пошто карасин палить, если в дому — никого, — резонно заметил часовой.
— Где же все?
— Вячеслав Рудольфович по дивизиям разогнал. Как с Харькова приехали, так и разогнал. А меня за сторожа оставили.
— Ну, зачем же так уничижительно: за сторожа, — укорил его Гольдман. — Ты — караульный или часовой. Это уж как тебе больше нравится.
— Это когда в боевой обстановке. Или на складе при оружии, — не согласился Семенович.
— А Вячеслав Рудольфович где?
— Утром в Каховку отправился. Видать, там, в штабу фронта, и заночевал.
— И что, никого нет?
— Андрей Степанович Кириллов позавчерась приехал. И скажи, какая комедия приключилась. Его не предупредили, что ихнюю группу-то распустили. Он идет к себе в кабинет, а там — Самохвалов из разведки. Спрашивает: «Вам кого?» Андрей Степанович не растерялся. «Мне бы, говорит, Кириллова». А Самохвалов ему: «Не знаю такого». Тогда Андрей Степанович и говорит: «Давайте знакомиться. Я и есть Кириллов», — и часовой зашелся от смеха.
— Ну, хоть кто-нибудь здесь остался? — вмешался в разговор Кольцов.
— А то как же — человек пять. И Кириллов здесь.
— Где он?
— А где ему быть? Тут, в штабу. И ещё Самохвалов и Приходько.
Но Кольцов уже не слушал часового. Он торопливо поднялся по ступенькам, вошел в сумеречный, освещенный одним копотным каганцом, коридор. Следом за ним вошли Гольдман, Бушкин и все остальные — переговариваясь, шаркали ногами.
— А ну, тихо! — попросил Кольцов.
Наступила тишина. Кольцов надеялся, что с какой-нибудь комнаты донесутся голоса здешних обитателей. Но нигде ни звука.
— Спят, что ли? — удивился Кольцов и изо всей силы прокричал: — Кириллов! Андрей Степанович!
Долго никто не отзывался. Потом в глубине коридора звякнула щеколда, проскрипела дверь, и вдали в черноте коридора повисла лампа. Она какое-то время повисела на одном и том же месте, а затем поплыла по коридору. По мере ее приближения стало проявляться лицо человека, несущего лампу. Кольцов узнал Кириллова и двинулся ему навстречу.
— Погоди малость, — попросил его Кириллов.
После чего он сделал шаг в сторону и там, скрываемая сумерками, под самой стеной, завиднелась какая-то тумбочка. Кириллов осторожно поставил на нее лампу и лишь после этого обернулся к Кольцову, неуклюже, по-медвежьи заключил его в объятия.
— Здравствуй, Павел Андреевич! Здравствуй, Паша! — от души тиская Кольцова, приговаривал он. — Не так давно виделись, а заскучал о тебе, как зимою о лете! И Вячеслав Рудольфович интересовался, всё расспрашивал меня про засаду. Кому-то даже велел связаться с Харьковом. Там сказали, что ты выехал.
— Он что, тоже меня ждет? — улыбнулся Кольцов.
— Похоже, ждет. Видать, какие-то виды на тебя имеет, — сказал Кириллов.
— Но ты-то знаешь?
— Нет… Лучше, пусть он сам тебе все расскажет.
Потом в коридоре появилось ещё несколько ламп, их вынесли разбуженные гомоном, ночевавшие в штабе особисты. Стало шумно и весело. Сослуживцы узнавали друг друга, иные подолгу не виделись и с удовольствием выспрашивали друг у друга новости.
— Носков? Гриша?
— Ты, Дымченко? Чертяка рыжая!
— Моя копия.
— А Власенко с вами?
— Помер Власенко. В госпитале, в Катеринославе.
— Жалко Федора.
— Типун тебе на язык! То Василий помер, его однофамилец. Писарь из хозроты.
— Лучше б Федька. А Васька, он безобидный. А буквочки як выписывал! Як все равно в книжке.
И уже спорили, кому бы лучше помереть. И ругались. И весело смеялись.
Постепенно «местные» разобрали вновь прибывших по своим комнатам. Унесли лампы. В коридоре вновь наступили сумерки. В нем еще какое-то время оставались Кириллов и обступившие его Кольцов, Гольдман и Тимофей Бушкин.
Бушкин, человек не унывающий, разбитной и острый на язык, за время пути будто потерялся. Своими рассказами о Париже он потешал жихаревских, и оттого веселился сам. А войти в контакт с особистами у него не получалось. Они не очень шли на разговоры с чужим для них человеком и строго блюли свою обособленность.
Бушкин несколько раз пытался завести с ними разговор о Париже и Парижской коммуне, но осторожные особисты принимали его рассказы за бахвальство и чистую выдумку, и в душевные разговоры не вступали. И он стал больше придерживаться Кольцова и Гольдмана, но и они, запятые своими заботами, уделяли Бушкину мало времени. Это его обижало, и он уже даже пожалел, что в свое время не послушал совета Кольцова, и не вернулся обратно на бронепоезд Троцкого.
Особисты и Бушкин покинули коридор, и следом за Кирилловым вошли в большую и почти пустую комнату.
— Мой кабинет, — пояснил Кириллов. — Вчера занял…
Кольцов удивленно оглядел помещение — обстановка была до крайности аскетической. Вместо письменного посреди комнаты стоял большой обеденный стол с телефоном и барское кресло, предназначавшееся хозяину, с другой стороны — два табурета для посетителей. В дальнем углу стояла железная кровать, застланная домотканым крестьянским рядном. И все!
— Интересно, кому он прежде принадлежал? — спросил Кольцов.
— Разве не помните? Здесь вас отчитывала Землячка после гибели Греця, — напомнил Кириллов. — Здесь заседала «тройка» во главе с Розалией Самойловной.
— Это когда она настаивала на вынесении мне смертного приговора? Очень обозлилась, что у нее тогда ничего не получилось. А кабинет не помню, — Кольцов еще раз внимательно огляделся вокруг, спросил у Кириллова: — Это ты за день так успел его опустошить?
— Нет. Все осталось, как было при ней. Она только собрала со стола свои бумаги и ушла. Десять секунд на сборы.
— Аскетическая женщина, — покачал головой Кольцов.
— Она — не женщина, — не согласился Гольдман. — Я ее давно знаю. Она из особой породы людей, выведенных революцией. У неё никогда не будет детей, потому что она не знает, зачем они нужны и откуда они берутся.
Затем Кириллов с Бушкиным сходили в каптерку и принесли оттуда все, что там нашли: брезентовые покрывала, конские попоны, лоскутные одеяла, два ватных матраса. Все это постелили в углу рядом с железной кроватью. Кириллов сказал:
— Здесь, на полу, ляжем мы втроем. А ты, Паша, — на кровати Розалии Самойловны. — И, немного помолчав, добавил: — Утром расскажешь, какие сны тебе на её кровати приснились.
— Нет уж! Я — на полу! — запротестовал Кольцов.
— Ты не спорь, Паша! — насупился Кириллов. — Ты ведь еще не знаешь, с кем споришь. Правобережная группа войск больше не существует. Но я не остался без работы. Со вчерашнего дня я — заместитель Менжинского и возглавлю контрразведку. И так получается, что ты на данный момент являешься прямым моим подчиненным, и возражать мне не имеешь никакого права.
— Ну а если по-человечески? — не унимался Кольцов.
— И по-человечески тоже. Будешь спать, где велел. Имей в виду, я жутко строгий начальник, — Кириллов сделал свирепое лицо. — Еще не раз пожалеешь, что попал под мое начало.
— Спасибо, что прояснил мое будущее, — улыбнулся Кольцов. — А теперь — серьезно! Вы ведь разговаривали с Менжинским обо мне. И, стало быть, ты что-то знаешь…
— Немного. Он спрашивал, что я знаю о твоем пребывании в плену у Нестора Махно. Я честно сказал, что почти ничего… Как-то не привелось с тобой об этом поговорить.
— Ты думаешь, это как-то связано с моей новой командировкой?
— Не знаю, Паша. Всего лишь предполагаю…
— Ну и поделись.
— Не могу. Это в конце концов не этично. Менжинский ничего не поручал мне. Он сам тебе всё расскажет. А может, и нет, если у него уже нашлась для этой командировки другая кандидатура.
— Жестокий ты человек, Андрей Степанович. Думал, высплюсь от души. Да какой теперь сон? Всю ночь буду гадать, что за командировка? — укорил Кириллова Кольцов.
— А ты не особенно ломай голову, — посоветовал Кириллов. — Обычная поездка в войска. Не лучше и не хуже других наших поездок. Ну, может, с некоторой изюминкой…
— Ага! Значит, знаешь.
— Повторяю для тупых: предполагаю.
— Ну, ладно! Если «с изюминкой» — тогда успокоил. Будем спать!
* * *
Три плацдарма вдоль Днепра: Каховский, Великой Лепетихи-Рогачика и Никопольский — на карте выглядели небольшими продолговатыми пятнами. Но именно на них были обращены взгляды всех армейских командиров, своих и чужих, а также политиков, начиная от Ленина и Троцкого и заканчивая руководителями стран Антанты.
Несколько месяцев Врангель предпринимал отчаянные попытки ликвидировать их и прочно утвердиться как на левом, так и не правом берегах Днепра. Не получилось. И теперь именно здесь начинался последний акт Гражданской войны.
Вторая конная армия Филиппа Миронова[5] и Первая конная Семена Буденного[6] в конце октября перешли в наступление. Их поддержали другие воинские соединения. Натиск был столь дерзкий и стремительный, что войска Врангеля, длительное время ожидавшие решительных действий красных, были ошеломлены. Началось отчаянное отступление.
Особенно трудными эти бои оказались для Первой конной армии Семена Будённого. Сутки назад она завершила тяжелейший рейд из Польши. Более шестисот верст конница пробивалась по территории, занятой войсками Симона Петлюры и различными бандитскими батьками и атаманами. Вступала в схватки, шла без сна и отдыха, месила грязь. Торопилась. Голодали бойцы, голодали кони. На всем протяжении пути их поливали косые осенние дожди. А потом ударили морозы. Наконец, добрались до Берислава. Но уже ночью их переправили на левый берег Днепра, в Каховку. Не успели устроиться в каких-то полуразрушенных пустых амбарах, конюшнях, сараях, как на рассвете их подняли по тревоге.
Глядя на свое измученное, оборванное, посеревшее от недоеданий и морозов войско, стоя на тачанке Семен Будённый, сам еле ворочая языком от усталости, сказал:
— Браточки! Я был с вами все это каторжное время. Так же, как и вы, мерз, голодал, недосыпал и ходил под вражьими пулями. Самое бы время — в баньку, а потом на сутки в клуню на духовитое сено. Эх! — он даже вздохнул, представив себе эту простую мечту: всласть отоспаться. И с разочарованием в голосе продолжил: — Но не получается. Нету у нас с вами на эти радости никакого времени! — взмахнув рукой с нагайкой, Будённый указал куда-то вдаль: — Может, сто, может, триста верст осталось до самого конца войны. Не проспать бы нам эти счастливые минуты! Не то другие завершат это братоубийство. Они, а не мы, будут торжествовать и радоваться победе. А мы окажемся сбоку припеку на этом празднике. Вот в задачке и спрашивается: как нам быть? Может, поспим еще часок-другой или через силу, через «не могу» выступим на барона за ради великой революционной цели!
Торжественная музыка митинговых слов! Лишь одна она, облеченная неведомой магией, способна сотворить нечто, неподвластное обычным словам. Она могла послать в бой тысячные массы. Но тут и она дала осечку.
Смертельно уставшие, изголодавшиеся, до костей промерзшие, бойцы слабо зашевелились. Хоть и ясные, убедительные слова сказал командарм, а всё же в усталой голове каждого звучали не согласовывающиеся с логикой слова: спать! Ну, хоть пару часов! Хоть полчаса! И Буденный едва ли не впервые ощутил свое бессилие. Это был тот редкий случай, когда он мог, переступив через себя, воспользоваться своим правом приказать. Но не приказал.
Они долго молчали. И тут издали, из задних рядов отозвался старый донской казак Харитон Ярыга, весь в шрамах, много войн прошедший, не однажды в боях рубленный и стрелянный.
Буденный давно приметил этого старого казака, иногда приглашал его к себе для душевной беседы, а заодно попить чаю, а то и чего покрепче. От чая Харитон отказывался всегда одной и той же фразой: «Ну да! Стану я в животе сырость разводить!» Водку от командарма принимал, но знал свою норму, и никогда не выпивал больше двух лафитников. И всегда, после того, как осушал лафитник[7], переворачивал его донцем кверху, и пару капель, которые стекали на ладонь, старательно втирал в волосы головы.
Буденный несколько раз предлагал ему должность в соответствии с его почтенным возрастом: ездовым на тачанке, а то и охранником при штабе. Но Харитон ни на какие уговоры не поддавался.
— Ну да! Стану я в штабах восседать, а моя Маруська без меня с тоски помреть.
Маруська, старая бельмастая кобыла, была чем-то похожа на своего подслеповатого костлявого хозяина.
Харитон взобрался на телегу, оглядел молчаливое буденновское войско и коротко спросил:
— Да чего там! Последний раз! Може, перетерпим?
Сказал бы то же самое молодой, не отозвались бы!
А от слов старого, немощного Харитона всех прошибла совесть. Конники зашевелились, загомонили.
— Командуй, Михалыч!
— Чи не понимаем! Приказуй!
— Спасибо, братки! Не сумлевался! А приказывать не могу. На то у вас есть свой командир.
Из-за спины Буденного выступил грузный хохол в мохнатой шапке и в полушубке с белой оторочкой. На полушубке на груди поблескивал орден Красного Знамени. Это был начдив шестой дивизии Апанасенко[8].
— Давай, Иосиф! Командуй! — велел Буденный.
— Есть, командир! — вскинул ладонь к шапке Апанасенко и прямо с тачанки пересел на привязанного к облучку коня. Тронул поводья. Конь со всадником стал послушно и неторопливо пробираться сквозь митинговую толпу. И только выбравшись на свободное пространство, Апанасенко поднял шашку и зычным басом скомандовал:
— Дивизия! Поэскадронно!
И пока всадники торопливо разбирались в ряды, шумели, отыскивая каждый свой эскадрон, Апанасенко разговаривал с обступившими его ездовыми:
— Ну, шо, хлопчики! Соберемся с силами! Туточки до Аскании и путя — всего ничего, верст семьдесят! Недалечко!
— Гы-гы-гы! — тяжелым смехом отозвались конники.
— Может, и доползем…
— Тю на вас! Ночувать на Сиваше будем! Покамест хоть издаля Крымом полюбуемси!
И когда все более-менее разобрались, Апанасенко вновь зычно скомандовал:
— Поэскадронно! За мной — марш, марш!
И дивизия вскоре скрылась за песчаным пригорком.
За двое суток Первая конная в отчаянном рывке заняла Асканию-Нову и двинулась к Чонгару и Перекопу.
* * *
Никаких снов Кольцов в эту ночь не видел, крепко спал.
Утром, едва за окнами заголубело, его пригласил к себе Менжинский. Он вернулся с Каховки глубокой ночью, ему доложили о возвращении остававшихся в Харькове сотрудников, а также о том, что вместе с другими приехал в Берислав и Кольцов.
Когда Кольцов, ещё не до конца стряхнув с себя сонную одурь, вошел в ярко освещенный двумя керосиновыми лампами кабинет Менжинского, тот, склонившись над расстеленной на столе оперативной картой, толстым столярным карандашом условными знаками отмечал подвижки на фронте.
Кольцов мельком глянул на карту, но тут же отвел взгляд в сторону, понимая, что его любопытство может не понравиться Менжинскому.
— Смотрите, смотрите! — перехватив взгляд Кольцова, сказал Вячеслав Рудольфович. — Вполне оптимистическая картина!
Распрямившись, он пристально оглядел Кольцова и, вероятно, остался доволен. Его обычно мрачное лицо слегка прояснилось.
— Здравствуйте, Павел Андреевич! — и как бы мимоходом спросил: — Как себя чувствуете после дороги?
— Спасибо. Как всегда, вполне удовлетворительно. Только не выспался.
— Завидую. Сон — первейшее благо молодости. А мне на сон достаточно четырех часов. И все, больше не усну. Старость!
— Ладно вам! Какой вы старик? — больше из вежливости возразил Кольцов. Всех, кому перевалило за сорок, он тоже считал стариками.
— Одышка, кашель, всяческие недомогания, — словно не слыша Кольцова, пожаловался Вячеслав Рудольфович. — А нам сейчас никак нельзя болеть, нельзя расслабляться. Как говорят в театре, дело-то, и в самом деле, идет к вешалке.
Помощник неслышно внес в кабинет Менжинского поднос с чаем и сухариками, поставил его посередине рабочего стола. Менжинский кивком головы поблагодарил помощника и отпустил.
Не отходя от стола с картой, Менжинский сменил тональность и заговорил деловито и серьезно:
— Вы, конечно, понимаете, что мы очищаем от врангелевских войск Северную Таврию, и со дня на день на Крымском перешейке развернутся нешуточные бои. Сиваш — серьезная преграда, особенно сейчас, в холода да морозы. И нужно сделать все для того, чтобы не увязнуть у ворот Крыма. У Михаила Васильевича был замечательный план: пройти в Крым, в самые глубокие врангелевские тылы, по Арабатской стрелке.
Карандаш Менжинского плавно пролетел над узкой полоской суши, которая начиналась от Геническа и, огибая с северо-востока едва не половину Крыма, заканчивалась возле Ак-Маная, неподалеку от Феодосии.
Пригласив Кольцова, Менжинский прошел к своему рабочему столу.
— Прошу вас, — он взял стакан чая, с хрустом пожевал сухарик. И лишь после того, как Кольцов тоже угостился чаем, Менжинский продолжил: — Впервые, еще в семнадцатом столетии, таким образом российский генерал-фельдмаршал Ласси[9] обманул крымского хана. Он неожиданно провел свои войска по Арабатской стрелке и оказался у хана в глубоких тылах. По сути, он в трое суток овладел Крымом. К сожалению, мы не можем повторить этот маневр сейчас. Подводит погода. Азовская военная флотилия, на которую рассчитывал Фрунзе[10], не сможет поддержать наши войска. Азовское море по берегам уже затянулось льдом.
— Да, зима неожиданно ранняя, — согласился Кольцов. — Я ведь крымчак. В иные годы мы, мальчишки, в эту пору ещё купались в море.
— Прогнозы на ближайшее время неутешительные, — сказал Менжинский и грустно добавил: — Крым придется брать в лоб. Бои будут последние и поистине решительные. Сосредоточим все силы вдоль Крымского перешейка, от Перекопа и до Чонгара. Привлечем в союзники всех, кого только сможем. Помнится, вы вывели на меня двух махновцев.
— Да, помню. С Петром Колодубом я и прежде имел дела. Последний раз он явился парламентёром от Нестора Махно. Кажется, с предложением о переговорах.
— Всё верно. Предыстория следующая. Махно был ранен в ногу — тяжелое ранение, пуля раздробила ему ступню. И Колодуб от имени Махно просил о помощи: тот нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве. Он находился на станции Изюм. Мы послали туда врачебную бригаду с отличным хирургом. По моим сведениям, ступню Нестору Махно спасли, буквально собрали ее по косточкам. Там, в Изюме, Махно попросил организовать встречу с представителями Красной армии для переговоров. Встретились в Старобельске. Туда же, все еще испытывая сильные боли, приехал Махно. На удивление легко с ним обо всем договорились.
— Ну и что хотел Махно? — спросил Кольцов.
Едва только Менжинский начал подробно рассказывать о Махно, Кольцов стал догадываться о сути новой «командировки» с «изюминкой», как определил ее Кириллов. Похоже, только пахло не изюминкой, а солидной горстью изюма.
Как все странно происходит в жизни! Стоило ему однажды случайно попасть в плен к Махно и также случайно уцелеть, как он уже стал считаться «специалистом по Махно». Судя по всему, ему предстояла новая встреча с Нестором Ивановичем.
Кольцов не стал прикидываться, что не догадывается, к чему ведет свою речь Менжинский, и спросил прямо, без дипломатии:
— Я так понимаю, вы ведь не зря посвящаете меня во все эти тонкости?
— Да, конечно, — нисколько не смутившись, сказал Менжинский. — Да вы пейте чай, он совсем остыл.
Кольцов, отхлебывая чай, продолжил слушать. Но теперь он пытался проникнуть не столько в текст, сколько в подтекст каждой фразы. Еще до конца разговора он пытался вникнуть в суть его будущего задания.
— Что хотел Махно? — повторил вопрос Кольцова Менжинский. — Вы-то, вероятно, знаете, в не столь давние времена он просил автономию для Гуляйпольщины.
— Была у него такая мечта, — согласился Кольцов. — Потом ему этого показалось мало, и он стал мечтать о владении Екатеринославской губернией.
— Владимир Ильич рассказывал Фрунзе, что Махно просил у него Крым. Обещал превратить его в образец процветания и свободы, — улыбнулся Менжинский. — Говорил, что создаст там анархическую республику, привлекательную для всего человечества… Удивительная вещь, все пекутся о человечестве, а у себя во дворе не могут навести порядок.
— Так в чем суть переговоров в Старобельске? — спросил Кольцов.
— Заключили соглашение. Махно со своей Повстанческой армией переходит на сторону советской власти и участвует в освобождении Крыма.
— И что взамен?
— Просит освободить из тюрем его сподвижников-анархистов. Согласились.
— И, наверное, попросил Крым? — догадался Кольцов.
— Просил.
— Пообещали?
— Пообещали подумать.
— Соглашение — это слова. Намерения. А есть ли какие-нибудь реальные результаты? — поинтересовался Кольцов.
— Буквально на следующий день после переговоров штаб Повстанческой армии разослал своим отрядам вот это распоряжение.
Менжинский положил перед Кольцовым четвертушку бумаги, которую Кольцов бегло просмотрел:
«Распоряжение ШтаАрма отрядам Володина, Прочана, Савченко, Ищенко, Самко, Чалому, Яценко. С сего дня прекратить всякие вражеские действия против советской власти, а также против каких бы то ни было советских учреждений и их работников.
Все живые и здоровые силы вольного повстанчества должны влиться в ряды Красной армии, войдя в подчинение и под командование последней.
Совет Революционных Повстанцев твердо уверен, что вольное повстанчество не пойдет по двум разным дорогам, но сплоченно последует на зов испытанных революционных вождей батьки Махно и Совета Революционных Повстанцев Украины (махновцев).
Председатель Революционной Повстанческой
Армии Украины (махновцев) батька Махно.
Командарм С. Каретников».
— Ну и что скажете? — спросил Менжинский.
— Хорошая бумага, — возвращая Вячеславу Рудольфовичу махновское распоряжение, ответил Кольцов. — Я так понимаю намерение батьки: война кончается, к гадалке не ходи. И если махновцы примут участие в последних боях, Нестор Иванович надеется, что ему простятся все прежние прегрешения. А, глядишь, большевики что-то подкинут от щедрот своих.
— Они просили внести в соглашение вопрос о Крыме отдельной строкой.
— И что же?
— Не отказали, но и не пообещали. Но едва ли не сразу же, как знак доброй воли, выпустили из тюрем всех махновцев и их руководителей — идейных анархистов. В ответ на наши доброжелательные действия Махно телеграфно излагает нам условия, при которых его армия будет совместно с нами воевать против Врангеля. Почувствовал, что его армия нам сейчас не будет лишней.
И Менжинский положил перед Кольцовым ещё одну бумагу,
— Этот меморандум больше похож на шантаж, — угрюмо констатировал он.
Кольцов склонился над бумагой. В ней говорилось:
«Революционные повстанцы входят в соглашение с командованием Красной армии, советской властью для совместной борьбы против контрреволюционной своры, и ничуть не намерены отказываться от своих идей и мировоззрений к достижению намеченной цели, как то: проявление инициативы в строительстве народного хозяйства (вольных общин) с помощью вольных экономических союзов (советов), которые без вмешательства какой-либо политической партии должны разрешать назревшие вопросы среди крестьян и рабочих.
Мы ничуть не отказываемся вести борьбу против засилья бюрократизма и произвола комиссаро-державцев и всякого рода насилия, которое является бременем для трудового народа и язвой для хода и развития революции. Мы по-прежнему будем вести идейную борьбу против насилия государственной власти и нового порабощения трудового народа государством. Ибо для этой борьбы мы, революционные повстанцы, вышли из недр трудового народа, и обязанность наша защищать интересы трудящихся от всякого насилия и гнета, откуда бы оно не исходило».
— Вопиющая безграмотность! Но это ладно, как смогли, так и написали, — сказал Менжинский. — Но обратите внимание! Эту телеграмму подписал не только Махно, но и весь Военный совет Революционной повстанческой армии. Вот так!
Кольцов поднял глаза на Менжинского:
— Махно всегда был человеком амбициозным, — сказал он. — У него совсем недавно под ружьем было более четырех тысяч повстанцев. Сейчас несколько больше. Вероятно, он пытается сохранить свое лицо. С одной стороны, хочет получить от союза с нами какие-то дивиденды, с другой же стороны, боится растерять своих сторонников. В основном это крепкие мужики, зажиточные крестьяне. Махно боится, что кто-то из них может уйти домой, а кто-то переметнется к Врангелю.
— Возможно, вы правы, — согласился Менжинский. — Но зачем тогда ему, едва заключив с нами соглашение, делать не очень корректное и, я бы даже сказал, провокационное в наш адрес заявление? Что это? Самоуверенность?
И Менжинский положил перед Кольцовым еще одну бумагу, вырезку из махновской газеты «Путь к свободе».
— Просмотрите. Больше мучить вас чтением не буду. Сомневаюсь, что это было опубликовано без ведома Махно. А, возможно, он и является автором.
Текст заметки и в самом деле был не совсем дружественным по отношению к советской власти. И появилась она уже после заключения Старобельского соглашения.
— «Вокруг нашего перемирия с Красной армией создались какие-то недоразумения, неточности», — прочитал Кольцов и поднял глаза на Менжинского. — Что, действительно возникло какое-то недопонимание? — спросил он.
— Нет, конечно. Возможно, они там, в своем лагере, все перессорились… Но читайте дальше.
Кольцов снова углубился в чтение:
«Говорят о том, что, мол, Махно раскаялся в своих прежних действиях, признав советскую власть. Какое содержание мы вкладываем в мирное соглашение?
Ясное дело, что никакого идейного контакта и сотрудничества с советской властью или ее признания не могло и не может быть. Мы всегда были и будем идейными непримиримыми врагами партии коммунистов большевиков. Мы никогда не признавали никакую власть, и в данном случае не можем признать и советскую власть.
Так что напоминаем и лишний раз подчеркиваем, что не следует спутывать, злостно или по непониманию, военный контакт, являющийся следствием грозящей революционной опасности, с каким-то переходом, "слиянием и признанием советской власти", что не могло быть и не будет».
— Что, Павел Андреевич? Эти высказывания — тоже для сохранения своего лица? Заблуждаетесь. Махно как был, так и остается врагом советской власти. И, боюсь, он нас ещё подведет. Причем, в самый неподходящий для нас момент. Когда это будет ему выгодно.
Кольцов молчал. Он понимал правоту Менжинского. Во всяком случае, сейчас никто не мог бы сказать, как и когда закончится «медовый месяц» Нестора Махно с советской властью. А что он закончится битьем тарелок, в этом ни у Менжинского, ни у Кольцова сомнений не было.
— Я не зря показал вам эти документы. По крайней мере не будете пребывать в благостной уверенности в нерушимости союза Нестора Махно с советской властью, — Менжинский поднялся со своего стула и, со стаканом уже остывшего чая в руке, вернулся к столу, на котором была расстелена оперативная карта.
Кольцов понял: сейчас Вячеслав Рудольфович наконец расскажет ему, зачем потратил так много времени на эту длинную прелюдию.
— Скажу откровенно, мы не верим Махно. Ни Фрунзе, ни я, никто из командармов, комкоров и комдивов, — медленно, как бы подчеркивая весомость каждого слова, сказал Менжинский. — Но сегодня нам лучше держать его в союзниках. Пройдите сюда!
Кольцов вернулся к столу с картой.
Менжинский продолжил, указывая на неё:
— Выполняя Старобельское соглашение, армия Махно после освобождения Мелитополя, где, кстати, устроила повальные грабежи, передислоцируется вот сюда, к Сивашу. Командование Южфронта выделило Крымской армии Махно сектор между Чонгаром и Перекопом. Штаб махновцев, по всей вероятности, будет вот здесь, во Владимировке. А теперь — о деле.
Менжинский отошел от стола и стал прохаживаться по кабинету. Затем, стоя посреди кабинета, наконец затронул суть дела, ради которого он и пригласил Кольцова к себе.
— Там, в этой самой Повстанческой армии Махно, нам нужен свой глаз. Мы, командование, должны знать все не только о действиях махновцев, но и их намерения, настроения. Если судить по тому, что вы сейчас прочитали, там все не так однозначно. И поэтому мы должны сделать всё, чтобы обезопасить себя от всяких неожиданностей.
— Это понятно, — согласился Кольцов, заранее предполагая, что последует за этими словами.
— Вы, Павел Андреевич, у них там уже побывали, кого-то знаете, даже, кажется, знакомы с самим Нестором Махно?
— Радости мне это знакомство не доставило. — нахмурился Кольцов. Видимо, вспомнил берег речки Волчьей и то, как двое махновцев вели его на расстрел. Утро было красивое, радостное, и совсем не хотелось умирать.
— В связи с тяжелым ранением, он пока не может самостоятельно передвигаться, и поэтому вынужден оставаться в Гуляйполе. Исполнять обязанности Командарма Повстанческой армии он назначил Семена Каретникова.
— Знаю Каретникова. Грамотный командир, и человек довольно разумный, уравновешенный, — сказал Кольцов.
— Вот мы и подумали: вам среди махновцев будет куда легче ориентироваться, чем кому другому. Быстрее поймете, если будет что-то затеваться против нас.
Кольцов грустно улыбнулся:
— Нет, они быстрее меня убьют, чем я начну что-то понимать. — И тут же спросил: — И какой статус мне предлагается?
— С Махно и Каретниковым мы предварительно все обговорили. Вы отправляетесь туда как представитель командующего фронтом с весьма широкими полномочиями.
— Вот уж справедлива пословица «из огня да в полынью», — покачал головой Кольцов. — Я думал, ничего опаснее и труднее, чем операция «Засада» в моей жизни уже больше не будет.
— Сам Махно и его заместитель Задов[11] попросили направить к ним именно вас.
— Меня бы кто спросил: хочу ли я?
— Вот я и спрашиваю, — несколько стушевался Менжинский. — И Михаил Васильевич Фрунзе тоже высказался за то, чтобы обратиться к вам. Но если вы по каким-то причинам…
— Причин нет, — пожал плечами Кольцов и, немного помедлив, спросил: — Когда?
Глава третья
Поезд главнокомандующего Русской армией генерал-лейтенанта Врангеля стоял в Джанкое на запасных путях. Пейзаж за окном был безрадостный. Почти все станционные строения были разрушены или сожжены. Некоторые были второпях восстановлены, но выглядели инвалидами. Пробоины от снарядов залатали камышом и обмазали глиной, окна забили досками, оставив лишь небольшие щели, размером с уцелевшие или найденные среди развалин куски стекла. Делали все наспех, когда уже наступили заморозки: только бы пережить если не в тепле, то хотя бы в затишье холодную и ветреную зиму.
Под стать печальному пейзажу была и погода. К утру мороз отступил, небо заволокло тучами, и пошел унылый моросящий дождик.
Врангель проснулся рано от мокрых всхлипываний за окном вагона. Разминаясь, прошелся по коридору. Чутко спавший денщик, услышав вдали шаги командующего, скрылся в дальнем тамбуре и принялся разжигать керосинку.
Врангель недолго постоял возле купе старшего адъютанта. Будить? Он знал давнюю слабость Михаила Уварова: засыпать сразу, едва голова соприкасалась с подушкой. Если не будить, мог проспать сутки. У аккуратного, исполнительного и четкого адъютанта это был, пожалуй, единственный серьезный недостаток, который раздражал командующего и с которым он тем не менее давно смирился. Он твердо знал, что очень скоро на место сладких снов и молодости к адъютанту придет зрелость, а вместе с нею и тяжелая изнуряющая бессонница. Пусть еще поспит, пока на его плечи не свалились заботы, подобные тем, которые приходится тащить на себе командующему.
Врангель вернулся в кабинет. Торопливо накинув черкеску, подпоясался и мельком глянул на себя в зеркало. Но тут же отвернулся: не понравился сам себе. Под глазами мешки, и без того длинный нос заострился, лицо одутловатое и какое-то жеваное. Всему виной бессонница, которая мучает и изводит его вот уже который месяц.
Вот и вчера вечером к нему с коротким докладом явился генерал Фостиков[12]. Врангеля угнетало вечернее одиночество, и он затеял со своим подчиненным разговор, затянувшийся едва ли не до трех часов утра. И после его ухода Врангель еще долго не мог уснуть, осмысливая полуночный разговор. На сон осталось всего ничего. В шесть часов он вставал, несмотря ни на что. Не нужен был никакой будильник.
Врангель давно знал Фостикова, ценил в нем умного и бесстрашного (получившего десять ранений) воина, и прощал ему некоторую экстравагантность в одежде и порой неуместные и злые суждения. Он относился к Фостикову, как прежде цари относились к своим юродивым. Ему порой дозволялось высказывать то, что иным стоило бы должности.
Фостиков стал увещевать Врангеля попытаться найти способ замириться с большевиками. Аргументы Фостикова были вполне убедительными: в Крыму отсидеться не удастся и дело даже не в холодах. Стужу можно перетерпеть. Но в Крыму собралось несметное число людей, и прокормить их им не по силам. Начнется голод, грабежи. Боеспособность армии опустится до нуля.
— Крым — крепость, Михаил Архипович! А зимы здесь, на юге, короткие. Авось с Божьей помощью…
— Слово красивое: крепость. А если вспомнить? Испокон веку редко какая крепость выдерживала осаду. И наша не устоит, — уверенно сказал Фостиков и, немного помолчав, добавил: — Люди от нас уходят. За последнюю неделю из моего черноморско-кубанского отряда ушли больше двухсот человек.
— Причины? — поинтересовался Врангель.
— Причины разные. Кто устал от войны, уж очень длинной она получилась. Кто зимы испугался, кто болен. Но больше всего тех, кто в нас разочаровался. Мои кубанцы так мне и говорят: «Ты, Михайла, поближе до Врангеля, шепни ему, пущай мужика не обижает. Мужик — кормилец. Если он обидится, власть не устоит». Похоже, обиделся мужик.
— Вопрос не простой, — виновато сказал Врангель. — Теперь понимаю, земельный вопрос надо было решительнее решать.
— Поздно, ваше превосходительство, — тяжело вздохнул Фостиков. — Потому, что нет у нас уже земли, нечего раздавать. И, видать, никогда не будет.
— Ты тоже не веришь? — Врангель вперился тяжёлым взглядом в Фостикова. Впрочем, он знал, что Фостикова ни суровым взглядом, ни бранью не испугаешь. Когда-то, в девятнадцатом году, он едва ли не в одиночку поднял на дыбы против Советов чуть ли не всю Кубань. И слова, которые он сейчас произносил, чувствовалось, выстраданные, тяжелые.
— Эх, Петр Николаевич! Уж сколько лет вместе с тобой. Верил. И сейчас хочу верить. Изо всей силы хочу. А почему-то не очень получается… — И, вспомнив что-то важное, Фостиков добавил: — И что интересно: уходят не тайком, не ночью.
— Кто? — не сразу понял Врангель.
— Дезертиры… Как их еще называть? Сговорятся человек десять — пятнадцать односельчан, попрощаются с остальными, которые остаются — и уходят. Днем, без страха. И заметь, никто им в спину не стреляет, предателями не обзывают. Видать, многие о том же самом думают, только еще не решились. Кто большевиков боится, кто зимы, кого кровавые грехи к ним не пускают.
— Вредные слова говоришь, Мишка! Не достойные российского генерала. Если бы хорошо не знал тебя, приказал бы расстрелять.
— Правдивые слова говорю, выстраданные. Врать не умею, льстить тоже. И ты это знаешь, — спокойным голосом ответил Фостиков. — Есть и преданные нам люди. К сожалению, их все меньше. Они будут с нами до конца. Но мы с тобой, Петр Николаевич, должны предвидеть любой конец. И сделать все, чтобы он не был слишком печальным ни для них, ни для нас. Во время бессонницы я все чаще об этом размышляю.
Врангелю не нравилось все, что говорил Фостиков. Но и не выслушать его размышления он не мог. Фостиков — один из тех немногих, кому он всецело доверял, а разочарование, увы, поселилось не только в его душе. Врангель и сам стал все чаще подумывать о том, что приближается печальный конец. Все события последнего времени были против его армии. Замирение Польши с большевиками, отказ Симона Петлюры от сотрудничества с ним, признание французами и англичанами «де-факто» Советской России и в связи с этим уменьшение союзниками военных поставок. Наконец, последнее поражение на Каховском плацдарме и почти полное вытеснение его армии с Правобережья Днепра, а потом и из Северной Таврии.
После ухода Фостикова Врангель еще долго ворочался на своей жесткой постели, продолжая мысленно с ним спорить. Неправда, в Крыму можно до весны отсидеться, а с наступлением тепла, укрепив за зиму армию, снова выступить против большевиков. В разоренной России за время длительной зимы большевики порядком себя дискредитируют. Весна всегда приносит надежду на лучшее. Многие его сторонники вновь потянутся к нему. Верил он и в то, что союзники не оставят его в беде. И вовсе не из сочувствия. Они просто не смогут отказаться от тех финансовых долгов, гарантом которых он является. Большевики не вернут же им ни копейки.
Но как пережить эту блокадную зиму? На просьбы о помощи продовольствием ни Англия, ни Франция пока не ответили. А если откажут? В Крыму вместе с семьями, которые приехали сюда с отступающей армией, скопилось около шестисот тысяч его сторонников. Они надеются только на него. Да коренное население! Все вместе это составляет примерно около миллиона. Прав Фостиков: без посторонней помощи такое количество людей ему не прокормить. Значит, уже к середине зимы начнется голод, а следом — грабежи, убийства. Как итог: его предадут даже самые верные соратники.
Не раз и не два ему приходили мысли о бегстве из Крыма. Большей частью они были спонтанные. Но сейчас, после разговора с Фостиковым, он стал все больше склоняться к этому.
Наивный Фостиков! Под каким предлогом он, Врангель, станет просить у большевиков перемирие? Ответ он знает заранее: безоговорочная капитуляция.
Избежать позора можно лишь в одном случае: покинуть месте с армией Крым. Во всяком случае, к этому надо быть готовым. Распоряжения о подготовке к эвакуации надо будет отдать в ближайшие дни. И не следует медлить. Лучше сделать это сегодня. Да-да, именно сегодня! Причем постараться, чтобы это распоряжение не стало достоянием гласности. Иначе решимость покинет даже тех, кто был готов сражаться до конца. Армия будет побеждена даже раньше, чем покинет крымские берега.
В тишине коридора гулко прозвучали уверенные шаги, прозвенели шпоры: это шел к нему на доклад начальник штаба Шатилов. Насколько помнил Врангель, он в последние годы служил всё больше в штабах и не имел никакого отношения к кавалерии. Был начальником штаба у Деникина, уволен из армии, в Константинополе переждал все армейские преобразования, и вновь, уже по приглашению Врангеля, вернулся начальником штаба. За годы их знакомства Врангель ни разу не видел Шатилова в седле. Но сколько он помнил, Шатилов не снимал с сапог шпоры, и они у него были самые звонкие, самые голосистые. По этому звону Врангель даже на улице издали узнавал: где-то рядом находится Шатилов.
Начальник штаба вошел без стука. У них с Врангелем был уговор: если занавески в кабинете командующего были раздвинуты, он бодрствует и можно входить без предупреждения.
— Доброе утро, Петр Николаевич! — бодро поздоровался Шатилов.
— А что, у вас есть сведения, что оно доброе? — с легкой иронией в голосе спросил командующий.
— Утро всегда приносит надежды. С позиций приехали генералы Кутепов и Абрамов[13]. Я даже не успел их ни о чем расспросить.
Внизу возле входа в салон-вагон он услышал голоса. Узнал характерный басок генерала Кутепова и хриплый сварливый баритон командующего Второй армией генерала Абрамова.
«Чтобы покинуть позиции в такую рань, надобны веские причины», — подумал Врангель.
— Что же они там топчутся? — спросил Врангель. — Были бы вести хорошие, они бы и среди ночи меня разбудили.
Шатилов открыл дверь в коридор, и в кабинет один за другим вошли Кутепов и Абрамов. По всему было видно, они тоже провели бессонную ночь. Одежда у обоих была измята, сапоги в грязи, и оба резко пахли древесным дымом.
Потянув носом воздух, Врангель спросил:
— Что это вы, на солдатскую махорку перешли?
— Кострами обогреваемся, ваше превосходительство. Ночь была клятая, морозная. В окопе огонь не разведешь, дымом задавит. В землянке и того хуже.
Врангель обрадовался появлению Кутепова. На его войска была возложена оборона всего Крымского перешейка — от Азовского моря и до Каркинитского залива на Черном. Больше суток Врангель не мог связаться с Кутеповым: то отсутствовала связь, то его не могли нигде отыскать. Что делается на позициях, Врангель знал по отрывочным докладам комдивов, с которыми удавалось связаться. Но целостная картина никак не складывалась, и Врангель надеялся, что ее сейчас прояснит Кутепов.
— Солдаты находят на местности впадины, там разводят костры, греются, — продолжил Кутепов. — Хотя… ночью начала донимать большевистская артиллерия.
— Вот как? — удивленно вскинулся Врангель.
— Стреляют издалека и не точно.
Прокопченные дымными солдатскими кострами, оба генерала бесспорно знали обстановку на позициях. Но по извечной привычке, если все было хорошо, они сразу же подробно и многословно докладывали. Если же успехов не наблюдалось, опасаясь начальственного гнева, сперва они долго жаловались на отвратительную погоду — лютые холода или невыносимую жару, на плохую одежду, несвоевременный подвоз боеприпасов, словом, на все, что могло несколько приглушить начальственное раздражение, и лишь потом переходили к изложению обстановки.
Врангель хорошо знал эту привычку своих подчиненных и понял, что ничего хорошего они ему не скажут. Поэтому сразу же прервал Кутепова и в упор спросил о главном:
— Что на позициях? И, пожалуйста, без всяких утешительных словес и оправданий. Точно и безжалостно.
Кутепов прошел к висевшей на стене карте, поискал взглядом на привычном месте указку, но ее там не оказалось. Тогда он извлек из одного из своих бесчисленных карманов «вечное перо» и, водя им над картой, коротко и печально — так читают некрологи — доложил:
— За истекшие сутки большевики ещё больше активизировались. Большевистская Вторая конная армия попыталась взять село Рождественское, но конница полковника Назарова отбила его и нанесла красным ощутимый фланговый удар. К сожалению, та же Вторая конная ночью попыталась взять Геническ и оседлать путь к Чонгарской переправе. И здесь тоже пока отбились.
Кутепов замолчал, ожидая, как отреагирует на это сообщение главнокомандующий. На лице Врангеля лишь заметнее проступили желваки, он коротко попросил:
— Продолжайте.
— Первая конная захватила Асканию-Нову, и сейчас ведет бои в районе Громовки.
«Громовка — это уже угроза правой стороне Крымского перешейка, Перекопу. Ещё день-два, и большевики полностью займут позиции вдоль всего перешейка. Не успевшим уйти из Северной Таврии в Крым войскам придется к переправам пробиваться с боями», — подумал Врангель. Но что-то не складывалось в его голове. Откуда вдруг здесь взялась большевистская Первая конная?
— По моим данным, Первая конная сейчас находится в районе Апостолово, — мрачно не согласился Врангель. — Движется к Бериславу…
— К сожалению, ваши сведения на сутки устарели, — извиняющимся тоном сказал Кутепов. — Сегодня на рассвете Первая конная Буденного вышла на нашу оборону в районе Громовки. Её разъезды были замечены в районе Орлянска и Михайловки.
Кутепов замолчал. Он вдруг понял, что более безрадостного доклада командующий, вероятно, уже давно не слышал. Но держался спокойно, в гнев не впадал. «Должно быть, уже смирился с потерей Северной Таврии и все свои надежды возлагает теперь только на Крым», — подумал Кутепов.
— Что ещё?
— По вашей директиве Шестая армия и Донской корпус покинули Мелитополь и движутся сюда, к Чонгару. Прикрывают фланги марковцы, — уныло продолжал Кутепов, но тут его вдруг осенило: — Я, собственно, хотел с вами посоветоваться, Петр Николаевич.
— Слушаю.
— По моим расчетам, сегодня Шестая армия и Донской корпус должны выйти в район Геническа. Не сочтете ли целесообразным, прежде чем они переправятся через Сиваш и займут оборону на крымской стороне, бросить их вдоль Крымского перешейка?
— Что это нам даст? — не сразу понял Врангель смысл предложения.
Кутепов вновь взмахнул над картой «вечным пером»:
— Я боюсь, что большевики задумали захлопнуть перед нашими отступающими войсками все дороги в Крым, а затем рассеять их по Северной Таврии, расчленить на мелкие группы и без труда уничтожить. Нам надо сколь возможно удерживать переправы и броды через Сиваш и сделать все для того, чтобы все наши войска с минимальными потерями ушли в Крым. Это вполне согласуется с вашей директивой.
— Ну, положим, это ваша интерпретация моей директивы, — грустно улыбнулся Врангель. — То, что сейчас предложили вы, это все само собою разумеющееся. Все наши войска должны собраться в Крыму, и мы всеми силами должны этому способствовать. В директиве же я лишь указал на необходимость укрепления Крымского перешейка. Крым должен стать нашим русским Верденом. И всё же…
Продолжать Врангель не стал. Слова были уже не нужны.
Готовя директиву, Врангель пересмотрел много справочников но Крыму. Один факт его особенно заинтересовал.
В середине девятнадцатого века известный французский географ Жан Реклю писал о том, что если Крымский перешеек надежно перекрыть, полуостров превратится в настоящую крепость. Ещё в тринадцатом столетии турки и татары назвали его Крымом. И, как утверждал немецкий учёный-путешественник Иоганн Форстер, это слово происходит от монгольского керм, что означает — стена.
Стена-то стена! Но ведь и стены подвластны не только времени, но и разрушительным действиям человека. Поверив в неприступность Крыма, Врангель в своей директиве допустил, как несколько позже и сам убедился, непоправимую ошибку. Едва только распространили его директиву, в войсках вдруг исчез наступательный дух, они перешли к оборонительной тактике. Стремились торопливо, избегая потерь, отступать. Прилагали все силы к тому, чтобы побыстрее, пока Красная армия ещё не блокировала все переправы, покинуть Северную Таврию, и спрятаться за крымской стеной.
Яростных, бешеных атак, чтобы искры из сабель, кровь за кровь, больше уже не было. Солдаты Врангеля уверовали в крымский Верден.
Врангель же начинал понимать: если падет Крымский перешеек, Крым устоит не долго. Оставалось надеяться только на чудо, но быть готовым ко всему.
* * *
В полдень Врангель решил проехать к Чонгару и своими глазами посмотреть, как укрепляются передовые позиции.
Дождь прекратился, ветер разгонял облака и, судя по всему, к ночи землю опять прихватит мороз.
Зима и здесь, на юге, наступила на редкость рано и внезапно, без всяких осенних предупреждений в виде легких заморозков и бабьего лета. В октябре вдруг ударили затяжные морозы, и, чего не помнят старожилы, даже берега солёного Сиваша стало затягивать коркой льда.
Чонгар, где ещё ранней осенью приступили к сооружению береговых укреплений, находился совсем недалеко от Джанкоя и был связан с ним железной дорогой. Но Шатилов стал категорически возражать против поездки туда поездом. На той стороне Сиваша, неподалеку от Сальково, уже то и дело завязывались стычки с красными. Пока ещё мелкие, кратковременные. Но иногда с той стороны долетали шальные пули, а то и снаряды.
Когда садились в старенький автомобиль «Остин», из салон-вагона выбежал Михаил Уваров с теплым стеганым бешметом в руках:
— Холодно, Петр Николаевич! — и он заботливо помог Врангелю поддеть под черкеску бешмет.
Врангель обратил внимание, что адъютант оделся тепло и приготовился его сопровождать.
— Нет-нет, Михаил Андреевич, вам с нами не надо, — сказал он. — Оставайтесь здесь и свяжитесь с генералом Бруссо. Я завтра буду в Севастополе и хотел бы с ним встретиться.
— Только с ним? Или пригласить также адмирала Дюмениля?[14]
— Хорошо, пригласите обоих.
Усаживаясь в автомобиль, Врангель одобрительно улыбнулся своему адъютанту. «У этого юноши недюжинные аналитические способности, — подумал он. — Уваров уже знает то, о чем я ещё ни разу ни с кем не говорил, кроме, разве что, с руководителем с французской военной миссии генералом Бруссо. И то — так, вскользь. Но, вероятно, мысль об эвакуации армии из Крыма уже начинает витать в воздухе».
Уваров и в самом деле догадывался, что речь с Бруссо может пойти о возможной эвакуации войск из Крыма, и без адмирала Дюмениля, руководящего всем прибывающим в крымские порты флотом, невозможно будет решить никакие практические вопросы.
Вместе с Врангелем в поездку отправились Кутепов и Шатилов.
Дорога на Таганаш была сильно разбита и «остин», увязая в грязи, ехал медленно, как по пахоте. Вокруг расстилалась серая равнина, по которой брели навстречу такие же серые, измученные люди.
Увидев несколько крытых повозок с красными крестами, Врангель попросил остановиться.
С передней повозки тяжело спустился пожилой медбрат или фельдшер в полушубке, поверх которого был надет испачканный засохшей кровью халат. Увидев перед собой трех генералов, лекарь как-то неуклюже, совсем не по-уставному вытянулся «во фрунт», одной рукой придерживая за уздцы лошадей, чтобы они ненароком не тронулись.
— Откуда? — спросил Кутепов.
— Из-под Сальково. Вчерась с вечера выехали, — доложил лекарь и тут же торопливо добавил: — Уже почти полсуток в дороге. Бинтов нет, лекарствиев нет… И пропитания тоже. Двое преставились…
— Что в Сальково?
— Народу, как на крестном ходе. В Крым пробиваются. Нас, спасибо, через мост пустили без очереди, — лекарь обвел воспаленными глазами генералов и хрипло повторил: — Поистине, крестный ход.
Надежда получить от генералов хоть какую-то помощь или услышать дельный начальственный совет у лекаря быстро улетучилась, и он снова неуклюже забрался в свою повозку. Дождался, когда отъехал «остин» и тоже велел возчику трогать. Под копытами зачавкала грязь.
— Что там, браток? Начальствие, нет? — поинтересовался возчик.
— Генералы…
— И что они?
— Хорошие новости… Скоро Джанкой. Там, в госпитале, натоплено и чистые простыни, — и, подумав немного, добавил: — Сестричек до кажного ранетого приставляют.
Санитарные повозки, покачиваясь на ухабах, медленно тащились по грязи. Лекарь задремал…
«Остин» двигался к передовым позициям. Водителю приходилось часто клаксонить и протискиваться сквозь густой людской поток, состоявший из бегущих от линии фронта беженцев. В основном это были пешие, с тачками, груженными узлами и чемоданами, из-за которых выглядывали любопытные детские глаза. Эти ехали «в никуда» с надеждой где-нибудь приютиться. Южно-украинские пожилые помещики возвращались на загруженных доверху арбах и телегах в свои неприспособленные для зимнего проживании крымские дачи. Промелькнул мимо автомобиля даже фаэтон, гордость какого-то музея.
Возле самого Таганаша «остин» остановился. Дорога здесь раздваивалась. Кто-то из беженцев сворачивал вправо, в надежде затеряться в маленьких крымских селениях, но большинство держало путь прямо, на Джанкой. Здесь можно было уцепиться за какой-нибудь поезд и уехать на нём подальше от этого кошмара.
Генералы высмотрели в толпе испачканных грязью солдат, всё ещё бодрых, весёлых, вероятно, новобранцев, недавних гимназистов. Винтовки они несли на плечах, закинув на них руки.
Присмотревшись к автомобилю, они сняли винтовки с плеч, приняли подобающий солдатам вид.
— Чьи будете? — как-то по-доброму, по-отечески спросил их Кутепов. И этот тон среди ругани и криков обезоружил вчерашних гимназистов. Они на минуту забыли, что являются солдатами, и один из них, видимо, старший по возрасту или же просто душа компании, стал многословно отвечать.
— Я — Сахновский, этот вот — Баранов, тот рыжий — Шагандин. Мы из Мелитополя, из одной гимназии…
— Постой! — остановил гимназиста Кутепов. — Я спросил: чьи вы? То есть из какой воинской части? Кто командир? Куда направляетесь?
— Так нам ничего не сказали, — вступил в разговор ещё один из новобранцев. — Велели прийти всем в гимназию. Там обмундировали, выдали винтовки и велели самостоятельно добираться до Геническа. Добрались. Никто ничего не знает. Один дяденька посоветовал двигаться к Сальково. Пришли… И опять оказались никому не нужны. Теперь идем в Джанкой, сказали, там нас определят.
— Кто сказал?
— Фамилию не назвал.
— Да чего там, — возразил Сахновский. — Вроде генерал Консервов. Что-то в этом роде.
— Может, генерал Канцеров?
— Похоже, — отозвались несколько гимназистов.
— Так вот! — Кутепов обвел их строгим взглядом. — Я, генерал Кутепов, отменяю приказ генерала Канцерова. Следуйте обратно в Чонгар, найдете там кого-нибудь из командиров Третьего Донского корпуса, скажете, что генерал Кутепов велел зачислить вас в корпус. Поняли?
— Чего ж тут непонятного? — ответил за всех Сахновский.
Кутепов нахмурился:
— Скажете там, я велел обучить вас воинским порядкам и дисциплине.
— Скажем, — не очень дружно ответили новобранцы.
— И окапывайтесь там получше. Готовьтесь к обороне.
— Понятно, чего там… Нам показывали, как окопы рыть. Ничего хитрого.
— Правильно рассуждаете, — улыбнулся сидящий рядом с Кутеповым Врангель. — Армией командовать — тоже не велика хитрость. Надо только знать ответы на три коротких вопроса: когда, куда и зачем?
Они поняли, что это шутка, заулыбались.
— Хочу ещё вас спросить, — сказал Кутепов, и они обратили на него свои взгляды. — Вы ведь только из Мелитополя? Что там?
— А чего в Мелитополе! Всё, как было. Рестораны, магазины, синематограф. Ничего такого, — за всех ответил Сахновский.
— Ну а что в народе говорят: красные далеко?
— Откуда им там взяться! Говорят, где-то за Днепром. Не то в Александровске, не то в Екатеринославе.
— Спасибо, что разъяснили, — с легкой насмешкой поблагодарил их Кутепов. Он-то знал, что бои ведутся уже на подступах к Мелитополю. — Ну, ступайте!
Новобранцы развернулись и так же весело и бодро, как шли сюда, пошли обратно, к Чонгару.
Обгоняя их, Кутепов обернулся, сказал им:
— Что вы, как овцы бредете! — и отыскал взглядом самого активного среди них, — Назначаю командиром вот, как вас… Сахновский?
— Так точно.
— Построите всех, и дружно! Можно, с песней!
На одном из многочисленных поворотов дороги Кутепов обернулся. Новобранцы уже выстроились по трое и, кажется, даже запели. А, может, ему только показалось, будто ветер донес до боли знакомое: «Соловей, соловей, пташечка!…»
Молчаливая толпа, двигавшаяся им навстречу, обтекала «остин», как вода камень. Люди с каким-то тупым равнодушием месили грязь.
Среди этого чавканья сотен ног Врангель вдруг услышал необычный посторонний звук, словно где-то там, далеко впереди, катили большую дубовую бочку, наполненную камнями, и они, перекатываясь, глухо отзывались на движение. И ещё это было похоже на поздний осенний гром…
— Наши! Десятидюймовки! — пояснил Кутепов. — Где-то за Сальково.
Оглашая дорогу клаксоном, они медленно пробирались сквозь встречную толпу. В Таганаше не остановились. Лишь когда вдали замаячили разрушенные дома Чонгара, Кутепов сказал Врангелю:
— Дальше, ваше превосходительство, на автомобиле, пожалуй, не стоит.
Они загнали «остин» в покинутый хозяевами, усеянный щебнем и обломками кирпича дворик, где от дома осталась только одна стена. Она загораживала автомобиль со стороны Сиваша.
Вероятно, Кутепов уже был кем-то заранее предупрежден (возможно, Шатиловым) о том, что командующий собирается проверить оборонительную линию, и был к этому готов. Едва они вышли из автомобиля, как перед ними появились несколько офицеров-казаков. Они коротко представились Врангелю и исчезли за той единственной стеной дома. Но тут же появились, ведя под уздцы трех уже оседланных вороных коней. Кони были справные, ухоженные, их, вероятно, взяли у кого-то из казаков взаймы.
Врангель обрадовался появлению коней.
— С лета не сидел в седле, — сказал он и ласково потрепал по холке подведенного к нему чистого, лоснящегося на холодном полуденном солнце коня. Как опытный наездник, он проверил стремена, слегка опустив их, подогнав под свой рост и привычно, даже с некоторым кавалерийским шиком, взлетел в седло. Кругами прогарцевал по подворью, ожидая, когда и остальные его спутники усядутся на коней.
Первым с подворья выехал Кутепов, как бы подчеркивая, что принял на себя роль сопровождающего. Следом поскакали Врангель и Шатилов. Чуть отстав, их сопровождали четыре казачьих офицера с короткими кавалерийскими карабинами за плечами.
Миновав неуютный и какой-то серый, безрадостный городок, глядящий вокруг пустыми глазницами окон, они выехали на грязную дорогу, по которой всё так же сплошным потоком двигались вперемешку цивильные и военные. Цивильные бежали от войны, военные переправлялись через Сиваш, чтобы где-то здесь, под Чонгаром, занять свое место в окопах. Воздух здесь был напоен запахом гниющих водорослей и близкими солеными испарениями Сиваша.
Свернув с дороги, они вскоре выехали на невысокий пригорок. Отсюда в бинокль были хорошо видны окрестные дали: противоположный берег узкого здесь Сиваша и дамба, а также Чонгарский мост, сожженный Слащёвым[15] летом при отступлении, но наскоро подремонтированный. И по мосту, и по дамбе беспрерывным потоком, днем и ночью, двигались люди. А ещё дальше, за горизонтом, то справа, то слева от Сальково то и дело раздавались глухие военные громы.
Глядя на бесконечный людской поток, двигавшийся сюда, в Крым, Врангель ещё раз подумал: без помощи союзников прокормить такое количество людей они будут не в состоянии. Через месяц-два начнутся грабежи и всё, что сопутствует голоду. Голодная армия не сможет остановить этот шабаш, потому что и сама примет в нем участие. Нет ничего страшнее голодных людей, сбившихся в голодную стаю. Останется только одно: эвакуация.
Размышляя об исходе из Крыма, Врангель чисто теоретически прикидывал: имевшихся кораблей ему хватит, чтобы вывезти семьдесят-сто тысяч своих солдат. Сейчас, глядя на эту извивавшуюся по дороге, бесконечную толпу, он иными глазами увидел эту проблему. Конечно, не каждый солдат или офицер захочет покинуть Россию. Оставят её лишь те, кто серьезно провинился перед большевиками, у кого на руках их кровь. Таких наберется тысяч сто, может, чуть больше. Но каждый из тех, кто вознамерится покинуть Крым, не оставит большевикам свою семью: жен, детей, престарелых родителей. И он, Врангель, не сможет отказать им в этом. Он даже не сможет от беспомощности застрелиться, потому что и в этом случае он останется в их памяти предателем. Значит, эвакуировать из Крыма надо будет примерно триста тысяч человек. Где взять столько судов?… Нет-нет, это невозможно!
— Вы что-то сказали? — удивленно спросил стоявший рядом с Врангелем Кутепов.
— Ничего…
— Мне послышалось, вы сказали: невозможно. Я тоже об этом подумал: мы не имеем права сдать Сальково, прежде чем последний наш солдат не переправится в Крым.
— Да, конечно, — рассеянно согласился Врангель и подумал, что вся надежда только на союзников. Они могут помочь и судами, и продовольствием. Но какую цену они за это запросят?
Здесь, на холме, их отыскал генерал Макеев, руководивший возведением всех оборонительных укреплений. Он подъехал в сопровождении двух офицеров на небольших выносливых маштаках[16]. Это были сотрудники Макеева, инженеры-фортификаторы, непосредственно руководившие возведением оборонных сооружений.
— Чем порадуете? — спросил Врангель.
— Работы ведутся денно и нощно, — начал Макеев.
— Вы что, из священников? — насупился Врангель, ему не понравился выспренний стиль, принятый Макеевым.
— Никак нет. Окончил Санкт-Петербургскую военную академию, фортификационное отделение.
— Продолжайте.
— Работы ведутся круглосуточно, — поправился Макеев. — Извольте обратить внимание на левый склон.
Врангель посмотрел в бинокль. Отметил проволочное заграждение, протянувшегося вдоль крутого обрыва по побережью Сиваша, и ещё два ряда «колючки» — по склону. Выше располагались пулемётные гнезда.
— В иных местах до пяти рядов заграждений. И пулемёты. И так почти до самого Перекопа.
— Почему «почти»? — спросил Врангель.
— Ещё месяц назад, когда мы приступали к работам, я направил в штаб две докладные по поводу стройматериалов. До меня, насколько я знаю, к вам обращался по этому же поводу генерал Юзефович. Местность безлесная, и бревно и доска — на вес золота. А их доставляют нам в аптекарских дозах.
— Что? Лесом тоже должен заниматься командующий? — вскипел Врангель.
Кутепов, принявший этот гневный упрек на себя, тихо сказал:
— К сожалению, Северная Таврия тоже безлесная. Приходится обходиться своими силами.
— Каким образом?
— Сейчас я вам покажу.
Они проехали вдоль обрыва. Крохотные деревушки, фольварки немцев колонистов, сколько видел взгляд, были разрушены. Сиротливо стояли одни лишь стены. У иных домов копошились люди, то ли растаскивали ещё не до конца разворованное, то ли пытались превратить развалины в некое подобие жилья, чтобы в нем пережить зиму.
— Отменно постарались, — упрекнул Кутепова Врангель.
— А что было делать, ваше превосходительство? — вступился за Кутепова Макеев. — Голая степь, ни деревца, ни кустика. С кирпичом как-то обходимся. А вот лес необходим для обустройства наблюдательных пунктов, землянок. Больной, обмороженный солдат не сможет воевать. Вынужденно берем — от безвыходности. На благое дело.
— Разве что на благое, — подобревшим голосом сказал Врангель. — Будем надеяться, Бог нас простит.
Они проехали вдоль берега ещё несколько верст, и Врангеля повсюду радовали едва не в полный рост вырытые окопы, обустроенные пулеметные гнезда и землянки. Кое-где солдаты весело подчищали окопы, обживали землянки, маскировали их.
Сопровождавший Врангеля Шатилов вдруг резко дернулся и едва не упал с коня. После чего удивленно посмотрел на Кутепова:
— Что это, Александр Павлович? Шмель — зимой? Никогда не слыхал про такое.
— Это — пуля. Обычная пуля на излете, — спокойно пояснил Кутепов. — Она уже не свистит, а словно бы от бессилья жужжит. Безвредная пуля.
— Однако! — сокрушенно покачал головой Шатилов. Коротко взглянув на часы, твердо сказал: — Скоро начнет темнеть. Пора бы и домой.
— Да, пожалуй! — согласился Врангель и обвел всех взором. — Благодарю… Доволен… Многое сделано, многое ещё предстоит сделать. Но Крым и ныне уже для большевиков неприступен.
В Джанкой они вернулись уже в глубоких сумерках. По дороге все ещё месила грязь бесконечная вереница беженцев, надеявшихся спастись за надежными стенами Крыма.
Глава четвертая
Едва уставший с дороги Врангель вошел в свой салон-вагон, как к нему тут же явился старший адъютант Михаил Уваров.
— Ваше превосходительство, генерала Бруссо и адмирала Дюмениля я известил о вашем желании встретиться с ними. Они сейчас в Севастополе и готовы навестить вас в любое удобное для вас время, — доложил он. — Кроме того, сюда, в Джанкой, прибыл генерал Слащев. Просит о встрече.
— Как он здесь оказался? — недовольным голосом спросил Врангель.
— Я так понял, он здесь в своем вагоне. Вероятно, прицепил его к попутному поезду. Это же Слащев!
— Что ему надо?
— Подробности не доложил. Сказал, что хочет встретиться с вами по неотложному делу.
— Что ещё?
— Вас ожидают газетчики, двое иностранных и четверо наших.
— Какие газеты?
— Иностранцы — из английской «Таймс» и французской «Матэн». Наши представляют «Русское слово», «Крымский вестник», «Только факты» и, кажется, «День». Я сказал им, что вы сегодня же отбываете в Севастополь. Они просят уделить хотя бы пять минут.
Разговаривая с Уваровым, Врангель одновременно после дороги приводил себя в порядок: умылся, переодел более легкую черкеску. Взглянул на себя в зеркало и решительно сказал:
— Слащева не принимать. Опять с какими-нибудь сумасбродными проектами пожаловал. Журналистов — тоже.
— Слушаюсь, ваше превосходительство.
Врангель некоторое время в задумчивости постоял посредине своего жилого купе, затем обратился к Уварову, собиравшемуся уже уходить:
— Говорите, два иностранных журналиста?…
— Да. Давние ваши знакомые, Колен и Жапризо. Вполне сносно говорят по-русски.
— Да-да, припоминаю… Журналистов, пожалуй, надобно принять.
— Может быть, только иностранных? — подсказал Михаил Уваров.
— Лучше уж всех. Они — народ обидчивый. Могут потом такое написать, за год не отмоешься.
— Журналисты вас любят, Петр Николаевич, — польстил командующему Уваров.
— Ах, Микки! Они любят успешных генералов. Но едва ты выпустишь из рук удачу, сразу же начинают усердно тебя уничтожать. А она, Микки, кажется, покидает нас. Поэтому нам не стоит с ними ссориться.
— Так приглашать? — снова спросил Уваров.
— Вначале все же приму Слащева. — И, словно оправдываясь перед Уваровым за свои колебания, Врангель добавил: — В прежние времена его иногда посещали дельные мысли. Может, и на этот раз скажет хоть что-нибудь заслуживающее внимания. Да и не встречался я с ним давно. Нехорошо…
Спустя минут пять в двери кабинета командующего возник странный человек, облаченный в гусарский доломан, поверх которого был наброшен расшитый шнурами красный ментик, отороченный пушистым белым мехом. Если бы не обычная офицерская фуражка, можно было подумать, что этот гусар заблудился во времени и явился сюда из прошлого столетия. Или актер, наряженный гусаром, перед выходом на сцену, случайно перепутал двери.
Врангель улыбнулся, узнав его. Слащев и прежде славился своими экстравагантными выходками. Врангелю докладывали, что еще совсем недавно он на Каховском плацдарме в этом эксцентрическом одеянии, сопровождаемый оркестром, несколько раз ходил в атаку и ни разу его не задела большевистская пуля. Врангель помнил, что Слащев внес самую большую лепту в прошлогоднюю оборону Крыма.
Было время, Врангель восторгался Слащевым и даже по-своему любил его за храбрость, бесшабашность и эксцентричность. Но в последние месяцы со Слащевым стали происходить странные перемены не в лучшую сторону. До Врангеля дошли слухи, что он пристрастился к кокаину, стал высокомерен и нетерпим к критике. Потом Врангель и сам убедился в этом. На одном из совещаний Слащев стал задираться с командирами дивизий, и дело едва не дошло до драки.
А в последний раз (это случилось в начале августа) он и вовсе вступил с Врангелем в яростный спор из-за упрека, сделанного Слащеву командующим, по поводу якобы проигранной им Каховской операции. Слащев не согласился с Врангелем и наговорил ему много обидных слов, упрекнул в том, что барон окружает себя льстецами и не любит популярных в армии офицеров, намеренно отдаляя их от себя. В запале спора Слащев решил припугнуть командующего. Он взял с его стола чистый лист бумаги и прямо там же, стоя у стола, написал рапорт об отставке: «Ввиду неудовольствия исходом операций, высказанной вашим превосходительством, ходатайствую об отчислении меня от должности и увольнения в отставку. Слащев».
Врангель тогда не принял его отставку. Но через несколько дней он все же был вынужден подписать приказ по армии номер 3505. В нем говорилось:
«В настоящей братоубийственной воине среди позора и ужаса измен, среди трусости и корыстолюбия особенную гордость для каждого русского представляют имена честных и стойких русских людей, среди которых и имя генерала Слащева.
С горстью героев он в свое время отстоял пядь русской земли Крым и отдал этому все свои силы и здоровье, и ныне вынужден на время отойти на покой. Дабы навеки связать имя генерала Слащева со славной страницей настоящей великой борьбы, генералу Слащеву впредь именоваться Слащев-Крымский».
О поражении под Каховкой Врангель решил больше Слащеву не напоминать. Случилось — и случилось. Не всегда полководцы стяжают только славу.
С тех пор Врангель со Слащевым не виделся, хотя командующему нет-нет и докладывали о его кипучей деятельности. Время от времени Слащев выдвигал различные сумасбродные прожекты.
Не так давно по Ставке ходила его докладная записка с предложением высадить в районах Херсона и Одессы мощный десант, воссоздать в этих районах вольное казачество и установить там демократическую правовую власть на общероссийских федеративных основаниях — в противовес самостийным силам. Иначе население Украины может поддаться на агитацию Петлюры и временно пойти за ним. А это грозит Украине дальнейшим кровопролитием.
И последняя идея Слащева. Он предлагал способ, как ликвидировать в крымских горах отряды зеленых. Для этого необходимо сплотить на национальной основе татарское население и организовать в Крыму татарские войска, наподобие кубанских. Татарское население перестанет поддерживать красных партизан продуктами, а без продуктов они существовать не смогут.
Врангель с легкой улыбкой долго смотрел на стоявшего в дверном проеме Слащева, затем торопливо пересек кабинет и обнял его. Слащев, давно ждавший этой встречи, растроганно прислонил голову к плечу командующего и подавил в себе глубокий вздох.
— Ну, полноте, Яков Александрович! — поглаживая по спине, Врангель стал добродушно успокаивать взволнованного опального генерала: — Вижу, лечение пошло тебе на пользу. Выглядишь, как новобранец.
— Все верно, ваше превосходительство! Я здоров, возраст призывной, но прожигаю жизнь в безделье. Если не найдёте мне подходящую моему опыту должность, уйду на фронт простым солдатом, — обиженно сказал Слащёв.
— Зачем же такие крайности! Ты, Яков, нужен мне генерал-лейтенантом, — подводя Слащева к дивану и усаживая, сказал Врангель.— Но скажи, мой друг, к чему этот твой маскарад?
— К цивильному, ваше превосходительство, не привык, а в военном, в связи с отстранением меня от должности, ходить не могу. А эта форма мне нравится, она еще пахнет дымом былых славных сражений и обязывает блюсти честь и достоинство.
— Ты, Яша, не пробовал писать стихи? — с едва заметной иронией, но ласково, как у больного, спросил Врангель. — Уверен, у тебя бы это хорошо получилось.
— В последнее время меня все больше привлекают рапорты и докладные записки. Тоже, если вдуматься, вполне литературный жанр.
— Читал. Убедительно излагаешь. И мысли вполне разумные и здравые. О том же запорожском казачестве. Но, к сожалению, ты высказал их с некоторым опозданием. О каком казачестве предлагаешь нам печься, коль и Таврия, и все Сечи запорожские уже скрываются за кормой нашего парохода. Мы — в родном тебе Крыму. И наша задача продержаться в нем до весны. А потом… потом ты будешь мне очень нужен.
— Ну а сейчас? — в упор спросил Слащев. — Сейчас, что я не очень нужен?
— Нет, ну почему же! С сего дня ты поступаешь в распоряжение генерала Кутепова. Приказ об этом я подпишу уже сегодня. Но ты не торопись. Приведи в порядок накопившиеся дела, и с Богом — за дело!
— Спасибо, Петр Николаевич, за доверие. Постараюсь оправдать. Только пришел я не только за должностью… Позвольте высказать вам некоторые мои размышления, возможно, они покажутся заслуживающими внимания.
— Только коротенько, — попросил Врангель. — Меня сегодня еще ждут газетчики. К тому же, я сегодня возвращаюсь в Севастополь, поскольку на завтра там уже назначены важные встречи.
— Совсем коротко. Я тоже, как и вы, ваше превосходительство, думал о предстоящей весне. Нам нужно заранее, на протяжении зимы, а она здесь короткая, привлечь на свою сторону как можно больше населения. Главным образом крестьян. Как вы знаете, ряды наших войск в основном пополняют именно крестьяне.
— Против этого трудно возразить, — сказал Врангель. — Но каким образом ты предлагаешь привлечь к нам крестьян?
— Крестьянин, ваше превосходительство, воюет не за идею. Это мы умираем за идею. А крестьянину нужна земля. Большевики уже давно взяли на вооружение эту мысль. Лозунг «Фабрики — рабочим, земля — крестьянам» они хорошо эксплуатируют, благодаря чему пополняют людьми свою армию. Но фактически, ни фабрики рабочим, ни землю крестьянам они так еще пока и не отдали. Но обещают. Уже несколько лет обещают. И лозунг как был, так и остается лозунгом. Люди постепенно перестают большевикам верить. Нам надо перехватить у них этот лозунг.
— И каким же способом ты предлагаешь это сделать? — Врангель внимательно воззрился на Слащева.
— Манифестом, подробным и убедительным. Очень доходчивым по языку, понятным даже самому неграмотному крестьянину. Скажем, каждому крестьянскому двору — не менее пятидесяти десятин земли. Или каждому едоку — по три десятины.
— Но ведь примерно это же заявили и большевики. Почему ты думаешь, что нам поверят? В чем разница?
— Разница, Петр Николаевич, в том, что мы вслед за манифестом на протяжении зимы проведем здесь, в Крыму, межевание и раздадим землю. Крестьянин перестал верить словам, а мы вслед за словами начнем совершать дела. Слух об этом разойдется по России.
— Ах, Яков, если бы это было все так просто, — вздохнул Врангель. — У меня уже третий месяц работает земельная комиссия. Горы бумаги исписали, все между собой перессорились, толку — чуть. Но ты изложи для меня эти свои размышления. Попрошу комиссию ознакомиться и обсудить.
— В шею ее разогнать, эту вашу комиссию! — мрачно сказал Слащев. — У них там никто за сохой не ходил. Думают, что хлеб на деревьях растет.
Врангель встал, давая Слащеву понять, что аудиенция закончилась.
Слащев тоже подхватился с дивана и торопливо сказал:
— Ещё одна мысль, вполне сумасшедшая, но, возможно, она покажется вам более привлекательной…
— Ну, Яков Александрович! Ты злоупотребляешь моим добрым отношением к тебе! — укоризненно сказал Врангель. — Выкладывай! Только, пожалуйста, конспективно. У меня сейчас каждая минута дороже золота.
— Я коротко. Это о материальном положении солдат, офицеров и их семей. И обо всем остальном, что упирается в деньги. Наша казна пуста. Денег практически нет. На наше жалованье даже кошку не прокормишь.
— Ты, Яша, рассказываешь мне то, что я и сам хорошо знаю. Мы союзникам задолжали миллиарды, — насупился Врангель. — Если у тебя есть какие-то дельные предложения, высказывай. Временем на пустопорожние разговоры я не располагаю, извини.
— Высказываю. Надо привлечь частный капитал. Все богачи в основном находятся здесь, в Крыму. Они надеются уже весной вместе с армией вновь вернуться в свои дома.
— Ну, надеются. И что из того? — нетерпеливо переспросил Врангель. Он уже сердился сам на себя за то, что согласился встретиться со Слащевым.
— Мысль простая: все имущие слои населения должны сознательно отдать половину своего состояния, в чем бы оно не заключалось, на финансовое и экономическое развитие России, — четко сказал Слащев и поднял глаза на Врангеля, пытаясь понять, какое впечатление произвели на командующего его слова.
— Мы — здесь, а имущество их — там, в Совдепии, — уже с некоторой долей иронии сказал Врангель. — Так в чем же твоя новация?
Слащев понял, что его идея, не в одну бессонную ночь продуманная и казавшаяся ему такой простой и в то же время спасительной для России, не «зацепила» главнокомандующего. Впрочем, он только начал ее излагать, он еще не высказал самого главного. И он торопливо продолжил:
— Технически это выглядит так. Они передают юридические обязательства на передачу половины имущества и других ценностей в собственность государства. Представляете, какой возникает фонд? Он послужит основанием для выпуска денежных знаков с правом их хождения наравне с любой другой валютой. Под такое обеспечение заграница с удовольствием станет нас кредитовать. Совдепия же лишится кредита, так как всё имущество на её территории окажется уже заложенным.
— Интересно, Яша, — остановил Слащева Врангель, думая при этом, что Слащев, вероятно, все еще не отказался от употребления кокаина. Только сейчас он заметил, что его глаза лихорадочно блестят, говорит он торопливо и каким-то полушепотом, словно открывает некую великую тайну.
— Представляете, ваше превосходительство, большинство необходимых нам потребительских товаров, вооружения, обмундирования заграница станет охотно нам пос…
— Это очень интересно, — на полуслове оборвал Слащева Врангель и сделал несколько шагов в сторону выхода из кабинета. Слащев последовал за ним.
— Этот вопрос мы несомненно в ближайшее же время подробно обсудим, — Врангель ободряюще похлопал Слащева по спине. Уже возле двери он сказал: — Вот уж не думал, что ты обуреваем такими государственными мыслями. Похвально! Надеюсь, после завершения войны тебе найдется достойное место в цивильном правительстве.
Когда Слащев покинул Врангеля, из его покоев в кабинет вошел Михаил Уваров.
— Петр Николаевич, а может, отменим журналистов?
— Неприлично, — покачал головой Врангель. — Надо было сделать это раньше. А теперь… что ж! Зовите! — и он скрылся в своих покоях.
Минут через десять журналисты чинно расселись в кабинете главнокомандующего. Врангель выждал, когда они перестанут между собой переговариваться и в кабинете наступит тишина, и лишь после этого из своих покоев вышел к ним. Мельком обвел их цепким взглядом и уселся в кресло.
— Здравствуйте, господа. Рад всех вас видеть в добром здравии.
По издавна заведенному ритуалу, журналисты представились, каждый называл свою газету, словно имен у них не было.
Колену и Жапризо Врангель доброжелательно кивнул. Остальных четверых он видел впервые, и каждого из них он пристально рассматривал, словно пытался понять, что от них ждать.
Когда все представились, Врангель сказал:
— Господа, мне передали вашу просьбу уделить вам несколько минут. Кажется, вы просили пять? — он извлёк из нагрудного кармана и положил перед собой на стол массивный серебряный брегет. — Условимся о десяти минутах.
Журналисты зашевелились, стали перешептываться. Наконец поднялся давний знакомый Врангеля Жапризо, представляющий французскую газету «Матэн»:
— Ваше превосходительство, вы только что вернулись с фронта. Ваши впечатления? Расходятся ли они с впечатлениями французского генерала Бруссо, который побывал примерно там же, на Чонгаре, двумя днями раньше?
— Я уже довольно скоро буду вынужден с вами расстаться — выезжаю в Севастополь, — попытался уклониться от прямого ответа Врангель. — Надеюсь уже завтра встретиться с генералом Бруссо. Мы обменяемся впечатлениями, и тогда я смогу вам точно сказать, расходятся ли они у нас.
— И всё же! Тогда — ваши личные впечатления? — настойчиво спросил главнокомандующего невысокого росточка пожилой журналист в толстых цилиндрических очках. Он был одновременно и главным редактором довольно скандальной газеты «День», которая возникла, по современным меркам, давно, в начале девятнадцатого года, во время первого изгнания красных из Крыма.
— Ну что ж, отвечу. Я лично осмотрел участок фронта от Таганаша до Чонгара, который меня больше всего тревожил. Теперь я за него спокоен. Я уж не говорю о неприступных берегах Перекопа. Теперь, я уверен, Крым выстоит. Работы по укреплению позиций продолжают вестись, но даже в нынешнем виде противник едва ли сумеет преодолеть Сиваш. Крым стал крепостью, вторым Верденом.
— Ваше превосходительство, — обратился к Врангелю тощий лысый корреспондент «Русского слова». В газете он главным образом писал фельетоны и, как говорили, владел ядовитым пером. — Наши читатели задают нам много вопросов, на которые мы по мере своих сил и возможностей отвечаем. Но на один из таких вопросов, который наши читатели задают довольно часто, мы избегаем отвечать. Не сумеете ли вы ответить: уход наших войск их Северной Таврии — это военная тактика или обыкновенное бегство?
— Вы сами почти ответили на свой же вопрос, — ласково, как несмышленышу, сказал Врангель. — То, что иным кажется отступлением, беспорядочным бегством, на самом деле является тактическим ходом. Вспомните «Войну и мир» Толстого. Российское общество отход войск Кутузова за Москву считало паническим бегством. Вы помните, чем это кончилось? Мы поступаем едва ли не так же: организованно уходим в Крым, чтобы в зимнее время сохранить боеспособность армии. Весною отдохнувшая и окрепшая армия выйдет на просторы Северной Таврии и двинется дальше. Я ничуть не сомневаюсь, двадцать первый год станет годом окончательной победы над большевизмом, и мы еще отметим это событие в столице Первопрестольной. О каком бегстве вы говорите? Съездите на Чонгар или Перекоп. Войска планомерно и организованно, полк за полком, дивизия за дивизией, по заранее намеченному графику переправляются через Крымский перешеек.
— Согласованы ли все эти перемещения вашей армии с военными советниками союзников? — спросил англичанин. — Одобрены ли ими ваши действия? На какую помощь союзников вы рассчитываете? Продовольствием? Боеприпасами? Будут ли они ее оказывать?
— Эти вопросы, господин Колен, советую задать вашему правительству. Оно точнее ответит на этот вопрос.
Врангель решительно встал, поднял за цепочку брегет и, раскачивая им над столом, сказал:
— Сожалею. Но время нашего общения истекло. Я, конечно, мог бы подробно ответить на вопросы, заданные господином Коленом, но на это ушло бы слишком много времени. За его неимением, я отвечу коротко. Союзники на то и союзники, чтобы в трудную минуту можно было рассчитывать на их плечо. Наши действия они бесспорно одобряют, и, надеюсь, окажут нам посильную помощь.
Врангель спрятал в карман часы и добавил:
— Извините, что отвел вам так мало времени. Я высоко ценю ваш интерес к событиям, которые здесь, у нас, происходят. Совершенно не имея времени, я все же принял вас, дабы не прослыть среди журналистов человеком необщительным и скрытным. Я сейчас отбываю в Севастополь для важных встреч. Естественно, возникнут новые новости — они возникают сейчас не только каждый день, но и каждый час, и даже чаще. С удовольствием поделюсь ими с вами в ближайшие же дни. До встречи! — и, слегка кивнув головой, Врангель удалился в свои апартаменты через боковую дверь.
Журналисты, покинув теплый салон-вагон, спустились на железнодорожную насыпь. Подморозило, под ногами похрустывал тонкий ледок, покрывший мелкие лужицы. На черном небе перемигивались, обещая мороз, крупные звезды.
К вагону командующего, стоявшему на путях, был уже прицеплен паровоз. Ожидая сигнала отъезда, он тяжело вздыхал, обдавая себя клубами пара.
Едва последний из журналистов покинул вагон, паровоз, пронзительно взвизгнув в морозном воздухе, тронулся. Мимо них проплыли еще два вагона, в которых размещались штабисты, связисты, шифровальщики, а также охрана командующего. В этих вагонах тоже угадывалась жизнь, но более тихая и мало заметная. Окна вагонов едва теплились: купе освещались масляными каганцами[17].
Когда вдали растаял красный огонек хвостового вагона, в наступившей тишине кто-то из журналистов громко спросил:
— Ну и что мы имеем?
— Бульон от вареных яиц, — осклабился корреспондент «Дня».
— Нет, почему же! Он сказал даже больше, чем хотел. Анализировать надо не только то, что он сказал, но и то, о чем промолчал, — сказал лысый редактор «Русского слова». — Материала для размышлений вполне достаточно.
— Любопытно все же, по каким делам он помчался в Севастополь? — задумчиво спросил корреспондент «Крымского вестника». — Фронт-то здесь…
— Поближе к морю, — с ядовитым смешком произнес корреспондент «Дня», чем вызвал иронические ухмылки остальных.
— Вы полагаете…— начал было корреспондент «Русского слова», и смолк, так и не высказав испугавшую его мысль.
— А чего тут полагать! Драпаем! Улепетываем! Рвем когти! — не в пример всем остальным хилый и щуплый редактор «Крымского вестника» не осторожничал, а высказывался громко и скандально.
— Нет-нет! Это неправда! Этого не допустят союзники! — не согласился редактор «Русского слова» и обернулся к французу Жапризо. — Скажите, ведь не допустят?
— Не знаю, — пожевав немного губами, Жапризо уклонился от ответа. — Мы, журналисты, не делаем политику. Мы ее всего лишь потребляем.
— А вы? — редактор «Русского слова» обернулся к Колену. — Что думаете вы?
— Я думаю о пинте пива, куске сочного бифштекса и о чистой теплой постели. Вы — русские — заварили эту кашу, вот и думайте. Это — ваши заботы.
Глава пятая
В Повстанческую группу войск Нестора Махно, которую после Старобельского совещания условились называть Крымской Повстанческой, Кольцов выехал не сразу после беседы с Менжинским. По меньшей мере сутки ему понадобились для того, чтобы разобраться во всей оперативной обстановке на фронте, но главным образом в полосе, которую штаб отводил махновцам. Там же, в разведотделе Южфронта, он выяснил месторасположение группы и подробно расспросил, как удобнее и безопаснее туда добраться.
В разведотделе Кольцова предупредили о том, что сейчас в районах Присивашья большая вероятность оказаться в плену у какого-нибудь батьки Чобота, Чалого или Матвиенка: в последние дни слишком много банд расплодилось в Северной Таврии. Они передвигались вслед за фронтом, и в районах, освобожденных от белых, где еще не успела прочно установиться советская власть, грабили недограбленное и, хоронясь днем где-нибудь в степных колках или жидких лесочках, ночами с тяжелой добычей растворялись на широких таврических просторах.
Перспектива оказаться еще у одного батьки Ангела Кольцова вовсе не грела, но и выделить ему достойное сопровождение не имели возможности. Как выяснил Кольцов, махновцы с боями уже миновали Мелитополь и Акимовку и находились на подступах к Крымскому перешейку. По предварительной договоренности, они должны были разместиться неподалеку от Сиваша, во Владимировке и в нескольких ближних от нее селах. Отсюда начинался участок их боевых действий за овладение Крымским перешейком.
Как рассказали Кольцову разведчики, это была голая просоленная равнина. Нигде ни деревца, ни кустика. Сиваш, вдоль которого стояли малолюдные села, только в летнюю жару можно было перейти вброд. Зимой, когда ветры нагоняли с Азовского или Черного моря в него воду, он был редко когда проходимый. Иногда, в лютые морозы, он замерзал, но лед был не прочный, не всегда мог выдержать человека.
На противоположной стороне этого Гнилого моря (так еще называют Сиваш) к самой воде спускались пять рядов колючей проволоки и кое-где даже издалека были видны пулеметные гнезда.
Чтобы форсировать Сиваш и утвердиться на крымском берегу, махновцам предстояло решить не одну задачу. И каждая из них была почти неразрешимая.
…Гольдман делал все для того, чтобы всячески обезопасить поездку Кольцова в район участка боевых действий, отведенного Повстанческой армии. Позаботился он и о том, чтобы и там, среди махновцев, ему не было бы одиноко. В качестве адъютанта к Кольцову приставили Тимофея Бушкина.
Такую должность Тимофею ещё никогда не приходилось исполнять. Он решил, что, прежде всего, в его обязанности входит охрана Кольцова. Поэтому помимо уже имевшихся у него маузера, сохранившегося ещё со времен службы в бронепоезде Троцкого, он уже к вечеру где-то добыл короткий кавалерийский карабин и полный подсумок патронов.
Гольдман тем временем носился по знакомым полковым командирам в поисках транспорта. Случайно встретил в Каховке недавнего попутчика снабженца Жихарева. Он появился, как черт из рукомойника, но обрадовался Гольдману, как своему родственнику, и долго жал ему руку.
— А как комиссар? — спросил Жихарев. — Лихой парень, люблю таких. Может, потому, что и сам такой.
Поговорили о разном.
— Вы где же сейчас, Жихарев? — поинтересовался Гольдман. — Где вас можно найти?
— А я — везде! — хохотнул Жихарев. — Я вам нужен?
— Просто так спросил. Вспоминаем иногда…
— Я тоже часто вас вспоминаю. Хорошая компания, хорошая поездка. Не против еще раз ее повторить.
— После войны, — сказал Гольдман.
— Никаких возражений.
Они попрощались, и Жихарев исчез также внезапно, как и появился. Впрочем, Гольдману было не до него, и вскоре он совсем забыл об этой мимолетной встрече, не догадываясь, что она еще будет иметь необычное продолжение.
Там же, у снабженцев, Гольдман раздобыл тачанку с тройкой коней. Тачанка была, вероятно, музейная, покрытая черным лаком и немного смахивала на катафалк. С ней никак не гармонировал стоящий на задке пулемет «Максим».
На рассвете следующего дня Гольдман громко разбудил Кольцова:
— Карета подана, ваше сиятельство!
Наскоро умывшись, Кольцов вышел во двор каховской гостиницы, в которую была превращена обыкновенная сельская хата со сволоком[18] и с пучками душистых степных трав, заткнутых за него. По настоянию Гольдмана Кольцов и Бушкин остались здесь ночевать.
Оглядев двор, Кольцов не увидел тачанки, которую с вечера обещал ему Гольдман.
— Ну и где же тачанка? — спросил Кольцов у Гольдмана.
— Да вон же! — Гольдман указал на стоявший в глубине двора угловатый, словно весь сколоченный из больших тарных ящиков, зеленый грузовой «фиат». В его кузове на высокой самодельной турели был установлен пятиствольный пулемёт «Гочкиса». Возле грузовика прохаживались трое красноармейцев. Один — весь в коже, с квадратными очками на кожаном шлеме — был, вероятно, шофер. Остальные двое — обслуга пулемета.
— Ну, зачем это! — Кольцов укоризненно посмотрел на Гольдмана и с иронией спросил: — Что? Броневик не сумели достать?
— Твое легкомыслие, Паша, порой меня удивляет. Видно, ни разу не клевал тебя в задницу жареный петух, — ворчливо сказал Гольдман. — Пойми, пожалуйста! Ты отправляешься в самый кипяток, и можешь там легко свариться. А я хочу, что бы ты даже не ошпарился.
— Но почему не тачанка?
— Не понравилась она мне… Сильно приметная, панская. На таких начальство ездит. С десятком верховых охраны. И то всякое случается…
— К сожалению, ни от нас с Бушкиным, ни от вас ничего не зависит. «Гочкис» зачем? — не унимался Кольцов.
— Для безопасности. И не зли меня, пожалуйста, Паша! Не расстраивай! — сердито выговорил Кольцову Гольдман. — На все случаи жизни, конечно, не застрахуешься. Но все же я буду чуть меньше волноваться, пока вы доберетесь до места. А у меня, учти, больное сердце. Мне доктор запретил волноваться.
Трое красноармейцев деликатно ждали, пока Гольдман с Кольцовым закончат разговор, и лишь затем по очереди представились. Тот, что в коже, назвал себя Артемом Кошевым, остальные двое пожилых были пулеметчиками, обслугой «гочкиса». Звали их Семеном и Савелием, и были они родными братьями.
— Ну что ж! Поехали! — шофер как-то сразу принял на себя командование экипажем. — Вы, товарищ комиссар — в кабину, — сказал он Кольцову и указал на Бушкина: — А ваш товарищ — третьим номером при пулемете.
— У меня карабин, — сказал Бушкин.
— Карабин — вещь хорошая, а все ж пулемет чуток получше, — уже стоя на подножке «фиата», сказал Кошевой. — Будем надеяться, обойдемся без шума.
Автомобиль легко задрожал, ожидая, когда все члены экипажа займут свои места. Кошевой отдал ещё какие-то указания пулеметчикам. И они выехали со двора гостиницы.
* * *
Утренняя дорога была тряской, кочковатой. С вечера ее изрядно вымесили двигавшиеся в сторону Крыма войска. Ночью грязь прихватил морозец, и она застыла. Автомобиль немилосердно трясло.
Невыспавшийся Кольцов надеялся часок-другой в дороге вздремнуть, но вскоре понял, что из этого ничего не получится, и стал с интересом разглядывать дорогу. Изредка по ней двигались подводы с какой-то военной поклажей. Сбившись в небольшие группки, устало шли полусонные красноармейцы. По мере приближения автомобиля они, не оборачиваясь, привычно сторонились к обочине. Для них эти, на автомобиле, были людьми из другого мира. Иногда Кольцов ловил на себе их недобрые взгляды. Испокон веку те, кто шёл пешком завидовал тем, кто ехал.
По обе стороны дороги во все стороны расстилалась ровная серая степь. Ещё недавно она славилась тем, что кормила своим хлебом пол-Европы. Чем она была засеяна прошлой весной, Кольцов никак не мог понять.
— К весне голод будет, — перехватив взгляд Кольцова, мрачно сказал шофер.
— Почему вы так думаете? — спросил Кольцов.
— А чего тут думать, — шофер взглядом указал на степь и произнес одно только слово: — Бурьяны!
Кольцов и сам теперь уже понял: прежде здесь, в Таврии, степь в эту пору ровно щетинилась стерней, а ныне больше походила на заброшенную свалку. Среди потемневших и поникших от первых заморозков кустов полыни, резака, синеголовника повсюду над степью возвышались темными бугорками, ожидая пронизывающих северных ветров, округлые головы курая, который еще называют перекати-полем. Для чьего-то несведущего взгляда этот пейзаж, возможно, и был милым, но не для хлебороба. Он-то хорошо знал цену заброшенной, опустошенной земли.
— А вы что же, из крестьян? — полюбопытствовал Кольцов.
— Родители, точно, из крестьян. А я уже — не пойми кто. В мехмастерских работал. Лобогрейки, плуги, бороны ремонтировали. Вроде бы и рабочий, а работал на крестьянина. Как выглядит голод, не по чужим рассказам знаю.
Долго ехали молча. Поднималось солнце, высвечивая всю неприглядность порушенной войной земли. На обочинах дороги им то и дело встречались разбитые в недавних боях телеги и снарядные передки, убитые, с вздувшимися боками лошади.
На окраине села Черная Долина, имения своевременно бежавшего графа Мордвинова, увидели нечто непонятное. Под пока ещё низким утренним светом оно выглядело издали чем-то громоздким и угрожающим. Серое, угловатое, отливающее металлическим блеском, оно походило на какую-то странную неземную конструкцию.
По мере приближения, Кольцов понял, что это — танк, эдакая диковинная в этих краях военная машина, призванная наводить страх на пехоту противника. Страха не навела. Брошенный белыми, он одиноко стоял на окраине села, и был похож на те танки, которые не без помощи Кольцова нашли упокоение близ Харькова во время наступления Добровольческой армии на Москву. Танк стоял здесь уже не один день. В подмерзшей грязи к нему была протоптана тропа. Вокруг него толпились любопытные. Каждому, кто шел или ехал по каховской дороге, было интересно своими глазами увидеть это заморское чудище.
— Поверни, — попросил шофера Кольцов.
Автомобиль сполз с дороги и мягко покатил по протоптанной тропе.
Танк был совершенно целый, никаких видимых повреждений. Сверху на нем сидели, свесив ноги в постолах[19], два красноармейца с винтовками. Они охраняли ценный трофей. Еще двое, расставив на куске брезента баночки с краской, старательно замазывали крупную надпись на стальной боковине «За святую Русь» и одновременно лениво переругивались с обступившими их мужиками.
— А что, уже отменили святость России?
— Дура! До Ленина, слышь, энту «таньку» повезут. И кто знает, могёт он неверующий, а мы ему такую дулю.
— Ну и как же она без имени? Вроде как не крещеная?
— Окрестим. Когда энту «таньку» останавливали, мово кореша Яшку из «танькиного» пулемета стрельнули. Мы промеж себя тогда решили, пускай будет рабоче-крестьянское имя: «Яшка — борец за мировую революцию».
— Буквов много, не вместится…
— А мы с другого бока.
— Не годится.
— А что годится?
— Надо бы что-то такое… Чтоб не про одного Яшку. К примеру, кто эту заразу завалил?
— Мы все. Четвертый московский полк.
— Вот и напишите, чтоб про весь полк. А лучше про всех москвичей. Что-нибудь вроде: «Товарищу Ленину от Четвёртого московского полка».
— Так опять же буквов много… Знаешь что?
— Что?
— Не морочь голову! Напишем просто: «Москвич — пролетарий». Так годится?
— Крестьяне обидятся. А лучше напишите: «Москвич — коммунист». Коротко и ясно. И сразу будет видно, что придушили эту заразу москвичи и что боролись они супротив богатеев за мировую коммунистическую революцию.
— Подойдет, — согласились маляры.
В другом кружке обсуждали достоинства невиданной техники.
— Интересуюсь, на чем она ездит?
— На гусеницах. Видишь, под колесами, вроде червяков.
— Я не про то. На бельзине ай на чем?
— На конской моче.
— Придурок! Я сурьезно интересуюсь. Могет, на карасине ай на самогоне?
— А что, землячок, у тебя самогон имеется?
— Не, я так…
Третьи, подступив к самому танку, ощупывали толщину металла, исследовали все его швы, выступы и углубления. Один из этих, очкарик, поднял глаза на дымящих цигарками охранников:
— Эй, симулянты! — окликнул он их. — Заводите свою коломбину, махнем на Перекоп Врангеля долавливать!
— Сказано, ничего не трогать, — лениво ответили ему сверху. Охранникам, видимо, уже надоело огрызаться от толпящихся здесь с утра до вечера ротозеев.
— А если б велели?
— Бензину нема.
— А если бензин достанем?
— Все равно нельзя.
— Почему?
— Потому, что не велели… Сам товарищ Ленин обещался поглядеть на эту «таньку».
— Скажи, какая она у вас важная! Могла б своим ходом до товарища Ленина прибыть.
— Она-то могла бы, да только бензину нема.
— Ну и как же ее?
— До Геническа волами, а там — поездом.
— Короче, отвоевалась, — улыбнулся довольный таким обстоятельным разговором очкарик.
Вальяжный мужчина в лохматой барашковой папахе подъехал к танку на тачанке, привстав с сиденья, сверху оглядел толпу и лишь потом спустился на землю. Протиснулся сквозь многолюдье к самому танку, остановился возле Кольцова и Бушкина. Постоял, рассматривая танк, восхищенно спросил у Кольцова:
— Не знаете, сколько примерно в ней весу?
— Много, — ответил Кольцов. — А зачем это вам?
— Просто так. Интересно, сколько плугов она может потащить? — и, в упор разглядывая Кольцова, добавил: — Тяжелая, зараза. Так землю своим весом утрамбует, что сквозь нее никакая былинка не пробьется. Бесполезная для крестьянина машинерия.
— Вы, видимо, агроном? — спросил Кольцов.
— И это тоже. Всего понемногу, — как-то неопределенно ответил мужчина. — А вы из Каховки?
— Бывал когда-то…
— Лицо, гляжу, знакомое, — и, резко развернувшись, протискиваясь сквозь толпу, он пошел к своей тачанке.
Бушкин проводил его взглядом.
— Шибко он до вас приглядывался, — сказал он Кольцову. — С чего бы такой интерес?
— Должно быть, принял меня за кого-то, — пожал плечами Кольцов. И они тоже пошли к своему «фиату».
Дорога проходила через Черную Долину. На улице им стали встречаться женщины и старики с тачками, груженными доверху домашним скарбом.
— Что это они? Куда-то переселяются? — спросил шофер.
За поворотом им открылась мощенная булыжником небольшая площадь. В ее дальнем конце слабо коптило головешками недавно сожженное имение графа Мордвинова. Собственно, догорал только деревянный мезонин, сам же дом был выстроен из белого крымского камня. Он лишь слегка закоптился от пожара, но выстоял. Жители села толпились здесь с тачками и неторопливо и обстоятельно уничтожали то, что не тронул пожар.
Остановив автомобиль, не покидая его, они стали наблюдать за кипучей жизнью толпы. Люди выбрасывали из окон и тащили к своим тачкам ведра, чайники, керосинки, подсвечники, зеркала, слегка поврежденные огнем, но еще вполне годные кресла, оконные рамы — словом, все, что могло сгодиться в хозяйстве.
Две пожилые женщины вытащили на улицу поврежденный огнем и все еще дымящий в нескольких местах большущий гобелен с изображением барской охоты на оленей. Эта картина чем-то отдаленно напоминала происходившее на площади: такая же оголтелая толпа охотников с хищным блеском в глазах, свора злобных собак и бегством спасающиеся окровавленные олени.
Женщины деловито расстелили гобелен на мокром булыжнике и стали усердно затаптывать кое-где еще тлеющую ткань. Они затаптывали ногами в постолах лица обезумевших в азарте охотников, затаптывали дымящиеся пасти озверевших собак и заливали мутной талой водой мордочки оленей с большими газами, застывшими в испуге.
В автомобильном окне со стороны Кольцова появился их знакомый в барашковой папахе.
— Любопытствуете? — не то спросил, не то укорил он и, указав на женщин, рвущих гобелен, пытаясь его поделить, добавил: — Народ, что море, все унесет.
И исчез, словно растворился в воздухе. Кольцов повертел головой, но, ни тачанки, ни её пассажира нигде не было — должно быть, свернули в ближайший переулок.
И когда они уже покидали Черную Долину, Кольцов еще раз оглядывал площадь, но знакомой тачанки так нигде и не увидел.
За Черной Долиной дорога раздваивалась.
— Куда нам? — спросил Кольцов.
— А шут его знает! Я впервые здесь… — признался шофер. Затем немного помолчал и предложил: — А, может, рискнем, поедем по правой. Дорога хорошо наезженная.
— Лучше не рисковать, — сказал Кольцов. — Постоим. Кто-нибудь да подъедет — разузнаем…
Прошло совсем немного времени, к ним подъехала тачанка, на которой рядом с кучером восседал… все тот же их случайный знакомый.
— Похоже, заблудились? — ещё издали дружелюбно спросил он, увидев на перекрестке дорог «фиат» и прогуливающихся возле кабины Кольцова и шофера.
Легко соскочив с тачанки, он подошел к ним.
— Тут совсем недавно указатель был. Вам куда надо?
— А табличка куда указывала? — прежде чем ответил Кольцов, с кузова автомобиля спросил Бушкин.
— Понимаю. Секреты, — со вздохом сказал их знакомый. — И когда все это кончится?
— Как только, так сразу, — съязвил Бушкин и вновь настойчиво спросил: — Так что там было на указателе?
— Налево — на Асканию-Нову, и дальше, до самого Чонгара. А если вправо повернете, в Чаплинку, в Каланчак попадете, — и, все так же дружелюбно улыбаясь, он спросил: — Вам-то, как я понимаю, на Чонгар надо?
— Это почему вы так решили? — спросил Кольцов, не особенно, впрочем, раздражаясь от бесцеремонности случайного знакомого.
— А я — колдун. Правда. Я все про всех знаю. Вы вот едете, и не знаете, что у вас впереди. А я знаю.
— Ну и что? — Кольцов начал понимать, что перед ними или доморощенный шутник, или психически нездоровый человек.
— У вас впереди незабываемая встреча, — он громко захохотал. — Счастливого пути!
И, продолжая хохотать, колдун пошел к тачанке и едва ли не на ходу легко впрыгнул в нее. Они свернули вправо и вскоре затерялись вдали.
— Ох, не нравится мне все это! — мрачно сказал Бушкин.
— Что — «это»?
— И этот колдун, его интерес к нам, все эти его смешочки, ухмылочки. И это пророчество про незабываемую встречу.
— Это как раз понятно: люди в пути. В конце пути у них обязательно будет встреча, — пояснил Кольцов. — Я встречал таких. Они сами себя развлекают, и других заодно.
— А, может, он просто больной? — Бушкин покрутил палец у виска. — Ну, не может же здравомыслящий человек называть себя колдуном.
— Может, и больной, — согласился Кольцов.
— А вдруг и вправду колдун? Он когда от нас отъехал, верите — нет, на меня вроде как серой пахнуло! — серьезно сказал Бушкин.
— У вас больные нервы, Бушкин. Успокойтесь! — уже начал раздражаться Кольцов. — Больше мы с ним не встретимся. Нам — влево, на Асканию-Нову. А он направо свернул.
Они тронулись дальше. Замёрзшие ночью комья грязи оттаяли, и автомобиль мягко бежал по дороге.
Уже за полдень перед ними еще издали завиднелась довольно большая темно-серая роща, и послышался шумный, накликающий снега, грачиный грай. Это была окраина Аскании-Новы.
Не в пример Чёрной Долине, имение Фальц-Фейнов мало пострадало от пребывания здесь как белых, так и красных. Должно быть, в душах даже самых отпетых разбойников, при виде прекрасного, просыпается что-то доброе, человеческое.
Аскания-Нова была жемчужиной этого выжженного солнцем степного края. Всегда чистая, ухоженная, с белоснежным дворцом, утопающая в зелени, она завораживала взор, и даже сама мысль что-то разрушить здесь казалась большинству её посетителей кощунственной.
За время войны Аскания-Нова много раз переходила из рук белых к красным и обратно, но большей частью в ней были разрушены или сожжены лишь дворовые пристройки и частично разрушены вольеры, в которых хозяева имения содержали для забавы диких зверей, животных и птиц.
Даже лихие конники генерала Барбовича[20], проживавшие здесь несколько дней, не позволили себе ничего варварского. Правда, жарили яичницу из страусиных яиц, постреляли оленей и лебедей, выпустили из вольеров страусов, и они разбежались по степям. Их отлавливали и возвращали обратно. И никому в голову не пришло отправить их на кухню.
А медведь, выпущенный из загородки пьяными казаками, долго бродил по селам, пугая жителей и собак. Потом кто-то невзначай выяснил, что он умеет танцевать и, вероятно, прежде выступал в каком-то бродячем цирке. Его присвоили себе цыгане, и какое-то время ездили с ним по всей Украине, собирая толпы зрителей. Медведь неплохо кормил цыган в это голодное время. Но потом ему это надоело, и где-то под Нежином он от цыган сбежал. С тех пор больше о нём никто ничего не слышал.
Рассказывали и о том, что белогвардейские казаки присмотрели здесь, в помещичьих конюшнях, элитных коней, которых хозяева не сумели или не успели вывезти. Сытых, не измученных походами коней, они распределили между собой. Но ночью кто-то открыл ворота конюшен и выгнал их в степь. Почуяв волю, кони разбрелись по ближним и дальним окрестностям. Местные жители ещё долго ловили в Таврических степях статных одичавших скакунов.
Нет, не соврали тогда Ромка с Данилой Павлу Заболотному, когда сказали, что поймали чубарого красавца коня где-то здесь, в херсонских степях. Скорее всего, «Алмаз» — так назвали его цыганчата — был из этой самой фальцфейновской конюшни.
Кольцов с Бушкиным и шофером Артемом Кошевым долго ходили по имению, любуясь его красотами и уцелевшими диковинами.
— Красота-то какая! — восторгался Бушкин. — Как в раю.
— В раю морозов не бывает, — буркнул Артем.
— Это еще неизвестно. Никто пока оттуда не приезжал, — и, удивленно качнув головой, Бушкин добавил: — И что удивительно, не поднялась рука!
— Вы о чем, Бушкин? — спросил Кольцов.
— Почти ничего не разорили. Не то, что в Чёрной Долине, — пояснил Бушкин. — Я когда в бронепоезде товарища Троцкого по России мотался, много всякого повидал. Отчего наш народ, как лютые разбойники, так любит грабить, разрушать, палить?
— От бедности, — коротко ответил Кольцов. — А потому, от ненависти.
— И еще чуток от зависти,— добавил Бушкин.
— Пожалуй, — согласился Кольцов. — А вы, Тимофей, еще совсем недавно хотели во Франции начинать революцию? Не раздумали? Последствия будут примерно такие же.
— Чудные слова говорите, Павел Андреевич! — Бушкин удивленно посмотрел на него. — Вы вроде как против революции?
— Я против уничтожения имений, против пожаров, грабежей, бессмысленных расстрелов и убийств. Против уничтожения всего того, что человечество создавало на протяжении не одного столетия.
— А как же тогда понимать слова Интернационала: «Весь мир насилья мы разрушим», а уже потом построим свой мир? Я когда в Москве был, на митинге Ленина видел. Он вместе со всеми пел Интернационал. Не стал бы, если бы был несогласный.
— Ну, не буквально же надо это понимать, — возразил Кольцов. — Интернационал призывает разрушить мир насилия. Понимаешь? А вовсе не дворцы и имения.
— А «мир хижинам, война дворцам»? Это что, тоже не буквально? — наступал на Кольцова Бушкин. — А как же тогда революции совершать? В белых перчатках, да?
— Эх, Тимофей, Тимофей! — укоризненно покачал головой Кольцов. — Всякая революция, это, как правило, переворот, смена старой власти со всеми ее законами.
— Пока никаких возражениев, — согласно кивнул Бушкин.
— Чаще всего, революция — это стихия. Буран. Тайфун. Она рушит на своем пути всё. Но тот, кто идет в революцию сознательно, должен понимать, что в первую очередь он должен помогать таким же, как он обуздать эту разрушительную стихию.
— А вот это уже слишком мудрено, — сказал Бушкин. — Вы, как Лев Давыдович Троцкий. Тот тоже, бывало, как чего скажет…
— Подумай хорошенько, поймешь. Слово «обуздать» разве тебе не понятно? Обуздать коня: смирить его, подчинить своей воле.
— Про коня — понятно, а вот про революцию — не совсем.
— Понимаешь, в ярости и злобе чего только люди не натворят! Дворец подожгут, все перебьют, переломают, скотину перестреляют. А потом, когда опомнятся — жалеют. А ты помоги им раньше опомниться. Возьми те же дворцы. Это лучшее, что создало челове… — Кольцов осекся на полуслове.
— Колдун! — взволнованно прошептал Бушкин, глядя поверх голов ротозеев, обступивших вольер с зебрами. — Честное слово! Это он!
— Где? — Кольцов стал тоже всматриваться в том же направлении, что и Бушкин.
— Честное слово! Я его видел!
— Может, показалось? — с сомнением спросил Кольцов. — Он ведь по правой дороге поехал. И потом: мы же на автомобиле. Как бы он успел?
— Да он это! Точно! Он еще вроде как рукой мне махнул, — и Бушкин внезапно бросился в толпу. Энергично работая локтями, он пробился сквозь людскую толчею на менее людное пространство. Кольцов пробирался следом за ним.
Выбравшись из толпы, Бушкин стал беспомощно оглядываться по сторонам.
— Вот здесь он был! Точно! Возле этой коновязи! Ну, не мог же я так обознаться! — убеждал он Кольцова. Затем взобрался на коновязь и стал сверху рыскать глазами поверх голов.
Фуражки, картузы, шапки, кепки, платки — и нигде ни одной папахи.
— Я сейчас! — крикнул Бушкин и побежал к воротам, где стояли с десяток подвод, линеек и, чуть на отшибе — их «фиат». Бушкин тщательно процедил взглядом оживленную площадь, но ни колдуна, ни его тачанки здесь не было.
Тогда он бросился к «фиату»:
— Вы этого, который на тачанке, в черной папахе здесь не видели? — тяжело дыша от бега, спросил он у пулеметчиков.
— Вроде никого такого не было. А что? Нужен? — ответил тот, что постарше.
— Да нет.
— Он же на Каланчак свернул.
Бушкин устало сел на подножку автомобиля, снял с себя шапку, вытер ею мокрое лицо.
Подошел Кольцов.
— Ничего не понимаю. Я ж его вот как вас сейчас видел, — сказал Бушкин.
— Ошибся. Бывает, — стал успокаивать его Кольцов. — Может, кто-то на него похожий. И вообще чего вы расстраиваетесь, Бушкин? Что нам до него?
— Не в том дело, — невпопад ответил Бушкин. — Мне его рожа жуть как не понравилась. Скривил ее и вот так рукой махнул. Он это был! Точно, он! — и, опустив глаза в землю, долго так сидел молча, потом с сомнением сказал: — Шут его знает, может, я и правда обознался?
* * *
Скрылись вдали белые строения Аскании-Новы. День был солнечный, и теплом, грязью лужицами в колеях напоминал весенний.
Дорога была непривычно пустынной. Насколько хватал глаз, нигде — никого, ни телеги, ни лошади.
— Нам бы поворот на Владимировку не проскочить, — озабоченно сказал шофер.
Кольцов промолчал. Пригретый солнцем, он придремывал.
Они внезапно выскочили из-за невысокого скифского кургана — человек двадцать всадников, а сзади них, не слишком поспешая, катила тачанка.
Всадники мчались галопом, горяча себя и коней, и что-то устрашающее выкрикивая, палили в небо из карабинов. Стали разделяться надвое, пытаясь с двух сторон обойти автомобиль.
Тачанка выбралась на дорогу из вязкой степной почвы и тоже прибавила скорость. Ездовой кнутом стегал лошадей.
— Что это они? — с беспокойством спросил шофёр, не сразу поняв, что гонятся за ними.
— Прибавь ходу! — приказал Кольцов и, вытащив из кобуры маузер, положил его на колени. — Похоже, бандиты.
— Может, махновцы? — с надеждой спросил шофер. — Они и раньше тут по степи шастали.
— Какие махновцы? Махновцы на нашей стороне. Бандиты! Ты жми! Может, уйдем!
Шофер старательно давил на педаль газа, выжимая из автомобиля все, на что тот еще был способен. Двигатель вздыхал и захлебывался, но автомобиль нисколько не прибавлял скорости.
А всадники уже почти поравнялись с ними, и какое-то время мчались вровень. Было видно, как из-под лошадиных копыт отлетают комья грязи.
— Все, товарищ командир! — с отчаяньем выдохнул шофер. — Не получается быстрее!
Кольцов распахнул дверцу кабины, встал на подножку, закричал копошащимся возле «гочкиса» пулеметчикам:
— Ну, вы там! Почему молчите?
— 3-заело, зараза! — отозвался пожилой пулеметчик и зло выругался.
Прозвенело боковое стекло, осколки разлетелись вокруг головы Кольцова. Несколько пуль громыхнули по дереву кузова.
Кольцов выстрелил по всаднику, пытающемуся выехать на дорогу. Видимо, пуля попала в коня, он резко остановился. Всадник перелетел через голову коня, но тут же вскочил. Конь тоже попытался подняться, и даже с трудом встал, но тут же снова упал на колени.
Бушкин выстрелил из карабина по приближающейся к ним тачанке. И заметил, что тачанка резко остановилась, а двое ее седоков засуетились. Кучер спрыгнул на землю и, похоже, стал суетливо выпрягать раненую лошадь. Бушкин перевел ствол на всадников и продолжил стрелять.
— Что, гады! Живьем захотели? — заорал он. — Да здравствует Парижская коммуна!
Внезапно ожил «гочкис». Несколько очередей прошумели над всадниками, никого не задев.
Новые очереди выбили из седел двух всадников, и пулемет снова смолк.
— Сраная Америка! — с отчаяньем выругался пулеметчик, вновь принимаясь копаться в заграничном нутре пулемета.
Ободренные наступившей тишиной, бандиты пустили коней в галоп и начали с двух сторон обходить автомобиль.
Перегревшийся мотор стал захлебываться, из заливной воронки повалил пар. Бандиты увидели это и, вырвавшись далеко вперед, окружая автомобиль, стали с двух сторон сходиться к дороге. А двое уже даже выскочили на дорогу и неторопливо ехали впереди замедляющего свой бег автомобиля. Бандиты, похоже, уже не гнались за ними, а как бы сопровождали.
Всадники все больше приближались к автомобилю, уже не опасаясь ни очередей «гочкиса», ни редких винтовочных выстрелов.
Кольцов не стрелял, выжидая, когда всадники приблизятся: на тряской дороге прицельно стрелять из «маузера» было бессмысленно. Лишь Бушкин, продолжая что-то выкрикивать, наугад палил по всадникам, которые уже рысью скакали едва ли не рядом с замедляющей бег машиной.
— Ты, малый, перестань баловать! — крикнул Бушкину кто-то из бандитов. — Не то за яйца повесим!
— Не повесите! — тоскливо отозвался Бушкин. — На не чем! Нету тут дерев!
Один из всадников, красивый, с лихим чубом, выбивающимся из-под сбитой набок шапки, приблизился к кабине автомобиля. Кольцов понял: ещё несколько мгновений, они облепят автомобиль — и все закончится.
«Один патрон для себя, а остальными хоть тебя, красавец, с собой на тог свет заберу, а может, и еще одного или двух», — подумал он. Но еще не успел он поднять «маузер», как где-то неподалеку раздался разбойничий свист.
Дальше произошло и вовсе непонятное. Краем глаза Кольцов увидел, как красавец бандит резко отпрянул от автомобиля. Развернув коня, с силой хлестанул его плетью и помчался в степь вслед за скачущими во весь опор остальными подельниками.
Стоящая в стороне на дороге тачанка, с впряженным в нее одним конем, тронулась и тоже неторопливо попрыгала по примороженным степным бурьянам вслед за скрывающимися вдали бандитами.
Десятка два всадников проскочили мимо автомобиля, все еще медленно двигавшегося по дороге, и тоже помчались вслед за бандитами. Степь вновь стала безлюдной, пустынной. Лишь вдалеке маячила тачанка, которую тащила, надрываясь, единственная лошадь.
— Нич-чего не понимаю, — огорошенный происходящим, растерянно сказал шофер. — Что за игры в прятки? Похоже, одни бандиты у других добычу отбирают?
— Какую добычу? — не сразу понял Кольцов.
— Добыча, я так понимаю, это мы.
Автомобиль медленно тащился по дороге, за ним тянулся шлейф тающего на легком ветерке пара.
Впереди они увидели бородатого мужика в мохнатой бараньей шапке. Он стоял посредине дороги, широко расставив ноги.
— Глядите, там! — показал шофёр.
— Вижу.
— Что делать?
— А что ты можешь?
— Ничего.
— Похоже, он — один. Справимся, — успокоил шофера Кольцов и, высунувшись в окно кабины, крикнул: — Вы там, наверху! Не стреляйте!
Автомобиль приближался к стоящему посреди дороги бородатому мужику. Космы шапки почти закрывали его глаза. По внешнему виду он ничем не отличался от тех бандитов, с которыми Кольцову доводилось встречаться у батьки Ангела. И позже, под Кременчугом, таких же он видел в банде у батьки Книша.
— Стреляйте! — умоляюще простонал шофер. — Развернемся — и в Асканию. Там — свои.
Но что-то удерживало Кольцова. И вовсе не всадники, которые должны были вот-вот вернуться. Другое. Какая-то непонятность происходящего. Они с собой ничего ценного не везли, что могло бы привлечь бандитов. «Гочкис»? Экая невидаль! Да и репутация у него была далеко не самая лучшая. Автомобиль? Он и вовсе бандитам ни к чему.
Стоящий посредине дороги бандит взмахнул рукой и при этом сделал характерное, приглашающее движение головой. И Кольцов вдруг понял, что он уже видел этого человека. Не просто видел — знал. Ему вспомнилось это непроизвольное приглашающее движение головой — память о давней контузии, и этот угрюмый взгляд из-под косматой шапки, и прокуренная борода.
— Останови! — приказал Кольцов. И шофер, который уже прикинул, как собьет этого бандита и как затем развернется и они попытаются бежать, неохотно нажал на тормоз.
Кольцов выпрыгнул на дорогу и, к изумлению и шофера, и двух братьев-пулеметчиков, и даже самого Бушкина, раскинув руки для объятий, направился к стоящему на дороге мужику.
Тот тоже, скупо улыбаясь, двинулся навстречу Кольцову.
Они обнялись и долго стояли так, похлопывая друг друга по спине.
— Здравствуй, Петро! Вот уж не предполагал, что еще когда-нибудь с тобой встречусь. Думал, Нестор Иванович тебя при себе придержит.
— Не придержал, — сказал бородач. — И, як видишь, в аккурат получилось. Не то быть бы вам сегодня в погребе у Савки Яценко.
Это был связник Нестора Махно Петро Колодуб. Кольцову доводилось иногда, по долгу службы, встречаться с ним и через него помогать Нестору Махно улаживать его некоторые конфликтные дела с большевиками. Махно помнил Кольцова и при случае напоминал о себе различными подарками в виде нужных красному командованию разведданных, если, конечно, они не могли пойти батьке во вред и никак не затрагивали его интересов.
Так, одним из последних его подарков оказался подпоручик Алехин, благодаря чему была раскрыта и ликвидирована хорошо задуманная бароном операция «Засада». Немаловажную роль в этом деле сыграл и Петро Колодуб, который своевременно подкинул Нестору Ивановичу мысль подарить бесполезного им пленного подпоручика, и сам с напарником не без приключений доставил его из Гуляйполя в Харьков.
— И батьке спасибо, и тебе тоже, — поблагодарил Колодуба Кольцов.
— На здоровьице, — скупо улыбнулся Колодуб. — Я и сам рад, шо так получилось. Ехал я сюда, шоб встренуть тебя и, по поручению батьки, кое об чем с тобой пошептаться. А получилась такая хренотень.
— Может, объяснишь, Петро, что все же случилось? Ехали мы тихо, ничего ценного не везли. Случайно нас эта банда зацепила, или же специально за нами охотились? — спросил Кольцов.
Он и утром, покидая Каховку, подумал, что Гольдман слишком перестарался. Ехали б себе тихо и незаметно на тачанке. Пулеметная тачанка сейчас не сильно привлекает к себе внимание здесь, в Таврических степях. А вот этот придурочный «фиат» с калекой «гочкисом» в кузове, который виден верст за пять вокруг, мог привлечь бандитский интерес. Ах, знать бы все это заранее: и что дорога за Асканией опустеет, и что «гочкис» в нужную минуту подведет, и что автомобиль окажется не таким быстрым, как бандитские кони!
— Случайно, чи нет зацепил тебя Савка Яценко, сказать не могу. Не знаю, еще совсем недавно он в нашей армии командиром полка был. Батько его шибко уважал. Его и ще Каретникова. За грамотность, храбрость, хитрость, — стал обстоятельно отвечать Кольцову Петро. — Не знаю, какая блоха Савку укусила, шо ему было обещано, только он со своими хлопцами и ще Чалый и Савченко переметнулись до Врангеля.
— Что ж они тогда не в Крыму?
— А Врангель тоже мужик с кандибобером. Он Савку специально в Таврии оставил. Они на продовольственные, оружейные склады налетают, что спалят, что пограбят.
Подъехала тачанка, сопровождаемая тремя всадниками. Четвертый махновец правил тачанкой. В ней сидели, связанные, двое бандитов. Один из них — Кольцов узнал его сразу — был тот самый случайный знакомый в барашковой папахе. Он злобно взглянул на Кольцова и отвел взгляд.
— Этот и есть Яценко? — спросил Кольцов.
— Он самый. Видишь, заскучал. А батько его предупреждал: не ходи в чужие огороды. — Колодуб покачал головой и сказал уже самому Яценко: — Все, парень! Отбегался!
— А почему он назвал себя колдуном?
— Отрекомендовался? Успел? — мрачно улыбнулся Колодуб и объяснил: — То в селе у их кличка такая была: колдуны. Может, дед чи прадед были колдунами? А, может, хвастались так. Но кличка до их присохла: колдуны да колдуны! Савка часто так многих стращал: «Я — колдун! Я вас всех насквозь вижу!». И были такие, шо верили.
Кольцов подошел к тачанке, стал внимательно рассматривать Яценко, и тот не выдержал, опустил глаза.
Павел сознавал, что не благородно даже словами добивать поверженного врага, но еще не улеглось волнение — и он не выдержал, ответил на утреннее пророчество Яценко:
— Что ж, Колдун, ты угадал! — сказал он. — Встреча в конце пути у меня, и впрямь, оказалась незабываемая. Полагаю, ты ее тоже до самой смерти не забудешь.
Яценко ничего ему не ответил. Он словно не видел Кольцова. Выждав, когда к нему обернется Колодуб, сказал ему:
— Петро! А, Петро! Вроде как не узнаешь меня? А я когда-то твоим командиром был.
— Помню, как же! И молодого тебя помню. Может, и ты не забыл? Мы у Григория Охрименко свадьбу готовили, курам головы рубали. А ты до стены отвернувся и, смотрю, глаза закрыв. Шо ж с тобой сталося, Савочка? Ты ж теперь людям, я знаю, головы рубав.
Яценко мрачно выслушал слова Колодуба. Помолчал. И, лишь когда тот хотел было отойти, Яценко поднял голову, спросил:
— Скажи, Петро, меня до батьки в Гуляйполе повезут, чи тут порешите?
— То не моя забота. То як Сёмка Каретников распорядится. Он пока командует армией.
— Слыхал, — Яценко поворочался в тачанке, удобнее усаживаясь, попросил: — Подойди поближе, Петро. На два слова.
— А у меня од их секретов нету, — указал Колодуб на Кольцова и стоящих здесь же сопровождавших его красноармейцев.
— С большевиками спознались! — упрекнул Колодуба Яценко. — Не будет вам от них добра! Ох, не будет!
— Смолкни! — оборвал его Колодуб. — Ты уже все свое отколдовал.
Яценко помолчал, словно осмысливая сказанное Колодубом, и снова попросил:
— Ты все ж подойди.
Колодуб подошел.
— Поближе.
И когда Колодуб наклонился к нему, Савелий зашептал:
— Просьба у меня. По секрету. Не для чужих ушей. По старой памяти…
— Говори. Степь кругом, никто не услышит.
— А те? — Яценко указал глазами на Кольцова и красноармейцев, деликатно отошедших в сторону.
— А тем ты, Савочка, як коняке пятая нога. Да и у нас с тобой уже нету никаких секретов. Я так понимаю, уже и не будет. Говори, чего тянешь! — начинал злиться Колодуб.
— Ты, Петро, не вези меня до Каретникова. Стрельни тут, в степи, — горячечно зашептал Яценко. — Скажешь, в бою застрелили.
— Шо тебе от того, где пулю примешь? — равнодушно спросил Колодуб. — Так хоть поживешь еще часок-другой, а то и сутки. Еще увидишь, як сонечко утром встает.
— Сыны у меня. Трое. Пусть думают, шо батько в бою загинул.
— Понимаю тебя, Савочка. Но ничем помочь не могу, — отходя от тачанки, сказал Колодуб. — В бою бы встренулись, другой коленкор. Сполнил бы твою просьбу. А в безоружных людей стрелять не приучен. Звиняй, не договорились, — и он кивнул возчикам: — Паняйте!
Тачанка тихо тронулась по дороге. Ее вновь обступили трое конных. Не почетный эскорт, охрана. Чтоб не сбежал бандит и чтоб другие бандиты его не попытались освободить.
— Петро! Петро! — издалека прокричал Яценко. — Скажи, что б хоть веревки чуток ослабили! Больно!
— Езжай, езжай! — равнодушно отозвался Колодуб и вдруг вскинулся, зло закричал: — А тем четырем пацанам, шо ты на Егоровой балке порубал, им як, не больно было? И деду Макару из Великой Лепетихи, шо ты на воротах повесил, не больно? Езжай, езжай! Сам себе судьбу выбрал!
Тачанка с пленными поплелась по дороге.
А из-за кургана тем временем появилась странная кавалькада. Вслед за бравым всадником, тяжело переваливаясь на колдобинах, тащились четыре вместительных телеги, груженные различным крестьянским скарбом. Тут можно было увидеть и самовар, и настенные часы, подушки и одеяла, бочки, кастрюли, корыта, туго набитые чем-то мешки и деревянные ящики. На последней телеге ехала даже клетка с двумя десятками кур, а сзади, привязанная к задку телеги, плелась коза, она на ходу хватала подмерзшие стебли травы и увлеченно их жевала.
— Это ещё шо за дела? — гневно спросил Колодуб, когда телеги поравнялись с ним.
— У их спросить, дядько Петро, — указал молодой махновец на группку безоружных бандитов, окруженных всадниками. — За бугорочком стояло. Видать, ихние трохеи. Людям бы раздать, так нема туточки поблизу ни одного села. Мы ришылы до штабу доставить, хай начальствие распорядыться.
— Правильно, сынки, — согласился Колодуб. — Добро, оно и есть добро. Хоть тут и ничого путного, а все ж. Чого його на ветер кидать. Пошлем батьке в Гуляйполе. Вин там ранетый, пускай порадуется. Может, Сёмка Каретников як-то по-другому распорядыться, то его начальственное дело…
Замыкали кавалькаду всадники, которые впереди себя гнали оседланных лошадей. Это были честные трофеи, добытые махновцами в бою с бандитами батьки Яценко.
Колодуб вместе с Кольцовым двинулись к «форду». Красноармейцы и Бушкин все это время сидели в кузове, обсуждая происшедшее. Еще минуты назад они были готовы умереть в бою, а сейчас уже посмеивались над какими-то байками Бушкина.
При приближении Кольцова и Колодуба, они спустились на дорогу и выстроились вдоль кузова.
Колодуб только сейчас по-хозяйски обошел автомобиль и, ни к кому не обращаясь, вынес свой вердикт:
— А коняка все-таки лучшее!
Кольцов улыбнулся, но промолчал.
Колодуб спросил у Кольцова:
— Она шо ж, до вас прикрепленная?
Вместо Кольцова ответил шофер Артем Кошевой:
— Тут такая диспозиция. Велено доставить товарища комиссара на место, и тут же вернуться обратно, — доложил он.
— Ну, так чего стоишь? Паняй, засветло вернешься. Только глядите по сторонам. Тут по степам еще две-три банды гуляют. С одной мы на днях под Мелитополем встренулись. Но она шустрее нас оказалась. Втекла. Теперь тоже где-то тут мотается.
— А товарищ комиссар как же? Я по приказу его до самого места обязан доставить, а уже потом возвращаться.
— Ты за товарища комиссара не беспокойся, считай, он уже на месте, — сказал Колодуб. — Вернешься, все как есть расскажешь. Моя фамилия Колодуб. Скажешь, ты товарища комиссара мне из рук в руки передал.
— А может, это… Ну, может, какую бы бумажку дали. Для отчетности, — засомневался Кошевой.
Кольцов достал из командирской сумки «вечное перо» и четвертушку бумаги и, пристроившись на капоте автомобиля, черкнул несколько слов: «Я и Бушкин в расположении повстанцев. Кольцов» — и вручил записку Кошевому.
— Отдадите Гольдману из хозуправления.
— А как же! Записка — это совсем другое дело! А то мало ли чего, вдруг бы не поверили, — приговаривая, Кошевой уселся на свое водительское место, рядом с ним устроился один из пулеметчиков.
Уже выглянув из кабины, Кошевой спросил:
— Товарищ комиссар, а, может, все же довезу?
— Паняй, паняй! — отпустил его Колодуб. — Мы дедовским способом, на конячках. Утекать нам не от кого, скорость не требуется.
Кольцов все же заботливо спросил:
— Доедете? Автомобиль-то исправный?
— А что ему, — улыбнулся Кошевой. — Разве что малость перегреется. Так нам тоже спешить некуда. А так она не хуже коня, окромя воды и бензина ничего не просит.
Тихо заурчал мотор. Кольцов приветливо взмахнул рукой:
— Спасибо вам! За всё!
Автомобиль развернулся и, обдав остающихся на дороге Кольцова, Колодуба и Бушкина синей гарью, резво побежал к Аскании-Нове.
А Кольцов и Бушкин вслед за Колодубом спустились в небольшой распадок[21], где их ожидали две пулеметные тачанки.
* * *
Отдохнувшие кони резво бежали, тачанки мягко покачивалась на раскисшей за день дороге. Вокруг было по-зимнему неуютно, пустынно.
Кольцов какое-то время сидел, опираясь на холодную станину пулемета. Заметив это, сидевший впереди, рядом с ездовым, Бушкин сгреб в охапку сено, выстланное на дне тачанки, и заботливо притрусил им станину.
Кольцов благодарно ему кивнул.
Солнце клонилось к закату.
«Каким длинным оказался день, — в полудреме подумал Кольцов. — Каховка, дорога, танк, разоренная Черная Долина и почти нетронутая войной Аскания-Нова… Колдун, налет бандитов и неожиданное спасение… И все это за один короткий зимний день! А он еще не кончился, и кто знает, что еще приготовила ему на этот день судьба?»
Колодуб тоже тихо подремывал. Обогнали тачанку со связанным Савелием Яценко. Он сидел, низко опустив голову. О чем он думал? Может быть, тоже о догорающем дне, который круто развернул его жизнь и, кажется, собирался поставить в ней точку.
Когда они поравнялись с Яценко, он не посмотрел в их сторону, даже не шевельнул головой.
Затем они стороной объехали идущих по грязной дороге пленных бандитов. Молодые, крепкие парни, они бодро шагали по дороге, заранее зная, чем кончится их день. Пожурят, распишут по сотням, и отправят спать куда-то на сеновал. Что будет завтра, они не знали, да и не особенно стремились узнать. Были уверены, что о них подумает их новый командир, и завтрашний день не будет отличаться от последующих. Они были нужны войне.
Кольцов поворочался, поудобнее устраиваясь в тачанке.
— Я думал, ты спишь, — сказал Колодуб.
— Думаю…
— Полезное занятие, — хмыкнул Колодуб.
— Все понимаю, а этого никак понять не могу, — сказал вдруг Кольцов. — Какая гадалка подсказала тебе выехать сюда меня встречать? В самом деле, как ты до этого додумался?
— Ничого хитрого, — сдвинул плечами Колодуб и указал назад. — На том перекрестке вы должны были повернуть на Владимировку.
— Ну, правильно.
— А мы остановились в Громовке.
— В какой еще Громовке? — удивился Кольцов. — Вы же в штаб фронта сообщили, что стоите во Владимировке.
— То батькови хитрости. Он завсегда ночует не там, где все думают, — пояснил Колодуб. — Если говорит, шо будет в Гуляйполе, сам ночует в плавнях, на Вовчей речке. Ты бы знал, як на батька охотятся! И белые, и красные, и всякие разные. И, заметь, уже не первый год. А ему хоть бы шо — ни разу неожиданно не застукалы.
— Ну и как бы я вас нашел? — слегка возмутился Кольцов. — Прямо, игры в прятки.
— Ты нас не найшов бы — мы б найшлы, — спокойно сказал Колодуб. — Мы во Владимировке втори сутки связника держим. А тут, в аккурат, ваш товаришок на Владимировку выйшов. Сообщив, шо вы выехалы. Каретников и послав, шоб я встренув. Шоб не блукалы по степам. И так, на всякий случай. Знав, шо где-то тут Савка Яценко села потрошит.
— Но я-то ему зачем? — спросил Кольцов. — Какая с меня бандиту пожива?
— Вопрос в точку. Я и сам сегодня об этом подумал, — сказал Колодуб. — Савелий — мужик хозяйственный, не стал бы без выгоды за вами гоняться. Может, откуда-то узнав, шо вы персона важна? Может, хто попросыв об одолжении, у кого до вас интерес есть?
Солнце стало быстро клониться к горизонту. Где-то совсем недалеко тяжело плескался соленый Сиваш, и от него потянуло колючим ветерком. Под копытами стал слегка похрустывать молодой ледок.
Колодуб долго молчал, задумчиво глядя на дорогу, а потом снова обернулся к Кольцову:
— Я Каретникову подскажу. Интересный вопрос. Нехай он у Савки все повыспросит. Каретников умеет так выспрашивать, шо ему, як попу на исповеди — все открывают.
Глава шестая
Громовка в одночасье ожила. Со времени основания это унылое волостное татарское село не видело столько людей.
Ещё дня два назад на взмыленных конях сюда влетели несколько всадников-квартирьеров и стали торопливо прочесывать улицы, выбирая дома для размещения штаба махновской Повстанческой армии, госпиталя и других армейских служб.
К вечеру с мелитопольского тракта сюда, в Громовку, завернула почти вся махновская армия. Осторожный и недоверчивый Нестор Махно больше тысячи бойцов оставил при себе, в Гуляйполе. На всякий случай. Около четырех тысяч во главе с Семеном Каретниковым запрудили громовские улицы. И почти до самого утра махновцы, тесня хозяев, размещались в домах и других строениях. Жилья на всех не хватало, и устраивались в клунях[22], сараях, хлевах и конюшнях.
Скрипели тачанки, ржали лошади. Горластые махновцы ссорились и едва ли не дрались друг с другом из-за какого-нибудь курятника или бани. Лишь к утру на какой-то час-полтора все в изнеможении затихли.
Начальник связи Михаил Дерменжи поднял на крыше хаты, занятой под штаб, высокую деревянную мачту. И еле-еле стоявший на ногах от недосыпания исполнявший обязанности командира Повстанческой армией Семен Каретников, прежде всего, связался с Гуляйполем и доложил Махно о том, что, захватив Мелитополь и Акимовку, армия разместилась возле самого Сиваша, и до Крыма отсюда рукой подать.
— Постарайся, Сёмочка! Крым нам як воздух нужен, — ответил Каретникову Махно.
Второе сообщение Каретников отправил в штаб Южного фронта. Придерживаясь извечной тактики Нестора Махно «не класть все яйца в одну корзину» и не быть ни с кем откровенным до конца, он сообщил Фрунзе, что Повстанческая армия разместилась во Владимировке. На самом же деле, туда он отправил всего лишь один полк и держал там несколько связников. Каретников тоже, как и Нестор Махно, не слишком доверял большевикам.
В Старобельске, во время переговоров с делегацией Красной армии о перемирии и совместных действиях, Махно был, но на совещании не присутствовал. Недели за две до совещания во время боя пуля раздробила ему ступню. Тяжелейшее ранение. Встал вопрос об ампутации ноги. Нестор обратился за помощью в Москву. Нарком здравоохранения Семашко прислал к нему лучших хирургов, они сделали почти невозможное: спасли ногу.
Но даже на койке, претерпевая мучительные боли, Нестор внимательно следил за ходом переговоров: ему ежедневно сразу же обо всем подробно докладывали. Он сам редактировал некоторые пункты соглашения и отстаивал каждую свою строку.
Когда закончились переговоры, Нестор пригласил к себе самых доверенных своих командиров и, подводя итоги совещания, сказал:
— Не очень хороший договор. Где-то в нем заложена брехня, но где, я пока не поняв. Но она тут есть, слишком легко большевики сдавали свои позиции. Так шо смотрите, хлопцы, в оба. Не на все пуговки расстегивайтесь.
Размещая основные силы армии в Громовке, Каретников осторожничал: в случае какой-либо каверзы со стороны большевиков, даже небольшая фора во времени имела значение.
* * *
Колодуб привёз своих пассажиров в Громовку уже затемно. Их разместили в чистенькой горнице с бумажными цветами, украшающими портреты юных хозяина и хозяйку, с вышитыми рушниками, развешанными над божницей и по стенам.
Уже немолодая хозяйка, в которой с трудом можно было узнать ту юную красавицу с портрета, предварительно постучав, встала в проёме двери. Смущённо поздоровалась, спросила:
— Не желаете умыться с дороги? Я согрела воды, — и затем добавила: — Могу подать чай. Только он у нас свой, громовский, заваренный смородиновым листом.
Едва они умылись, вернулся отлучавшийся куда-то Колодуб. Положил на стол завёрнутый в холстину свёрток.
— Это — на вечерю. Каретникову о вашем прибытии доложил. Просил с дороги отдохнуть, а с утра уже встренетесь.
Ночью Кольцову не спалось. Он ещё и ещё раз пересматривал события прошедшего дня. Но больше всего размышлял о последнем приключении. Эта встреча с «колдуном» Яценко, как постепенно начинал понимать он, была вовсе не случайной, и его легкомыслие едва не стоило им с Бушкиным жизни.
Похоже, «колдуна» интересовал именно он. Яценко следил за его поездкой едва ли не с самой Каховки. Но вот загадка, зачем он Кольцову открылся? Мог бы спокойно наблюдать за ним со стороны и, если это входило в его намерения, в подходящий момент пленил бы его или убил. А он едва ли не от самой Каховки мелькал у него перед глазами. Что это, бравада? Эдакая игра в кошки-мышки, где ему отводилась роль мышки? Или здесь что-то совсем другое? Допустим, где-то в Особом отделе или в Штабе фронта сидит хорошо законспирированный враг. Но почему он обратил свой взор именно на него? Кому он нужен? И зачем?
Придремал Кольцов уже под утро.
Разбудил его и Бушкина заполошный петух, такой же голосистый, как и его французский собрат из Флёри-ан-Бьер. Опасаясь, что и этого красавца украдут, как до этого украли всех её кур, хозяйка держала его возле себя, поселив в своей спаленке.
Наскоро одевшись, они решили прогуляться, познакомиться с бивуачной жизнью повстанцев. Старый рыжий пес, страж дома, завидев их, не выбрался из своей конуры, лишь выполняя возложенную на него должность, пару раз брехнул в их сторону.
Громовка тоже уже не спала. Дворы, огороды и улицы были заставлены пулеметными тачанками, возами, арбами и крытыми брезентом санитарными телегами. Перекрикивались через улицу ездовые. Фуражиры развозили невесть где раздобытое сено, и кое-где из-за него возникали ссоры. Подвоза сена не было уже третьи сутки и оголодавшие кони вставали на дыбы, грызли дерево тачанок и возов и сердито ржали. Торопливо проносились по своим спешным делам всадники. Стояли шум, ругань…
Всё это было похоже на цыганский табор, такой же суматошный и крикливый.
Кольцов и Бушкин ходили по улицам в той же большевистской, командирской одежде, и почти никто не обращал на них никакого внимания. Ни один человек, хотя бы даже из интереса, не остановил их и не спросил, кто они такие и почему здесь. Если кто-то их и замечал, то лишь с интересом и даже удивлением смотрел им вслед. Не более того.
Когда возвращались обратно, один их ездовых долго провожал их взглядом. Потом обогнал их, повернулся, пошел навстречу. Кольцову показалось, он пристально всматривался в его лицо, мучительно пытаясь что-то вспомнить. Вновь догнал их, пошёл рядом. И, лишь пройдя полквартала, мужик вдруг сказал:
— Драстуйте! Чи не призналы?
Кольцов внимательно оглядел махновца. Невысокий, цыгановатый, уже далеко не молодой. В обтрепанной и прожжённой возле костров одежде, он был Кольцову не знаком.
— Я — Петро, — напомнил махновец.
— А я — Павло, — дружелюбно улыбнулся Кольцов.
— Я вас зразу признал, — сказал махновец. — Живи, здорови?
— Как видишь, живой, — ответил Кольцов, понимая, что махновец попросту ошибся.
— Во! Видать, не судьба! Видать, вам тогда друга карта выпала. Червова чи бубнова.
«Тогда»! Кольцов начал напряженно вспоминать. В какое-то мгновение ему показалось, что когда-то давным-давно он уже видел этого человека, или похожего на него. Но когда? И где?
— Ты бы, Петро, напомнил, где мы с тобой встречались? — спросил Кольцов.
— Не помните? — удивился махновец. — Ну, як же! Вы в штабу у Нестора Ивановича, на Вовчей речке. Мне, если помните, тода поручили вас… тое самое… ну, отвести… — мялся махновец.
И Кольцов вдруг вспомнил ту узкую тропу вдоль речки Волчьей, утреннего рыбака с уловом. Даже душистый запах полыни…
— До кривой вербы? — напомнил махновцу Кольцов.
— О! Бачьте! Вспомнили! — обрадовался тот. — До вербы ще далеченько было, ага. А у меня, як на грех, гвоздь в ботинке вылез. Впился в ногу, спасу от боли нема. Иду и думаю, ну, зачем ему до крывой вербы? Яка ему — вам, значить — разница, дэ лежать. Стрельну, думаю, тут, и сразу ж сниму ботинки.
— А ты б сперва снял ботинки, — совсем будничным тоном посоветовал Кольцов, словно речь шла вовсе не о нем, и на расстрел Петро вёл не его.
— А нельзя! При сполнении нельзя, шоб не по форме. Нестор Иванович рассердятся, если хто доложит.
— Да кто ж там мог доложить?
— А напарник. Или хто другой. У Нестора Ивановича везде свой глаз. Даже там, где его не должно быть! — Петро удивлённо покачал головой: — Это ж надо, где встренулись!
— А могли ведь больше и не встретиться, — улыбнулся Кольцов и, между прочим, спросил: — А напарник твой, он тоже здесь?
— Федька Лукьянченко? Нема Федьки. Убили его… — И, вздохнув, добавил: — Видать, ему пиковая карта выпала.
— И кем же ты здесь, в армии? — поинтересовался Кольцов.
— При пулемёте. В полку у Фомы Кожина.
— Ну, будь здоров, Петро. Рад, что мы всё же на этом свете встретились. — И, пожимая махновцу руку, Кольцов сказал: — Ты, когда будешь стрелять в человека, сперва немного подумай. Может, и не захочется курок нажимать.
— Э-э, не! Хоть вы теперь и большой начальник, а совет ваш никудышней, — не согласился Петро. — Если б я в бою думав, мы с вами уже точно не встренулись. Там, хто быстрее, тот и живой. Я, слава тебе, Господи, быстрее был.
— В Бога веришь?
— А вы — нет? — в свою очередь, спросил Петро и, словно уличив Кольцова в обмане, укоризненно покачал головой. — Верите! Иначе мы б с вами уже, точно, не встренулись.
* * *
Штаб Повстанческой армии разместился на небольшой сельской площади в доме купца Болбачану, который в семнадцатом году предусмотрительно бежал к себе в Румынию, оставив при доме в качестве охраны свою далекую родню.
Родичи купца не знали ни русского, ни украинского языка, а сельчане не знали румынского. Так они и жили, два народа в одном селе, никак друг с другом не соприкасаясь.
Махновцы оставили их при штабе, но переместили в пристройку для прислуги. С утра и до вечера пожилая румынская пара сидела на скамейке у распахнутых ворот и, ничего не понимая в происходящем, лишь иногда тяжело вздыхая, молча наблюдала за суетной штабной жизнью. Временно исполняющий должность командира Повстанческой армии Семен Никитович Каретников встретил Кольцова радушно, слегка обнял, повёл к обеденному столу, заменяющего канцелярский, усадил. И лишь после этого сказал:
— Много про вас слыхав.
— От Нестора Ивановича?
— И от него тоже. Это он попросыв Фрунзе, шоб вы представлялы тут, у нас, Красну армию.
Кольцов промолчал. Он исподволь присматривался к этому человеку, с которым ему предстояло прожить не один день и на равных заботиться об успехах их общего дела. Круглолицый, высокий, с усами «под Нестора Ивановича», он производил впечатление человека мягкого, сговорчивого. Но как позже убедился Кольцов, внешность Каретникова была обманчива. Был он трудно сговорчивым, на редкость упрямым, а порой и излишне жестоким.
Свой кабинет он расположил в большой гостевой горнице, обставленной с дешёвым купеческим шиком, где с трудом уживались рядом ампирная мебель и тяжелые, кованные медью неуклюжие и тяжелые крестьянские сундуки (скрыни), сулящие счастливую жизнь. Вырезанные из кости слоники соседствовали с богатым майсенским фарфором, дорогие картины — с бумажной мишурой. Лишь большая и подробная карта Крымского перешейка потеснила на одной из стен бумажные цветы.
Кольцову понравилось, что Каретников не сделал в кабинете никаких перестановок. Это говорило о нём, как о человеке деловом, целеустремлённом, не обращающем никакого внимания на свой быт, на удобства, уют.
Каретников тоже выжидал паузу. Они, как боксеры, ожидавшие гонга, откровенно рассматривали друг друга. Затем Каретников спросил:
— Ну и как жить будем? Скажу сразу: не люблю, когда шо-то в себе, а потом где-то там кому-то на ушко. Люблю, шоб — в глаза. Само злое, но — в глаза.
— Сойдёмся, — коротко сказал Кольцов.
— И давай зразу, ще на берегу договоримся. Советы воспринимать буду, а вот командовать вдвоём не умею. И привыкать не стану. Шо не по нраву — скажи. Если соглашусь, исправлю. А если не исправляю, стерпи. И не мешай. Это тебе не Красна армия, где вы мужика по струнке строите. У нас вольнолюбивые мужики, с характерами. Деды-прадедеды запорожскими казаками булы. Приказами имы не покомандуешь. Ладком з нымы надо, уговорамы. А не то, на коня — и до дому!
— Для меня это не слишком привычно, но понятно, — вопреки ожиданиям Каретникова, Кольцов не насупился, а, наоборот, дружелюбно ему улыбнулся. — Думаю, мы не только сработаемся, но и сдружимся.
Дверь в кабинет резко распахнулась, и в проеме встал высокий сутулый усач с обмотанной шарфом шеей.
— Шо тебе, Петро? — Обернулся на дверь Каретников и затем, взглянув на Кольцова, представил вошедшего: — Мой начальник штабу Гавриленко!
Начальник штаба двинулся к столу, а следом за ним в горницу с опаской протиснулись человек десять взъерошенных мужиков.
— Вот, Семён, до тебя просются, — простуженным голосом сказал Гавриленко, но, поймав на себе гневный взгляд Каретникова, сразу сориентировался: — Я и докладаю, Семён Мыкытович, до вас рвутся.
— Шо за люди? Откуда?
Мужики загалдели, перебивая друг друга. Каретников пытался что-то понять, но не смог. И тогда он грохнул кулаком по столу, крикнул:
— А ну! Ти-хо! Шо за цыганский табор? Нехай хтось один ваше дело перескаже! Хто пограмотнее!
Мужики посовещались и вытолкнули из своего круга маленького тощего мужичка в сбитом на затылок заячьем треухе. Вид у мужичка был задиристый, он походил на драчливого петуха.
— Мы, как бы это сказать, от общества… как её… делегация, — начал мужичок. — Дело у нас простое. Сами мы — иркутские, там совецку власть устанавливали. Ванька Романов нас до кучи собрал и обманом сюда. Назвали Тридцатой сибирской. А тут…
Мужичок в нерешительности смолк, оглянулся на своих.
— Говори, чего там!
— Выкладай всё, без утайки! — поддержали своего выдвиженца мужики.
— Я и говорю! Поглядели мы на совецку жисть, пока сюда ехали, и промеж себя так решили: нам такая совецка власть пока ещё не очень подходит. Мы бы и не против, но чтоб без большевиков, — закончил мужичок-грамотей свою речь.
— Нам бы до вас! Очень нам вашая власть нравится, — сказал кто-то из «делегатов».
Каретников выразительно взглянул на Кольцова, дескать: обрати внимание! Но тот слушал, никак не выказывая своего отношения к происходящему. Махновщина уже давно стала явлением, распространившимся за пределы левобережья Днепра, и он, отправляясь сюда, был готов к подобному.
— А откуда вы знаете, какая у нас власть? — спросил Каретников.
— Известно какая — анархическа. Мы там, у себя в Сибири, ваши листовки читали. И уже здесь с мужиками толковали. Большинство сходится на том, что нам её подменили…
— Кого? — не понял Каретников.
— Я и говорю, совецку власть, — несколько стушевался грамотей. — Обещали одно, а выдали, вишь ли, другое. Как на ярмарке. Там тоже такое фармазоны проделывают.
— И чем же это перед вами большевики провинились? — не выдержав, вмешался в разговор Кольцов.
— Чем, чем?… — стушевался оратор. — Известно, чем…
— Землю ещё в семнадцатом обещали раздать, а где она? — пришел на помощь грамотею кто-то из его окружения.
И посыпалось.
— Последнее из амбаров выгребают!
— Продотряды, заградотряды!
— Слух прошёл, коммунии затеяли.
— У их там всё обчее, даже бабы.
— Я свою отдал бы в коммунию, можа мне каку помоложее выпишуть, — осклабился своим беззубым ртом дедок.
— Тихо! — придя на помощь Кольцову, вновь повысил голос Каретников. — Шутки в таком деле не принимаю. Я и сам, если по делу, могу пошутковать. Если вы с Сибири до нас за землёй пришли, то вон за Сивашом Врангель. Он ещё летом манифест насчет земли объявил.
— Врангель нам не подходит. Он не задаром — продавать её будет. А кто купит? Известно, богатеи. Тот же помещик.
— Всё знаете, а дураки! — сказал Каретников и, выждав, когда все смолкнут, перешел на доверительный тон. — Хочу открыть вам один секрет. Это уже без всяких шуток. Малость вы опоздали. Чуток бы раньше, приняли бы вас до себя с дорогой душой. А сейчас — всё! Лавочка закрылась!
— Это как же ваши слова понимать?! — в недоумении выкрикнул грамотей. — Как отказ?
— Правильно понимаете. Дело в том, шо теперь мы с большевиками, як родные братья. За одно обчее дело воюем. Договор с ними заключили. Нерушимый. Все равно, як клятву.
Мужики вновь загудели, горячо обсуждая между собой эту новость, и двинулись к столу, обступили его.
— И шо вы мне предлагаете? Принять до себя дезертиров? — спросил Каретников, вглядываясь в их лица. — Нарушить клятву?
— Нам никак нельзя назад! — в отчаянии сказал грамотей. — Даже, можно сказать, невозможно!
— Ну и як мне в таком разе быть? Вас к себе принять не могу, не имею никакого такого права. А до большевиков вы не хотите возвертаться. Вот и подскажите мне, як поступить, ничего более подходящего не могу для вас придумать.
— Не подскажем! Знаем только, что нет у нас обратной дороги! — принял на себя ведение переговоров молодой высокий мужчина с впалой грудью и побитым оспой лицом. Он легко отодвинул в сторону прежнего оратора, словно смахнул со стола ненужную бумагу, и приблизился к Каретникову. Голос у него был низкий, и говорил он неторопливо, но весомо: — Среди нас много революционеров, есть и сибирские анархисты. Мы с вами люди одной крови. Если вы революционеры, как называете себя в своих листовках, то должны нас принять. Но дело даже не в этом…
— Так в чём же? Растолкуйте!
— Мы — всего лишь делегация. А неподалеку отсюда, в Строгановке, вашего ответа ждут ещё около тысячи человек. Уходя от большевиков, мы крепко хлопнули дверью: разоружили своих командиров, расстреляли политкомиссаров. Вы думаете, они простят нам это?
В горнице стало тихо.
Задачка оказалась не из простых. Возвращение грозило всем им расстрелом. Иного не могло быть во фронтовых условиях.
Мужики тихо, с какой-то отчаянной надеждой смотрели на сидевших перед ними Каретникова, Гавриленко и Кольцова. Но их лица были непроницаемые и бесстрастны. Каждый из троих по-своему пытался решить эту сложную головоломку, но её разгадка всё никак не приходила никому из них на ум.
Каретников, отличающийся в делах твердой решительностью, может быть, впервые был поставлен в такое сложное положение. Он понимал, что иного выхода, кроме как принять их в свою армию, у него нет. Но ведь это прямое нарушение Старобельского соглашения, и поэтому он ждал, какое решение выскажет Кольцов.
А Кольцов молчал. Он понимал, что не сможет послать на смерть тысячу человек и будет вынужден дать добро на присоединение этих дезертиров к Повстанческой армии. Но все же… они покинули пределы дивизии не по легкомыслию, а по причине несогласия с политикой партии большевиков. И они ведь не бегут от фронта, и хотят продолжить воевать против Врангеля.
После очень долгого молчания, во время которого Каретников никак не мог найти достойный выход, его вдруг осенило. Он решительно сказал:
— От шо, хлопцы! Ступайте на улицу, трошки там перекурить, а мы недолго посовещаемся. А потом начальник штаба доложит вам наше окончательное решение.
Сибиряки неторопливо и неохотно, ничего не добившись, двинулись к выходу. У двери самый старый из них задержался в проеме двери:
— Не хотел бы я быть на вашем месте, а все же решить по справедливости, — сказал он. — Все мосты мы перед собой спалили. Идти нам некуда, окромя как до вас. Или в банду записываться.
— В банду не советую, — бросил Каретников вслед уходящим сибирякам. — Банды мы тоже изничтожаем!
Когда стихли их удаляющиеся по коридору шаги, Каретников вопросительно посмотрел на Кольцова.
— Какого ответа ты от меня ждешь? — спросил Кольцов.
— Для себя я решив, — сказал Каретников. — И честно тебе скажу: мое решение супротив нашего Старобельского соглашения. От я и хочу послухать, як ты, представитель Фрунзе, на это посмотришь?
— Я, пожалуй, присоединюсь к твоему решению. Если, конечно, я правильно его угадал.
— Ну и як же ты его угадал? — спросил Каретников.
— Забирай их до себя, Семен Никитович! Никакие они не враги советской власти. Просто, заплутались люди в этой круговерти. Раз уж мы союзники, то какая разница, где они будут воевать. Главное, чтоб против Врангеля. А после войны, кто жив останется, сами разберутся, какая сторона им больше по душе: большевистская или махновская.
— А тебя за это не турнут из комиссаров? — хитровато улыбнулся Каретников. — Все ж против вашего закона идешь.
— Зато не против своей совести.
— Эх, золоти твои слова. Если б там, у вас, все такие были, я б и сам в большевики записался, — обрадовался ответам Кольцова Каретников и, дружески хлопнув его по плечу, добавил: — Не зря Нестор Иванович тебя у Фрунзе просил. Теперь и я понял: сработаемся мы с тобой. До гадалки не ходи: сработаемся.
Гавриленко поднялся.
— Так я пойду, сообщу им наше решение.
— Постой! Скажи Петру Пономаренко, пускай забирает их до себя. Он где квартирует?
— В Ивановке, рядом со Строгановкой.
— От, до него! И распорядись, шоб Серегин поставил их на довольствие. Ну и всё остальное…
— Понял! — и Гавриленко удалился.
Кольцов тоже поднялся, не хотел больше отнимать у Каретникова время.
— Не торопись, — попросил его Каретников.
Кольцов вновь присел на стул.
— Ты просил узнать, почему тобой заинтересовался Яценко. Ты ему ниякым боком. Его попросили. Тобою давно интересуется врангелевская контрразведка. Видать, ты кому-то там насыпав в штаны перцу.
— Не понимаю, — пожал плечами Кольцов. — Не могу представить, какой интерес я могу сейчас представлять для Врангеля. Не больший, чем любой другой чекист.
— Яценко говорит, с ним какой-то ваш вел переговоры. Большие деньги за тебя обещал, аванс дал.
— Интересно… — задумчиво сказал Кольцов.
— Говорит, тот, шо ему задание давав, все про тебя знает. И когда из Харькова приехал, и когда и на чем в Сиваши выедешь.
— И всё же, что-то Яценко недоговаривает.
— Какой ему смысл? Он всю свою жизнь уже наперед знает. Ты, говорит, ему уйму хлопот доставил. Сказали, будешь ехать на тачанке. Перешарил глазами все тачанки. А, оказалось, ты — на автомобиле. Не сразу понял, шо ты — это ты… От и все, шо я сумел од Яценко узнать.
— Сплошной туман, — вздохнул Кольцов.
И в самом деле: в Штабе фронта или где-то там находится хорошо законспирированный врангелевский агент. Это вполне возможно. И на Яценко, бандита, легко перемещающегося по Северной Таврии, мог каким-то способом выйти. Нет ответа только на самый главный вопрос: кому и зачем на той стороне понадобился именно он? Любой штабной работник представлял бы там куда большую ценность. Рисковать ради него агентом, хорошо внедрившимся во фронтовые структуры, было весьма расточительно, если не сказать, глупо.
— Слушай, а, может, через Яценко можно каким-то способом выйти на этого агента? — спросил Кольцов. — Как-то же они ведь общались.
— В том-то и дело, что никак… — ответил Каретников. — Об этом я подумал. Даже как выглядит этот агент, Яценко не может сказать. Дважды с ним встречался, и всё — на улице, в темноте… Нет, ничего он за пазухой не оставил. Всё бы выложил. Попытался бы выкупить свою никчемную бандитскую жизнь. Любую бы цену заплатил, если бы было чем платить.
Каретников прошел к окну, глянул на улицу, мрачно произнес:
— Подмораживает!
Кольцов встал.
— Извини, — сказал он, — что отнял у тебя столько времени.
— Ты не извиняйся. Делаем общее дело. Заходи, когда надо и когда захочется. Таить от тебя ничего не собираюсь. Надеюсь, и ты ответишь мне тем же, — провожая Кольцова до двери, сказал Каретников.
* * *
Судили Яценко в большом пустом амбаре, по которому с весёлым чириканьем носились, перелетая со стропила на стропило, воробьи. Собрались все, кто был свободен от охранных и различных хозяйственных дел. Фуражиры подвезли к амбару две телеги соломы, махновцы выстлали земляной пол и расселись вокруг заранее принесенного сюда стола и двух скамеек: одну — для членов трибунала, другую — для провинившихся.
В амбаре было сумеречно, и даже несмотря на солнечную погоду, над столом повесили большую керосиновую лампу — десятилинейку, но и она освещала над собой только небольшой круг.
Каретников хотел усадить Кольцова и Бушкина, как почетных гостей, на скамейку у стола, но они отказались.
— Мы уж где-нибудь в уголочке, — сказал Бушкин, высматривая местечко у стенки. Там стояла сломанная телега, и они комфортно на ней разместились.
С самых первых дней Кольцов отказался от давления на Каретникова: Старобельское соглашение махновцы подписали сами, добровольно, по инициативе Нестора Махно, и несли ответственность за каждый свой поступок. Батько уже явственно видел впереди близкое окончание войны и боялся упустить возможные выгоды по её окончании. Особенную надежду он возлагал на то, что большевики отдадут для его анархического эксперимента Крым. Он собирался всему миру показать, что такое анархическое государство, в котором будут все одинаково богаты и счастливы.
В задачу Кольцова входило наблюдение за добросовестным выполнением махновцами соглашения. И только если случится что-то непредвиденное, он был обязан спешно известить Штаб фронта. Но, как ему показалось, махновцы были настроены по-боевому, и никаких коварств от них ожидать не следовало. Каретникову он поверил сразу и бесповоротно.
Первыми в амбар ввели Яценко и его верного соратника, красавца-усача Стриженюка. Всегда загорелое на солнце и ветрах, лицо Стриженюка было неправдоподобно бледным. Увидев на соломе своих бывших соратников, он опустил голову и прибавил шагу, чтобы поскорее дойти до скамейки. Затем в амбар торопливо вошел Каретников, за ним последовали члены трибунала Евлампий Карпенко, Филипп Крат, Фома Кожин и Петро Колодуб.
— Встань, Яценко! — приказал Каретников.
Яценко торопливо поднялся. Подхватился было и Стриженюк, но Каретников жестом остановил его.
— Не торопись, Михайло! Дойдет очередь и до тебя.
Стриженюк сел.
— Слухайте! — Велел Каретников, поднес к глазам листок, стал читать: — «Врангеля нет, а есть Русская армия, которой подадим руку и сомкнем стройные ряды, станем любить друг друга и освободим свою истерзанную Русь святую от комиссарского царства и создадим власть по воле народа». Ты писал?
— Я только подписывался. А писал тот… анархист Волин.
— Волин як был у нас, так и остался. А ты — до Врангеля примкнув. А потом и вовсе третью дорожку выбрав — в бандиты. И кого ж вы грабили, Савочка? Той самый народ, якый ты призывав до любови. И судим мы тебя не за те слова на бумажке. Бумажку порвав, ветер развеял. И не за то, шо под пакостнымы словами подписался. Все не без греха, не сильно грамотные. А за то, шо променял нашу революционно-анархическую армию на буржуазно-капиталистическую. Но и там не удержався. Подався в грабители.
Яценко слушал, всё ниже опуская голову.
— Если хочешь шо сказать, говори сейчас. Боюсь, скоро тебе уже будет поздно.
Яценко посмотрел на Каретникова, перевел взгляд на сидящих напротив него махновских командиров, бывших когда-то его товарищами, а теперь ставших его судьями. Они, как и Каретников, равнодушно смотрели на него. И он снова повернулся к Каретникову.
— Бес попутал! — выдохнул он. — Но я осознав…
— Шо ты крутишься, як собака за мухой! — Каретников указал в сумеречную глубину амбара. — Своим бывшим товарищам говори. Это они тебя судять.
— Понял! — торопливо согласился Яценко. Он снова обернулся к сидящим на соломе махновцам и громко выкрикнул: — Если можете, простите! Я ж с вами сколько годов! И мерзли, и голодали, и…
— Жалобить, Савелий, нас не надо! — оборвал его Каретников. — Лучше расскажи, як докатился до такой жизни!
— Понял! — снова поспешно согласился Яценко, но к Каретникову уже не повернулся. Ему даже показалось, что сидящие в сумерках махновцы, не в пример членам трибунала, смотрят на него участливо, даже с состраданием. И ему только надо найти какие-то особенные слова, и весь этот кошмар с трибуналом прекратится. Он уже поверил в это. Сглотнув слюну и откашлявшись, он сказал:
— А грабили мы только буржуев и тех… як их… капиталистов. И раздавали людям, которы неимущи…
— А тут ты уже брешешь! — зло оборвал Яценко Каретников. — Имеются доказательства твоей брехни. Он, во дворе, стоят четыре воза, с тобою и твоими бандитами награбленным. Ничего буржуйского я там не замитыв. Самовар, подушки, мешки с зерном, куры, коза. Не побрезговалы даже старым корытом. Эх, ты! Даже сейчас ты нам, бывшим твоим товарышам, в глаза брешешь. Видать, Савелий, ты всегда брехал. А я тебе когда-то верил. И другие тоже, — Каретников смолк, размышляя, чтобы ещё такое Яценко припомнить. Но подумал, что и этого достаточно. С досадой взмахнул рукой и грустно добавил: — А хорошим же воякой был.
В амбаре стояла тишина, лишь под крышей сварливо чирикали воробьи.
Вглядываясь в едва различимые в сумерках амбара лица махновцев. Каретников спросил:
— Может, хтось шо-то хорошее про Яценко скажет?
Но никто даже не шевельнулся.
— Бачь, не нажив ты, Савелий, хороших слов. А жизнь прожив длинну! — сказал Каретников Савелию, и затем спросил у сидящих на соломе махновцев: — Ну и як нам поступить с Яценко?
Из глубины амбара донесся шелест соломы и глухой гул. Махновцы вполголоса между собой советовались.
— Я скажу! — прозвучал из сумерек голос. — Я не за всех, я только за свою батарею.
— Не вижу, хто это? Назови себя!
— Цэ Белочуб!
— Говори, Пантелей!
— Мы тут промеж собою так рассудылы! Чем меньше будет плохих людей, тем меньше будет на свете зла. А чем меньше зла, тем лучшее будет наша жизня.
— О, завернул! — покачал головой сидящий за столом член трибунала Евлампий Корниенко. — Ты конкретно! Без энтих фиглей-миглей!
— А шо, хиба не понятно? Расстрелять без сожалениев!
И следом, из разных уголков амбара, послышалось:
— Смерть!
— Расстрелять!
— Якое мнение будет у членов трибунала? — спросил Каретников.
— Поддерживаем! — за всех судей ответил Фома Кожин.
И тут вскочил Яценко и, захлебываясь, стал сварливым голосом выкрикивать:
— Вы меня до батька, до Нестора Ивановича доставьте… Не имеете права… Нестор Иванович меня лучшее… А насчет курей и козы, так то… Мы с им ещё в семнадцатом…
Рядом с Яценко встали двое молодых махновцев. В одном из них Кольцов узнал давнего знакомого. Кажется, его звали Михаилом Черниговским. Махновцы тогда, в Харькове, его пленили при помощи свадебного кортежа. Мишка изображал невесту. Он и сейчас никак не изменился, всё такой же высокий, стройный, смуглый, с красивым, почти девичьим, лицом.
Черниговский положил на плечо Яценко свою ладонь, и он на полуслове смолк, словно его выключили.
— Исполняйте! — приказал Каретников, и Черниговский и его напарник подхватили Яценко под руки и повели из амбара.
Вдоль наружной стены амбара сидели на корточках человек двадцать махновцев из бывшей банды Яценко, тоже ждали решения своей участи. Их охраняли двое часовых.
Яценко с трудом перебирал заплетающимися ногами, но, увидев своих товарищей, подтянулся, стал тверже ступать.
— Прощевайте, хлопцы! Не так повернулось, як хотел! Не держите зла!
— Иди, иди! Бог простит! — отозвался один из бандитов. — Земля тебе пухом!
Остальные молча проводили его недобрыми взглядами.
После того как увели Яценко, Стриженюк заволновался.
— Пришла твоя очередь, Михайло! Встань! — приказал ему Каретников и затем спросил: — Скажи, як бы ты наказав Мишку Стриженюка, если б це був не ты, и тебе довелось бы его судить?
— Жить хочу, Семен Мыкытовыч! Жить…
— Все мы жить хочем. Но — война! И кому-то в землю придется лечь! Даже коза, якую вы у дядька украли, и она жить хочет. А у дядька, может, есть дети. И они жить хотят. Они ещё ни перед кем не провинились, а ты их уже наказав.
— Да ни, Семен Мыкытович! Пальцем не…
— Козу украл. А она детишков молочком поила. А теперь детишки голодають…
Суд повстанцев решил Стриженюка пощадить. Но постановили: всыпать двадцать плетей и, как проявившего себя в прежних боях хорошим пулеметчиком, определить в полк до Фомы Кожина.
Остальные бандиты тоже отделались легким испугом.
* * *
Вечером в дом, где квартировали Кольцов и Бушкин, наведался Колодуб. Стал в проеме двери, снял шапку.
— Проходи, Петро!
— Да ни! Я — на минутку. Попрощаться. Уезжаю. Отзывае Нестор Иванович. Видать, скучае. Может, якие слова передаете Нестору Ивановичу?
— Скажи ему, что ценю его дружбу, что всё плохое забыл, а хорошее помню. Надеюсь на встречу.
— Спасибо, передам в точности, — Колодуб полез в карман своего громоздкого кожуха и извлек оттуда литровую бутылку. — Цэ — вам для поправки здоровья.
— А вот этого — не надо! — сердито отказался Кольцов.
— Это — надо! — Колодуб сделал два шага и твердо поставил бутылку на стол. — Это не то, шо вы подумалы. Мед. Подарок от моих пчёлок, и трошки — од моей бабы Маруси. Пока я воюю, она пчелками занимается. Получается. А шо в бутылке, то хай вас не смущае. Ничого, кроме бутылок, в хозяйстви не найшлось.
Проводить Колодуба они вышли во двор. Ночь была безлунная. Но было все равно светло. С далекой вышины им светили большие и яркие звезды.
— Счастливо вам оставаться. Надеюсь, ще встренемся, — скупо попрощался Колодуб и растворился в ночной темени.
Он ушел, а Кольцов подумал о том, что оборвалась ещё одна из множества ниточек, благодаря которым человек прочно стоит на земле.
Глава седьмая
Погода в Северной Таврии всё ухудшалась. Морозы не ослабевали уже даже днем.
По мере того как белые войска бежали, Южный фронт сужался. Уже почти весь Крымский перешеек заняли красные, но ещё оставались районы постоянных стычек с белыми. Это были либо рассеянные в боях остатки вражеских воинских частей, или же по каким-то причинам отставшие от своих, или забытые своими солдаты, пытающиеся пробиться к переправам.
Первая армия Кутепова, по приказу Врангеля, должна была до последнего защищать Крымский перешеек. Но генерал Кутепов по-своему понял приказ. Сиваш с его ледяной в эту пору водой он считал достаточно серьезным препятствием и поэтому все силы сосредоточил в основном в двух местах: на Перекопе и в районе Сальково и Чонгара. Лишь только здесь можно было, не намочив ноги, перейти в Крым. Несколько дней и ночей сюда тянулись конные и пешие, военные и цивильные.
Штаб Южного фронта постепенно, по мере отступления вражеских войск, передвигался поближе к Крымскому перешейку. Сначала перебазировались в Асканию-Нову, а затем и в Присивашье.
Фрунзе мечтал на плечах покидающих Северную Таврию врангелевцев с ходу ворваться в Крым. Шестую армию он двинул на Перекопский перешеек. Четвертая армия должна была атаковать Сальково, Чонгар и Арабатскую стрелку.
* * *
Нет, не зря эту часть Таврии назвали Северной. Здесь всегда несколько холоднее, чем вокруг. Когда вдоль Днепра ещё только начинаются легкие ночные заморозки, в Присивашье уже даже днем колючие северные ветры выдувают последнее осеннее тепло и превращают недавно раскисшую под осенними дождями грязь в замороженные комья (грудки) земли. Ноябрь здесь так и называется — грудень. В один из таких дней Повстанческий табор снялся с места и двинулся к Сивашу, в Строгановку. Там уже размещался один из его полков.
Едва только авангардная конная группа во главе с Мишкой Черниговским приблизилась к крайним домам села, как их строго окликнули:
— Стой! Кто идет?
— Не идёт, а едет, — ответил, придерживая свою небольшую рыжую кобылку, Мишка.
— Ну, ты! Не шибко шути, а то и я пошучу! — озлился красноармеец и передернул затвор винтовки.
— Не пошутишь, если жить хочешь, — спокойно сказал Мишка, и пояснил: — Ты — один, а нас полсотни.
— Ладно! — миролюбиво сказал часовой. — Кто такие?
— Повстанческая армия.
— Махновцы? Так бы сразу и сказал, — обрадовался часовой. — А что вы тут, в Строгановке потеряли?
— Тут где-то наш полк. Мы до их в гости.
— Нет тут уже вашего полка. Мы их турнули, потому как и самим места мало.
— Хто это — «мы»?
— Тринадцатая дивизия.
— Не присоветуешь, где теперь наших шукать?
— Может, во Владимировке? Вроде как туда они съехали.
* * *
К рассвету повстанцы разбили свой лагерь во Владимировке, и Каретников сразу же собрал на совещание весь командный состав армии, всех, кто находился здесь, у него под рукой. Прискакали командиры и тех полков, кто квартировал в ближних от Владимировки селах. Соблюдая уговор ничего не скрывать, Каретников пригласил на совещание и Кольцова. Он не отказался, занял место возле теплой печки и просидел там, не вмешиваясь, до конца разговора.
Каретников встал из-за стола и поднес к глазам исписанный листок.
— Послухайте! Только что нарочный привез! — И он стал читать: — «С получением сего Повстанческой армии надлежит форсировать Сиваш на участке Владимировка — Строгановка. Затем через Литовский полуостров выйти на Юшунь, продвигаться дальше, в тылы Перекопских укреплений и способствовать Шестой армии их овладением».
Евлампий Карпенко взял из рук Каретникова бумагу, внимательно её просмотрел и, коротко взглянув на Кольцова, хмыкнул:
— Тилегенция!… «Надлежит форсировать». Это як понимать? Вот Нестор Ивановыч, тот по-простому: «приказую». А тут не поймешь, чи приказывае, чи просит. Даже не знаешь, як поступить?… А хто это просит?
— Сам Фрунзе, — ответил Каретников.
— Ну, если Фрунзе! Шо тут думать! Надо постараться! Взялись за гуж, так тяните шо есть силы! — сказал Евлампий.
— Оно-то так, — согласился Каретников. — В народе як говорят? Надумав лезть в воду, поищи сперва броду. То така присказка. Нас она впрямую касается. Морозы, вода холодна. Где обсушиться, где обогреться? На все размышления у нас — один день. Выступать будем вечером, як стемнеет. Какие у кого предложения?
— Местные тут по пояс на крымский берег переходят, — сказал член штаба Евдоким Коляда. — А в хорошу воду — по колено.
— Это як понимать — «хороша вода»?
— Когда ветер воду из Сиваша в море выгоняет. Летом, случалось, чуть не посуху в Крым ходили.
— Ну и шо ж нам, ждать лета?
— Оно бы и не помешало. Летом, по теплу сподручнее было бы.
— Не превращайте совещание в базар! — насупился Каретников. — Жду деловых предложений. Надо бы поискать среди местных жителей, хто знает броды. Тебе поручаю, Левка, як начальнику разведки, — обратился он к Льву Голикову.
Голиков молча кивнул головой.
Каретников обвел глазами своих «маршалов», как называл своих командиров полков Нестор Махно.
— Остальные тоже без дела не останутся, — пообещал Каретников и остановил взгляд на начальнике медслужбы Крате. — Ты, Филипп, продумай, где раненых располагать, чем перевязывать, лечить?
— Тут не столько раненых будет, сколько обмороженных, простуженных.
— В правильном направлении думаешь, Филипп. Вместе со всеми переправь на ту сторону пару телег с санитарами. Боюсь, им там найдется немало работы.
— Постараюсь, — сказал Крат.
— Ты, Петренко, — перевел Каретников взгляд на командира одного из полков, человека неразговорчивого, медлительного, но четкого и обстоятельного. — Ты продумай, як дровцами запастись. Их нам много понадобится. Костры надо будет сперва тут по берегу запалить, для ориентировки, а потом и на том берегу.
— Где ж ими в этой клятой степи запасешься? Даже кустарник, и тот козы изничтожили, — сказал Петро.
— А ты хорошенько подумай. Может, местные нам чем помогуть? Но на это надежды мало, бо зима подступила, а у каждого — детки.
— Подумаю, — пообещал Петренко.
— Похоже, кой-яки возы и брички нам на этом берегу уже будуть без надобности. Пустим их на огонь, — сказал Каретников. — Сухие, хорошо будуть гореть. А там, в Крыму новые достанем. У них там лесов, як v нас тут соли. Только тачанки по дури на дрова не пустить!
Совещались долго. Пытались предусмотреть даже незначительные мелочи, которые потом, при переправе через Сиваш, могут оказаться неразрешимой проблемой.
* * *
После совещания вышли к берегу Сиваша, остановились возле полуразрушенной мазанки, стоящей почти у самой воды. У кого был бинокль, рассматривали противоположный берег, едва видимый из-за легкой дымки, стелившейся над водой.
Петренко горстью зачерпнул воду.
— Холодна, зараза! Почти лёд.
Прискакал Голиков, с каким-то кандибобером спрыгнул возле Каретникова с коня, доложил:
— Проводника нашли. Вон идёт!
К ним подошел невысокий вихрастый мальчишка со странным, словно бы удивленным лицом.
— Ты, что ли, берешься провести нас на тот берег?
— Но! — коротко отозвался мальчишка.
— У нас так коней погоняют, — сказал Каретников. — Тебя как звать?
— Петренко, — и мальчишка тут же поправился: — Афанасий Петренко.
— Петро! — окликнул Каретников командира полка. — Чего ж молчишь?
— А шо? — отозвался комполка.
— Наплодил детей по всей Украине, и в кусты?
— Ты о чем, Семён? — Петро удивленно посмотрел на Каретникова.
— Спроси у пацана фамилию!
— Ну, скажи! — попросил Петро.
— Петренко. А шо?
— Здравствуй, Петренко! — просиял комполка. — А я, знаешь, тоже Петренко.
Мальчишка с интересом посмотрел на комполка.
— Ладно, потом разберемся. Может, ты еще и мой родич? У меня пятеро братьев — по всей Украине. Твоего батьку як звали?
— Тоже Афанасием.
— Ну, значит, однофамилец, — сказал Петро. — Шоб ты знав, парень, на Петренках та Сидоренках пол-Украины держится!
— И сколько ж тебе, Афанасий, годков? — спросил Каретников.
— Шестнадцать… скоро будет.
— И шо, ты уже ходил на тот берег?
— Летом почти каждый день. Если вода позволяла. А зимой там делать нечего.
— А сейчас як вода? Можно на ту сторону перейти?
— Вам — до пояса, а мне по шею. — Мальчишка указал на Сиваш: — Главное, туда, правее не забираться. Там глыбоко. Якись дурни дядьки там яму вырыли. Когда-сь давно тут турки потопли. Тогда тоже война была. При их, говорят, золото было. Дядьки хотели его найти.
— Нашли?
— Да хто его тут найдет? Покойников, правда, другой раз находят. Сколько годов под водой, а як живые.
— Ну и як? Проведешь нас на ту сторону?
— А чего ж! Можно! — неторопливо, совсем по-мужицки, ответил Афанасий.
— Вода-то холодная, — предупредил Каретников.
— Холодная, — согласился мальчишка.
— Родители тебя отпустят?
— Татка нема, татко помер. А мамка не против. Может, говорит, якусь копейку дадуть. А если ничего такого нема, я и так проведу.
— Серёгин! — Каретников позвал к себе начальника снабжения. — Где Серёгин?
— Только шо тут был. Видать, по делам куда-то отлучился.
— Тогда Петренко!
Комполка, стоявший неподалеку, подошел.
— Бери мальчишку, узнай, где живет, и вместе с Серегиным завезете ему с мамкой продовольствия. И пусть Серегин не скупится! Шоб им до самой весны хватило.
— Сделаем, — сказал Петренко и пошел к коновязи за своим конем.
— И от ещё шо! — Окликнул Каретников уходящего комполка. — Вы с Серегиным мотнитесь в Громовку, и тот яценковский обоз с награбленным пустите в дело. Я там мешки с зерном видел.
— Все чин-чином будет, — пообещал Петренко, подтягивая у коня подпругу.
— Иди вон с твоим родичем! — сказал Каретников мальчишке. — А вечером, як только темнеть начнет — на этом же самом месте. И не опаздывай.
— Не подведу, — уже несколько осмелев, сказал Афанасий.
К вечеру, как и условились, но ещё крепко засветло, парнишка появился на берегу.
Каретников уже был там, следил, как бойцы раскладывают вдоль берега связки дров: будущие ориентирные костры. Ветер к вечеру стал усиливаться. До мазанки, где они днем стояли, стала докатываться пенистая волна.
— Что скажешь, начальник? — обратился Каретников к мальчишке. — Можно переправляться?
— Пока можно, — солидно ответил мальчишка. — До утра, конечно, нагонит.
— Ну, до утра мы уже должны быть где-то под Юшунью.
— Значит, будете.
— Сам-то не утопнешь?
Афанасий промолчал.
— Я его на своего коня возьму, — сказал Мишка Черниговский.
* * *
Когда день уже совсем погас, и на темном безоблачном небе высыпали звезды, на берегу Сиваша стало многолюдно. К кромке берега подтягивались всадники, подъезжали телеги с боеприпасами, санитарные фуры. Топтались на месте, ожидая сигнала, безлошадные пехотинцы с тощенькими «сидорами» за плечами. От безделья подшучивали друг над другом.
— Ну и чего ты туда, Сашко, напихал?
— Всего разного, но легонького. На случай чего, шоб помогло на воде продержаться.
— Ты и так не потонешь.
— Почему?
— Будто не знаешь?
— Воздержусь до Крыма, — мрачно сказал Сашко. — А там, запомни, врежу от души. За оскорбление.
— Какое оскорбление! Здравствуйте! Я к тому, шо ты же умеешь плавать. А ты шо подумал?
— Шо я подумал, это ты потом узнаешь.
Поодаль, посмеиваясь, разговаривала другая группа:
— До чего ж хлоднючая вода. Сам, может, и выживешь, а яйца точно отмерзнут.
— Ну и нашо они уже тебе?
— Да хай бы были. Як память про дурную молодость.
— Ну, шо, командир? Тронемся? — подхватывая Афанасия на своего коня, нетерпеливо сказал Мишка Черниговский. Он со своими конниками был назначен в авангард.
— Давай! — дал отмашку Каретников.
Кони легко вошли в воду, но, почувствовав, как холодом обожгло ноги, стали останавливаться. Тихонько заржали.
— Н-но, Глафира! — подстегнул свою кобылу Мишка, и она, подрагивая от холода, побрела по взбаламученной воде. За Мишкой двинулась его полусотня. А следом в Сиваш пошли пешие и конные: тачанки, две крытые санитарные фуры, телеги, груженные боеприпасами. Едва их колеса скрылись в воде, они, увязая в донном иле, стали двигаться тяжело и медленно. Их начали подталкивать повстанцы.
Каретников сел на своего маштака, но в воду пока не входил, следил за тем, как движутся по воде его бойцы. Заметил, что ветер усиливается и волны Сиваша уже стали подступать почти к самой мазанке.
«Раньше надо было, — с отчаянием подумал он и тут же успокоил себя, — Зато не стреляют. Должно быть, не видят. А, может, и не предполагают, что кто-то решится здесь в такую погоду перейти Сиваш».
Он обернулся к бойцам, с не зажженными факелами в руках, ждущими его команды:
— Запалюйте!
И вскоре вдоль береговой кромки почти одновременно запылали ориентировочные костры.
Полусотня Мишки Черниговского брела в темноте, и лошади уже по брюхо утопали в воде. Он старался держать перед собой ту звезду, которую указал ему мальчишка. Но лошади спотыкались, с трудом вытаскивая ноги из вязкого ила, заваливались, и он терял и не сразу находил эту звезду. И была ли это она, он тоже уже не был уверен.
Обернувшись, он увидел вдали цепочку костров, и сразу повеселел, и тут же обнаружил впереди себя эту нужную ему звезду.
Становилось всё глубже. Лошадиные туловища уже были почти полностью в воде, и над волнистой водной поверхностью плыли только их головы. Лошади отфыркивались, тяжело дышали и все чаще стали от усталости падать на колени, но тут же снова поднимались.
Всадники тоже спустились в воду и, придерживая коней за уздцы, утопая едва не по шею в обжигающе холодной воде, побрели рядом.
Их проводнику Афанасию было здесь уже с головой, он один сидел на спине Глафиры. Мишка шел рядом, с трудом выдергивая сапоги с липкой донной грязи.
— Вправо не н-надо! Т-там яма! — время от времени с трудом повторял Афанасий.
— Пойми, где тут право! — буркнул кто-то из бредущих рядом.
— Вы на ту з-зирку!
— Де там та зирка! Их мильоны!
— Она од-дна… ве-велыка. В-витер, зараза, в-воду нагоняе.
Мишка неожиданно с головой ушел под воду. Вынырнул. Рядом с ним плыла его Глафира. Она тоже уже потеряла под ногами дно и, раздувая бока, тяжело дышала. А на ней, крепко уцепившись за мокрую гриву, с трудом удерживался Афанасий.
Барахтаясь в воде, Мишка стал натягивать уздечку, разворачивая кобылу в сторону береговых огней. Лошадь послушно развернулась и поплыла назад. Но Мишка всё никак не мог нащупать под ногами дно.
— Сюда на надо! — закричал он. — Глыбоко!
Конники остановились, закружились на одном месте.
А Мишка, ощутив наконец под ногами дно, подгреб к товарищам:
— Левее забирайте! Может, где-то там брод!
Мокрый, едва не теряющий от холода сознание, Мишка увидел перед собой одного из своих конников:
— Чередняк! Доставишь на берег пацана! Не то пропадет! — и Черниговский протянул руки к Афанасию, чтобы пересадить его на коня Чередняка.
— Н-не! Я н-не х-хочу! — запротестовал мальчишка.
— Я ж тебя не спрашиваю, хочешь ты чи не хочешь! — сердито сказал Мишка и с силой пересадил Афанасия до Чередняка.
— Я ж обищав… Я п-покажу, — зашелся в плаче Афанасий.
— Не плачь, мужик! Не ты виноват, шо ветер в Сиваш воду погнал! — успокоил мальчишку Черниговский и с силой хлопнул ладонью коня Чередника по крупу. Тот рванул с места и, с трудом вытащив из ила ноги, неторопливо побрел на береговые огни.
Мишка с завистью посмотрел на удалявшихся Чередника и Афанасия. Отвернулся. Но его взгляд, как магнитом притягивал к себе берег и его весёлые огни.
Оттуда, с берега к нему приближались люди, кони, телеги, тачанки. Они увязали в иле. На них наваливались махновцы и с криками «Ра-аз! Два!» продвигали их дальше, к чужому крымскому берегу.
А Сиваш становился всё глубже. Дно было неровное, с яминами, заполненными не тугим донным илом, а вязкой мазутной грязью.
Неподалеку в такую яму завалилась телега, свалилась на бок, попадали и стали тонуть лошади. Пытаясь встать, они бились в соленой воде и, захлебываясь, тоскливо ржали.
— Режь постромки, придурок! — кричали ездовому.
— Так бричка ж… имущество… засудять! — дрожа от холода, спорил ездовый.
— Не засудять, не ты один такой!
Наконец телегу под водой вновь поставили на колеса, оттащили на ровное дно. Несколько человек стали нырять в яму и снова укладывать на телегу вывалившиеся из неё ящики с боеприпасами.
Совсем неподалеку несколько повстанцев барахтались в воде вокруг завалившейся тачанки.
И ещё дальше, невидимые в черноте ночи, доругивались из-за чего-то несколько повстанцев. Плеск воды, ржанье лошадей, крики, мат.
Дальний берег, к которому они стремились, пока не всполошился. Лишь время от времени раздавались короткие пулеметные очереди, но из-за ветра звуки переправы белые, должно быть, не слышали. Прибывающая вода, высоко поднявшаяся и уже подлизывавшая обрывистый берег, тоже успокаивала врангелевцев. Кто в такую погоду станет преодолевать глубокий в этом месте Сиваш?
А, возможно, они постреливали для вида, чтобы захватить форсировавших Сиваш врасплох?
Лавина махновцев двигалась в темноту и, достигнув той глубины, когда под ногами кончалось дно, останавливались. Отходили в стороны, пытались отыскать брод. Но его нигде не было.
На остановившихся напирали другие, кто пока ещё брел только по грудь в воде.
— Не штовхайсь! — прозвучал среди этого клекота, шума и ругани высокий, почти бабий голос.
— Не ори, дурак!
— Я не вмею плавать!
— Так не мучайся, тони! Все одно, убьют! — посоветовал в темноте кто-то невидимый спокойным голосом.
Каретников стоял на берегу, и конь его постепенно отступал от накатывающихся на берег волн. Вода плескалась и вылизывала каменный цоколь ещё недавно стоявший на суше мазанки.
Издали, из черноты, куда двинулась его армия, доносился невнятный шум, отдельные голоса.
К Каретникову подошел Кольцов, которому не спалось. Он тоже переживал за успех этой операции. Этот успех был крайне необходим Южному фронту.
— Над чем размышляешь, командарм? — спросил он.
— Звезды здесь большие. У нас на гуляйпольщине поменьше!
— Не ври, волнуешься! — твердо сказал Кольцов. — Гадаешь, как всё обернется?
— А ты откуда знаешь? — недружелюбно спросил Каретников. — Мой приказ, мой и ответ!
— Не хорохорься, не надо! Вода на полметра поднялась, не ты в этом виноват, — сказал Кольцов. — Брод стал непроходимый. И ветер не утихает, нагоняет воду.
— Ничего… Как-нибудь…
— Потопишь армию. В такой холодной воде человек не сможет долго продержаться.
— Мои хлопцы не такие преграды брали.
— Самая глубина — под тем берегом, — жестко сказал Кольцов.
— И шо ты, комиссар, так об моей армии печешься? Справа — Буденный, слева Блюхер[23].
— Что-нибудь слышишь?
— Пока молчат. Хочешь, чтоб всё им засчиталось?
— Хочу, чтоб твоя армия уцелела.
— Мне кровь из носу Крым нужен!
— Не твой сегодня день, Семен Никитович. Спасай людей.
Каретников тронул шпорами коня, отъехал в сторону, давая тем самым понять Кольцову, что не хочет больше продолжать на эту тему разговор. Постоял немного в одиночестве, прислушиваясь к дальним голосам. Затем снова тронул коня и направил его в Сиваш. Конь брел, все глубже погружаясь в воду.
Кольцов смотрел вслед Каретникову. И вдруг он услышал сзади себя какие-то странные и близкие звуки. Они исходили из стоящей за его спиной полуразрушенной мазанки и были похожи на хриплое кошачье мяуканье.
Сквозь пролом на месте бывшей двери Кольцов заглянул в глубь мазанки. В густой темноте он с трудом различил что-то тёмное и живое. Пригнувшись, он шагнул внутрь мазанки и дотронулся до забившегося в самый угол темного комка. Это был мокрый и дрожащий от холода мальчишка. Его зубы выбивали в темноте звонкую дробь.
— Ты кто? — спросил Кольцов.
— Афанасий.
— Почему сюда забился?
— Т-тут з-затишно.
— Выходи.
Мальчишка вслед за Кольцовым выбрался из мазанки, и его осветил колебавшийся свет ближнего костра.
— Проводник, что ли? — удивился Кольцов. — Но почему ты здесь?
— Вода п-поднялась… хто ж знал… а он меня на к-коня. Если б п-правее взяли… — захлебываясь, горестным от обиды голосом, стал объяснять Афанасий. — Н-надо было на велыку звезду, а в-вин…
— Парень, ты весь замерз. И мокрый. Заболеешь. Беги домой, отогревайся, — прервал Кольцов сбивчивую речь мальчишки. — Потом всё расскажешь.
— Н-не, не можу. Подожду, пока через Сиваш перейдуть.
— Видишь, вода сильно поднялась. Может, и не перейдут, — сказал Кольцов. — Но я тебе всё потом расскажу. Зайду, и всё расскажу.
— А не обманете?
— Я не умею обманывать. Зайду. Честное слово.
— А откуда вы узнаете, где я живу?
— Да кто ж тебя не знает. Спрошу, где живет мальчишка Афанасий, мне и покажут.
— Ваша правда, меня во Владимировке все знають, — и, хлюпая размокшими ботинками, Афанасий припустил по улице.
Кольцов прошелся по берегу, постоял возле жарко пылающего безлюдного костра. Снова стал вглядываться в черную даль. Оттуда доносились крики, ругань. Они приближались.
— Развертайсь!… Назад!… До берега, на огни! — услышал Кольцов надрывный голос Каретникова.
«Упрямый! — подумал о нём Кольцов. — Мог бы чуть раньше до этого додуматься».
Не так просто развернуть в ледяной рапе утопшую тачанку. Её цепко удерживала за колеса вязкая донная грязь. Вставали на дыбы выбившиеся из сил кони. Они пытались порвать постромки, и в бессилии оглашали окружающее пространство тоскливым ржанием.
— Подмогнём, пехота! — заметив беспомощные усилия ездового, крикнул Каретников. Он уже слез с коня и, разгребая воду руками, передвигался среди своих барахтающихся в воде бойцов.
И безлошадная пехота навалилась на застрявшую тачанку, двое-трое тащили за уздечки коней.
Иные тяжелые телеги, застрявшие в иле, Каретников разрешал ездовым бросить. Они обрезали постромки, и освобожденные от непосильного груза кони, тяжело дыша и рассекая своими телами загустевшую от мороза воду, торопились на свет костров.
Первые повстанцы, вернувшиеся на берег, уже разделись догола и, обмениваясь сальными шутками, пританцовывая, грелись и сушились у костров. Это было похоже на ритуальную пляску аборигенов где-то на заливе Астролейб в Новой Гвинее. Не хватало только шаманской барабанной дроби!
Постепенно все выбрались на берег. Отогреваясь, они подсчитывали понесенные потери.
Форсирование Сиваша повстанцами провалилось.
Выбравшийся на берег Каретников, не успев даже переодеться в сухое, окликнул начальника снабжения Серегина. Тот предстал перед командующим в одном исподнем.
— Шо у тебя, Григорий? Какие убытки?
— Не успив подсчитать, Семен Мыкытович. Но вроде обошлысь без больших потерь.
— Слухай меня внимательно! Коты сюда бочку с тем спиртом, шо мы в Мелитополе реквизировалы.
— Так мы ж його… той… для ранетых хотели придержать.
— Давай сюда, сказал! — начал сердиться Каретников.
— Слухаюсь!
— И угощай всех, хто сколько выпьет!
— Да шо вы, Семен Мыкытович! Воны всэ выпьють. А шо не выпьють — разольють. А перейдем в Крым, начнуться бои — чем ранетым будем раны промывать?
— Не напоишь людей сегодня, завтра весь цей спирт на их же и срасходуешь. Только на простуженных и больных. А так, даст Бог, может, и обойдется.
— Воля ваша, Семен Мыкытович, — тяжело вздохнул скуповатый Серегин и, посомневавшись, спросил: — Так, может, и закуску?
— А шо у тебя там есть?
— Универсальна закуска: хоть под кофий, хоть под спирт. Сало!
До утра повстанцы праздновали. Такое у них было едва ли не впервые: широко и весело отмечали неудачное форсирование Сиваша.
* * *
Переместившись поближе к фронту, Фрунзе на несколько дней перенёс свою ставку из Каховки в Асканию-Нову, а затем и вовсе перебазировался поближе к Сивашу.
Донесение о неудачном форсировании Повстанческой армией Сиваша Кольцов послал с Бушкиным ещё ночью, в самый разгар веселья, когда обсушившиеся и отогревшиеся у костров махновцы дочерпывали со дна бочки последние глотки спирта и уже подступали к начальнику снабжения Серегину с требованием катить на берег ещё одну.
— Да откуда у меня той спирт! — отбивался Серегин от наседающих на него махновцев. — Мы в Мелитополе только одну бочку и взялы! Всего одну! Есть свидетели!
— Свидетели говорять, бочка была повна, а шо ты прикотыв? Там на донышке було!
— Не брешить! Було всього пивбочки! — проговорился Серегин. Прижимистость не позволила ему пустить на ветер бочку спирта и, пытаясь сохранить его для медицины, полбочки он разлил в найденные на каком-то сельском складе несколько бочонков для вина.
— Кати сюда другие полбочки! — чуть не в один голос настаивали несколько уже порядком подвыпивших махновцев.
— Придурки! — гаркнул Серегин. — Безмозглые придурки! Даже малое дитё знает, шо спирт, по закону русского учёного товарища Менделя, имеет свойства испаряться! Извиняюсь, Менделеева! А товарищ Мендель, тот по части скотоводства. Учиться надо было, олухи царя небесного!
— Это шо ж, он и из закупоренной бочки испаряется?
— Нияких чудес! Як ты ту бочку не затыкай, а спирт, зараза, все равно якусь щёлку найдет.
— То ты, Гришка, зараза! И брехун! Сам пивбочки с корешами выпил!
— Я брешу? Ах ты, паразит!
И началось!
Поначалу дрались только двое. Но постепенно махновцы занимали ту или другую сторону и тоже вступали в потасовку.
Завидев драку, сюда стали подтягиваться любопытные. Но не выдерживали и тоже, как в воду, кидались в этот клубок из разгоряченных тел.
Дрались почти что молча. Из кучи дравшихся доносились только смачные кулачные удары, тяжелое дыхание, и время от времени над этой разгоряченной толпой вдруг взмывал чей-то голос:
— Шо ж, ты, гад, по глазу! Як я теперь буду из пулемета стрелять?
— Перейдешь в ездовые! Оны и с одним глазом воюють!
Переодевшийся и приведший себя в порядок, на берегу появился Семен Каретников. Он даже не сразу понял, что происходит. А когда чуть разобрался, сунулся в эту кучу, попытался растащить дравшихся в стороны. Из этого ничего не получалось. Вынутые из драки махновцы снова, размахивая кулаками, бросались в эту свалку. Кто-то с силой ударил Каретникова под дых, другой со всего маху опустил тяжелый кулак ему между глаз.
Каретников рассвирепел и, выхватив из-за голенища сапога нагайку, снова бросился в эту свалку, и стал нещадно, что есть силы, налево и направо, без разбору лупить их по спинам. Но, похоже, их только ещё больше раззадоривала командирская плеть. Думая, что его ударил кто-то из противников, пострадавший махновец только глубже протискивался в эту кучу, ещё яростнее размахивая кулаками.
Каретников устал бесполезно махать плетью и понял, что таким способом он не сладит с этой озверевшей, кричавшей и матерившейся толпой. Он поднял маузер и трижды выстрелил в воздух.
И они замерли, застыли в самых невообразимых позах. Потом, постепенно, этот клубок стал распадаться. Все ещё тяжело дыша, потные, оборванные, с синяками на лицах и на теле они распрямлялись, удивленно оглядывались по сторонам и только сейчас узнавали, кого минуту назад молотили.
— Ты, Васыль?
— Тю на тэбэ! Михайло?
— Шо тут творится? — гневно спросил Каретников. — Из-за чего это побоище?
— Да ничего такого! Холодно. Трошки погрелись.
— Это шо! От у нас в Дзензеливци на Пасху, бувало, по три дня былысь! — тяжело дыша, с ностальгической мечтательностью сказал пожилой махновец ездовой Юхым Беба. Была ли это его фамилия или уличная кличка, никто не знал. И он тоже. У него было перекошенное после драки лицо, большой фиолетовый синяк под глазом и в клочья разорвана сорочка.
— Расходитесь! Хоть трошки поспите! — уже спокойно сказал Каретников. — Нихто не знает, шо нам с утра товарищ Фрунзе придумае.
Расходились неохотно. Только что свирепо дравшиеся, они уходили с поля своей битвы по двое-трое, обнявшись, бережно поддерживая друг друга. Кто-то даже запел:
— Ой, Маруся, шумыть гай!…
Но другие не поддержали, всё ещё продолжая обсуждать ночную забаву.
Кто-то, покидавший поле боя последним, неодобрительно сказал Каретникову:
— Эх, Семен Мыкытовыч! Спортылы хлопцам праздник!
Каретников ничего не ответил. Он смотрел вслед уходящим в обнимку махновцам и даже сам вдруг пожалел, что остановил эту свалку. В ней не было той жестокости и ненависти, какая охватывает человека в бою. Просто, таким варварским способом, дошедшим из далеких прадедовских времен, его бойцы испытывали свою удаль, ловкость и силу.
В жилах, в крови этих степняков, незлобивых по характеру взрослых детей, жила вольница. Это всё ещё была не армия, а Запорожская Сечь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Литерный поезд из Джанкоя торопился в Севастополь, но его то и дело останавливали. Врангелю приходилось выходить из салон-вагона на платформу и принимать пустопорожние доклады своих генералов. Доклады были бодрыми, генералы — отдохнувшими и лоснящиеся довольством.
Он слушал их, а у него из головы всё не шел последний ночной разговор с давним своим товарищем генералом Фостиковым. Откуда у него такой пессимизм?
Вот же, едва не на каждой станции ему докладывают о существенных пополнениях, о строительстве долговременных укреплений, о том, что Крымский перешеек представляет собой непреодолимую крепостную стену, а Фостиков, один лишь Фостиков откровенно высказал ему то, о чем и он нередко задумывался. В самом деле, что, если большевики сумеют перейти Сиваш? Что, если Крым на самом деле окажется вовсе не крепостью, и его надо будет срочно покидать?
Но почему никто из генералов, кроме Фостикова да этого фигляра Слащева, ничего такого не говорил ему в глаза? Наверняка, подобные мысли закрадываются во многие генеральские головы, но они боятся высказывать их вслух. Боятся, чтобы он, Врангель, не обвинил их трусости, в неверии в свои силы, в отсутствии патриотизма. Кроме того, они наверняка думают о том, что он, Врангель, знает то, чего не знают они, какой-то секрет, который поможет им выстоять здесь, в Крыму, до весны.
Пусть думают!
Но ему больше не в кого верить, кроме Всевышнего. И быть готовым ко всему. «А Фостикова и его Черноморско-Кубанский отряд надо перебросить в Сальково и на Чонгар, — подумал вдруг он. — Большевики вряд ли пойдут на Перекоп в лоб. Серьезное укрепление, можно голову сломать. И потерь будет без счета. Скорее попытаются обойти его с тыла. И лучше всего это сделать со стороны Чонгара».
* * *
В одиннадцать, как и было условлено, французский генерал Бруссо и командующий морской дивизией Леванта контр-адмирал Дюмениль с переводчиком-французом вошли в кабинет Врангеля.
И Бруссо и Дюмениль за последние годы сносно овладели русским, но всё же при серьезных переговорах прибегали к помощи переводчика. Блестяще знавший французский, Врангель считал для себя неэтичным на переговорах в России и о России пользоваться чужим, хотя и знакомым ему языком.
Врангель усадил союзников за стол.
— Может, не будем сначала затруднять месье Сорбье? — спросил Врангель. Это означало, что прежде чем переходить к делу, хозяин кабинета предлагал просто немного поговорить обо всем и ни о чем.
— Принимается, — сказал Бруссо.
— В таком случае, позвольте подарить вам этот номер английской «Таймс», — адмирал Дюмениль положил перед Врангелем свежий номер газеты. — Я исправляю ошибку англичан, они должны были подарить вам этот номер ещё неделю назад. Здесь вы прочтете самые добрые слова о себе. Считаю, они поскупились. Лично я добавил бы ещё больше лестных эпитетов.
— Благодарю, — Врангель раскрыл газету. — За что же они меня так хвалят?… «Положение Врангеля благоприятно. Используя печальный урок генерала Деникина, он несколько уменьшил свою армию. Но зато она отличается качественно…», — он поднял взгляд на своих собеседников. — Это качество — опыт. А он оплачен немалой русской кровью, — и, отложив газету в сторону, сказал: — Потом почитаю.
— Нет-нет, ещё один абзац. Довольно глубокий анализ! — Сказал Дюмениль и неторопливо, почти без акцента, прочитал: — «В отличие от большевиков, Врангель не реквизировал у крестьян хлеб и тем самым показал, что и в других вопросах может удовлетворить их надежды и примирить непримиримых. Россия — крестьянская страна. Врангель завоевал симпатии крестьян двумя главными факторами. Во-первых, большевики вопреки всем своим обещаниям, до сих пор не наделили крестьян землей, а оставили крупные имения в руках комиссаров. Те принуждают крестьян обрабатывать крупные земельные наделы, учредив нечто вроде белого рабства…»
— Достаточно, адмирал! — прервал Дюмениля Врангель. — Оставьте для меня хоть несколько хвалебных строк. В последнее время обо мне довольно часто пишут, но я в их сочинениях выгляжу монстром. Они не понимают, что не всё в моих силах.
— Этой статьей мы хотели немного… как это… улучшить ваше настроение. В конце концов события развиваются совсем не так плохо, — сказал генерал Бруссо.
— Я так понимаю, мы приступили к официальной части нашей встречи? — улыбнулся Врангель. Несмотря на бессонную ночь в поезде, он старался быть любезным и мягким, сговорчивым. Союзники иногда жаловались, что он ведет себя с ними высокомерно, что у него развилась мания величия.
— Да, не будем терять времени, — согласился Бруссо.
— Как мне известно, вы побывали на передовых позициях, — обратился Врангель к Бруссо. — Хотел бы услышать о ваших впечатлениях.
— Только в Таганаше, на Чонгаре. Меня сопровождал в поездке Главный инспектор артиллерии генерал… э-э…
— Илляшевич, — подсказал Врангель.
Бруссо задумался и затем, дав знак переводчику, стал говорить по-французски:
— В мои намерения входило уяснить обстановку, в которой будет сражаться ваша Русская армия. Я посетил расположение казачьей дивизии на Таганаше и три батареи, расположенных у железнодорожного моста через Сиваш. Батареи хорошо обустроены…
Неслышно вошел адъютант, внес большое блюдо с утренним кофе и французской сдобой — круасанами, расставил всё это возле собеседников.
Бруссо выждал, когда адъютант удалится, и снова продолжил:
— Да, так о батареях. За исключением полевых орудий, батареи мне показались мало соответствующими той роли, которая на них возлагается в предстоящих боях. Я хочу сказать, что огневая поддержка пехоты здесь слабо организована. А ближайшие воинские подразделения расположились верстах в пяти, в Таганаше. Мне объяснили, что позиции не оборудованы и войска отведены в места, где они могут укрыться от холода.
— Я там был на следующий день, — сказал Врангель. — У меня возникло противоположное впечатление. Знаете, генерал, вам давал объяснения генерал Илляшевич, который относится к инструкции, уставу, как к Святому Писанию. Он слишком правильный, ортодоксальный. А война — искусство. В ней постоянно приходится ради результата нарушать какие-то каноны, — Врангель вновь поднял взгляд на Бруссо. — Какие ещё сомнения у вас возникли?
— Пожалуй, больше никаких. Сам по себе Сиваш уже является как бы крепостной стеной. В эту пору года он непреодолим. А перешейки вами хорошо укреплены. Лично у меня нет никаких сомнений, что вы не повторите ошибок генерала Деникина и ранней весной отсюда, из Крыма, начнете свой освободительный поход.
— Я тоже на это надеюсь, — сказал Врангель. — И всё же…
Генерал Бруссо промолчал. Он догадывался, о чем пойдет дальнейший разговор, и не хотел его начинать. Пусть начинает Врангель, это уже будет выглядеть просьбой.
— Война — явление непредсказуемое, — начал Врангель. — В ней столько сослагательных, и каждое может повлиять на её исход. Близкий вам пример: Наполеон. Завоевал едва ли четверть России, но не учел одной мелочи, и потерпел поражение. Я имею в виду зиму.
— Теплая одежда и боеприпасы вам уже прибыли, — сказал адмирал Дюмениль. — Вскоре прибудет транспорт с продовольствием.
— Это, конечно, хорошо. Но как командующий армией я обязан быть уверенным не только в ближайшем будущем, но и предвидеть отдаленное. Я, как и вы, побывал на позициях и тоже уверовал в то, что Крым является неприступной крепостью. Но с моей стороны было бы легкомыслием не предусмотреть и самый печальный исход. Надеюсь, вы меня понимаете?
— Ну, зачем же о печальном? — капризно сказал Бруссо. — Тем более что для этого нет никаких оснований.
Врангель продолжил, словно не заметил реплики французского генерала:
— Я отвечаю, приблизительно, за сто пятьдесят тысяч военнослужащих и за вдвое большее количество цивильных — жен, детей, престарелых родителей этих солдат, поскольку они тоже вверили свою судьбу в мои руки.
— В самом деле, не будем пессимистами, — поддержал Бруссо адмирал. — Даже до размышлений об этом ещё пока очень далеко.
— Не могу согласиться с вами, — сказал Врангель. — Я обязан предусмотреть любые неожиданности. На то они и неожиданности.
— Хорошо. Что бы вы хотели от нас? — в упор спросил Бруссо.
— Я хотел бы наконец получить ответ на свое письмо, которое с вашей помощью передал адмиралу де Бону, — сказал Врангель. — Я уже тогда задал адмиралу де Бону вопрос: какую помощь могла бы оказать Франция моей армии, в случае, если она будет вынуждена покинуть Крым?
Бруссо медлил с ответом. Ответ, который он в свое время получил от де Бона для Врангеля, был довольно уклончивый. Помощь, которую французский флот сможет оказать генералу Врангелю, должна соответствовать принципам, которыми Французское правительство руководствуется со всеми законными правительствами, установившимися де-факто. Бруссо предпочел тогда не сообщать Врангелю этот ответ.
— Вопрос, помнится, был чисто теоретический. Но Франция, как видите, продолжает поставлять вам вооружение, боеприпасы, снаряжение и продовольствие. Не является ли это лучшим практическим ответом на ваш теоретический вопрос? — ответил наконец генерал Бруссо.
— Суть вопроса была иная, — ровным бесцветным голосом сказал Врангель. — Я спрашивал: в случае, если ситуация на фронте резко изменится, сможет ли Франция предоставить мне морские суда для того, чтобы я смог вывезти отсюда, из Крыма, порядка трехсот тысяч человек?
— Куда? Какие страны согласятся вас принять? — безжалостно спросил адмирал Дюмениль.
— Это следующая задача, которую предстоит решить. — Врангель поочередно коротко взглянул на Бруссо и Дюмениля. — Я рассчитывал, что и её мне поможет решить Французское правительство.
— Н-не знаю. Не уверен… — Сказал Бруссо и пояснил: — Любые действия, могущие вовлечь Францию в прямую конфронтацию с Советами, выходят за рамки помощи.
— Вы что же, уже признали Советскую Россию?
— Юридически — нет. Но фактически… Она уже существует, и мы были вынуждены признать её де-факто.
— Я это знаю. И что же, примерно такой ответ мне следует ждать от вашего правительства? — спросил Врангель, холодно оглядев французов. Это был «змеиный» взгляд, как называли его редкие подчиненные, испытавшие на себе неистовый гнев командующего.
— Нет, конечно, — поспешил ответить генерал Бруссо. — Я уверен, Франция не оставит вас беде.
— Это — слова. Всего лишь слова. А я жду от союзников поступков. Независимо ни от чего, мне необходимо, чтобы уже завтра все корабли, которые вы можете для меня выделить, стояли бы под парами в крымских портах. С запасом воды и хотя бы трехдневным пайковым довольствием.
— Петр Николаевич! — Бруссо ответил Врангелю таким же колким и недобрым взглядом. — Поговорим откровенно. Вашей России уже нет. А эвакуация армии — дорогостоящая акция. Кто возместит Франции эти убытки? Большевики?
— У вас прорезался другой, более твердый и менее дружелюбный голос, — заметил Врангель.
— Это вам показалось. Но подумайте сами. Франция заключила с вами договоры в надежде на то, что в будущем вы сумеете за всё рассчитаться. Но, похоже, вы можете стать банкротом. Это не я, это вы сказали.
И они оба одновременно встали.
— Извините, мы все трое немного погорячились. Как говорится, мужской разговор, — сказал Бруссо. — Однако, нам пора.
Врангель понял: они сказали то, о чем уже давно говорят в политических кругах Парижа. Он и сам понимал, они помогали, пока им платили. Потом помогали в надежде, что им вернут все долги. Но когда-то всё это должно было кончиться. И вот оно, кажется, кончилось… Сейчас… Сию минуту… Закроется дверь, и он останется один на один с самой неразрешимой проблемой, которую без их помощи он не сможет разрешить.
— Вот что! — Закипая от ярости, но изо всех сил сдерживая себя, сказал Врангель: — Если это понадобится… После того как вы эвакуируете из Крыма армию, в уплату вам отойдет весь российский флот. Надеюсь, достойная цена! — И, чуть помедлив, тоном разгулявшегося купца, добавил: — Сдачи не надо!
* * *
Слащев со своей женой и ординарцем Ниной Нечволодовой жил в Севастополе, в своем старом салон-вагоне. После его отставки, несколько верных ему казаков остались при нем. Они отыскали на севастопольском железнодорожном кладбище его прежний вагон, в котором он во времена службы в Добровольческой армии исколесил не одну тысячу верст.
Вагон стоял в тупике с разбитыми окнами, весь разграбленный и разгромленный. При помощи деповских мастеров, точнее, при помощи хлеба и других продуктов, цены на которые взвинтились в Севастополе до небес, его в спешном порядке отремонтировали и даже слегка подкрасили. В большом купе, которое в прежние времена служило Слащеву и спальней, и кабинетом, поставили буржуйку с высокой трубой на крыше. Топили буржуйку извлеченными из насыпи старыми шпалами, отчего в салон-вагоне стоял постоянный запах их пропитки.
Старый Пантелей, с незапамятных времен исполнявший при Слащеве должность денщика, постоянно заботился о том, чтобы генерал и его окружение не претерпевало заметных изменений. Он, как и Слащев, любил всяческую живность, и она, с легкой руки денщика, никогда в вагоне не переводилась.
Вскоре он поселил в вагоне приблудного кота. Тот быстро здесь прижился и даже ухитрялся спать у Слащева в ногах. Всем котам, которые жили в салон-вагоне, Слащев давал одну и ту же кличку Барон. Бароны жили при Слащеве даже тогда, когда он ещё не был лично знаком с Врангелем.
Потом появился скворец. Этот был не говорящий, но любил усесться на какую-то жердочку и подолгу сверху наблюдать за сидящим за столом хозяином. Иногда он издавал какой-то скрипучий сварливый звук, что-то вроде вопроса «Чаво?»
И ещё, со временем, в вагоне прижилась хромая черно-серая ворона. Скворца кот не любил и постоянно выказывал ему всяческое презрение. А с вороной он быстро сдружился. Видимо, они были давно знакомы по одной и той же привокзальной помойке. Они почти никогда не разлучались, ворона весь день то и дело перелетала с места на место вслед за бесцельно слоняющимся по вагону котом.
Томясь от безделья, Яков Александрович каждое утро выходил в город и, повстречав нескольких знакомых, уже был в курсе всех слухов и сплетен, в которых, как правило, всегда находилось, пусть крохотное, зернышко правды.
Вот уже больше недели по городу ходили слухи, что большевики предложили Врангелю капитулировать, за что обещали ему различные серьезные уступки. Но Врангель пока не согласился. Другие уверяли, что Врангель собирается бежать из Крыма и ему союзники даже прислали в Ялту миноносец.
Газет Слащев не покупал, они стоили дорого, а «кормовых», которые он получал, не хватало даже на самую скудную жизнь. Поэтому он останавливался у газетных киосков, и в короткое время, прочитывал всё самое для него интересное. Главным образом его интересовали сводки с фронта, которые с каждым днем, по мере сужения фронта, становились всё короче.
На этот раз его глаза зацепились за заметку в «Русском слове» с витиеватым заголовком «Вожжи вождя в крепких руках».
Заметка начиналась словами:
«Мы встретились с главнокомандующим на станции, едва он вернулся с передовых позиций, куда выезжал для инспекции. Настроение у него было, несмотря на понятную усталость, бодрое, он источал оптимизм. На наш вопрос: что он думает об обороне Крыма, главнокомандующий коротко ответил:
— Не сомневаюсь, большевики обломают зубы о Крымский перешеек. Они положат всю свою армию у его стен. И мы скоро вновь выйдем на просторы Северной Таврии и двинемся дальше, на Москву. Ждать осталось недолго, надо лишь проявить определенное терпение».
Заметка была довольно пространная. В ней высмеивались паникеры, сеющие слухи о последних днях Крыма.
«Неверие в нашу победу поселилось в душах некоторых защитников Отечества, — прочитал Слащев. — Так, пребывающий в отставке в эти тяжкие для России дни небезызвестный всем нам генерал Слащев, с недавних пор ещё и именуемый Крымским, не очень верит в успехи Русской армии. После отъезда главнокомандующего по своим делам в Севастополь, он скептически принародно произнес:
— Подался поближе к морю.
Надо понимать эту злую реплику так: главнокомандующий не верит в победу, он отправился поближе к морю, к кораблям, чтобы успеть покинуть крымские берега».
Заканчивалась заметка такими словами:
«Обыватели, понятно. Они не владеют никакой информацией и, пребывая в панике, изобретают самые нелепые слухи. Печально, когда такие измышления порождают сами защитники Отечества.
Когда-то давным-давно, во времена расцвета Рима тех, кто порождал в государстве вредные слухи, подвергали смерти. Может быть, слишком жестоко, но справедливо.
Иные времена. Мы не варвары. Но двадцать плетей на людной площади были бы вполне адекватным наказанием за нанесенный обществу моральный вред».
Подписи под заметкой не было.
Слащев скомкал газету и сунул её в карман.
— Сколько? — спросил он у продавца газет, седенького человека в пенсне.
— Что-то интересное? — спросил тот.
— Подлость.
— За подлость денег не беру. Израсходуйте газету по назначению.
Слащев неторопливо пошел по улице. Остановился. И затем снова, но уже торопливо вернулся к киоску.
— Что-то ещё? — удивился киоскер.
— Вы не знаете, где находится редакция этой газеты?
— Пойдете по бульвару до самого конца. Между пятым и седьмым домом будет арка. Пройдете во двор — там увидите. Вывеска довольно большая.
Слащев торопливо и целеустремленно пошел по улице. Киоскер окликнул его, пока он ещё не успел удалиться:
— Мне эта газета тоже не нравится. Всё время врет. И лижет сапоги.
— Я сообщу им ваше мнение, — отозвался Слащев и вновь также решительно продолжил свой путь.
* * *
Казаки Слащева квартировали неподалеку от вокзала, в бывшем доходном доме, хозяин которого в начале войны поменял холодную Россию на горячую Гваделупу. В наполовину опустевший дом тотчас заселились железнодорожники, музыканты и артисты кафе-шантана, престарелые нищие барыни, отступавшие вместе с армией из далекой Сибири, в пути растерявшие своё скромное богатство, и другой люд ночных профессий, которые не принято называть вслух в приличном обществе. Это была коммуна, сообщество людей, помогавших друг другу выжить в трудных военных условиях.
Несколько слащевских казаков возились у коновязи.
— Астахов! Возьми с собой Самойленко и ещё двух-трёх человек, и — со мной!
— Оружие прихватить?
— Не нужно. Прогуляемся. Разве что… плётки прихватите!
В сопровождении четырех казаков Слащев вновь вышел на Приморский бульвар, пошел по нему. Отыскал нужную арку.
В тесном дворике, с балконами-переходами, на которых главным образом и протекала жизнь здешних аборигенов, он легко отыскал вывеску. Она была хорошо видна издали и сверкала позолотой.
Они ещё только вошли в дворик, как на балконах и переходах стали возникать любопытные старухи. Надо думать, они едва ли не сутками сидели у своих окошек, ожидая, когда здесь, у них во дворе, произойдет что-нибудь такое, что хоть как-то скрасит их однообразную и тоскливую жизнь.
Скрипучая деревянная лестница вела на второй этаж. Они поднялись к обтянутой кожей двери, на которой красовалась такая же позолоченная табличка с надписью «Добро пожаловать». Но дверь была заперта.
Слащев подергал за висящую на уровне глаз ручку, и где-то в глубине помещения раздался тонкий колокольный звон. И тут же на пороге появился тощий и лысый пожилой господин. Это был один из тех журналистов, который на днях в Джанкое встречался с Врангелем.
— Вы — ко мне? — спросил он, совсем, впрочем, не удивляясь приходу незнакомых людей. Газета живет за счет новостей, а новости приносят люди. Если людей бывает мало, новости приходится буквально высасывать из пальца.
— Да, конечно. Если вы редактор этого… этой газеты? — спросил Слащев.
— Я — главный редактор! — поправил гостей хозяин кабинета. — Присаживайтесь, пожалуйста!
Слащев уселся в кресло напротив редактора, казаки во главе с Астаховым — под стеночкой с висевшими на гвоздиках двумя полосами завтрашней газеты.
— И что же вас привело к нам? Какие заботы?
Слащев не ответил. Он долго, с любопытством и с некоторой гадливостью в упор рассматривал редактора. Казаки смотрели на Слащева. Они хорошо знали своего генерала и с интересом ждали развития событий. Слащев обернулся к казакам и как бы подвел итог своим изысканиям:
— А с виду интеллигентный человек! — сказал он.
— Ну, почему же… странные слова… — не сразу нашелся редактор. — Я окончил Санкт-Петербургский университет, философский факультет.
— А разве интеллигентность зависит от образования?
— Нет, конечно. Но и от образования тоже.
Слащев сунул руку в карман, вынул смятую газету, расправил её, ткнул пальцем в возмутившую его заметку:
— Ваше сочинение?
— В каком смысле? Вы хотите узнать, кто писал?
— Подписи под сочинением нет. Стало быть, вы, как главный редактор, отвечаете за содержание сего опуса?
— Допустим. Но в чем дело?
— Дело в том, что я и есть тот самый генерал Слащев, именуемый к тому же ещё и Крымским.
— Оч-чень приятно, — с трудом выдавил из себя редактор. Он был наслышан о Слащеве и уже догадывался, что ничего хорошего от этого визита ему не следует ждать. С тоской подумал, что некстати разогнал всех своих сотрудников в поисках материала для газеты. Кажется, они сейчас были бы здесь не лишние.
— Сомневаюсь, — сказал Слащев. — У меня к вам вопрос.
— Да, я — весь внимание!
— Вы слышали, чтобы я сказал о своем друге главнокомандующем Врангеле: «Подался поближе к морю»? Лично я?
— Мне кто-то сказал. И я подумал…
— Минуточку! — оборвал редактора Слащев. — Меня не интересует, что вы подумали. Я уточняю вопрос: вы сами слышали, чтобы лично я сказал эти слова?
— Нет. Но мне сказали…
— Кто?
— Н-не помню.
— Не слышали. И тем не менее написали об этом. Статейка без подписи. Стало быть, никому, кроме вас, я не могу предъявить претензию за клевету? Я правильно понимаю?
— Знаете что! — Тут же торопливо нашел выход редактор: — Вы пишете опровержение. Мы охотно его публикуем и, кроме того, принесём вам свои публичные извинения. И — всё! И инцидент исчерпан!
— Как всё у вас, оказывается, просто! Оклеветали — извинились. Но клевета-то уже гуляет по Крыму!
— Сожалею. Постараемся в ближайшем же номере…
— Минуточку! — снова повысил голос Слащев. — Я пока ни о чём вас не просил!… Как я понимаю, вы, как и врачи, поступая на работу, тоже принимаете своеобразную клятву Гиппократа: ни словом, ни помыслом не лгать, заведомо не клеветать, говорить только правду, и ничего, кроме правды. Вы же солгали и очернили моё имя.
— Видите ли… — вновь попытался оправдаться редактор.
— Не вижу! — гневно оборвал его Слащев. — Что толку мне от ваших оправданий!
Казаки не без удовольствия наблюдали за этой беседой.
Слащев какое-то время молчал.
— В цивилизованном обществе… — нарушил тишину очкарик.
— Вот! — жестом руки остановил его Слащев и заговорил уже без всякого гнева, спокойно, тоном, каким обычно родители увещевают нерадивого недоросля. — В иные времена, сударь, за такое оскорбление я просто вывез бы вас за город и застрелил в какой-нибудь севастопольской балке. Но вы справедливо напомнили, что мы живем не в каком-то там варварском обществе. Будь вы человеком военным, я бы вызвал вас на дуэль. К сожалению, вы — человек партикулярный, я же — офицер, и кодекс чести не позволяет мне с вами стреляться. Однако я желаю получить сатисфакцию.
— Я же сказал, мы принесем извинения, — унылым голосом сказал редактор.
— Мало! — твёрдо сказал Слащев.
— В конце концов можно даже…
— Помолчите! Я думаю.
Редактор замер.
Казаки тоже с интересом ждали, чем всё это закончится. Они хорошо знали своего генерала и даже гордились им не только за отчаянную храбрость, но и за его способность на самые безрассудные и экстравагантные поступки. Что придумает он на этот раз?
— Астахов! Не помнишь, какое наказание предлагает в своей газете господин редактор за нанесение морального вреда обществу?
— Да невдобно.
— Говори!
— Двадцать плёток по голой жопе.
— И шоб серед людей, на площади, — добавил Самойленко.
— Мне нравится, — Слащев обернулся к редактору. — Как вы на это посмотрите? Это ведь ваше предложение. Сам я ничего не придумал.
— Что же это такое! Вламываются в редакцию! Что вы себе позволяете! Вы же российский генерал! — стал в гневе выкрикивать редактор.
Слащев его не слушал.
— Астахов! Добудьте у кого-нибудь из здешних прочную лавку. И, пожалуй, ещё канат.
— Канат не надо, Яков Александрович, — сказал Самойленко. — Оны ж сознательни, дрыгаться не будуть. А в случай чого, мы им трошкы поможем.
Самойленко и один из казаков отправились выполнять поручение Слащева, а Астахов с напарником стали по бокам редактора.
— Сами во двор спуститесь или помочь? — спросил Слащев.
— Куда? Зачем? Что вы творите! — разгневался редактор.
— Хочу полностью соблюсти ваше предложение. На площади, так на площади.
— Это вам так даром не пройдет. Я сегодня же пойду к главнокомандующему!
— Завтра, — сказал Слащев.
— Сегодня же! Сейчас!
— Сегодня вам лучше будет полежать, — даже с некоторым сочувствием сказал Слащев и дал знак казакам. Они легко подхватили тщедушного редактора под руки и скорее вынесли его, чем вывели во двор. Там, посредине, уже стояла массивная дубовая скамья.
Увидев её, редактор только сейчас осознал, что экзекуции ему не избежать. Он стал вырываться. Но казаки легкими тумаками быстро его успокоили.
— Изволите, сударь, сами снять с себя штаны? — спросил Слащев и затем пояснил: — Дабы моим хлопцам не пришлось прибегнуть к принародным и унижающим вас действиям.
Редактор уже не вырывался и даже не ругался. Он тихонько плакал и совсем по-детски просился:
— Я не буду! Простите! Я больше не буду!
— Верю! Больше не будете!
Казаки сорвали с редактора одежду. Когда дело дошло до кальсон, Слащев сказал:
— Оставьте!
Хныкающего редактора растянули на лавке. Самойленко, как профессиональный палач, поиграл перед глазами редактора плетью и лишь после этого неожиданно, коротким взмахом, опустил её на кальсоны. Редактор задергался и взвыл. А тонкая вмятина на кальсонах напиталась кровью.
Самойленко был мастером своего дела. Он с ровными временными промежутками опускал плеть на повлажневшие от крови подштанники. Трижды опустил плеть на спину, и кожа на спине вздулась налитыми кровью рубцами.
Редактор уже не кричал, не вырывался, не плакал, а только после каждого удара тоненько взвизгивал.
— Сколько? — спросил Слащев у Самойленко.
— Я думав, вы считаете. Вроде, четырнадцать.
— Ну и хватит! Объявляю господину редактору амнистию!
И казаки тот же час отпустили руки и ноги редактора. Он попытался вскочить с лавки, но не смог. Стеная и кривясь от боли, осторожно сполз вниз, стал подбирать снятую с него одежду. Астахов помог ему.
С охапкой одежды в руках, пошатываясь, редактор медленно побрел по двору к своей позолоченной вывеске.
— Надеюсь, не забудете опубликовать извинения, — вслед уходящему редактору напомнил Слащев. — Не заставляйте нас вернуться ещё раз.
Редактор не обернулся. Молча протиснулся в свою входную дверь.
Когда он скрылся, Слащев обвел взглядом балкончики и переходы, на которых собрались почти все жители двора.
— В чем дело? — громко спросил Слащев. — Почему не слышу аплодисментов?
И раздались аплодисменты.
Вторично они раздались несколько позже, когда Слащев с казаками покидали двор.
* * *
О том, что большевики ночью пытались преодолеть Сиваш в районе Владимировки и только высокая вода помешала им, Врангель узнал утром. Эту весть ему сообщил Михаил Уваров, едва он проснулся.
«Вот уж, воистину Господь на нашей стороне», — подумал Врангель.
Укреплению береговой полосы в районе Владимировки — Строгановки инженеры-фортификаторы уделяли меньше всего внимания, уверяя Врангеля, что преодолевать Сиваш в этом, самом широком месте, большевики не станут. В многовековой истории Крыма не было случая, чтобы кто-то даже летом решился преодолевать Сиваш в этом месте. По соседству были участки значительно уже и куда более удобные для форсирования. Сейчас же, зимой, когда морозы подскочили до десяти градусов, это сделать было практически невозможно. Поэтому главным образом укрепляли Арабатскую стрелку и Чонгар в районе Сальково.
На берегу напротив Строгановки, Владимировки и Ивановки на всякий случай отрыли несколько землянок и обустроили возле них пулеметные гнезда. Посчитали, что здесь можно держать минимальное количество солдат. Они должны были редкими выстрелами обозначать себя, чтобы большевики не сомневались: крымский берег и в этом месте денно и нощно хорошо охраняется.
Старший адъютант не уходил из опочивальни, ожидая утренних распоряжений главнокомандующего.
— А что, Микки, Курская Коренная уже на берегу? — спросил Врангель.
— Да, Петр Николаевич. Она — во Владимирском соборе.
— Хочу приложиться. За суетными делами совсем о Боге забываю.
Одна из самых почитаемых в России — икона Божьей Матери «Знамение», Курская Коренная, была покровительницей войск и походов. Когда злоумышленники взорвали в Курске храм, где тогда находилась икона, она чудесным образом уцелела среди развалин. На ней не обнаружили даже царапины.
В смутные дни, когда поход Деникина на Москву завершился полной неудачей, к Врангелю и Кутепову обратился Курский епископ Феофан с просьбой о спасении иконы от большевиков.
Врангель и Кутепов проявили о ней заботу. Вместе с войсками, в боевых порядках, Курская Коренная была пронесена до самого Новороссийска. Когда же разразилась новороссийская катастрофа и белым спешно пришлось покидать город, Врангель снова позаботился об иконе. Он велел её отправить подальше от войны, в Сербию. Там, в тихом городке Ниша, она пребывала до того момента, пока однажды Врангель не понял, что Северную Таврию придется оставить большевикам и до весны запереться в Крыму. Он распорядился вернуть Курскую Коренную снова в Россию, в Севастополь.
Врангель верил в чудодейственную силу иконы и надеялся, что она поможет, не позволит России исчезнуть в темени безбожия.
— Свяжитесь с владыкой Вениамином, — попросил он Уварова. — Скажите, хочу помолиться. В тишине. Приду один. Пусть ничего не готовит.
Уваров ушел. Врангель прошел к себе в кабинет, отодвинул занавеску на оперативной карте и стал задумчиво вглядываться в неё. Сиваш то извивался, петлял, то широко разливался. Типографская чернота воды была обманчива. Летом, в спекотную жару, в некоторых местах его можно было перейти вброд. Но сейчас? Надо быть слишком отчаянным и самонадеянным, чтобы рискнуть преодолеть это тонкое пространство, уже прихваченное у берегов тонким хрустящим ледком.
Скорее всего, потерпев неудачу у Владимировки — Строгановки, большевики больше не станут рисковать здесь и двинут свои войска на укрепрайоны. Но за эти участки, и за Перекоп и за Чонгар, Врангель был спокоен.
И всё же… Вероятно, вот так же стоит сейчас перед подобной картой большевистский командарм Фрунзе и тоже размышляет. О чём думает он? Куда направит свои войска? Какую заготовил хитрость?
Врангель знал, что Красная армия раздета и разута. Советы надеялись завершить кампанию до холодов. Не получилось! Господь помог белым войскам с погодой. Неужели большевики и сейчас, в эти лютые холода, снова будут пытаться овладеть Крымом?
Разведка донесла о том, что Ленин решительно настаивает на продолжении боевых действий. Но если бои продолжатся, плохо одетую армию поразят болезни, она станет практически не боеспособной. Хватит ли у Фрунзе характера ослушаться Ленина? Если продлятся такие холода, насколько времени у него ещё хватит боевого запала?
* * *
После обеда Врангель прошел от Чесменского дворца, где располагался его Штаб, до Соборной площади. Здесь было множество людей, они столпились у входа во Владимирский собор.
Слух о том, что Курская Коренная вновь вернулась в Россию и помещена в севастопольский Владимирский собор, в одночасье распространился по всему Крыму. К ней потянулись за утешением все, кто мог передвигаться. Несколько дней на довольно просторной Соборной площади было тесно от людей. Епископ Таврический Вениамин все это время не имел возможности отдохнуть, молебны служил по много раз в сутки.
Врангель прошел через образованный его охраной коридор. Люди молчали. И лишь когда он поднимался по ступеням к входу в собор, какая-то женщина выкрикнула из толпы:
— Хоть слово надежды скажите, ваше превосходительство!
На верхней ступеньке Врангель обернулся, оглядел заполненную людьми площадь. В основном здесь стояли старухи с детьми и уже немолодые женщины, редко среди них были видны увечные мужчины. В основном здесь собрались жены и матери солдат и офицеров, от самой Москвы сопровождавшие отступавшую армию. Вместе с нею они бежали во время новороссийской катастрофы, и вместе затем вернулись сюда. Они боялись остаться в стане большевиков, но повсюду бесстрашно сопровождали армию и переносили с нею все невзгоды.
— Чем я могу вас утешить? — тихо сказал он, но площадь затихла, и все услышали его усталый голос. Они смотрели на него с надеждой и обожанием. — Я, как и вы, уповаю на Всевышнего. Верю, он не позволит исчезнуть России, той России, которую беззаветно любим и без которой не мыслим жизни своей. Молитесь!
Он подумал и затем коротко добавил:
— И кайтесь. Все мы небезгрешны. Неправедной жизнью своей прогневили Всевышнего.
Он вошел в собор, и сразу же за дверью его окутал запах каких-то благовоний, знакомых ему с детства. Для себя Врангель называл всё это — таинственный неземной аромат, мягкий свет свечей, тихий шепот сотен молящихся людей — одним словом: благость.
Навстречу Врангелю вышел викарный епископ Таврический Вениамин. Главнокомандующий склонил перед владыкой голову, и тот осенил его крестным знамением и молча проводил к аналою.
В соборе, как и хотел Врангель, никого не было. Гулкий звук его сапог, кованых и со шпорами, звучал в соборе оглушающе громко. И он даже пожалел, что не додумался надеть на ноги что-то легкое, мягкое.
Владыка слегка отстал, пропустив Врангеля впереди себя, и затем как-то незаметно, неправдоподобно легко ступая по каменному полу, удалился в алтарь. Врангель остался один. Лишь вдалеке, возле входных дверей, остался стоять сопровождающий главнокомандующего Михаил Уваров.
Врангель подошел к аналою, перекрестился, припал к иконе. И так, в молитве, застыл.
О чем молился он? Вероятно, всё о том же, о сохранении России хотя бы на этом малом крымском пятачке. Или просил Всевышнего вернуть порушенной российской земле умиротворение и благодать.
Молился Врангель долго и истово.
Неслышно ступая, владыка проследовал из алтаря к стоящему у входной двери Уварову, и там, вместе с ним, стал ждать, когда Врангель завершит молиться.
Вскоре Врангель подошел к ним.
Провожая его, владыка сказал:
— Завтра, ваше превосходительство, выезжаю с Курской Коренной на позиции. Ваши штабные порекомендовали начинать с Чонгара и затем вдоль всего Сиваша до Перекопа.
— Вполне разумно. Одобряю, — согласился Врангель и спросил: — Что с сопровождением?
— Еще не успели обговорить.
— Не трудитесь, владыко! Выделю вам часть своего эскорта.
Они попрощались.
Глава вторая
С подробным докладом о неудаче Повстанческой армии в штаб Южного фронта приехал Кольцов. Благо, штаб находился неподалеку, в глухом присивашском селе Новоселки.
Не спрашивая, где находится штаб фронта, он ещё издали увидел хатку под камышом, возле которой возвышалась радиотелефонная антенна. Даже в утреннюю пору в этом дворе было многолюдно, а у коновязи тесно от лошадей.
Оставив во дворе своего гнедого, он прошел в штаб.
В бывшей крохотной сельской кухоньке с уютной печкой, на время превращенной в приемную, он увидел адъютанта Фрунзе Сиротинского. Тот тоже сразу же узнал Кольцова, но предупреждающе объяснил:
— Совещание. Подождите немного, я узнаю.
Он скрылся за старой скрипучей дверью, но тут же вернулся:
— Проходите!
Тесноватая горница с маленькими подслеповатыми оконцами была заполнена армейскими командирами. Кольцов на мгновение вспомнил родительскую хатку на окраине Севастополя. Здесь тоже, почти как дома, стены горницы были пропитаны запахом духовитых степных трав — полыни и чабреца, который не смог перебить даже запах ядреной махорки. Фрунзе сам не курил, но другим позволял, считая себя не вправе навязывать другим свой образ жизни.
Фрунзе стоял с указкой в руках возле оперативной карты Крымского перешейка, а комдивы и комкоры тесно окружили его, как цыплята наседку. Кольцов подсел на краешек лавки возле комдива Блюхера, которого немного знал по прошлым случайным встречам.
— Таким образом, предлагаю ещё раз всё продумать и взвесить, — заканчивая давно начатый разговор, как легко понял Кольцов, об овладении Крымским перешейком, сказал Фрунзе. — У кого возникли какие-либо предложения или сомнения, прошу поделиться ими после небольшого перерыва. А я тем временем введу в курс наших сегодняшних дел товарища Кольцова. Для тех, кто не знает: Павел Андреевич Кольцов в настоящее время является нашим военным представителем в Повстанческой махновской армии.
Командиры встали, потянулись из горницы во двор. Проходя через дверь, вынужденно пригибали головы: то ли хатка за долгие годы сильно вросла в землю, то ли изначально, ещё при строительстве, была рассчитана на низкорослых хозяев.
Мимо Кольцова прошли члены Реввоенсовета фронта Гусев, Владимиров, Кун, Смилга. Их лица были Кольцову знакомы, в разное время ему приходилось их видеть, но ни с кем из них, кроме венгра Белы Куна[24], знаком не был. С Белой Куном он познакомился не так давно, под Каховкой, в черные дни своей жизни, когда начальник Политотдела Двенадцатой армии Розалия Землячка[25] пыталась предать его суду военного трибунала. Бела Кун был на стороне Землячки.
Потом к Кольцову одновременно подошли два комдива. Поздоровались.
— Мы с вами соседи. Комдив Пятьдесят второй, — представился высокий грузноватый и медлительный Маркиян Германович. — Так что через Сиваш пойдем рядышком. Я — слева от Ивановки. Пятнадцатая пойдет справа.
— Радумец, комдив Пятнадцатой! — крепко пожал руку Кольцову франтоватый, с лихими вразлет усами ещё совсем молодой комдив, и тут же попросил: — Не подведите!
— Постараемся. Хотя народ у меня с норовом. Трудно ручаться.
— Анархия, мать порядка, — улыбнулся Радумец.
— С анархией не всё так, как о ней многие думают. И дисциплине подчиняются, и воюют хорошо, — сказал Кольцов. — Но… как бы это помягче?… Каждый сам себе командир. Приказ исполняют только после того, как докажешь, убедишь.
— Удается?
— Пока удавалось.
— Каким же образом? Одного-двух уговорить, это понятно. Но их же у вас несколько тысяч.
— Волшебное слово знаю, — улыбнулся Кольцов. — Всего одно лишь слово — Крым. Они ещё на Старобельском совещании передавали просьбу Нестора Махно: «Отдайте нам в концессию Крым»[26].
— Смотри, какие знают слова, — удивленно покачал головой Германович, — «концессия».
— Нестор Махно за семь лет в Бутырке университет окончил, — сказал Кольцов и пояснил: — Он все семь лет с учёными анархистами в одной камере просидел. И в самом прямом смысле университетское образование получил.
— Ну и зачем им Крым? — спросил Радумец. — Кусок, конечно, лакомый. Но земли там мало, всё больше горы, леса. Курортная зона. Что смогут эти крестьяне там сотворить?
— Хотят свободную анархическую республику организовать. Безвластную. Пусть, говорят, весь мир посмотрит, как могут жить люди в безвластном анархическом государстве.
— Гляди-ка! Замах рублевый! — удивился Германович. — Ну и что? Мы согласились?
— Я на том совещании не был. Возможно. Хотя и сомневаюсь. В соглашении об этом — ни строчки. Но они верят.
— Обманем, — сказал Радумец. — Какой-нибудь остров в Ледовитом океане, может, и отдали бы. Но Крым?…
И они тоже пошли к выходу.
— Соседи! Вы как-нибудь в гости загляните, — пригласил их Кольцов. — На чай!
— Какой чай! Отоспаться бы! — едва не в один голос сказали комдивы.
Тем временем освободился Фрунзе. Кольцов подошел к нему.
— Ваше донесение получил ночью. Спасибо за четкость, — Фрунзе устало опустился на табурет возле висящей на стене оперативной карты. — Я уж хотел было отменить приказ о переправе. Но, честно говоря, хотелось проверить, на что способны махновцы. Если бы они закрепились на Литовском полуострове, мы тут же бросили туда Пятнадцатую и Пятьдесят вторую дивизии. Наготове была и Вторая конная Миронова.
— Не по вине махновцев ничего не получилось, — сказал Кольцов. — Вода поднялась…
— Читал вашу записку, — остановил Кольцова Фрунзе. — Полагаете, в трудную минуту на них можно положиться?
— Нисколько не сомневаюсь.
— Какие отношения у вас сложились с командованием повстанцев?
— Вполне деловые. Я бы даже сказал, дружеские. — И, улыбнувшись, Кольцов добавил: — Но это всё же не совсем армия. Скорее Запорожская Сечь, со всем хорошим и плохим, что было в Сечи.
Кольцов подробно рассказал Фрунзе о кулачном бое после неудачного форсирования Сиваша. Командующий фронтом от души посмеялся.
— Я им доверяю. Народец они простой, но обидчивый. Если что не по нутру, могут и развернуть свои телеги в сторону дома. А уж если поверят, то — до конца, — сказал Кольцов.
— Слушайте, вы прямо влюблены в этих бандитов, — сухо сказал Фрунзе. — Забыли, сколько крови они нам попортили?
— Кровь мы друг другу портили. Они не совсем понимают, что такое советская власть. Верят врангелевской пропаганде о коммуниях, в которых всё будет общее, даже жены. У них свои представления о государстве без царя, капиталистов и помещиков. В чём-то они не совпадают с нашими.
— Ну и как в таком случае нам с ними быть? Они — бунтари, и останутся такими. Нужны ли нам они в нашей будущей жизни?
— А куда нам их девать? Они, как и мы с вами, тоже — из нашего же прошлого. Такие, какие есть. Рукой со стола не смахнешь. Кончится война, задача власти терпеливо и доходчиво им объяснить, что такое советская власть. Поймут — станут хорошими нашими помощниками. Они — хлеборобы. У них даже на знамени написано «За хлеб и волю».
— Да вы, дружок, чистой воды либерал, — удивленно покачал головой Фрунзе. — Это что же, на вас так Франция повлияла? Или махновцы перевоспитали? Так быстро?
— С рождения, Михаил Васильевич, я такой. Не вижу в их желаниях ничего, что шло бы в разрез с политикой большевиков.
Фрунзе встал. В горницу уже начали возвращаться его подчиненные.
— Не время спорить, — сказал он. — От махновцев сейчас требуется только одно, чтобы в трудную минуту не подвели.
— Надеюсь, не подведут.
— А доспорим после войны.
— Согласен, — Кольцов повернулся, чтобы где-нибудь присесть и поучаствовать в совещании.
Но Фрунзе, вдруг взяв в руки указку, сказал Кольцову:
— Специально для вас. Пока собираются, — и взмахнул указкой над картой. — Надо торопиться с наступлением. Начнем в ночь с седьмого на восьмое. Повстанцам сообщим в ночь на седьмое, не раньше. Вы тоже ничего им пока не сообщайте.
— Да, понимаю, — согласно кивнул Кольцов. И без этого предупреждения он не стал бы раньше времени разглашать повстанцам секретные сведения. Время от времени в их рядах то и дело разоблачали махновцев, поддерживавших отношения с белогвардейской разведкой. Случай с Савелием Яценко, увы, не единичный.
— Полосу наступления вашим повстанцам менять не будем. Переправляться там же. Ваши соседи — Пятнадцатая и Пятьдесят вторая стрелковые дивизии. С Литовского полуострова продвигаться дальше, до Юшуни, с тыла выйти к Перекопу и способствовать его овладением.
— Будем стараться, — пообещал Кольцов и, осознав всю сложность поставленной задачи, добавил: — Дело не из легких.
— А разве я сказал, что оно легкое? Но куда тяжелее у Блюхера, — сказал Фрунзе. — Пятьдесят первая дивизия Блюхера будет наступать на Перекопские укрепления в лоб. С фронта Блюхер не сможет ими овладеть. Но противник тем не менее должен быть уверен, что мы именно отсюда, с фронта, решили взять Перекоп.
— По сути, отвлекающий маневр? — догадался Кольцов.
— Похоже на это, — согласился Фрунзе. — Вы, повстанцы, вместе с Радумецом и Германовичем выйдете к Перекопу с тыла.
Рассказывая, он легко взмахивал указкой. У Кольцова сложилось впечатление, что операция по взятию Перекопской твердыни была тщательно продумана, в ней было некое полководческое изящество, и она нравится самому Фрунзе. Но это изящество могло обернуться немалой кровью.
— Но Блюхер! — задумчиво сказал Кольцов. — По сути, он жертвует своей дивизией!
Фрунзе нахмурился, ему не поправились слова Кольцова.
— Жертв, конечно, не избежать. Ему — в большей степени, — жестко сказал он. — В войне нередко такое случается, что ради победы приходится кем-то или чем-то жертвовать. Свою задачу в этой операции он знает. А уж как ему при этом уменьшить количество жертв, пусть придумает сам. На то он и комдив, — он отложил указку. — Собственно, это всё, что я должен был вам сообщить. Больше вам незачем тратить здесь время. Можете отправляться к себе.
— Если можно, отниму у вас ещё минуту времени, — попросил Кольцов.
— Да, пожалуйста, — Фрунзе снова опустился на табуретку и поднял на него усталые глаза.
— У меня есть предположения, что где-то здесь у нас сидит хорошо законспирированный враг, — без всякой дипломатии, в упор выпалил Кольцов.
— Почему вы так думаете?
— О моем отъезде из Каховки к повстанцам знал очень узкий круг людей. И тем не менее об этом в то же утро узнали бандиты. Они пытались пленить меня, и лишь чистый случай помог мне избежать пленения и последующей доставки во врангелевскую контрразведку. Заказ, как я выяснил, поступил от неё.
— Зачем вы им? — и на губах Фрунзе промелькнула едва видимая ироническая улыбка. — Извините за прямодушие, но сейчас, во время агонии армии Врангеля, любой наш полевой командир представляет для них куда больший интерес, чем чекист, даже высокого ранга.
— Я согласен. Но тем не менее заказ поступил именно на меня.
Фрунзе нисколько не обеспокоился этим сообщением.
— Ну что ж. В таком случае смотрите в оба и берегите себя, — сказал он.
— Стараюсь. — Кольцов почувствовал пренебрежение к его словам и поэтому добавил: — Я не о себе беспокоюсь. Я только подумал, что враг где-то здесь, в нашей среде. Он может добыть и переправить на ту сторону самую секретную информацию, и тем самым нанести нам серьезный урон. К примеру, ту же информацию об отвлекающем маневре Блюхера.
— Хорошо. Наших контрразведчиков я конечно же предупрежу о ваших подозрениях. — Пообещал Фрунзе и затем спросил: — Вы один здесь?
— Где-то здесь находится мой адъютант.
В горнице уже вновь, после перерыва, собрались здоровые, крепкие и загорелые комдивы и комкоры, окружили Фрунзе, тихо между собой переговариваясь, ждали продолжения совещания.
— Идите, — отпустил Кольцова Фрунзе. — Я распоряжусь, чтобы вас проводили.
— Не нужно, — воспротивился Кольцов. — Тут езды…
* * *
Прежде дремотное село Новосёлки, где находился сейчас штаб Фрунзе, зажило в другом, торопливом ритме.
Пугая заполошных кур, по селу носились всадники. С ленивым лаем, высунув языки, бегали за тачанками и телегами лохматые кобели. Иногда к штабу или от него пробегали легковые автомобили, и на рокот их мотора в одночасье сбегались все сельские собаки. За что они так не любили «начальственные» автомобили, вряд ли кто смог бы объяснить. До недавних дней автомобилей здесь, в заброшенной богом глухомани, отродясь никто не видел. С неистовым злобным лаем они провожали автомобиль далеко за село, а иные бежали и дальше, насколько хватало сил. И тогда они лениво и устало, с чувством выполненного долга возвращались обратно к своим будкам.
Людей собаки не трогали. Может быть, потому что иногда им от людей перепадала корка хлеба или пересушенная до каменной твердости голова воблы.
В Особом отделе, который размещался двумя хатками дальше от Штаба фронта, Кольцов отыскал Бушкина. За то короткое время, что провел он здесь, Тимофей успел со всеми перезнакомиться и стал здесь уже почти своим. Село он тоже уже несколько раз исходил из конца в конец.
Гольдман квартировал в убогой хатке на самом краю села. Они подъехали к ней верхом, привязали коней к двум торчащим из земли кольям, оставшимся от изведенного на топливо забора.
— Постоялец дома? — спросил Бушкин, приоткрыв входную дверь хатки.
— А то! Спит ещё! Небось всю ночь котовал. — Раздался из глубины молодой голос, и тут же на пороге возникла весёлая разбитная молодица, вероятно, хозяйка этого поместья. Стрельнув на Кольцова озорным глазом, спросила: — А то, может, и я вам для чегось сгожусь?
— Покажи, где тут его апартаменты! — строго сказал Бушкин и легонько тронул её за плечо. — Ишь, кобылка необъезженная!
— Так ить некому! Объезжать, говорю, некому! — томным голосом сказала она. — Сплошна несправедливость. Мужики в войну играють, а бабы, известно дело, страдають.
Хозяйка широко распахнула дверь в сени, впустила Бушкина и Кольцова.
— Туточки оны силять, — взглядом указала она на ближнюю к выходу дверь. — А вона там — моя горенка. Может, глянете, як холостые бабы в войну живуть.
— Как-нибудь другим разом! — строго сказал Бушкин и толкнул дверь в комнату, где проживал Гольдман.
Исаак Абрамович спал на широкой деревянной кровати, на мягких перинах и подушках, под одеялом с до скрипа накрахмаленным пододеяльником. Его разбудили разговоры в сенях.
Увидев Кольцова, он приподнялся на локте и радостно кивнул ему. Объяснил:
— А я, понимаешь, всю ночь по делам, как собака. Может, днём удастся. Да разве дадут!
— Вы не беспокойтесь. Мы ненадолго, — обиделся на холодный прием Кольцов.
Гольдман свесил с кровати ноги, стал снимать со спинки стула одежду. Натянул брюки, рубаху. Под ней оказался цветной женский халатик. Гольдман смутился, скомкав халатик, попытался незаметно куда-нибудь его пристроить. И, наконец, поняв, что все старания напрасны, сунул его под одеяло. При этом, пытаясь хоть как-то оправдаться, сердито проворчал:
— Нет, ну скажи! Велел в комнату ни ногой. И когда эта чертова баба успела своё барахло…
— Совсем не чертова, — не согласился Кольцов, лукаво поглядев на Гольдмана. — Вполне даже красивая степнячка! Весёлая! Глазищи какие! А стать!
— Как две капли воды похожа на нашего Маркиза, — напомнил Бушкин о чубаром красавце коне, которого братья цыганчата где-то поймали и привели в Основу, в коммуну к Павлу Заболотному.
— А что, Исаак Абрамович! Присмотритесь! Вы — холостяк, и у неё, похоже, мужа нет, — сказал Кольцов. — Война скоро кончится. Глядишь, вот так ненароком черт знает где, в херсонских степях, поймаете свое счастье.
— А хозяйка какая! Всю жизнь на крахмальных простынях будете спать, — добавил Бушкин.
— Думаете? — спросил Гольдман, поняв, что он полностью изобличен и что друзья вовсе не шутят.
— Нам чего думать! — улыбнулся Кольцов. — У нас своих забот хватает.
— Ох, и сукин ты кот, Павел Андреевич! — в ответ заулыбался и Гольдман. — Шибко глазастый! Мог бы сделать вид, что ничего не заметил.
— Мог бы! — согласился Кольцов. — Но кто б тогда вам сказал, что таких красавиц и в Москве не больно-то отыщешь? Сама к вам, как сказочная птица, в руки прилетела. Хватайте!
— В сваты набиваешься? — с лукавинкой в голосе спросил Гольдман.
— А что ж тут плохого? Сколько лет всё пули, кровь, смерть. Хочется хоть краем глаза на чужое счастье посмотреть, если своего нет, и не предвидится, — сказал Кольцов.
— Спасибо за совет, — сказал Гольдман. — Подумаю, — пообещал он и, предложив гостям сесть, спросил: — По делу? Или так, проведать?
— По делу, конечно. Проведывать друг друга после войны будем, если уцелеем. Я вот тут днями случайно уцелел. — Кольцов вопросительно посмотрел на Гольдмана: — Скажите, Исаак Абрамович, вы, когда тачанку для меня добывали, с кем-нибудь советовались? Может, кого-то посвятили, что я в ней поеду?
— Я ж потом «форда» тебе добыл, — напомнил Гольдман.
— Меня тачанка интересует.
— Ну и вопросы у тебя, Паша! Да могу ли я запомнить всех, с кем тогда разговаривал, что кому сказал. И потом, что это — секрет, кто поедет? Я так думаю, секрет в том, куда поедет. Это важно. Об этом я никому не говорил.
— А, оказалось, кто поедет — тоже было важно.
И Кольцов рассказал Гольдману о нападении на них банды Яценко, о том, что отделившийся от армии Нестора Махно Яценко с небольшим отрядом стал самостоятельно бесчинствовать в прифронтовых районах. Каким-то способом Яценко связался с врангелевской контрразведкой, или контрразведчики как-то вышли на него — неизвестно. Но Яценко стал оказывать им мелкие услуги.
Кольцова и Бушкина случайно спасли махновцы. Банду ликвидировали, Яценко расстреляли. На последнем допросе Яценко покаялся командиру повстанцев, что получил от белогвардейской контрразведки заказ на Кольцова, просили, мол, доставить его на крымскую сторону живым или мертвым. Обещали хорошее вознаграждение.
— Что ж, может, ты и прав, — сказал Гольдман. — Поехал бы на тачанке, и всё бы обошлось. Мало ли тачанок мотается сейчас по Таврии!
— Не всё так просто. Фокус в том, что Яценко знал, что я буду ехать на тачанке. Это была единственная примета. В лицо он меня не знал.
На этих словах дверь в комнату распахнулась и вошла хозяйка, ещё более похорошевшая, подрумяненная и одевшая вышитую кофту.
— Что тебе, Мария? — строго спросил Гольдман.
— Та ось! — она взглядом указала на прикрытый вышитым рушником поднос. Под рушником топорщились стаканы и шатром возвышался графин.
— Что там у тебя?
— Отэ, шо вчора, — сказала хозяйка.
— «Отэшовчора» убери! — приказал Гольдман. — А нам чаю.
— Такого, як вчора?
— Можно, — разрешил Гольдман.
— Сей секунд! — и Мария, как хорошо вышколенный денщик, исчезла в кухоньке, мгновенно сменила декорации и снова появилась с тем же самым подносом, на котором теперь уже стояли чашки и большая тарелка с пирожками. Следом внесла и поставила на стол медный горячий чайник.
Гольдман по-хозяйски разлил в стаканы розоватую жидкость.
— Что это? — подозрительно спросил Кольцов.
— За неимением чая здешний народ заваривает шиповник. Его море здесь, по балкам. Вполне заменяет чай, — пояснил Гольдман.
— А цэ пирожочки с сушеным паслёном. Не слыхали про такую ягоду? Она у нас в кажном огороде растеть. Нихто не сеет, а растеть, — сказала хозяйка.
Чай был кисловатый, приятный на вкус, пирожки сладкие, вершина Марииного кулинарного таланта.
— Свободна! — коротко скомандовал Гольдман Марин, и она тут же, чуть не строевым шагом, исчезла. А они, допив чай и опустошив тарелку с пирожками, вновь вернулись к начатому разговору.
— Ты думаешь, что Яценко кто-то предупредил, что ты выедешь на тачанке? — спросил Гольдман у Кольцова.
— Даже предупредили, куда я еду. Яценко долго меня высчитывал. Тачанок в то утро было мало, и ехали в них, на его взгляд, явно не те. Значит, как-то он меня себе представлял. А вот за «форда» он зацепился глазом, чем-то он его заинтересовал, охраной, что ли. Долго ко мне присматривался, пытался заговорить. Видимо, сомневался. Лишь когда мы свернули на Громовку, он понял, что я — это я.
— Ладно. Допускаю, — задумчиво сказал Гольдман. — Допускаю, что ты ни в чем не ошибся. Кстати, ты при допросе Яценко присутствовал?
— Нет. Но все, что знал, Яценко рассказал. В этом я не сомневаюсь.
— Ответь мне в таком случае внятно на главный вопрос: зачем ты нужен сейчас Врангелю? Рушится всё дело его жизни. Его загнали в Крым, и, надо думать, у него сейчас одна-единственная забота: как спастись? И в это же время он вдруг вспоминает о тебе: подайте мне сюда Кольцова! Ни Блюхера, ни Вацетиса, ни Германовича, а тебя? Как-то несерьезно всё это выглядит. Ты так не считаешь?
— Считаю. Но есть факт: такой заказ на меня поступил. Кому я там нужен — не знаю. Зачем — тоже, — обескураженный напором Гольдмана, вяло ответил Кольцов.
Они долго сидели молча. Наконец Гольдман, тяжело вздохнув, сказал:
— Я, конечно, приму твой рассказ к сведению. Доложу Менжинскому. Ещё кое с кем посоветуюсь. Словом, не выброшу из головы. Но на мой взгляд… — Гольдман запнулся, отыскивая нужные слова. — Скажу тебе жестко. На мой взгляд, сегодня ты — свет далекой звезды. Тогда, раньше, ты для многих представлял определенный интерес: бывал в штабах, владел какой-то секретной информацией. Но сейчас ситуация и в штабах и на фронте меняется с огромной быстротой. А вчерашние сведения, как вчерашняя газета, годится лишь для того, чтобы в неё завернуть селёдку.
— К чему такая пламенная речь? — с некоторой обидой спросил Кольцов.
— Ты больше месяца отсутствовал в России. Вот и подумай: для кого ты сейчас можешь представлять интерес? Кроме, разве что, для автора остросюжетных романов.
— Не знаю, — качнул головой Кольцов. — Я и пришел к вам в надежде прояснить это: кому я нужен?
Расстались они, впрочем, по-доброму и весело. Гольдман проводил их во двор. Следом вышла Мария. Она держалась чуть сзади Гольдмана.
Когда Кольцов и Бушкин стали отвязывать своих коней, она встала рядом с Гольдманом и робко спросила:
— Так, может… той… «на коня»?
— На какого ещё коня? — рассердился Гольдман.
— До чого довели Украину! — всплеснув руками, с грустью сказала она. — Это ж надо! Сидають мужики на коней, а ни «на коня», ни «стременну» не выпылы!
— Не горюй, хозяйка! Скоро выпьем! — Весело сказал Кольцов и, коротко взглянув на Гольдмана, подмигнул: — Надеюсь, серьезная причина появится!
Гольдман с нарочитым гневом выхватил из-под ног хворостину и слегка ударил по крупу коня Кольцова. Застоявшийся конь взял с места в карьер. Вдогонку за ним помчался Бушкин.
Гольдман и Мария, стоя рядышком и взявшись за руки, провожали их взглядом до тех пор, пока они и не скрылись за дальними строениями.
* * *
Запорожская Сечь, на которую так смахивала Повстанческая армия, с крестьянской основательностью готовилась к предстоящим боям. Махновцы чинили сбрую, ковали коней, смазывали дёгтем колеса телег, чинили пулемёты. Они пока не знали, когда поступит приказ вновь форсировать Сиваш, но были уверены, это произойдет сегодня или завтра.
Начав дело, им хотелось быстрее его завершить. Кроме того, им уже до чертиков надоела эта голая, скучная, поросшая полынью степь, неприветливая свинцовая вода Сиваша. Надоели низкие мрачные облака, которые днем сеяли мелким дождем, а ночью посыпали белой крупкой или снегом, надоела голодная жизнь и бескормица, потому, что края были здесь бедные, и основательно за время войны ограбленные. Всё, что надо было армии, приходилось тащить с родных мест, с Гуляйпольщины. Практически, армия разделилась надвое: одна её половина только и занималась снабжением второй её половины. А на той стороне Сиваша, куда были направлены их взоры, каждый день, будто издеваясь над ними, светило солнце. Там была обетованная земля — Крым.
Каретников встретил Кольцова на улице. Вместо приветствия, задал короткий вопрос:
— Ну, шо там? Когда?
— Сказали, будьте наготове, — ответил Кольцов. — Сказали, что приказ получим своевременно.
— Не доверяють, — хмыкнул Каретников, — В военну тайну играють.
— Не в этом дело.
— А в чем же? — настойчиво спросил Каретников. — Я так понимаю, мы с вамы договор заключили, печатямы скрипылы. Значить, вместе и до конца. Я правильно понимаю?
— Конечно, — согласился Кольцов.
— А получается, як в той семье. Поженились молодята, в церкви повенчалысь. Невестино придане до жениха перевезлы. Живуть. День, неделю, может, и месяц. Семья! А только невеста свой сундук с приданым под замком держит, не отпирает. Боится свои ложки-вылкы на общий стол выложить. И получается: всё женихово — общее, а все невестино — её. Али я шо-то неправильно понимаю?
— В данном конкретном случае — неправильно, — сказал Кольцов. — Сказано: готовьтесь! Это значит: скоро. Но когда конкретно — объявлять опасно. А ну как ветер опять в Сиваш воду нагонит, как тогда. На этот раз надо так подготовиться, так подгадать, чтоб без осечки.
Ответ Кольцова Каретникова удовлетворил, он подобрел лицом. Предложил:
— Идём до штабу. Посидим в тепле. Погутарим.
Они зашли в хату. В большой штабной горнице сидели трое махновцев, видимо, писаря и корпели над какими-то бумагами.
— А ну, босяки, ослобонить кабинет! — нарочито грозно приказал Каретников. — Мы тут с комиссаром серьезным делом займемся, свидетели не нужни! А ты, Стёпка, — обернулся он к пожилому, седому, но с детским лицом махновцу, — мотнись до Григория, хай передасть отчет. И — бегом!
Степка исчез вслед за остальными двумя писарями.
Каретников усадил Кольцова, сам обошел стол и уселся напротив. Стал деловито и молча сдвигать в стороны какие-то бумаги, освобождая между ними пространство.
Вернулся Степка, поставил на стол перевязанный шпагатом фанерный ящик, взглянул на Каретникова:
— Григорий Иванович пыталы — лично вам воны нужни?
— Лично — не нужен.
— А я?
— И ты тоже — лично — иды до коней. В штабе ошиваешься, а кони не кормлены. Ездовой!
Пристыженный Степка удалился.
Каретников стал неторопливо выставлять из ящика на стол миски с квашеными помидорами, солеными огурчиками, вареным картофелем. Появился солидный, в пять пальцев толщиной, шматочек сала, завернутый в тряпицу, и в придачу к нему большая луковица и головка чеснока.
Извлекая и раскладывая всё это, Каретников между тем говорил:
— Я подумал, комиссар, мы с тобой ещё ни разу не выпили. Не по-нашему это, не по-махновски.
— А говорили, Махно не пьет.
— Сам в рот не берет, но другим, если всё по уму, с хорошей закуской, не возбраняет. И в компании посидеть любит, но в рот — ни капли. Хворый он. Падучая у него.
Появилась на столе и бутылка горилки с запечатанным сургучом горлышком.
— Заметь, комиссар, казёнка! — сказал он. — На сто верст вокруг тут казёнки не найдешь, а у меня для дорогих товарищев всегда есть. Такой у меня народ: шо скажу — достанут, куда пошлю — пойдуть. Про себя скажу. Лично я тебе во всем доверяю, ничего от тебя не скрываю. Не скажешь, шо брешу. А ты всё больше стороной, на откровенность не идешь. Все равно, як чужие.
Каретников красиво, с каким-то вывертом, ударил кулаком по донышку бутылки, и сургучная пробка, описав дугу, шлепнулась в дальнем углу горницы. Бутылку движением фокусника он тут же поставил вертикально, и из неё не вылилось ни капли.
Кольцов едва ли не впервые оказался в положении, при котором не мог отказаться составить Каретникову компанию, сославшись на занятость, болезнь или какую-то другую причину. Даже если бы был действительно болен или крайне занят, то и в этом случае не мог бы, не имел права отказаться от угощения, потому что в одночасье потерял бы к себе уважение и доверие Каретникова, и его пребывание здесь, в Повстанческой армии, было бы бессмысленным.
Каретников острым тесаком отрезал тоненький пластик розового сала, положил его на черный хлеб, и накрыл этот бутерброд мелко нарезанным лучком. После чего он разлил водку и поднял стакан:
— Шо хочу сказать тебе, комиссар. Я первое время к тебе приглядывался. Не сразу раскусил, не в один день. А после той нашей неудачной переправы почему-то уверился: ты — свой, без червоточины. В том смысле, шо не носишь в сердце подлость. Давай, комиссар, выпьем за то, шо я не ошибаюсь!
И едва только Кольцов сделал последний глоток и отнял от губ стакан, Каретников, как высочайшее уважение, поднес к его рту заранее заготовленный бутерброд.
Потом они выпили ещё. И ещё.
Кольцов понимал, что Каретников попытается испытать его на алкогольную прочность — обычные мужские игры. Но Кольцов также знал: почти никогда не употребляя крепкие напитки, он в трудную минуту мог выпить много, и при этом удержать себя в подобающем виде.
— А ты мужик наш, запорожских кровей! — похвалил Кольцова Каретников.
— С чего ты так решил?
— Пьешь по-нашему, до капли, и не морщишься, закусывать не торопишься. Так когда-то наши запорожские деды пили. Должно, у тебя в жилах тоже течет ихняя кровь, только ты про это не знаешь.
— Может быть, — согласился Кольцов. В самом деле, кто из простых людей знает свою родословную? В лучше случае, до прадеда. Сам он родился в Севастополе. Отец — откуда-то с Таврии, и его родители оттуда же. По материнской линии, насколько простирается семейная память, все из Таврии и Екатеринославщины, где на вольностях запорожских, вдоль Днепра, располагались казацкие Сечи. От Самарской, выше Екатеринослава и до Алешковской в низовьях Днепра их было семь или даже девять. И кто знает, может, кто из родни Кольцова и породнился с казаками?
Каретников наклонился поближе к Кольцову, доверительно спросил:
— Скажи мне откровенно, комиссар, шо твои большевики думають насчет Крыма. На Старобельском совещании, я так поняв, нам его вроде как пообещали. А мои хлопцы очень сомневаются. Говорять, мы постараемся, поможем большевикам взять Крым, а оны нам потом дулю с маком.
— Если откровенно, Семен, ничего тебе не могу сказать потому, что ни с кем об этом не говорил. Но думаю, раз пообещали, то не обманут. Одного человека обмануть — и то подлость, а стольких людей — это уже, я думаю, клятвопреступление.
— Вы, большевики, в Бога не верите. Шо вам та клятва? Так, пух на ветру.
— Но есть же ещё честность, порядочность. Её большевики не отменили.
— Но почему ж они в договоре ни слова про Крым не записали, вроде як и не договаривались? Может, не слыхали они нас?
— Не знаю, — сказал Кольцов. — Но я так думаю, не могут они обмануть. Не должны.
— Ладно. Поверю тебе, комиссар! — Каретников разлил остатки казёнки в стаканы. — Давай, выпьем за то, шоб сбылись твои слова, шоб не обманули нас большевики!
Глава третья
Пакет с приказом о форсировании Сиваша нарочный привез седьмого днем. По рекомендации штабных, он отыскал Кольцова и хотел отдать пакет ему. Но Кольцов его не принял. Он отправил нарочного отыскать Каретникова и вручить пакет ему. Он понимал, что не имеет права подменять Каретникова, ущемлять его самолюбие, особенно в таких важных делах. Тем более, что суть приказа он знал.
Каретникову этот поступок Кольцова понравился. Уже через полчаса он пришел к Павлу и положил перед ним полученный приказ. В нём говорилось:
«Армиям фронта ставлю задачу: форсировав Сиваш по всему Крымскому перешейку выйти в Крым и, энергично развивая наступление, полностью овладеть всем полуостровом.
Повстанческой армии (махновцам): переправиться через Сиваш в районе Владимировка — Строгановка — М.Кугаран овладеть Литовским полуостровом, выйти к Юшуни и с тыла ударить по Перекопским позициям. Наступление провести всеми наличествующими силами. Иметь дальнейшую задачу: решительное наступление на Евпаторию.
Начало форсирования — 22.00».
По озадаченному лицу Каретникова Кольцов понял, что пришел он не для того, чтобы сообщить ему о приказе, но, вероятно, посоветоваться.
— Что-нибудь не ясно? — спросил Кольцов.
— Ясно-то ясно. Но обещали поддержать переправу артиллерией, а где она? А шо, если после той нашей переправы берег укрепили? Я б, на их месте, так и сделав.
— А что разведка?
— Разведка говорит, шо ничого на том берегу не изменилось. Но я ей не верю. Не такый же Врангель дурень, шоб выставлять свою оборону напоказ.
— А, может, они решили, что второй раз ты сюда не сунешься?
— Ты, як та цыганка, комиссар: моглы так решить, моглы по-другому, — с легким раздражением в голосе сказал Каретников. — Я думав, ты шо дельное присоветуешь. К примеру, як бы ты поступыв?
— Я? — Кольцов задумался. В самом деле, что решили врангелевцы? Прошлый раз форсирование провалилось из-за высокой воды и плохого знания махновцами брода. Вряд ли это ускользнуло от внимания противника. И поэтому, вероятнее всего, он постарался укрепить берег. А разведку мог обмануть.
По своему опыту ещё той, Первой мировой войны, он знал, что противник часто пытается вводить разведку в заблуждение. Поэтому её данные всегда перепроверяли самыми разными способами. Но сейчас времени на это не было. И всё же…
— Знаешь, — после долгого молчания сказал Кольцов, — я тоже не стал бы до конца доверять разведке.
— Я с этим до тебя и пришел.
— Поначалу рискни небольшой группой. Человек в двадцать, — посоветовал Кольцов. — Устрой так называемую разведку боем. Если врангелевцев там нет, двинешь вслед армию. Если же там засада, будем надеяться, хлопцы с нею справятся.
— А если их там тьма-тьмущая? Шо тогда может получиться? Всю армию на том берегу положу и с позором до батька Махна возвернусь.
— А ты особенно не торопись, — посоветовал Кольцов. — Слева от тебя пойдет Пятьдесят вторая стрелковая дивизия, справа — Пятнадцатая. Иди ноздря в ноздрю. По крайней мере я бы так поступил.
— До чего ж ты разумный хлопец, комиссар! — похвалил Павла Каретников. — И чего ты не с намы, махновцами?
— Да с вами я! С вами! Пока что у нас с тобой, как ты уже успел заметить, никаких разногласий, — сказал Кольцов. — А после войны доспорим, что лучше: социализм и богатство на всем земном шаре или власть стариков в одном хуторе.
— Ну, это ты перегнув, комиссар! Мы, анархисты, тоже за то, шо б на всей земле не было богатых и бедных, шоб у всех был одинаковый достаток и шоб все жили под одним лозунгом — «справедливость».
— Мне нравятся твои слова. Об остальном когда-нибудь доспорим, — Кольцов вынул из кармана гимнастерки часы, положил их перед собой. Сказал Каретникову: — Не теряй времени. Световой день короткий.
* * *
Кончилось томительное ожидание.
Ещё накануне отыскались несколько опытных проводников через Сиваш. Они промерили несколько бродов, и Каретников приказал незадолго до начала штурма, обозначить их вешками с намоченными керосином тряпками.
Каретников решил, что первой через Сиваш пойдет, сопровождаемая проводниками, разведрота Левки Голикова. Она попытается зачистить от противника побережье. Подготовленные махновцы по их сигналу зажгут на вешках факелы. И лишь затем, уже без особого риска, от Владимировки до Малого Кугарана через Сиваш двинется вся Повстанческая армия. Пехота будет сопровождать неповоротливую армаду телег с провизией и боеприпасами, а также около четырехсот пулеметных тачанок.
Наученные недавним печальным опытом, махновцы были намерены переправить на ту сторону даже дрова. Каретников понимал: если не разжечь костры и не обсушить и не обогреть бойцов, уже через короткое время армия станет практически не боеспособной.
Кто запасливее и дальновиднее, те разжились у снабженцев промасленной бумагой и запаковали в неё запасные комплекты сухой одежды. Таких, впрочем, было немного.
С наступлением глубоких сумерек махновцы стали подтягиваться к берегу, хоронясь за близко стоящими к воде хатам и сараям. На самом берегу заняли свои исходные позиции только разведчики и те, кому было поручено расставить вдоль бродов факельные вешки.
Пятеро всадников спустились к берегу в то самое время, когда трое махновцев выходили из воды после установки вешек. Мокрые, посиневшие, они выскочили на берег и, стуча зубами, стали переодеваться в сухое. Другая тройка тем временем готовилась уйти в воды Сиваша с новыми вешками. Они несли их на плечах, словно вязанки дров.
Всадники были в комсоставской красноармейской одежде. Один из них подъехал к переодевающимся махновцам.
— Зачем купаетесь? — не слезая с коня, с сильным латышским акцентом, добродушно спросил он.
— Рыбу ловим.
— Какая в этой соленой воде рыба? — поняв издёвку, нахмурился всадник.
— Селёдка! — серьезно ответил махновец, и добавил: — Малосольна.
— Зачем так глупо шутите? — рассердился всадник.
— Як умеем, так и шутим. А вы, дядя, извиняюсь, хто такой будете? — в свою очередь, спросил укутанный в конскую попону махновец.
— Это — командир Латышской дивизии Стуцка, — ответил за своего командира один из всадников.
— И что ему от нас надо? — недружелюбно спросил настырный махновец.
— Где ваш командир? Почему не начинаете форсирование?
— Якие-то вы все непонятлыви. От поймаем рыбку, зварым юшку[27], повечеряем, а тогда уже можно буде и той… трошки пофорсировать.
Латыши перебросились несколькими фразами на своем языке. Затем один из них вплотную подъехал к отогревающимся повстанцам, зло сказал:
— Не имеете права так разговаривать с командиром дивизии. Где ваш командир?
И тут на берегу появился Каретников.
— Шо за люди? — обратился он к своим бойцам, затем оглядел всадников, спросил у них: — Хто такие?
— Командир Латышской дивизии Стуцка. Карл Стуцка.
— А я — командующий Повстанческой армией Семен Каретников.
— Махновцы? — спросил Стуцка.
— Шо, слово не нравится?
— Нет, почему же! Слово хорошее, дисциплина плохая. Почему не форсируете Сиваш? Срываете общее наступление.
Каретников извлек часы, поднял их за цепочку и покачал перед глазами Стуцки.
— Время не вышло. А вы шо, с инспекцией?
— Приданы вам для помощи.
— Пока, извиняюсь, помощи не просыв. Постараемся без чужой помощи.
— Почему «чужой»? Взять Крым — наше общее кровное дело.
— Ваше кровное дело там, на Балтике. А здесь — наше кровное дело.
— Не совсем вас понимаю, — растерянно сказал Стуцка. — Но по приказу комфронта товарища Фрунзе мы вместе с вами обязаны занять плацдарм на Литовском полуострове.
— Спорить не буду, приказу подчиняюсь. Но ваш интерес до Литовского полуострова мне не по душе. Вы там — литовцы, латыши — одна семья. У вас там своя земля, на нашу не претендуйте. Не уступим.
Стуцка улыбнулся простодушной речи махновского командарма:
— Обещаю, на Крым мы претендовать не будем.
…После разговора с Каретниковым, Стуцка отыскал Кольцова, рассказал ему об этом странном разговоре. Спросил у Кольцова, в чем тут дело?
Кольцов, не очень серьезно воспринявший разговор Каретникова о Крыме во время их недавнего «возлияния», сказал Стуцке:
— Не обращайте внимание. Сейчас, когда кончается война, все хотят что-то для себя выторговать. Кто — пару коней, кто — хорошую должность. А иные — клочок земли размером с Крым. Я так понимаю, все эти вопросы будут решаться не сегодня. Как это будет выглядеть с Крымом — не знаю.
Затем Стуцка ещё раз вернулся к Каретникову и раздражённо спросил:
— Почему не начинаете?
— Вода не согрелась, — язвительно ответил Каретников. Ему уже порядком надоел этот комдив, стремящийся перейти на тот берег Сиваша за спинами его бойцов.
— Неуместные шутки, — сказал Стуцка.
— Вы рветесь в Крым? Идить!
— Я прислан вам в помощь.
— Понадобится помощь, позову. У меня народ вже один раз купався. Без толку. Хочу теперь искупаться с толком, — флегматично объяснил Каретников. На самом деле он выжидал, когда слева и справа соседи пойдут через Сиваш. Крымский берег должен будет ответить им огнем.
Если напротив Строгановки и Владимировки засели белогвардейцы, они тоже обнаружат себя. Каретников предполагал, что после той неудачной переправы, белогвардейцы устроили им засаду.
Каретников был опытным командиром, многие годы проходившим рядом с Нестором Махно, участвовал с ним в боях и рейдах. Нестор Иванович постоянно учил своих командиров разумной осторожности, не ввязываться в бой, пока не прояснится вся картина и не вызреет определенный план. Он учил начинать бой не сразу всеми силами, а отдельными мелкими группами, чтобы противник не только обнаружил всего себя, но и приоткрыл свои намерения.
Выжидал Каретников и сейчас.
Вот справа раздались винтовочные выстрелы и короткими очередями заговорили пулеметы. Это начала переправляться через Сиваш и вступила в бой Пятнадцатая дивизия.
Затем вошел в воды Сиваша и Германович: вспыхнула стрельба и слева.
Противоположный берег напротив Строгановки долго молчал. А затем отозвался несколькими сиротливыми винтовочными выстрелами и смолк.
«Хитруете? — зло подумал Каретников. — А мы против вашей хитрости — свою».
— Голиков! — позвал он начальника разведки, и когда тот возник перед ним, сказал: — Шо-то не нравится мне той берег, Левочка! Кругом шмаляють, а у нас тихо.
И верно, слева и справа разгоралась перестрелка, ночное небо озарялось короткими вспышками. А здесь несколько раз по паре винтовочных выстрелов — и тишина. Это больше всего настораживало Каретникова.
— Смотайся, Левочка, на ту сторону, разберись, шо там. Всех своих пока не бери. Человек двадцати вполне хватит. Если там нас особо не ждуть, запалите огонь.
— Поняв, Семен Мыкытовыч! — и, круто развернув коня, командир разведчиков поскакал по берегу, как по стеклу. Под копытами с сухим треском разлетался сковавший края берега тонкий, но крепкий уже ледок. Левка на ходу отдавал какие-то распоряжения и тут же, сходу, свернул в воду. Следом за ним двинулись человек двадцать самых отчаянных его разведчиков.
Какое-то время они были ещё видны и затем растворились в густой темноте. Небо было беззвездное, затянутое облаками, ночь — черная, бархатная. Ветер дул с крымского берега прямо им в лицо. Ориентироваться приходилось на чутье и на ветер.
До стоявших на берегу Каретникова и Кольцова ещё какое-то время доносился лошадиный храп и плеск воды, потом и он затих.
Сиваш обмелел, и лошади брели в ней по грудь. И лишь иногда чья-то лошадь проваливалась в ямину с жидкой донной грязью. Искупавшийся с головой в ледяной воде, махновец продолжал двигаться по Сивашу, тихо про себя матеря своего коня, холодную воду, темень и всё остальное, что приходило ему на ум.
Не миновало купание и Голикова. Его лошадь провалилась в яму и, увязнув в донной грязи, с испуга попыталась встать на дыбы и стряхнула с себя Левку. Он крепко схватился за уздечку, и какое-то время, пока вновь не выбралась на твердое дно, она волокла по воде его за собой. Потом он с трудом вновь забрался в седло.
Уже давно растаяли в ночи разведчики, а Каретников и Кольцов стояли на берегу и напряженно вслушивались, не затеется ли на том берегу перепалка. Но там стояла глухая тишина. Лишь далеко слева и справа время от времени вспыхивало небо и, если бы не звуки дальних перестрелок, это было бы похоже на летние степные зарницы.
— Пятнадцатая и Пятьдесят вторая ведут бой, — сказал Кольцов. — Кажется, пора!
— Ти-хо! — Каретников приложил палец к губам. — Ще чуток подождем.
— Чего?
— Хороших вестей.
* * *
Левка одним из первых выбрался из воды и в нервной горячке, охватившей его, промчался по мелкой воде вдоль крутого, спускавшегося вниз, к тихим волнам, берегу. Ему вдруг показалось, что там, наверху, мелькнул едва заметный огонёк. Даже не огонёк, а искра. Она мелькнула и исчезла в ночи. То ли это была вспышка дальнего выстрела, то ли где-то поблизости кто-то выбросил тлеющую цыгарку.
Едва ли не на ощупь Левка нашел в скользком обрыве что-то вроде пологого спуска к воде и, подбодрив коня плетью, взлетел наверх. Но, ещё не достигнув верха, конь так резко остановился, что Левка едва не свалился ему под ноги. Он то ли почувствовал, то ли во время короткой дальней вспышки и в самом деле увидел перед собой колючую проволоку, белую, всю в инее.
— Братцы! Колючка!… Руби! — в полголоса приказал он и, обнажив шашку, со всего маху рубанул ею по проволоке. Сворачиваясь, она с железным шелестом зазвенела.
Он сделал ещё несколько ударов шашкой и, наконец, выскочил на бугор. Его разведчики тоже уткнулись в проволоку. Ножниц ни у кого не было, в сутолоке они забыли их в телегах на том, таврическом берегу.
— Рубите проволоку! Делайте проходы! Сколько силов хватит! — уже кричал Голиков, забыв об осторожности.
Разведчики и без его команды поняли свою задачу. Зазвенела проволока под ударами сабель. Они рубили её с азартом, громко при этом перекликаясь. Из-под сабель коротко сыпались искры.
Голиков ждал, что вот-вот, ещё мгновенье — и заговорит пулемет, затрещат винтовочные выстрелы.
Но было тихо. Слышался лишь звон сабель, тяжелое дыхание разведчиков и голоса:
— Забирай левее!
— Нижнюю проволоку кому оставил?
— Тут ще ряд! До утра работы хватит!
— Наши подойдуть, помогуть!
К удивлению разведчиков, слева и справа вдали рвались снаряды. А здесь стрельба всё не начиналась. Почему? Белогвардейцы не учли их в этой мясорубке? Забыли?
Лёвку мало интересовал тот дальний бой, он повлиять на него никак не мог. Больше всего его занимали эти, совсем близкие, искры в ночи. Время от времени они с одного и того же места вздымались вверх, и тут же таяли в ночи.
Поразмыслив, Лёвка догадался: труба! Скорее всего, там землянка. Он слез с коня, отдал поводья одному из своих разведчиков, а сам, осторожно ступая, пошел навстречу вспыхивающим и гаснущим искрам.
Увидел он это убежище, когда едва в него не провалился. С трудом разглядел в темноте приямок и ступени, вырубленные в глине, ведущие к занавешенному какой-то тряпкой проему, заменяющему в блиндаже дверь.
Соблюдая предосторожность, Левка упал на мерзлую землю и крикнул в приямок:
— Эй, вы там, в блиндаже! Выходи по одному! Сдавайтесь! Не то кину гранату!
Какое-то время внутри землянки молчали, но он слышат тихие голоса: видимо, врангелевские солдаты совещались.
— А вы кто? — осторожно спросили из землянки.
— Не догадываешься? Ангелы! — елейным голосом отозвался Левка. — Господь послав, шоб забрать вас на небо!
— Кончай шутковать, Антон!
— Я, звиняюсь, не Антон, но тоже шутковать люблю! Можно и гранатамы! — и совсем другим, строгим командным голосом Левка спросил: — Сколько вас там?
— Т-трое! — отозвались из землянки испуганным голосом.
— Выходь по одному! Минута промедления, и вправду, вознесетесь на небо! — После чего Левка обернулся, приказал своим разведчикам: — Петро, Степан! Палите факел!
Двое разведчиков подожгли тряпичный, смоченный керосином, факел. Подняли над собой, сигналя на тот берег, своим. Затем воткнули его в глиняную крышу землянки.
Когда первый врангелевец, молодой, белобрысый, испуганно возник в проеме землянки, Левка прикрикнул:
— Шо, не знаете, як сдаются в плен? Руки!
Белобрысый торопливо поднял руки.
Следом появился ещё один, тоже молодой, с жидкой, как у монашка, бородёнкой.
— А третий? Почему третий не выходит?
— Хворый он. Лежачий. Всё какую-то Маричку зовёт! И ещё про горы рассказывает, — объяснил бородатый.
Левка нырнул в землянку и увидел при свете тускло тлеющего каганца изможденного бледного солдата. Он лежал на вырубленном прямо в земле широком выступе, напоминающем тапчан, вытянувшись и сложив на груди руки. Левка даже решил, что он уже мертвый. Но солдат шевельнулся, тяжело открыл глаза и, превозмогая усталость, тихо сказал:
— Прийшлы такы! — и снова заворочался, видимо, попытался встать.
— Лежи, лежи! — сказал Левка. — Звать тебя как?
— Ярослав.
— Откуда ты, Ярослав?
— С Коломыи.
— И как же тебя сюды занесло?
— Длинна песня. Ще з пирилистической. То до одных в плен попаду, то до другых, — стал полушепотом рассказывать он. — И у немця був, и у красных, и у билых. И все заставлялы воювать. Получается, шо я и за всех воював и протыв всех. Та, видать, отвоювався, — он устало закрыл глаза. И уже с закрытыми глазами сказал: — В случай чого вы меня тут… в землянке… она все одно уже никому не понадобится.
Разведчики втолкнули обратно в землянку пленных. Левка спросил:
— Где оружие?
— Он там, в углу, под шинелькой. Три винтовки и пулемёт.
— Богачи. А чего ж не стреляли?
— Надоело. Мы ещё в тот раз, как вы наступали, хотели вам сдаться. А у вас что-то не получилось, — рассудительно сказал пленный, похожий на монаха.
— Ну и як дальше собираетесь жить?
— А кто его знает. Как Бог положит. Может, расстреляют, а может, домой отпустят. Большевики, говорят, любят больше расстреливать.
— Так мы ж не большевики.
— Вот те на! А кто ж вы?
— У тебя не найдется чогось сухенького, переодеться?
— Исподнее найду, а сверху разве что шинель. Только белогвардейская, — монашек сунулся в угол, стал шарить там, среди ящиков с патронами. — А нам говорили, что против нас тут большевики.
— Мы — махновцы.
— Скажи, пожалуйста! — удивился белобрысый пленный. — А у нас тут говорили, будто Махно против большевиков, — не то спросил, не то утверждающе осторожно сказал он.
— Брехня! — сердито промолвил Левка Голиков, снимая с себя мокрую одежду, и, надевая сухие подштанники, продолжил: — Мы с большевиками, як родные браты. Ихний лозунг слыхав? Земля — крестьянам! И у нас похожий: за землю, за волю!
— Слова-то хорошие. А как на деле получится?
— И на деле должно получиться, если народ захочет.
— Оно-то так…
Двое разведчиков снова сунулись в землянку. Левка Голиков уже натянул на себя не но росту длинную, принадлежавшую Ярославу, шинель, надел свою шапку и встал в преображенном виде перед своими хлопцами:
— Ну, як?
— Смесь гадюки с носорогом, — сказал один.
— Чиста контра. Рука сама за шаблюкою тянется, — согласился второй. — Гляди, Лёвка, шоб тебя свои ненароком не порубалы.
— Ничого. Бог не выдасть, свинья не съест, — отшутился Левка. — Зато сухо и тепло.
Рядом с землянкой раздалось несколько винтовочных выстрелов. Спустя какое-то время — ещё.
Левка, а следом за ним и двое других разведчиков выскочили из землянки. И услышали дробный топот удаляющихся коней.
— Шо за фейерверк? В кого стрелялы?
— Хто його. Оны — в нас, мы — в их, — ответил один из разведчиков, находившийся недалеко от землянки.
— Хоть понялы, в кого?
— Непонятно. Блызько не подъехалы, далеченько так остановылысь. Крычать: Артюхов! Артюхов! А у нас ниякого Артюхова нема. Ще вроде сказалы: «Ротмистр, может подъедем поближе?» Явно, беляки. Я не выдержал, стрельнув. А потом воны. А потом мы…
— Дураки! — сказал Левка.
— Я и сам так подумав. Моглы б в плен взять, хороший подарок був бы Каретникову.
— Не горюй, Сидор! Скоро мы опять с имы встренемся.
— Это я — Артюхов, — сказал похожий на монаха пленный, вышедший из землянки и стоящий в приямке.
— И шо они от тебя хотели? — спросил Голиков.
— Это у них надо было спросить.
— А хоть хто они, ты знаешь? Не можешь не знать, раз они твою фамилию называли.
— Знаю. Разведка. С Дроздовской дивизии.
* * *
Вдоль Таврического берега Сиваша цепочкой горели керосиновые факелы. Повстанческая армия уже была едва ли не на середине Сиваша, когда началось то, из-за чего на крымский берег наведывалась дроздовская разведка. В глубине Литовского полуострова один за другим раздались глухие артиллерийские выстрелы, и над головами разведчиков прошумели в сторону Строгановки снаряды. До села не долетели, разорвались неподалеку от берега.
На мгновенье над Сивашом стало совсем светло, и Голиков увидел, как махновцы торопливо, загребая воду руками, тащили за собой лошадей, впряженных в тачанки, телеги, в санитарные фуры. Пехота, человек по десять, наваливались на фуры, толкали их по вязкой грязи.
Следующие снаряды упали ближе. Над взбаламученной водой Сиваша раздались отчаянные крики:
— Быстрише! Под берег!
Но и без окриков никого не нужно было подгонять.
Ещё один залп. И ещё. Стреляли вслепую, не видя цели. Грязь стала вздыматься над водой уже позади движущихся к крымскому берегу махновцев. Иные снаряды тяжело падали, окатывали бойцов фонтанами соленой воды — и не взрывались. Ударяясь об воду, взрыватели не срабатывали.
На несколько верст, от Строгановки и до Ивановки, растянулись цепи движущихся к крымскому берегу повстанцев. Лишь несколько снарядов разорвались среди наступающих. Ржали лошади, беспомощно кричали раненые.
Но вот в глубине Литовского полуострова неожиданно поднялась винтовочная и пулеметная стрельба.
Голиков прислушался. Перестрелка разгоралась примерно там, откуда только недавно палили пушки. Артиллерийский огонь внезапно прекратился. А переправившиеся через Сиваш махновцы уже стали выходить на берег. Едва не первым выбрался из воды мокрый Каретников, следом за ним Кольцов.
— Почему ты здесь? — увидев рядом с собой Кольцова, закричал Каретников. — Хто тебе разрешив идти с нами? Я за тебя отвечаю!
— Не шуми! Я сам за себя отвечаю. Завоевал такое право — самому отвечать за свои поступки, — спокойно и дружелюбно ответил Кольцов.
Голиков спустился на берег встречать своих.
Берег оживал. Выкручивали одежду. По крутым склонам выводили на бугор лошадей, вытаскивали пулеметные тачанки, телеги и фуры и тут же, едва ли не на ощупь отыскивали укрытия. Окапывались до рассвета в мерзлой земле. Кое-где под берегом запылали жиденькие костерки.
Левка подошел к Каретникову, чтобы доложиться. Но Каретников в этой предрассветной сутолоке не сразу узнал своего начальника разведки, рука почти автоматически потянулась за маузером.
— Та шо вы, Семен Мыкытовыч! То ж я, Голиков!
Каретников зло сплюнул:
— Вырядился, як вурдалак на Рождество. Ей-богу, чуть не стрельнув!… Ну, докладай!
— Взялы трех пленных, одын хворый. Его б до санитаров.
— У нас своих ранетых человек сорок. И шо ты так за врангелецев печешься? — не по-доброму спросил Каретников.
— Простый дядько, хлебороб, — объяснил Голиков.
— Скажешь санитарам! — велел Каретников и затем спросил: — Ще шо? Больше нечего докладать?
— Ничого такого. Видать, тут нас не ждалы. Тых двох до себе возьму. Хороши хлопцы. Ни разу в нашу сторону не стрельнулы. Хоч и пулемет у ных був. И патроны. Говорять, ще с прошлого раза ждалы нас,
— А откуда взявся артиллерийский огонь?
— Дроздовски разведчики сюда выйшлы. Хитро так появылысь и сразу ж исчезлы. А после и началось.
— А сейчас чого не стреляють?
— Сам не пойму. Десь там, — Голиков показал в глубь полуострова. — Послухайте, вроде там разгорается бой. Хто с кем, пока непонятно.
Каретников кивнул, давая понять Голикову, что рапорт принял. После паузы сказал:
— Проскочи, Левочка, с хлопцами на несколько верст вперед. Похоже, оны десь там грызутся. И вообще осторожненько выясны, хто у нас слева, хто справа. Десь там латыши должны быть.
Из темноты на пылающий возле них костер тихо подъехал статный усатый казак в лихо заломленной смушковой папахе. Его сопровождали несколько всадников. Они остановились неподалеку и лишь слегка угадывались в отблесках костра.
Казак в папахе подъехал к Каретникову. Должно быть, он слышал последние его слова, потому что сказал:
— Впереди у вас Втора конна армия. Слухайте, то она отгоняе од вас дроздовцев. Пока заткнула рот артиллерии и намерена трошки почистить от беляков полуостров.
— А откуда вам все цэ известно?
— Мени почти все известно. Беспечно живете, братки. Голыми руками брать можно.
— Попробуй, возьми! — набычился Каретников.
— Не серчай, я не всерьез. А, может, и всерьез. Рассупонились, дозоры не выставылы.
— Та хто ты такый, шо выговариваешь мне, як теща зятю? — уже не на шутку вспылил Каретников.
— Хто я? — казак козырнул. — Командарм Второй конной Филипп Миронов. Может, слыхав?
Каретников слегка растерялся. Он предполагал, что припожаловал к нему кто-то из соседей, чтобы согласовать общие действия, что-то выяснить, а то и выпросить малость боеприпасов. Но чтоб к нему приехал сам Миронов, о котором давно ходит много легенд, ему и во сне не могло присниться. По известности он превзошел даже Нестора Махно.
— Как, не слыхав! Очень даже радый знакомству! Комкор Семен Каретников! — преодолев некоторую скованность, в свою очередь, представился командир махновцев.
— Здоров, Каретников! — Миронов легко спрыгнул с коня, и они крепко пожали друг другу руки. — Я тоже много про тебя слыхав. И про батька Нестора Ивановича. Як он, хворает?
— В ногу ранило. Выздоравливает. Ленин ему хороших врачей прислав. Обещали в прямом смысли его вскорости на ноги поставыть.
— О! Чуешь, какой человек об нём озаботился! — сказал Миронов.
— А як ты узнав, шо мы тут? — поинтересовался Каретников.
— В Штабе фронта. У их от менэ нияких секретов. А махновцами я интересуюсь особо. У вас мой двоюродный брат служит. Тоже Миронов.
— Знаю. Он у нас комполка.
— И скажи, какой у нас с ним кульбит получився. — Миронов по-доброму доверительно улыбнулся. — Мы с им по первах власть не поделили. Он — до Махна, до вас, значит, подался, а я до большевиков примкнув. Они мне больше на душу легли. А теперь, выходит, и вы до Советов притабунились.
— Выходит, так, — согласился Каретников. — Может, желаете с братом повидаться? Он чуток левее на этот берег переправляются. Мои хлопцы враз его сюда доставлять.
— Не надо. Времени в обрез, — вздохнул Миронов. — Я чего к тебе приехал? Ну, само собой, чтоб поручкаться. И заодно совет дать. Вы тут долго не засиживайтесь. Обсушились — и вперед. Верстах в пяти на балку выйдете, там пока и располагайтесь. Я в аккурат за той балкой «дроздов» малость пошерстыв. Они на самый берег перли. Фрунзе мне и сказав, шо ты там переправляешься. Подставь, сказав, плечо, щоб неприятность у них не произойшла.
— На яку неприятность он тебе намекал?
— А ты не замитыв? Ветер изминывся, вода начала прибувать, к утру с головой буде.
— А шо нам теперь Сиваш? Мы — в Крыму.
— Ты прав, братишечка. Отступать нам некуда. А Врангель, силы подтянув, хочет нас обратно в воду турнуть.
— Не, больше купаться у нас намерениев нема.
— Правильные слова говоришь! Ты мне нравишься. Мы ще потоваришуем! — Миронов тронул шпорами коня. — Прощевай пока!
И он вместе со своим сопровождением растаял в ночи, словно их и не было.
* * *
Пока повстанцы сушились после сивашской купели, разведчики Голикова вернулись с двумя своими легкоранеными и пленным подпоручиком.
Каретникова Левка нашел в землянке, уже освобожденной от пленных. Присев на топчан, который ещё совсем недавно занимал больной Ярослав, Голиков рассказал о своих ночных приключениях:
— Идём смело, на рысях. Знаем, впереди красни. А темень несусветна, легко на когось напороться. Думаю: не дураки, сразу ж не шмальнуть, может, сперва хоть отзовуться. Версты три проскакалы. Никого.
Голиков перевёл дух и продолжил свой рассказ в ролях.
— А потом, и правда, хтось голос подает: «Хто такие? Пароль!» А я отвечаю: «Якый тебе, в хрена, пароль! Свои!» А он мне: «Свои, говорит, коней крадуть!» И для острастки, бабах вверх! На миг блеснуло. Мама родна! Погоны! Вот это влыплы! Развертаю коня, а сам кричу в темноту: «Шо? Очи повылазили? Не узнаешь штабс-капитана Голикова?». А сами коней пришпорили, и галопом! Оны, видать, расчухались, поднялы стрельбу! Бурыме ухо прострелили, Левадного — в ногу! Метров с полсотни проскочилы, пули свистять. А тут мий конь як шарахнется! Присмотрелся, человек посреди степи. Спрашиваю: «Кто такой? Откуда?» А он мне: «Это я, подпоручик Соловей». Я опять пытаю: «Чого тут шляешься?» Говорит: «Да по большой нужде чуть от позиции отойшов».
— Ну-ну! Давай сюда твого соловья! — велел Каретников, утомлённый многословным Лёвкой.
Подпоручик был из химических. На вопросы Каретникова отвечал обстоятельно и без страха. Хотел понравиться.
— Так, говоришь, соловей? — спросил у подпоручика Каретников. — Ну, спивай!
— О! И вы за своё! Как скажешь: Соловей, так смеются. Фамилия такая, что я могу поделать!
— Ну, тогда рассказывай. Хто против нас?
— Дроздовская дивизия. В полном комплекте.
— Откуда знаешь?
— А я сам — из пополнения. Третьего дня в Феодосии мобилизовали, и сразу сюда. Ночью из домов брали. Не убежишь, не спрячешься.
— А за яки таки заслуги тоби подпоручика присвоили?
— А кто его! Спросили, грамотный? А я нормировщиком у нас на ремонтном работал. Сказал: грамотный. Не сбрешешь, потому как все феодосийские меня знают. Дали мне химический карандаш, говорят, рисуй на погоне одну звездочку. Только маленькую. А после победы, говорят, мы тебе позолоченные погоны выдадим с большой звездой, генеральской. Старайся!
— Ну и как? Старался?
— Да какие из нас солдаты. Кто хромой, кто слепой. Я без очков почти ничего не вижу.
— Так-таки — ничого? — насупился Каретников. — Или рассказывать не хочешь?
— Почему? Что знаю, расскажу.
— Вот и расскажи, шо видел, шо знаешь? Когда сюда прибыли: сколько вас, как расположились? Раз ты грамотный, понимаешь, что нас интересует.
— Сюда на позицию мы ещё засветло вчера прибыли.
— Почему не к самому Сивашу?
— Хотели к Сивашу. Большевицкая конница помешала. После налета конницы дальше не пошли. Стали там окапываться. Земля мерзлая, окапывались, кто как смог. Да офицеры и не заставляли. От офицеров слыхал, что ветер переменился, с моря подул, воду в Сиваш нагоняет. И вроде приказ поступил: на рассвете сбросить вас в воду. Даже американские броневики на подкрепление прибыли.
— Броневики? И много?
— Сам не видел, они где-то в нашем тылу гудели. По звуку моторов — штук десять, может, чуть больше, — сказал Соловей и замолчал.
— Ну что ж, Соловей! Спасибо за песню. Может, ещё шо припомнишь?
Соловей пожал плечами.
— Ну и як прикажешь мне с тобой поступить? — внимательно разглядывая подпоручика, задумчиво произнес Каретников. — Шо не говори, в плен ты попав во вражеский форме и, як не крути, ты — наш враг. А врагов, извини, мы не жалеем.
— Да какой я вам враг? Мне даже винтовку не успели дать, — нисколько не испугавшись столь жестких слов, спокойно сказал Соловей.
— А если дали бы, стрелял?
Соловей на несколько мгновений задумался.
— Не знаю, — чистосердечно сказал он. — Если по правде, то я бы, как все. Только не умею я в людей. Я курицу ни разу не смог зарезать. Наверное, в небо бы стрелял.
— Ладно! Живи, Соловей! — Произнес свой окончательный приговор Каретников и, обернувшись, окликнул кого-то из своих ординарцев: — Степка! Отправь его в четверту роту! Там по большости кацапы. Хай им песни спивае. А может, оны научать його классовой ненависти.
— Те — научать! Оны допрежь йому голову знесуть вместе с погонамы.
Степка повел подпоручика в четвертую роту. Вышагивая следом за ординарцем. Соловей с силой сдирал с себя погоны.
Перед рассветом, когда махновцы подсушились и перевели дух, Каретников отдал приказ выдвигаться в сторону позиций дроздовцев.
Помня о броневиках, выделили человек двадцать гранатометчиков. Каретников на ходу провел с ними короткий инструктаж. Обсудил все возможные хитрости. Как поражать броневики в бою, опыта ни у кого не было, но что представляет собой этот бронированный автомобиль, они уже тогда немного знали. Как-то, разбирая трофейное белогвардейское имущество, кто-то из штабистов обнаружил инструкции с указанием самых уязвимых мест танков и броневиков. Показали Каретникову. И он к случаю вспомнил об этих листочках и рассказал гранатометчикам все, что там вычитал.
Одновременно Каретников разослал посыльных к соседям, чтобы предупредить их о возможном появлении на вражеских позициях броневиков, а также одновременно уточнил стыки между войсками и согласовал совместные действия.
Соседи переправились через Сиваш несколько раньше. Водная преграда на их участках была не такая широкая, и они еще до полуночи заняли на крымском берегу свои позиции. Латышей посыльные не нашли. Они доложили Каретникову, что у соседей и справа и слева время от времени вспыхивают короткие перестрелки, но в серьезные боевые действия врангелевцы не вступают. И Германович и Радумец предполагают, что они ждут рассвета и высокой воды в Сиваше.
Когда посветлело небо, повстанцы заняли свои позиции и, как посоветовал Миронов, стали окапываться поблизости от широкой балки, промытой весенними паводками и густо поросшей шиповником.
— Может, балку перейдем? — предложил кто-то из командиров.
— Там же дроздовцы, — напомнил Каретников.
— Выгодну позицию, заразы, выбралы.
— То Миронов их там остановыв. А ночью оны побоялись через балку перебираться.
— Для нас тоже не лучший вариант через балку наступать.
— Оны только этого и ждуть. А мы не станем спешить, — что-то прикидывая, сказал Каретников. — Посмотрим, як оны выкрутятся.
Кожин высмотрел неподалеку от балки хорошую площадку и там разместил свои тачанки.
Ранним утром усилился ветер, с неба посыпалась снежная крупка. Она с тихим шелестом ложилась на мерзлую землю. Стало светлее, но дали затянуло снежной дымкой.
На дроздовских позициях началось какое-то шевеление. И вскоре они поднялись в атаку.
Каретников лежал за грудой пиленых известняковых блоков. Ещё вчера они были частью какой-то сторожки или сарайчика, от камня ещё исходил запах тротила от попавшего в строения снаряда.
Дроздовцы двигались короткими перебежками. Многие шли, не пригибаясь.
Затем поднялась и двинулась по полю вторая цепь. От первой её отделяло метров сорок.
«Хитро придумали. Первые выходят из балки, вторые спускаются. Первые попадают под огонь, и их место тут же занимают те, из второй цепи», — подумал Каретников и обернулся к Кожину:
— Ты шо-то понял?
— Чего ж не понять. Первые принимают на себя бой, а вторые уже зачищают, — Фома задумчиво почесал затылок. — Главное, не суетиться!
— Мене беспокоит, шо не успели хорошо окопаться, — сказал Каретников.
— Ничого. Бог поможет.
Каретников лежал неподвижно, внимательно вглядывался в движущуюся первую цепь. Вот она спустилась в балку, и какое-то время они видели только вторую цепь.
Кожин задумчиво жевал какую-то высохшую былинку.
Вот первая цепь появилась на этой стороне балки и тут же прибавила шаг, неторопливо побежала.
Когда дроздовская цепь уже находилась метрах в пятидесяти и стала щелкать затворами, Каретников коротко приказал:
— Пока не стрелять! Пускай осмелеют! — И обернувшись к Кожину, добавил: — На тебя вся надёжа, Фома!
Но Кожина рядом с ним уже не было. А на позицию разом выехали двадцать тачанок, развернулись. Кожин прикинул, больше не нужно. Они стали в ряд чуть сзади махновских позиций и дроздовцам были не слишком видны в снежной дымке. Ездовые у Кожина были хорошо вышколенные, каждый знал свой маневр и свое место в строю.
Вдали из балки стала появляться вторая цепь. А первая уже почти подбегала к молчащей позиции махновцев. Нервы у дроздовцев стали сдавать: в морозном воздухе затрещали их винтовочные выстрелы.
И тут поднялся на тачанке Фома Кожин, взмахнул рукой и громко произнес свое неизменное:
— Р-руби дрова!
Разорвали тишину двадцать пулемётов. Заговорили махновские винтовки.
Дроздовцы ещё какое-то время, не понимая происходящего и почти по инерции, продолжали свой бег. Иные уже были в нескольких шагах от махновских позиций, но не добегали до них, падали.
Пулеметчики перенесли огонь на вторую цепь, и она тоже стала редеть.
Не ожидавшая такого яростного отпора, вторая цепь стала останавливаться, затем торопливо развернулась, побежала обратно, скрылась в балке. Их догоняла, покидая поле боя, поредевшая первая цепь.
Преследуя дроздовцев, за ними двинулись махновцы.
— Фома! Тачанки оставь на месте, пулеметы — с собой! — усаживаясь на подведенного ординарцами коня, приказал Кожину Каретников. Он подумал, что этот кратковременный бой ещё будет иметь продолжение. Похоже, на той стороне балки дроздовцы решили расправиться с ними, и заготовили его армии какую-то неожиданность. Он помнил о броневиках и боялся оказаться застигнутым врасплох.
Ожидая засады, они со всеми предосторожностями перешли через балку. Но дроздовцев ни сразу за ней и нигде вокруг не было видно.
Несколько верст, задыхаясь, они бежали по истоптанному тысячей сапог и ботинок снегу. Их обгоняли всадники.
Фома Кожин, исследовав дно балки, нашел несколько расчищенных от колючего кустарника дорог и провел на ту сторону балки свои тачанки. Вновь установили на них снятые ранее и не пригодившиеся пулеметы и стали догонять ушедших вперед бойцов.
Скачущий в первых рядах своей конницы, Каретников уже начинал верить, что этот короткий рассветный бой был последний. Дроздовцев нигде не было видно.
Немного поотстав, Каретников поравнялся с Кожиным:
— Шо думаешь, Фома?
— Не нравится мне эта прогулка, — ответил Кожин. — В четыре глаза надо смотреть и в четыре уха слухать.
Они преодолели ещё с версту. Уже не только Каретникову казалось, что дроздовцы бежали и что эта установившаяся над крымской степью тишина — навсегда.
Пеших уже не было. Бежать устали, и пехота размещалась на телегах, тачанках, даже на санитарных фурах. Ехали уже неторопливо и беспечно. Словно это не преследование противника, а свадебная кавалькада после разгульной ночи возвращается в своё село. Не хватало только, чтобы кто-то затянул песню про Марусю.
Внезапно над степью забухали станкачи, установленные на броневиках. Серые в серой мгле, они были невидимые и возникли словно из воздуха. Они выезжали из-за невысокого пригорка и веером разъезжались по полю.
Тачанки и телеги чуть не одновременно стали торопливо разворачиваться. Горохом посыпалась из них пехота. Бежать было некуда, спрятаться негде. Бойцы падали там, где свалились с телеги, и тут же пытались окапываться. Иные без толку носились по полю, время от времени постреливая из винтовок, и падали, сраженные пулеметным огнем из броневиков.
— Обдурили-таки, гады! — сокрушенно сказал Каретников лежащему возле него начштаба Гавриленко.
Броневики двигались по кочковатому полю, тяжело переваливаясь. Следом за ними, немного отстав, шли дроздовцы.
Кто-то из махновцев не выдерживал и, при виде приближающегося броневика, вскакивал от страха и пытался бежать. Но тут же падал.
— Лёвка! Де твои гранатометчики? — увидев Голикова, крикнул Каретников.
— Работають, Семён Мыкытович! — ответил Голиков и помчался по полю. Упал возле одного из бойцов. Через мгновение вскочил, перебежал к другому бойцу.
Поле было усеяно застигнутыми врасплох бойцами, и было трудно понять, кто живой, кто мертвый.
Медленно, почти на ощупь из-за узких смотровых щелей, броневики медленно двигались по полю. Водители были уверены в своей броне. Время от времени они разражались короткими пулеметными очередями.
Отошедшие от первого страха гранатомётчики стали перебегать и переползать, стремясь оказаться поближе к броневикам. Наконец, когда один из броневиков приблизился к лежавшему на поле гранатомётчику, тот приподнялся и бросил одну за другой две гранаты: одну — под колёса, вторую — на купол.
Над полем почти одновременно раздались два взрыва. Звук был необычный, словно бы со ржавым скрежетом разлетелось старое ведро. Броневик задымился, и из него один вслед за другим через тесные люки стали выбираться члены его экипажа. Сперва выбрался водитель, за ним два пулемётчика.
Почти залпом прогремели несколько выстрелов. Двое упали, третий, хромая, с криком побежал к своим.
Снова раздался взрыв. И задымил ещё один броневик.
Словно в раздумье, броневики стали останавливаться. Бежавшая сзади них дроздовская пехота поняла, что и эта атака захлебнулась, повернула обратно.
Броневики стали неуклюже разворачиваться.
Один отчаянный махновец, ожидавший своего броневика, увидел, что он разворачивается. Он поднялся и, размахивая гранатой, побежал к нему по полю с криком:
— Эй, вернысь! Кому сказав!
Броневик, не корова, он не понимал слов махновца, но на всякий случай коротко огрызнулся.
Махновец споткнулся, упал. Он не сразу понял, что ранен. Слабеющей рукой он кинул гранату. Но она не долетела, упала на небольшой пригорок и, тихо шипя, медленно покатилась по склону прямо под колеса броневика. Взрывом, должно быть, пробило бензобак, и броневик сразу же охватило пламя.
Несколько броневиков медленно возвращались, оставив на поле боя три догоравших машины.
— Прекратить стрельбу! — приказал Каретников.
Махновцы стали подниматься, по пути подняли раненого товарища, отнесли к своим. Уложили за единственным в поле укрытием — останками разрушенного сарая.
Из голени раненого сочилась кровь. Судя по всему, ранение было пустяковое, кость не задета.
— Санитаров! — распорядился Каретников.
Пришел санитар в окровавленном халате.
— Одиннадцать убито, двадцать рането. Четверо — сурьезно, — доложил он.
— Перевязывай!
И пока санитар возился с раненым, Каретников укоризненно сказал:
— Ты як дитё малое, Мыкола! Ну, зачем тебе было до того третьего лезть? Бачив же, два горят, а остальные тикают.
— Да! — морщась от боли, отмахнулся пожилой Мыкола. — Люды на хлеб с маслом заробылы, а я… Надо ж такое, утикты хотив. Я и обозлывся!
— Трое дитей, про ных бы подумав! — упрекнул его Каретников.
— Про ных и думав.
— А если б убылы?
— Вы сказалы б дитям, шо батько погыб геройской смертью.
— Дурак ты, Мыкола!
— Я як лежав там, на поле, поранетый, тоже про цэ подумав. А только, дэ ж взять столько умных, шоб хватило на всю эту клятую войну?
…Ещё дважды за день дроздовцы собирались с силами и поднимались в атаку. И оба раза махновцы отбивали их.
Под вечер дроздовцы отступили на заранее подготовленные позиции. Трупы убитых они забрали с собой. Своих убитых махновцы старались забирать ещё во время боя.
На закате сквозь тяжелые облака выглянуло багровое вечернее солнце, осветив пустынное поле боя и брошенные на нём три причудливых обгорелых железяки.
Хуже выдался этот день для Пятьдесят первой дивизии начдива Василия Блюхера. Для обеспечения успеха ему придали тяжелую артиллерию. Предварив штурм мощной артиллерийской подготовкой, он к вечеру бросил свою дивизию в лоб на Перекоп. Он знал, что Врангель здесь хорошо укрепился, но верил в известное изречение: смелость города берет.
Смелость была. Но Перекоп не пал.
К ночи Блюхер велел прекратить штурм и отойти на прежние позиции. Он решил повторить штурм ночью, и надеялся, что он принесет ему удачу.
Глава четвертая
Утро выдалось на удивление светлое. Небо очистилось от тяжелых осенних туч и украсилось мартовской голубизной. Раннее солнце светило радостно, и весело стучала с крыши капель.
После долгих дней тяжелой бессонницы Врангель проспал дольше обычного, почти до восьми часов. И никто не посмел его будить, что показалось ему хорошим знаком.
«Господи, может быть, наконец-то кончились все неприятности последнего времени, — подумал он. — Солнце, голубое небо, веселая капель — они несомненно предвещают удачу».
Но уже утренний доклад начальника штаба Шатилова поверг его в уныние.
— Доброе утро, ваше превосходительство! — поздоровался Шатилов, и уже в этом Врангель почувствовал недобрый знак: обычно он называл его наедине по имени-отчеству.
— А оно действительно доброе? — спросил Врангель.
— Сожалею, но я бы этого не сказал, — совсем не бодрым голосом ответил начальник штаба.
— Докладывайте, Павел Николаевич, — попросил Врангель, предупреждающе добавил: — И, пожалуйста, ничего не лакируйте. Излагайте все, как есть.
— Да-да, постараюсь… — как-то торопливо и уныло согласился начштаба и, собираясь с мыслями, замолчал.
— Что на Перекопе? — прервал молчание Шатилова Врангель. Он оттуда ждал хороших вестей и уже заранее понял, какой будет ответ.
— Кутепов сообщил, на рассвете мы вынуждены были сдать Перекоп. Четырежды ночью Блюхер атаковал Перекопские укрепления.
— Конкретнее! — попросил Врангель.
— Ещё днем Пятьдесят первая дивизия красных безуспешно штурмовала Перекоп. Ночью трижды повторили штурм. Корниловцы и дроздовцы оказались в окружении. Чтобы вырваться, они были вынуждены штыками прокладывать себе путь. В четыре часа утра они вырвались из окружения, оставив Перекоп. Кутепов все силы перенаправил на защиту Литовского полуострова. Идут непрерывные бои в районе Юшуни.
— Что ещё? — довольно спокойно спросил Врангель, ибо морально был готов к подобному исходу событий — что случилось, то случилось.
— На Чонгаре идут бои с переменным успехом.
— Опять общие слова, — укорил Врангель Шатилова. — Нельзя ли конкретнее?
— Красные закрепились на отдельных участках и пытаются овладеть Таганашем. Кроме того… — Шатилов, колеблясь, смолк.
— Говорите! — приказал Врангель. — Неужели в вашем запасе есть новости ещё хуже.
— Нет. Так, мелочь. В районе Судака высадились крымские партизаны. Надеюсь, их ещё сегодня сбросят в море.
— Это вы так думаете. А они думают иначе, — сказал Врангель и неожиданно мрачно пошутил: — Помните песенку госпожи Плевицкой: «Всё хорошо, прекрасная маркиза»?
— Ну, всё не так печально, — попытался подбодрить главнокомандующего Шатилов.
— Дорогой Павел Николаевич! — со вздохом сказал Врангель. — Ты — мой друг, но истина дороже! К сожалению, всё намного хуже, чем можно было ожидать.
Шатилов, стоя перед главнокомандующим, молча переминался с ноги на ногу. Он чувствовал себя гимназистом, не выучившим задание.
Врангель подошел к висевшей на стене оперативной карте Крымского перешейка, стал внимательно вглядываться в причудливые изгибы Гнилого моря, кем-то давно названного Сивашом. Почти весь северный берег Крыма был занят войсками большевиков. Неприступная стена, как оценивал он Крымский перешеек, рухнула буквально в считанные дни. Отдельные крохотные участки ещё удерживали его войска, но и их падение исчислялось уже даже не днями.
Врангель по привычке хотел сделать на карте отметки изменившейся линии фронта, но не стал.
«Пустое! — подумал он. — Какой теперь в этом смысл?»
— Ваше превосходительство, — напомнил о себе Шатилов. — Просит принять Слащев.
— Что ему нужно?
— Не сказал. Говорит, по крайне важному делу.
— Просите, — велел Врангель.
Слащев словно услышал слова главнокомандующего. Возможно, он даже стоял возле двери в ожидании и вошел сразу же, едва Врангель велел его принять.
— Ваше превосходительство, я не отниму много времени. — Торопливо сказал он и, бросив короткий взгляд на Шатилова, попросил: — Если можно, тет-а-тет…
— У меня нет секретов от Павла Николаевича, но если вам так удобнее — пожалуйста.
Шатилов вышел.
Слащев в этот раз был одет в свой обычный генеральский костюм, выглядел опрятно, без обычной для него экзотики. Чувствовалось, что он готовился к этой встрече и, вероятно, хотел сказать что-то очень важное.
— Я коротко, Петр Николаевич. Я всё знаю. Я только что вернулся из-под Таганаша, с самой гущи боев, — взволнованно сказал он. — Большевистские войска обескровлены. Бои за Крымский перешеек дались им нелегко. Сейчас самое время предложить им перемирие при условии, что Крым останется в наших руках. Я убежден, они пойдут на это. Россия огромна. Что им этот крохотный кусок земли? Так, игрушка в детских руках. Петр Николаевич! Ваше превосходительство, сделайте этот шаг! Я готов лично участвовать в переговорах!
На протяжении всей этой взволнованной речи Слащева Врангель продолжал рассматривать карту. Когда Слащев смолк, он, не оборачиваясь, глухо сказал:
— Поздно!
Он неторопливо прошел к столу, переложил с места на место какие-то бумаги и, подняв голову, глядя Слащеву в лицо, повторил:
— Поздно, Яков Александрович!
— Но, ваше превосходительство, нельзя упускать…
Какие ещё доводы намерен был высказать Слащев в пользу заключения мира с большевиками, Врангель слушать не стал. Он оборвал его на полуслове:
— Я вас более не задерживаю.
Слащев гневно взглянул на главнокомандующего:
— Даже в карточной игре, Петр Николаевич, не имея козырей, всё же играют до последнего.
— Извините, в карты я не играл даже в молодости. Некогда было. Воевал. Но до последнего солдата воевать не имею морального права.
Слащев понял: Врангель уже принял решение, и изменить его никто не в силах. И он вышел.
Оставшись один, Врангель долго ходил по кабинету. На карту он больше не взглянул. Потом присел к столу, стал что-то торопливо писать.
Через какое-то время он вызвал адъютанта и попросил пригласить к нему Шатилова. Ожидая дальнейших указаний, Шатилов не покидал свой кабинет и явился сразу. Уваров хотел оставить их наедине, но Врангель жестом остановил его.
— Садитесь, Павел Николаевич. Я не буду предварять только что мною написанное. В этом нет необходимости. Сегодня же этот документ должен быть размножен и распространен.
Врангель ещё раз бегло просмотрел написанное, что-то на ходу поправил и стал читать:
— Русские люди! Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где ещё существует право и правда.
Голос Врангеля звучал устало и грустно. Уваров, который давно и хорошо знал командующего, никогда, ни разу не видел его в таком удрученном состоянии. Решение, которое он сейчас зачитывал, видимо, далось ему нелегко.
Слушая, Шатилов уже догадывался о решении Врангеля. И сейчас он подумал о том, какая же тяжкая ноша ложится на его плечи: до конца сохранить порядок в войсках, не превратить уход армии из Крыма в беспорядочное и унизительное бегство.
Врангель снова что-то вычеркнул в тексте и торопливо вписал новое. После этого продолжил читать:
— В осознании лежащей на мне ответственности, я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему указанию приступаем к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделяет с армией её крестный путь: семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и остальных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага.
Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для её эвакуации суда уже стоят в полной готовности в портах, согласно установленному расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением сделаю всё, что в пределах сил человеческих.
Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как и всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает.
Он поднял глаза на своих слушателей и последние строки не прочитал, а произнес вслух по памяти:
— Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье. Генерал Врангель…
Врангель встал из-за стола.
— Вот и всё! — устало сказал он. — Осталось самое тяжелое: эвакуация.
— Неужели не осталось ничего иного? — спросил Шатилов.
— Этот вопрос задаете мне вы — начальник штаба? — укоризненно сказал Врангель. — Всяческие фантазии пусть остаются влюбленным. И Слащеву. Нам же с вами надлежит исходить из суровых реалий.
— Да, конечно. Я понимаю, — торопливо согласился Шатилов. — Я и сам кое-что набрасывал, для памяти. Но не думал, что когда-нибудь пригодится. Сейчас принесу.
— Не торопитесь!
Врангель передал прочитанное Уварову:
— Пожалуйста, Михаил Андреевич, найдите в городе типографию, пусть напечатают хотя бы двести экземпляров. И пусть позаботятся, чтобы шрифт был крупный и текст хорошо читаем.
— Я понял, ваше превосходительство, — и Микки пошел по кабинету к выходу.
Врангель остановил его уже у двери:
— К завтрашнему утру это письмо должно быть распространено по Крыму.
— Будет исполнено, ваше превосходительство! — и адъютант вышел.
Оставшись наедине с Шатиловым, Врангель вернулся к прежнему разговору:
— Правильно ли вы поняли смысл моего письма, Павел Николаевич? Это ещё не конец борьбы. Мы продолжим её. Но солдаты и офицеры, уверенные в безопасности своих семей, станут действовать более самоотверженно. Даже если мы не выиграем это сражение, у нас все же появится время для спокойной, без паники, эвакуации лиц означенных мной категорий.
— Я рад услышать эти слова, ваше превосходительство, — тихо, но с некоторой экзальтацией, прошептал Шатилов. — Безусловно силы у армии утроятся. И, быть может, нам всё же удастся отстоять Крым.
— На всё воля Божья… — как-то неопределенно сказал Врангель и после небольшой паузы вдруг заговорил иным, уверенным и решительным, голосом: — Думаю, следует перебросить в район Юшуни Третий Донской корпус и конный корпус Барбовича. Причем корпус Барбовича разумнее всего направить в стык между Пятьдесят первой и Пятнадцатой большевистскими дивизиями. — Врангель подошел к карте, взмахнул над нею карандашом. — Здесь против нас стоят махновцы. Надеюсь, Барбович легко смахнет их в Сиваш. А донцы и дроздовцы зайдут большевикам с флангов.
— Отличная мысль, — согласился Шатилов.
— На светлое будущее слишком уж рассчитывать не следует, — сказал Врангель. — Но это может дать несколько так нужных нам дней, чтобы достойно и без спешки провести эвакуацию.
— Вот только… Я вам докладывал. Мы с адмиралом Дюменилем как-то прикидывали. Чисто теоретически… — Шатилов колебался. Ему не хотелось разрушать так хорошо выстроенный план главнокомандующего, но и утаивать от него он ничего не имел права.
— Ну и к чему вы пришли?
— Боюсь, у нас может не хватить плавсредств, чтобы вывезти всех желающих. Я полагаю, надо к тому же ещё иметь и резерв. На самый черный случай, если придется эвакуировать армию.
Врангель ничего не ответил. Он вернулся к столу, сел и долго молчаливо перебирал на столе бумаги. Затем спросил:
— Адмирал Дюмениль уже в Севастополе?
— Да. Прибыл сегодня ночью из Константинополя на эсминце «Алжирец».
— Пожалуйста, велите разыскать его. Я хотел бы безотлагательно с ним встретиться.
Шатилов согласно кивнул головой и вышел.
* * *
Врангель ждал командующего средиземноморской эскадрой адмирала Дюмениля, время от времени нетерпеливо поглядывая на часы. Шатилов доложил Врангелю, что Дюмениль уже извещен о желании главнокомандующего срочно с ним встретиться.
Но шло время, а адмирала всё не было.
Врангель чувствовал себя униженным, в нем закипала злость. Такого за время их сотрудничества ещё никогда не было. Дюмениль всегда был пунктуален, а тут вдруг… Что это? Плевок в лицо? Похоже, адмирал показывает ему, что ни он сам, Врангель, ни его доживающая последние дни на крымской земле армия больше не представляют для Франции никакого интереса. Иначе, как ещё можно понимать это оскорбительное ожидание?
Но положение у Врангеля было безвыходное, и поэтому приходилось терпеть и ждать. Весь исход его армии из Крыма был сейчас во власти адмирала.
Адмирал Дюмениль, бодрый, громогласный появился в кабинете ожидавшего его адмирала далеко за полдень. Его сопровождал сутулый хилый очкарик в штатском.
— Извините за некоторое опоздание, — на плохом русском произнес Дюмениль, и представил своего спутника. — Мой… как это… перевозчик.
— Переводчик, — поправил адмирала очкарик. — Одновременно, если угодно, являюсь адвокатом. Сергей Дмитриевич Клевцов. Можете называть меня просто Серж. У нас во Франции не приняты отчества. Кстати, я французский подданный, хотя родился в России, в Орехово-Борисове. Вы, генерал, вероятно, знаете Орехово-Борисово, это совсем под Москвой. Ах, какие замечательные там церкви! Говорят, большевики не щадят…
— Извините, как-нибудь потом мы с вами поговорим об Орехово-Борисове! — остановил разговорчивого переводчика и адвоката Врангель. — А сейчас бы о деле!
— Да, конечно! Я вас понимаю. У меня у самого здесь гора всяких дел, — поддержал Врангеля Дюмениль.
— Надеюсь, это наши общие дела? — спросил Врангель.
— В том числе. Я только что прочитал ваше… как это… воззвание к народу.
— Письмо.
— У меня перехватило горло от печали. Но, как говорят у нас во Франции: сэ ля ви — такова жизнь. Но, поверьте, всё проходит, и на смену печалям приходят радости. Так бывает всегда.
— Благодарю за утешение. Но самым лучшим утешением была бы деловая помощь.
— Что вы имеете в виду? На открытое военное вмешательство в дела Советской России, с недавних пор признанной Францией де-факто, мое правительство пойти не может. Прямая вооруженная борьба против Советов находится за рамками помощи, которую ещё совсем недавно мы вам оказывали.
— Тогда скажите конкретно, какую помощь вы ещё можете нам оказать? — спросил Врангель.
— О, это уже конкретный разговор. Давайте вернемся к нашей недавней беседе о русском флоте, тогда она у нас была чисто теоретической.
— Нам никто не мешает перевести её в практическую плоскость, — сказал Врангель.
— Именно это мы и хотели бы вам предложить, — обрадовался Дюмениль. — Я уже даже кое-что предпринял. Мы с генералом Шатиловым обсудили некоторые детали, и капитаны моих судов ждут приказа, чтобы войти в порты и принять на борт всех гражданских лиц, желающих покинуть Россию.
— И армию тоже, в случае возникнет такая необходимость, — сказал Врангель.
— Надеюсь, такая необходимость не возникнет, — поспешил ободрить Врангеля Дюмениль. — Но будем держать в голове и это.
— Ну что ж. Кажется, все точки мы расставили. Будем считать наш разговор, к обоюдному удовольствию, успешно завершенным, — посветлел лицом Врангель.
— Н-не совсем. Мы расставили лишь запятые. Где расставить точки нам ещё следует обсудить.
— Ну, какие-то детали вы могли бы обговорить с генералом Шатиловым.
— Есть детали, которые, как я понимаю, он не уполномочен решать.
— Разве? — удивился Врангель. — Какие же?
— Вы просите у Франции также и продовольственной помощи. Всего продовольствия, только чтобы прокормить армию, в Крыму хватит ненадолго, от силы на две-три недели.
— Да, это так, — согласился Врангель.
— Генерал Шатилов исходил, примерно, из ста пятидесяти тысяч человек. Это лишь только армия. Приплюсуйте сюда беженцев. Их вдвое больше.
— Всё верно. И что же?
— Но это же огромные затраты.
Врангель побагровел, однако сдержал себя. «Ах, вы, проходимцы-коммерсанты! Зарабатывали на русской крови, показалось мало. Решили добрать железом», — с гневом подумал он.
— Разве весь российский флот, который, как вы помните, я пообещал отдать вам за эту помощь, не стоит того? — раздраженно спросил Врангель.
— Я этого не сказал. Нет-нет, мы не собираемся мелочиться. Но наш прежний уговор — это всего лишь слова, — ласково, как малому ребенку, сказал Врангелю Дюмениль.
— Что вам нужно ещё? — Врангель не совсем понимал, к чему ведет адмирал. — Разве слово главнокомандующего Русской армии барона Врангеля уже ничего не стоит?
— Есть небольшая деликатная тонкость. Вы знаете, что по настоянию союзников Франция тоже де-факто заключила с Советской Россией договор о перемирии. Пройдет немного времени, и Советы могут предъявить нам иск на весь российский флот.
— Не могут! — не согласился Врангель.
— Почему вы так думаете?
— Потому, что флот принадлежит России! Не Советской России, а той, которую пока представляю я, главнокомандующий Российской армией.
— Вот! Золотые слова! — сказал Серж Клевцов. До сих пор он только добросовестно переводил беседу Врангеля с Дюменилем, теперь же вступил в разговор как адвокат. — Только эти слова надо запечатлеть на бумаге. Это будет договор между Францией и Россией, точнее, между главнокомандующим Русской армией генералом Врангелем и командующим средиземноморской французской эскадрой адмиралом Дюменилем. Оба имеют полномочия от своих правительств. За ваше правительство договор подпишет кроме вас ещё и полномочный посол России во Франции господин Маклаков. С ним это оговорено. И поверьте мне, старому опытному адвокату, этот договор никакому суду не удастся признать ничтожным.
— И это всё, что вас так волновало? — спросил Врангель.
— Сделка должна быть законной, — ответил Дюмениль.
— Что ж, составляйте договор. Если его пишут не на чистом золоте, я его подпишу. Сожалею, Россия дочиста ограблена, и золота у меня нет.
Часа через полтора обе стороны подписали договор, по которому Советская Россия лишалась Черноморского и Азовского флотов.
* * *
Расклеенное повсюду в Крыму письмо Врангеля о готовящейся эвакуации никого всерьез не взволновало. Собирались группками, читали, обсуждали, как правило, приходили к успокоительному выводу, что написано оно Врангелем в минуты отчаяния и неудач. Но сейчас уже всё налаживалось. Назначенный Врангелем руководить обороной Крыма генерал Кутепов не позволит сдать большевикам Крым. Все знали, что Кутепов — боевой генерал, много месяцев не выходивший из боев, и ему доверяли даже больше, чем Врангелю.
Кутепов тоже считал письмо Врангеля несвоевременным и даже вредным, так как подрывало боевой дух армии.
Появившийся на улицах Севастополя генерал Слащев в своем фантастическом белом ментике, переходя от одной группки людей к другой, нелестно отзывался о главнокомандующем. Он считал его трусом и паникёром и вступал в спор с теми, кто ему возражал. Обступающим его обывателям он доказывал, что большевики уже настолько выдохлись за время боев в Таврии, что овладеть Крымом просто не в силах. Была бы воля командующего и приказ, и армия просто-напросто сбросила бы большевиков в Сиваш, и они с радостью согласились бы на перемирие, оставив Русской армии Крым.
Об этом вскоре стало известно Врангелю, и он тут же отправил Слащева на передовые позиции под присмотр генерала Кутепова. Выехать поближе к фронту, в Джанкой, в своем салон-вагоне ему было запрещено. Принимать участие в боевых действиях тоже.
Салон-вагон Слащева остался стоять в тупике неподалеку от севастопольского вокзала. За проживающей в нем живностью: хромым вороном, котом Бароном и сварливым скворцом остались присматривать его старый денщик Пантелей и полевая жена Слащева, юнкер Нина Нечволодова.
* * *
Севастополь жил своей размеренной жизнью. Продолжали круглосуточно работать рестораны, синематограф возобновил показ старой патриотической ленты Василия Гончарова «Оборона Севастополя», бойко торговали турецкими товарами магазины, нарасхват сбывалась валюта и со страхом наблюдали обыватели за катастрофическим падением курса бумажного рубля.
Врангеля тоже устраивало это затишье. Даже зная тяжелое положение на передовых позициях, не высказывая это нигде вслух, он тоже втайне надеялся на чудо, и делал всё, что ещё было в его силах, чтобы это чудо свершилось. Все застрявшие в тылу войска он отправлял в распоряжение Кутепова. Отказался от своего конвоя и направил его в район Ялты для ликвидации высадившегося там десанта крымских партизан.
Письмо Врангеля, расклеенное повсюду, под ветрами и дождями пожухло, а в иных местах его и вовсе сорвали и, за дефицитом бумаги, пустили на самокрутки.
И всё же мысль, печатно высказанная об оставлении Крыма и существовавшая до недавнего времени лишь как слухи и предположения, начинала обретать плоть.
На Крымском перешейке продолжались тяжелые бои, но начальник штаба Шатилов, по настоянию Врангеля, полностью переключился на организацию исхода Русской армии из Крыма. Ему были известны все подробности последних боев и поражений, и уже поэтому был вынужден быть реалистом. Он знал, что чудеса бывают только в сказках, и поэтому с самого начала отказался от раздельной эвакуации, сначала семей, а затем армии. Не хотел рисковать. Развивающиеся события свидетельствовали, что армия может покинуть Крым раньше, чем это можно предположить. И суда, на которых будут эвакуированы беженцы, к этому времени не успеют вернуться за армией.
Впрочем, и Врангель тоже, надеясь на чудо, всё же продолжал заниматься массой дел, связанных с эвакуацией войск.
Врангель провёл короткое совещание, пригласив энергичного вице-адмирала Кедрова[28], главу правительства юга России при главнокомандующем Кривошеина и командующего армейским тыловым резервом генерала Скалона. Он распорядился заблаговременно организовать охрану таких важных учреждений, как почтамт, телеграф, а также направить дополнительные караулы на железнодорожные станции, вокзалы и морские порты.
Обратившись к Шатилову, Врангель сказал:
— Подготовьте, Павел Николаевич, приказ о том, чтобы в случае оставления нашими войсками Крыма, никто бы не смел портить и уничтожать казенное имущество, так как таковое принадлежит русскому народу. Что-нибудь в этом роде…
Шатилов сделал пометку у себя в тетради, с которой он в последние дни никогда не расставался. После чего доложил о распределении тоннажа но портам.
Генерал Скалон выразил сомнение о правильности расчетов:
— У меня в штабе ведется запись желающих покинуть Россию. Их количество столь велико, что рассчитанного тоннажа явно не хватит.
Воцарилось длительное молчание.
— Какие предложения? — обвел всех присутствующих вопросительным взглядом Врангель.
Поднялся вице-адмирал Кедров:
— Предлагаю обратить внимание на всё, что может держаться на воде. На маломерные суда и даже баржи. В конце концов возьмем их на буксир.
Была ещё одна проблема, решить которую Врангель пока никак не мог. И это приводило его в отчаяние. Уже третьи сутки, как он обратился к правительствам дружественных стран с просьбой принять беженцев из России в количестве двести-триста тысяч человек, разместить их на своей территории и, по возможности, позаботиться об их дальнейшей судьбе.
Но пока ни одна страна ничего не ответила. И когда придет тот печальный день и Русская армия будет вынуждена покинуть Крым, люди окажутся в отчаянном положении. Они не смогут высадиться ни в одном порту и вынуждены будут неизвестно сколько времени болтаться в открытом море.
А продуктов и воды Врангель распорядился загрузить совсем немного, всего суток на трое. И дело даже не в том, что в Крыму добывать продукты становилось всё труднее. Продукты, вода — это дополнительный вес, причем немалый. Стремясь как можно больше загрузить суда людьми, приходилось экономить на продуктах. Тришкин кафтан!
Глава пятая
Это был короткий, но странный период в жизни Павла Кольцова. Он находился в самой гуще боев, но ему, представлявшему в Повстанческой армии махновцев руководство Южным фронтом, было категорически запрещено, в какой бы то ни было форме, участвовать в боевых действиях.
Впрочем, Каретников тоже понимал, что Кольцов направлен к нему лишь в качестве наблюдателя, и всячески пытался его оберегать. Однажды он даже поссорился с Кольцовым, когда тот во время боя вдруг возник среди огня. И с тех пор приставил к нему, невесть в каком качестве, Мишку Черниговского. Каретников вменил Мишке в обязанность повсюду сопровождать Кольцова, во время сражений не допускать его в боевые порядки, и вообще отвечать за него головой.
И когда неподалеку гремел бой, рвались снаряды и со шмелиным жужжанием над их головами проносились излетные пули, Мишка вздыхал и не то сам себе, не то Кольцову жаловался:
— Оно, конечно… як на курортах. Мои татко з мамкою один раз на курорты ездилы. Од нас недалечко, на Днепре. Ну, як там, спрашую. Кажуть, больше в жисть не поедем. Днем в хате спишь, ночью около речки, на песку. Набралы всего на месяц, а съели за неделю. И работы никакой, почти як у нас с вами.
— Ну и что тебя не устраивает? — спросил Кольцов.
— Мени татко говорили: старайся жить, як все. Не выделяйся серед людей ни силой, ни умом, ни богачеством. А видите, як повернулось! Мои товарыши воюють, а я туточки с вами… як на курорти.
Поручение Каретникова Мишка исполнял добросовестно. И когда Кольцов время от времени отправлялся в Штаб фронта, он даже в дождь или лютую стужу пристраивался на берегу Сиваша где-то в затишке, и терпеливо ждал его возвращения.
Повстанческая армия уже почти вышла к Юшуни. В бинокль даже можно было рассмотреть покатые крыши окраинных домов. Дальнейшее наступление приостановилось из-за наспех созданной белогвардейцами линии обороны. Колючие заграждения в два ряда ставили второпях, когда войска Фрунзе и повстанцы уже переправились через Сиваш. Столбцы заграждений вкапывали в мерзлую землю, они едва держались вертикально, и их удерживала натянутая «колючка».
Белогвардейцы понимали, что это уже последние сражения за крымскую землю, а дальше — только бегство. После падения Перекопа Врангель перебросил под Юшунь все освободившиеся войска. На помощь дроздовцам пришли Третий Донской корпус и конный корпус Барбовича. Он ставил перед войсками единственную задачу: во что бы то ни стало, как можно дольше удерживать на этой наспех созданной линии обороны красные войска. А дальше…
Что будет дальше, Врангель знал. Он только не знал: когда? Ему важно было теперь хотя бы на несколько дней сдержать наступление Фрунзе, с тем, чтобы четко организовать эвакуацию. Главную надежду он возлагал на несколько отдохнувшую конницу Барбовича. Иван Гаврилович был опытный генерал, участвовал в Русско-японской и затем в Первой мировой войнах. В Белом движении с первых дней. Какое-то время, после боев на Каховском плацдарме, Врангель держал его в резерве, и надеялся, что сейчас Барбович его не подведет.
* * *
Фрунзе торопился. Его каждодневно подстегивал Ленин. Да и сам он понимал, что каждый день этой сурово начавшейся зимы выводит из строя сотни полураздетых бойцов. И поэтому он поочередно вызывал к себе командармов, комкоров и комдивов, выслушивал их, вносил коррективы в свои последние распоряжения.
Собственно, всем было ясно: Юшунь — последний рубеж обороны врангелевцев. Легко они его не сдадут. Предстоят жестокие бои. И их надо выиграть.
На рассвете на где-то раздобытой Мишкой Черниговским утлой лодке Кольцов переправился через Сиваш в Строгановку. После того как все войска красных закрепились на крымском берегу, штаб Южного фронта переместился сюда.
Не выспавшийся, похудевший, с черными кругами под глазами, его сразу же принял Фрунзе.
— Ну, как там твои махновцы, Павел Андреевич? — поздоровавшись, сразу же спросил Фрунзе. Кольцов понял: времени для политеса не было.
— Мерзнут, как все, — ответил Кольцов. — Но в большинстве своем они народ запасливый. У кого кожушок, у иного две пары сменного белья, кто в конскую попону завернется. И потери пока небольшие. Рвутся в бой. И, конечно, их греет мысль, что им отдадут Крым.
— Ни много ни мало — Крым? Лихие мужички! Ну да об этом — потом, — не стал обсуждать эту тему Фрунзе. И сердито добавил: — Мы с вами не можем обещать им то, что не входит в нашу компетенцию.
— Но они постоянно спрашивают меня об этом, — настойчиво сказал Кольцов. — На Старобельском совещании им кто-то пообещал Крым.
— Вот у того пусть и спрашивают. В Старобельском соглашении это не записано. Я тоже никаких указаний ни от кого не получал. Отвечайте, что вопрос Крыма будет решаться после окончания войны. Впрочем, лучше вообще избегайте разговоров на эту тему. В конце концов вас могли и не посвятить в подобные дела.
Фрунзе резко поднялся со стула, давая понять Кольцову, что продолжать обсуждать эту тему он больше не намерен. Подойдя к оперативной карте, сказал:
— Сегодня или, как крайний срок, завтра нам необходимо взять Юшунь и выйти на оперативный простор. Дальше Врангелю уже не за что будет зацепиться. Падение Юшуни — это практически конец войны. Какая помощь необходима вашим подопечным? Боеприпасы, надеюсь, они получили своевременно и в достаточном количестве.
— На недостаток боеприпасов не жаловались. А вот с продовольствием и фуражом перебои.
— Знаю. Таврия опустошена, снабженцы с ног сбились. Зажиточный мужик хлеб припрятал, а у бедняка что возьмешь? Надеюсь, за день-другой и этот узел развяжем. Пусть немного потерпят! — печально ответил Фрунзе и снова скользнул глазами по карте. — Волею случая махновцы оказались ближе всех к Юшуни и, таким образом, окажутся в эпицентре боев. Выдержат ли натиск? Не считаете ли нужным несколько их укрепить? Такая возможность имеется.
— Выдержат или нет, вопрос не ко мне. И даже не к Каретникову. Вы лучше всех знаете расстановку сил на участке повстанцев.
— Пока там дроздовцы. Но у Врангеля после Перекопа высвободилась какая-то часть войск. Плюс резервы. Врангель конечно же распределит их по фронту. Пожалуй, есть смысл переместить на махновский участок Вторую конную армию Миронова. Тот тоже, если и не анархист, то что-то около.
— Родной брат Миронова командует полком у повстанцев, — вспомнил Кольцов.
— Не знал. Ну что ж, может, и найдут общий язык?
— Вы у меня спрашиваете?
— Размышляю… — И после небольшой паузы Фрунзе решительно добавил: — Так и сделаем!
— Хочу только предупредить, — сказал Кольцов, — Каретников, по моим наблюдениям, в военном отношении человек талантливый. Прошел у Нестора Махно хорошую школу, но с партизанской спецификой. И, как всякий добросовестный крестьянин, не захочет никому отдавать наработанное. И славу свою, если сумеет её добыть, не захочет ни с кем делить.
— Пусть сначала добудет, — впервые за все время разговора Фрунзе улыбнулся.
— Уверен, будет стараться. Рассчитывает, с хорошим багажом будет легче договориться о Крыме. Миронов тоже, как я понимаю, казак с характером. Не нашла бы коса на камень.
— Когда жареный петух в задницу клюнет — договорятся, — подвел итог Фрунзе. — Передайте Каретникову, очень на него рассчитываю. Похвалите его от моего имени. Как человеку тщеславному, ему это не будет лишним.
И уже когда Кольцов покидал горницу, в которой размещался кабинет командующего фронтом, Фрунзе ещё на минуту задержал его:
— Когда возьмем Юшунь, тот же час возвращайтесь в Особый отдел. Менжинский очень на меня обижен.
— За что? — удивился Кольцов.
— За то, что я выпросил вас у него. Говорит, вы ему нужны.
— Привык я к ним. Надеялся пройти с ними до самого конца, до последней точки, — откровенно и даже с некоторой печалью в голосе сказал Кольцов и покинул кабинет.
* * *
Едва лодка с Кольцовым тронулась с Таврического берега Сиваша, как там, вдали, на крымской стороне замаячила долговязая фигура Мишки Черниговского.
Он спустился к воде и, едва лодка захрустела о прибрежный ледяной припай, ухватил её за деревянный носовой конёк, подтянул. И Кольцов, не намочив сапог, выпрыгнул на берег.
Они молча поднялись на пригорок, подошли к изрубленному осколками деревцу, к которому Мишка привязал их коней. Кора на уровне конских голов была обглодана.
— Во, глядите! — указал Мишка на обгрызенную часть ствола. — Скотина тоже мучается.
Кольцов ничего не ответил, он знал, что все последние дни, едва армия переправилась через Сиваш, махновские снабженцы сбились с ног, добывая для армии продовольствие и фураж. Северная Таврия после опустошительных многодневных боев голодала. Надежда была на Крым. Думали: вот войска Южного фронта ступят на крымскую землю, война сразу же закончится и, как на скатерти-самобранке, перед изголодавшимися бойцами вдруг появится всё, о чем никто даже не смел мечтать.
А война всё не кончалась. Уже которые сутки повстанцы впроголодь, версту за верстой, отбивали у белых Крым. Устали не только люди, но и кони. И голодали одинаково. И одинаково гибли от пуль.
Они долго ехали молча. Мишка ничего не спрашивал, видя озабоченное лицо Кольцова. А тот был занят своими мыслями. Ему, и вправду, после взятия Юшуни здесь, у повстанцев, делать уже будет нечего: война покатится к концу, как снежный ком с горки. Знать бы наперед, что за новое дело приготовил ему Менжинский? Какой сюрприз преподнесет ему на этот раз?
Мишка не выдержал долгого молчания, спросил:
— Ну шо там, Павел Андреевич, начальствие думает? Когда мы уже этот Крым охомутаем?
— Как только, так сразу, — не особо вступая в разговор, коротко ответил Кольцов шуткой, которую услышал от Бушкина.
— Вы всё шуткуете. А я серьезно.
— А что я могу тебе сказать? Начальство думает о том же, о чем и мы: с Крымом надо заканчивать. Но заканчивать-то предстоит не начальству, а нам. В том числе и нашей армии, — с некоторым раздражением стал отвечать Кольцов. — Вот я и хочу тебя спросить: когда возьмем Крым? Начальство-то на блюдечке его нам не поднесёт.
— Та шо, я не понимаю? То я так, для разговору спросил. — и, немного помолчав, со вздохом Мишка сказал: — Сильно до дому охота. На Рождество собирался жениться, та, видать, не получится?
— А невеста есть?
— А то як же. Кра-аси-ва.
— Значит, получится.
Снова какое-то время ехали молча. Где-то далеко по сторонам летним громом глухо перекатывалась артиллерийская канонада. Этот звук стал уже настолько привычным, что на него ни Кольцов, ни Мишка не обращали никакого внимания.
— Шо я ще хотел спросить, Павел Андреевич, — вновь нарушил Мишка раздумья Кольцова. — Вы раньше в Крыму бывали?
— Я и родился и вырос тут.
— Тогда у меня такой вопрос: правда, шо в Крыму растуть пальмы?
— Кажется, растут.
— Такие, як в книжке на картинке?
— Примерно, такие. Похожие.
— И не вымерзають?
— Не знаю. Раз растут, значит, не вымерзают.
— Як это… морозоустойчиви. Як у нас в Гуляйполи виноград.
— А зачем тебе?
— Хочу привезти с собой в Гуляйполе саженцев. Может, и у нас примутся, — мечтательно сказал Мишка.
— Понимаешь, в Крыму вокруг море. Сильных морозов не бывает… Но зачем тебе пальмы?
— Красиво.
* * *
Как Фрунзе и обещал, он выделил Второй конной армии Миронова участок фронта на стыке между Пятнадцатой стрелковой дивизией и махновской Повстанческой армией.
Днем, для согласования совместных действий, Миронов навестил Каретникова.
— Здорово, земляк! Так карта легла, шо я буду туточки, рядом с тобой. В случай чего, подмогну, — сказал он.
— Спасибо на добром слове, — со вздохом ответил Каретников. — И шо за беда! Вроде ни у кого помощи не прошу, сами пока справляемся, а мне всё кого-то присылають.
— А ты, Семен, не норовись, — насупился Миронов. — Дело не шутейное. Тут, под Юшунью, Врангель почти всю армию собрав. Костьмы будут лягать.
— Понимаю, не дитё.
— Я к тому, шо гуртом будет сподручнее. У нас на Дону шуткуют: гуртом и батька легшее быть.
— У нас насчёт батька так не шуткують.
— Понимаю, — улыбнулся в усы Миронов. — У вас на всех один батько. Не знаешь, як його здоровье?
— Спасибо докторам, уже на костылях прыгае.
— При случае, передай ему мой сердечный казацкий привет, — попросил Миронов. — Дуже б хотелось якось с ним погутарить, а то и чарку выпить. Мне тут хтось из ваших сказав, шо Нестор Иванович может четверть горилкы выпить — и не впаде. А я уже — всё! Больше литра не могу. Разве шо под хорошую закуску.
— Батько не пьет.
— От это ты вже брешешь, — искренно не поверил Миронов.
— Правда! Капли в рот не бере. Все думае и думае.
— Про шо?
— Про нашу анархическую республику.
— И ни капли?
— Та шо ты! Даже не нюхне.
— От эт-то воля у человека, — восторженно сказал Миронов. — Ну, тогда мы с тобой за його здоровье. Опосля Юшуни!
— Не возражаю, — согласился Каретников. — Як Крым нам отдадуть — отпразднуем!
— Надеешься?
— Обещали.
— Ну-ну! — Миронов при его грузном теле на удивление легко вскочил в седло. — Вы только не сильно рассчитывайте. Боюсь, не отдадут вам Крым большевики.
— Чого ты так думаешь?
— Я не думаю. Я знаю. На своей шкуре испытав их доброту. Чуть не расстреляли.
И, пришпорив коня, он уже на ходу крикнул:
— До встречи в Юшуни!
Его конвойные поскакали следом.
* * *
На рассвете следующего дня белогвардейцы перешли в наступление. Сначала они обстреляли позиции махновцев из орудий, а затем пошли в атаку. Но атака была какой-то странной, вялой. Солдаты просачивались сквозь проделанные в «колючке» проходы, пробегали метров двести и залегали. В сумеречном рассвете, в серой одежде, они сливались с серой землей, и их было почти не видно.
Следующая цепь прошла сквозь заграждения спустя короткое время, но дальше по полю не двинулась.
Командиры, лежавшие рядом с Каретниковым, заметив нерешительность дроздовцев, стали его уговаривать:
— Давайте вдарим, Семен Мыкытовыч!
— Пора, ей-богу!
— Шо оны таки дохли! — размышлял Каретников. — Не выспалысь, чи шо?
— Карасин кончився! Готовляться сдаваться!
Дальше случилось и вовсе странное. Первая цепь продолжала лежать, а вторая столпилась у проходов и то ли что-то там делала, то ли яростно спорила. Голосов слышно не было.
— Самый раз, Семен Мыкытович!
— Ну, разрешите! — упрашивали Каретникова командиры.
— Не спешить, не на пожар! — И, словно смахнув с себя сонную дурь, Каретников поднес к глазам бинокль, долго всматривался во вражеские позиции: — Ничего не понимаю! Не то собираются в атаку, не то раздумалы! А ну, у кого глаз острый? Шо оны там около «колючки» колдують?
Один из командиров стал всматриваться в бинокль.
— Ну шо там?
— Не пойму. Вроде як «колючку» снимають… Точно, столбци валяють.
— Видать, подкрепление ждуть. Массой хотять нас задавить, — предположил Голиков.
— Так може упредым? — с надеждой спросил кто-то из командиров. — Пока подкрепление не подойшло.
— А если якась хитрость? Сперва разберемся, шо оны там затевають.
Но на вражеских позициях ничего не менялось. Солдаты валили на землю столбцы, неторопливо, как крестьяне перед севом, по-хозяйски взад-вперед ходили по полю.
— Похоже, «колючку» скатывають.
— Экономисты, заразы. Шоб добро зря не пропадало.
Оставив коня и свое сопровождение невдалеке, за стенами полуразрушенного сарая, короткими перебежками к Каретникову явился Миронов. Упал рядом, спросил:
— Ну шо у вас тут слыхать?
— Пока не пойму. Вроде як пишлы в атаку. Потом почему-то раздумалы, вроде «колючку» снимають. Зачем? Может, пополнение ждуть?
— В правильном направлении думаешь, — похвалил Каретникова Миронов.
— Но «колючка» чем им помешает?
— А ты прислухайся! — посоветовал Миронов.
Все замерли, стали вслушиваться в тишину. Но ничего необычного слышно не было. По-прежнему где-то вдали слева, в направлении Чонгара, громыхала артиллерия.
— Ничого… — растерянно сказал Каретников.
— Слухай лучшее!
Но ничего не менялось. Стояла тишина. И только если напрячь слух, можно было различить какой-то далекий и очень невнятный слабый гул. Словно ветер задувал в сломанную камышину. Но ни ветра не было, ни камыш здесь не рос.
— Не пойму, — снова покачал головой Каретников.
— Мне этот звук издавна знакомый. Я в пацанах летом у помещика в подпасках ходил. Коней пасли. Так, когда табун коней гонять, отак земля гудыть. Я так думаю, конный корпус Барбовича на нас хотять выпустить, — высказал своё предположение Миронов.
— А я подумав, може, броневики? Мы с ими уже один раз встречались.
— Не, кони. Потому и «колючку» снимають, шоб коней не покалечить.
— Так. Всё понятно… — задумчиво сказал Каретников и после долгого молчания добавил: — У нас на Гуляйпольщине есть хороша поговорка: Бог не выдасть, свинья не съест.
— Не надо! — сказал Миронов. — Эту поговорку вы тоже у нас, донцов, позычили.
— Не, мы своим умом дошлы.
— Она — наша. Но нам не жалко — дарю! — улыбнувшись, великодушно сказал Миронов. — А теперь, Карета, давай думать, шо нам сделать, шоб свинья нас не съела. Придумай, як нам Барбовичу в жопу табаку насыпать. А я тут, по соседству. Тоже подумаю. В случай чего — подмогну. Пока не сильно понятно, куда он свою кавалерию направит… Ну, бывай пока!
И, пригибаясь, Миронов побежал к своим казакам, ожидавшим его в развалинах. Вскочил на коня, ещё раз посмотрел вдаль. Пока ещё ничего не было видно.
После отъезда Миронова Каретников поискал кого-то глазами.
— Кожин! Фома! — позвал он и затем обратился к своим адъютантам. — Быстренько найдите мне Кожина!
— Та тут я, Семен Мыкытовыч! — отозвался Фома. Он лежал неподалеку на охапке соломы, укрывшись конской попоной.
— Иды сюды! Хочу с тобой трошки посоветоваться! — И, заметив возле себя Мишку Черниговского, гневно спросил: — О! А ты чего тут?
— Семен Мыкытович, а может, и я… той… Ну, надоело мени там, в развалинах ховаться! — жалобным голосом стал канючить Мишка.
— Ты мени тут свои порядки не устанавлюй. Твое дело охранять комиссара! И марш отсюдова! Сполняй!
Мишка приподнялся, прислушался, тихо сказал:
— Идуть!
— И ты иди, — подобрел Каретников. — В случай чого, первым переправляй комиссара через Сиваш, — и добавил: — Будем надеяться, такое не случиться.
Мишка, не пригибаясь, ушел.
Далекий гул становился все более явственным и грозным.
* * *
Утро наступило как-то вдруг. Большое багровое солнце выглянуло из-за туч. Оно светило в спины нескольким тысячам всадников, темной лавиной растянувшимся по горизонту.
Командиры полков, получив указания от Каретникова, уже удалились на свои позиции. Возле Каретникова остались только адъютанты, связные и ещё Фома Кожин. Его хлопотное пулеметное хозяйство было отлажено, как часовой механизм. Колеса тачанок всегда смазаны дегтем и при движении только шелестели, ездовые были опытные, кони ухожены, у пулеметчиков всегда имелся на всякий случай запас пулеметных лент.
Конница Барбовича была от них уже верстах в двух, в бинокль можно было даже рассмотреть лица всадников. Кони двигались рысью, но всадники уже начинали постегивать их плетками, понукая, переходили на галоп. И всю эту массу конницы, заполонившую равнину перед Юшунью, окутывала серая дымка.
— Глянь, яка пылюка, — удивленно сказал кто-то из адъютантов. — Земля мерзла, а пылюка.
— То не пылюка, — возразил Кожин. — То — пар, конске дыхание.
— Божечки, скилькы ж их!
….Из-за бугорочка выехал конный полк. И выстроился вдоль своих позиций, ожидая команды. Это был его, Каретникова, полк. С тех пор как принял от раненого Нестора Махно командование Повстанческой армией, он не отдал его в чужие руки. И хотя Нестор запретил ему впрямую участвовать в боях, он решил не подчиниться запрету. Полагал, что это уже наступил тот самый, последний бой.
В одну и другую сторону, насколько хватал глаз, занимали свои позиции остальные его подразделения. Это была его армия.
Но сегодня Каретников, согласовав общую задачу со всеми командирами, полностью доверился начальнику штаба Гавриленко. Сам же командовал в этом бою своим полком. И выставил его против атаковавшего махновские порядки конного корпуса Барбовича, в самый его центр. Он понимал всё безумие своей затеи, и всё же был готов потягаться с Барбовичем силой. Скорее даже не силой, а хитростью, ловким фокусом, изобретенным некогда ещё Нестором Махно.
Каретников неторопливо прошел к своему коню, которого подвел к нему адъютант. И вороной красавец конь, узнав его, радостно заржал. Легко вскочив в седло, он проскакал вдоль строя.
— Шо? Страшно? — на ходу спрашивал он и, не ожидая ответа, мчался дальше. — Невже душа в пятках от страха?
Кавалеристы что-то кричали ему в ответ. До него доносились обрывки фраз:
— Их же море!
— Не подужаем…
— Да чого там…
— Бывало хужее!
Тем и отличалась Повстанческая армия от регулярной. Дисциплину махновцы соблюдали своеобразно. В карман за словом не лезли. Иной раз могли и матерком командира покрыть, если большинство считало, что командир не прав. Случалось, приходилось сдавать командование другому. Единственным непререкаемым авторитетом, приказу которого подчинялись все, был Нестор Махно. Любовь, уважение и беспрекословное подчинение махновцы перенесли и на Каретникова. Верили, что он тоже знает что-то такое, чего не знают другие и что поможет им выстоять в любом бою.
И сейчас он скакал вдоль строя своих кавалеристов только для того, чтобы подбодрить их. Он понимал: надвигающаяся лавина вселяет в них страх, и хотел увериться, что большинство разделяет его решение принять здесь бой и что в трудную минуту не повернут назад, к Сивашу.
— Не бойтесь, браты! Оны думают одолеть нас силою! А мы постараемся их хитростью.
Махновцы переспрашивали друг друга:
— Шо вин сказав?
— Сказав, хитростью!
— Значить, шось знае!
— Шось придумав!
— Ага! Вин такый, як и Махно. Той, бувало…
Каретников и в самом деле надеялся в этом бою больше на хитрость, которую они придумали вместе с Фомой Кожиным. Всё ещё дисциплинированный, хорошо вооруженный и отдохнувший после боев в Северной Таврии конный корпус Барбовича в открытом бою они победить не надеялись.
В безвыходных положениях Нестор Махно прибегал к хитрости. Так решили поступить и они. Если не удастся перехитрить Барбовича, придется купаться в Сиваше. И, прав Миронов, тогда надежда получить во владение Крым становилась бы несбыточной.
Возвращаясь на своё место в конном строю, Каретников видел, как из неглубокого распадка торопливо выезжают на равнину пулеметные тачанки. Развернувшись, они выстраивались позади конницы.
Мишка Черниговский с тоской наблюдал за проезжающими мимо тачанками. Неподалеку паслись десятка два подменных коней. Их всегда держали на тот случай, если под кем-то из командиров в бою падет конь.
Мишка обернулся к Кольцову, который сидел здесь же, рядом, на копенке почерневшей соломы, которая была, вероятно, совсем недавно крышей какой-то селянской хаты.
— Курорт, ей-богу! — с каким-то вызовом сказал Мишка.
— Что ты, Михаил? — не понял его Кольцов.
— Не можу я так, Павло Андреевич! — решительно сказал он. — Вы не обижайтесь, а только мне уже надоели вси эти курорты! Як потом людям в очи смотреть?
Он подхватил свой подсумок с патронами и короткий кавалерийский карабин, с которым никогда не расставался, и побежал к подменным коням. Выбрал себе невысокого плотного маштака и, не став седлать, вскочил на него.
— Ты шо, Михайло! — закричал кто-то из ездовых.
— А ничого! Бока отлежав, трошки повоюю! — и он хлопнул коня ладонью по крупу.
— Цэ ж Трояна маштак!
— Ничого! С Гаврилой мы помиримся!
Он выехал на поле, оглядел выстроенный полк. Облюбовал себе место, поскакал мимо конников и втиснулся в строй неподалеку от Каретникова.
— Ты чого тут, Мишка? — заметив его, прикрикнул Каретников. — Чого не при комиссаре?
— Комиссар отпустылы, — с некоторым вызовом ответил Михаил. Он ожидал, что Каретников отошлет его обратно, и приготовился всячески сопротивляться.
— Опосля накажу. Не забуду, — строго сказал Каретников. По той воробьиной взъерошенности и дерзости Михаила Каретников понял: парень принял решение и не собирался от него отказываться.
— То вже воля ваша, — поняв, что Каретников оставляет его в строю, покорно согласился Мишка.
…А конница Барбовича приближалась. Уже и без бинокля можно было рассмотреть лица всадников. Тепло и ярко одетые, отдохнувшие, они двигались навстречу повстанцам с некоторой торжественностью, как на армейском смотре. Они знали свое превосходство и были уверены: через короткое время их противник уже будет купаться в ледяной воде Сиваша.
Они торопились побыстрее покончить со всем этим, коней с рыси пустили в галоп и стали выхватывать сабли. Сабли ярко засверкали на солнце.
Каретников выжидал. Он высмотрел в поле, метрах в ста от него, молоденькое деревце и подумал: «Когда они прискачут к нему, надо начинать».
Глаза повстанцев уже были устремлены только на Каретникова. Они ждали его сигнала. А он медлил…
Всадники Барбовича были все ближе. Некоторые, самые отчаянные, вырвались из строя вперед. Один из них поравнялся с деревцем и легко взмахнул саблей. Деревце подломилось и упало к ногам скачущих следом всадников.
«Пора!» — подумал Каретников, взмахнув рукой. Полк одновременно тронул коней и помчался навстречу вражеской кавалерии. Махновцы тоже выхватывали сабли, что-то устрашающее кричали.
А дальше произошло неожиданное. Каретников тоже выхватил саблю и, подняв её над головой, резко бросил своего коня влево. Повинуясь ему, следом помчались половина его полка.
Такой же маневр совершил и его начальник разведки Голиков. Но он поскакал в противоположном направлении, и вторая половина полка помчалась за ним.
Конники Барбовича не сразу поняли, что происходит. Вдоль их лавины в две разные стороны карьером расходились махновцы. Скорее всего, это было похоже на паническое бегство.
Потом на глазах всё ещё ничего не понимающих белогвардейских конников, махновцы стали резко осаживать своих коней и нырять в просветы между в ряд стоящими пулеметными тачанками.
И только сейчас, когда махновцы исчезли из их глаз, конники Барбовича вдруг поняли, что случилось. Проскакавшие перед их глазами махновцы словно раздвинули театральный занавес, и они совсем близко перед собой увидели… пулеметные тачанки. До них оставалось каких-то пятьдесят метров. Четыреста пулеметных тачанок стояли в ряд. Четыреста пулемётов холодно смотрели на них.
Белогвардейские конники поняли, что надо спасаться. Они начали резко осаживать коней, чтобы развернуться и ускакать назад. Но вторая конная цепь, ещё не успевшая ни в чем разобраться, стала напирать на первую. Всё смешалось.
И тут выкрикнул своё знаменитое «Р-руби дрова!» Фома Кожин, и тишину взорвали очереди четырехсот пулеметов.
Падали на землю лошади. Валились под ноги лошадям всадники. Крики, стоны, тоскливое конское ржанье.
Уже через короткое время перед позицией пулеметного полка Кожина образовался шевелящийся вал из убитых и раненых людей и коней.
А те передние, кто ещё был жив, уже поняли, что атака сорвана. Они пытались выбраться из этого месива, но, едва приподнявшись, попадали под кинжальный огонь и падали на густо обагренную кровью землю.
Это был триумф испытанной тактики Нестора Махно!
Огонь стал стихать. Пулеметчики перешли на короткие экономные очереди, выцеливая тех, кто ещё пытался ускакать.
Уцелела лишь третья конная цепь. Барбович слишком поздно разобрался в происшедшем. Он стоял на краю проезжей дороги, мимо него торопливо проносились в тылы отступавшие всадники. Мимо Барбовича проезжали молча, отводя от него глаза.
А потом потянулись те из первой и второй цепи, кому удалось выжить в этой мясорубке. Многие из них были окровавлены и с трудом удерживались в седлах. Иные, потеряв коней, бежали пешими.
Барбович провожал их взглядом, а затем тронул шпорами своего коня и поскакал следом.
* * *
Повстанцы не избежали на флангах стычки с дроздовцами и донцами. Там же сражались и конники Миронова.
Кто-то из мироновских казаков-кавалеристов увидел рядом с собой конника-махновца. Оба удивленно посмотрели друг на друга.
— А ты откуда, такой красавец, здесь взялся? — спросил казак, время от времени оборачиваясь и стреляя вслед убегающим солдатам противника.
— Мы — махновцы.
— Вижу, шо не беляки. А с чего это вы на нашу полосу залезли?
— Потому, шо вы на нашу побоялысь.
— Мы? Побоялись? Да у нас от роду такого не было!
— Фу-ты, ну-ты! — ощерился махновец. — Не будем считаться. Одного свого дроздовця, так и быть, на твой счет запишу.
— Спасибочки! У меня своих уже девать некуда!
Поговорили и разошлись.
…Остатки конницы Барбовича, а за ними дроздовцы и донцы покидали поле боя. Бежали, отстреливаясь.
Постепенно стрельба начала стихать. Но кое-кто из махновцев и мироновцев в горячечном запале продолжали преследовать убегающих белогвардейцев по вымороженной стужей крымской степи.
Обогнав всех своих, пустив коней в карьер, двое всадников — махновец и мироновский казак — преследовали красавца белогвардейца на тонконогом орловском рысаке. Было видно, что он не из рядовых конников. И у каждого их них была своя причина для погони: у одного — пленить офицерика, у другого — завладеть рысаком.
Белогвардейский конь буквально стлался над степью, унося своего хозяина от позора, а возможно, и от смерти. Но эти двое стали замечать: рысак всё чаще сбоил, и расстояние между ними стало сокращаться.
Оба преследователя поравнялись, узнали друг друга.
— Ты, Карета? — удивленно спросил Миронов. — Куда так торопишься?
— Офицерик хороший. Вроде есаул! — ответил Каретников.
— А конь якой? Як с выставки!
— Твой гнедой не хужее.
— Слухай, Карета, а на кой хрен он нам, этот есаулишка? Риску много, живым он не сдастся. А после сегодняшнего боя цена ему — медяк на ярмарке.
— И я про то же. Може, хай тикае?
— Я не супротив. — Согласился Миронов, и затем коротко объяснил: — Азарт, зараза!
Есаул, которого они чуть не настигли, не слыша сзади себя дробного стука копыт, оглянулся и тоже перевел своего рысака на шаг. Конь, слегка пошатываясь, тяжело ступал, роняя с губ на землю крупные хлопья пены.
Миронов и Каретников развернулись и неторопливо поскакали обратно.
Поле боя жило сейчас своей особой короткой жизнью. Казаки из арьергарда сносили в одно место убитых, передавали санитарам раненых, своих и чужих. Бродили по полю потерявшие хозяев кони. Иных, тяжело раненных, пристреливали.
Тяжелая, но нужная работа.
Они доехали до развилки, остановились. Оба были довольны удачным боем, солнечным днем и тем, что в этом бою они были рядом, плечо к плечу.
— Ну что? — спросил Миронов.
— Та ничого, — ответил Каретников, вытирая ладонью пот с шеи коня. — День хороший. Сонечко!
— Ага. Урожайный день, — согласился Миронов. — Поздравляю тебя, земеля!
— С чим? — спросил Каретников.
— С Крымом! — И, широко улыбнувшись, Миронов добавил: — Лихие вы хлопцы! Уважаю! Это ж надо, такой кандибобер Барбовичу придумали.
— А у нас все такие: мозги с вывертом. В батьку! — так же весело сказал Каретников.
— И куда теперь? — спросил Миронов.
— Тоже на поле трошки приберусь, — как-то буднично, по-хозяйски ответил Каретников. — А потом — добивать белых. А куда? — он пожал плечами. — Куда прикажуть. Дорог багато. Якась куда-нибудь выведе.
— Ну, счастливо! — сказал Миронов.
— И тебе удачи!
И они разъехались в разные стороны.
* * *
Конный полк Каретникова под командованием начштаба Гавриленко промчался по опустевшим улицам Юшуни. Оставив в городке небольшой отряд, он продолжил гнать остатки отступавших конников Барбовича.
Каретников вернулся на поле боя. Здесь тоже стояли телеги и санитарные кибитки. Хозяйственники выискивали и собирали военное добро: сабли, оружие, патроны, конскую упряжь, словом, всё, что могло ещё пригодиться в их хлопотном военном хозяйстве.
Остальные махновцы из похоронной команды подбирали своих убитых, санитарам передавали раненых.
— Скилькы убитых? — спросил Каретников.
— Пока четырнадцать.
— Раненых?
— Тяжелых больше двадцати.
Перед Каретниковым едва ли не на версту — на расстояние, которое занимали на поле тачанки, — растянулся зловещий вал из убитых и раненых людей и коней. Этот вал ещё подавал признаки жизни, он ещё шевелился. Тяжело хрипели и тоскливо ржали искалеченные лошади, стонали раненые белогвардейцы. У кого хватало сил, тот ещё пытался выбраться из этой кучи и, подняв руки, просил о помощи.
Раненых постепенно набралось человек пятьдесят, они с трудом держались на ногах и нуждались в перевязке. Они сидели на куче соломы, и возле них суетились махновские санитары в окровавленных халатах, надетых поверх шинелей и полушубков.
И здесь, как и на поле боя у Миронова, носились в поисках своих хозяев выжившие в этом бою кони. Они не понимали, что произошло, и испуганно бродили вокруг этого страшного места. Должно быть, они ещё надеялись отыскать своих хозяев. Лошадиные копыта были окрашены в красный цвет. Мерзлая земля не впитывала кровь, она тонкими ручейками растекалась по полю и, остывая, замерзала. Кони копытами ступали в кровавые лужи.
Каретников в сопровождении нескольких командиров прошел по полю боя, почти вплотную подошел к этому стонущему шевелящемуся валу. Кольцов был с ними.
— Всех легкораненых перевяжить и пускай идуть до своих, тяжелых… — Каретников замялся.
Тяжелораненых противников махновцы, как правило, расстреливали. Незачем переводить на них медикаменты — считали они.
— Всем тяжело раненным оказать медицинскую помощь! — Быть может, впервые за все дни пребывания в Повстанческой армии, Кольцов сказал это в приказном тоне: — Повторяю! Всем!
Каретников поднял на него удивленные глаза:
— Шо-то ты, комиссар, слишком подобрел. Война ще не кончилась, и все белогвардейцы пока шо для меня враги.
— Они раненые и нуждаются в помощи. А враги они или нет, разбираться не нам с тобой, Семен Никитич! — всё так же твердо сказал Кольцов.
— А поить-кормить хто их будет? Харчей у меня и на своих не хватает!
— Ходячих — отпустим, а лежачих пока прокормим. А потом разберемся, кто они есть. Не все же они враги. Да и не с кем им уже больше воевать. Война кончается.
— Не понимаю тебя, комиссар.
— Что тебе непонятно? Половину мужиков война в стране выбила. Кто хлеб будет сеять, кто детей будет рожать? А Россия, она — как в той сказке: от одной до другой границы тыщу дней скачи — не доскачешь.
— Ну, нехай будет по-твоему, — неохотно согласился Каретников.
А над полем всё ещё стоял лошадиный храп и стон. Раненых извлекали из-под завалов мертвых тел. Растревоженные кони, видя людей, тоже просили о помощи.
— Голиков, хоть раненых коней постреляйте, шоб не мучились! — приказал Каретников и скосил глаза на Кольцова. — Надеюсь, тут комиссар не станет возражать.
— Не возражаю.
— Не можу! — покачал головой начальник разведки. — Ни скотыну, ни людыну.
— Я ж только шо бачив, як ты двох «дроздов» зарубав, — сказал Каретников.
— То — в бою. В бою можу, дуже у меня тогда багато ненависти. А так я курыцю не зарежу. Он Гаврюху Трояна пошлить, той дуже любе стрелять.
Откуда-то издалека донеслось:
— Пятнадцатый!
Трое похоронщиков стояли возле убитого.
— Может, хто с беляков? — спросил командир пехотной группы Петренко.
— По одежи — наш! — выкрикнули издалека. Каретников и все, его сопровождающие, направились туда.
Волосы убитого были в крови, и на его шинели на спине все ещё медленно расползалось кровавое пятно.
Несколько махновцев осторожно перевернули мертвого. Удар вражеской сабли пришелся возле шеи. Струя крови омыла подбородок, а лицо осталось чистое, не окровавленное. Голубые глаза неподвижно смотрели в по-весеннему чистое голубое небо.
— Мишка!… Черниговский!… — с печальным удивлением тяжело выдохнул Каретников. И обернулся, позвал: — Комиссар!
— Я здесь, — тихо отозвался Кольцов.
— Як же это, комиссар? Он же до тебя был приставленный. Зачем отпустил?
— Не смог удержать. Люди, говорил, воюют, а я как на курорте.
— Его характер! — отозвался Левка Голиков. — Он и мене просыв: забери от комиссара! Воевать хотив.
— Но як он тут оказался? — спросил Каретников. — Он же в строю недалеко од меня стояв. Я ще хотив его до комиссара отправить, та времени вже не було.
— Я всё видел, — сказал Голиков. — Когда мы тогда в бою повернулы, вин же ничего не знав про наш манёвр. От и рванув. Думав, шо мы сзади. Один по полю скакав. В самую гущу беляков вклинывся.
— Эх, Мишка! — вздохнул Каретников, и на его скулах проступили жесткие желваки. — А ты, комиссар, говоришь: оны — люды. Не, оны — врагы. И до самой моей смерти они будуть для мене врагамы.
Кольцов промолчал. Он смотрел на неподвижное, с каким-то удивленным выражением, лицо Мишки Черниговского, на его широко раскрытые голубые глаза. Вспомнил: Мишка очень хотел увидеть пальмы, какие когда-то в детстве видел в книжках на картинках. Верил, что они растут в Крыму, и хотел привезти в Гуляйполе саженцы. Надеялся там, у себя, вырастить пальмы. А ещё он хотел в ближайшее время жениться, мечтал завести много детей.
Не будут расти в Гуляйполе крымские пальмы. Не будет шумной весёлой Мишкиной свадьбы. И Мишкины дети никогда не будут бегать по пыльным гуляйпольским улицам. Ничего этого уже не будет. И Мишки Черниговского, красивого, непоседливого, веселого, чистого не будет в Гуляйполе.
Будут другие, может, более красивые и более умные. Но Мишка, такой, был единственный на свете. И его уже больше никогда не будет.
Бойцы из похоронной команды сносили к телегам убитых, раскладывали по двое.
— В Гуляйполе отвезем, — сказал Каретников, усаживаясь на коня. — В своей земле похороним.
* * *
О небольших караимских деревушках в северной части Крымского полуострова, не будь Гражданской войны, ещё бы долго никто не знал. И о станции Юшунь, где основным населением были караимы, тоже, хотя она была если не городом, то небольшим городком.
Кто они такие, караимы? От кого пошли, как расселились на крымской земле, достоверно не знал даже узкий круг учёных. Десятилетиями спорили они о том, произошли ли караимы от хазар или, возможно, от тюрков, принявших иудейство во время хазарского здесь владычества. Первые поселения караимов возникли здесь, в Крыму, за несколько веков до Рождества Христова. Тогда же на прибрежье Сиваша и возникла Юшунь, сначала как поселение, а позже как тихий провинциальный городок.
Вошедшие в Юшунь махновские повстанцы застали здесь разгром и разграбление. Их встретили лишь несколько стариков и старух, выживших и одичавших собак, которые лениво гонялись за время от времени проскакивавшими по узким улочкам всадниками. Основное население во время боев где-то спряталось и пока ещё не возвращалось, но незаметно наблюдало за всем происходящим.
Даже несмотря на разгром, было видно, что народ жил здесь аккуратный, домовитый и вполне, по крымским меркам, зажиточный.
Каретников со своим штабом разместился в просторном, почти не пострадавшем ни от войны, ни от мародеров доме, в нём только были кое-где повыбиты окна и изрублена входная парадная дверь.
Хозяин дома, высокий сухой старик с жидкой белой бородой, вздыхая, ходил по подворью, собирал и складывал в кучки всякую разбросанную мелочь, не приглянувшуюся грабителям.
Осколки стекла, которые крупнее, складывал отдельно, вероятно, предполагая ещё пустить их в дело. Стекло пользовалось здесь большим спросом, его хорошо крошили и белые, и красные, и бандиты всех мастей, которые носились здесь в лихие годы.
Махновские умельцы невесть из чего, из кусков горбыля и фанеры, сколотили вполне приличную на вид дверь, позакрывали лошадиными попонами окна и затопили уцелевшую печку — и дом вскоре прогрелся, и в нем можно было жить.
Старик был дряхл и неразговорчив. Он сидел возле печки, подкладывал в топку какие-то щепки и, слегка раскачиваясь и что-то неразборчивое бормоча, неотрывно смотрел на огонь. Освещаемый колеблющимся пламенем, он походил на языческого колдуна.
К старику все привыкли, он ни на кого не обращал внимания, на него — тоже.
Здесь, в Юшуни, Кольцова разыскал Бушкин, который с недавних пор находился в распоряжении Гольдмана. Вскоре по прибытии вместе с Кольцовым в Повстанческую армию он, для начала, попытался участвовать в боях, а затем с присущей ему энергией стал вмешиваться в оперативные дела, чем несказанно рассердил начальника штаба Гавриленко. И Кольцов вынужден был от него избавиться, отправил его обратно, к Гольдману.
Но не так легко было избавиться от Бушкина. Время от времени он являлся с поручениями к Кольцову, либо к Каретникову. На этот раз он доставил приказ командующего Южфронтом: Повстанческой армии двигаться в сторону Айбара, Сак и занять Евпаторию.
Прочитав приказ, Кольцов направился к Каретникову.
Собрав своих командиров, Каретников и Гавриленко, проводили совещание.
Узнав, что пришел Кольцов, Каретников вышел ему навстречу.
— Чего, комиссар, под дверью ошиваешься? Пришел — заходь. У нас от тебя — нияких секретов. Надеемся, и у тебя тоже? А хороший совет мы не супротив от тебя выслухать.
Кольцов передал Каретникову приказ. Тот прочитал его сам, затем зачитал вслух.
— Приказы не положено обсуждать, а только сполнять. Но в связи с им есть у меня вопрос, — сказал Голиков. — Похоже, сильны бои уже не предвидятся. Тикает белогвардеец. А которые в плен сдаются. А шо дальше? Загоним мы их в якусь загородку, ну, дадим воды. А оны ж и поесть попросят. А у нас у самих харчей на сутки осталось. Цэ, если экономно. А в Крыму харчами не шибко разживешься. От я и хочу спросить, на яку завтрашнюю перспективу нам рассчитывать?
Все обернулись к Кольцову.
— Вопрос в точку. Якие планы у советской власти на нашу дальнейшую жизню? — Каретников перевел вопрос Голикова на понятный всем язык.
— Я знаю не намного больше вас, — не сразу нашелся Кольцов. — По примеру прежних войн, надо уладить все дела с военнопленными. Определить их в специальные лагеря.
— Не построили, — буркнул Гавриленко. — Не вспели.
— А на шо оны нужни, эти лагеря? — спросил кто-то из командиров. — В Сиваш их, до второго Пришествия. Воно солёне, не завоняються.
— У всех пленных вина разная. Там, в этих лагерях, с ними проведут работу. Не особо виноватых — отпустят, — пояснил Кольцов.
— Шо ж это за робота така?
— Не знаю. Сам в таких делах не участвовал, — откровенно сознался Кольцов. — Думаю, фильтрация. Самых ярых, самых оголтелых врагов отправят в тюрьмы.
— От так и нас когдась, — сказал Голиков. — Когда уже будем не нужни. Може, через три дня, чи через неделю.
— Этого быть не может, — твёрдо сказал Кольцов. — Вы — союзники, доказали своими делами преданность советской власти.
— Мы то доказали, а советская власть в нашу пользу не сильно старается, — сказал Каретников. — Скажи, комиссар, почему вы так до сих пор и не пидпысалы четвертый пункт нашего совместного Старобельского договора? Я пока не говорю про Крым. Пункт про Крым ваша сторона як-то замылыла. Ладно, будем договарюваться опосля победы. Недовго осталось. Но четвертый пункт в договори був.
Каретников говорил напористо, строго. Говорил не Кольцову: надеялся, что он доведет его слова до Фрунзе. Война была на исходе. До её конца оставались дни, это было уже видно невооруженным глазом. И они понимали, что если и добиваться чего-то у советской власти, то делать это надо раньше. Ещё не поздно и сейчас. Через неделю уже может быть поздно.
— Но ведь договор подписан.
— Пидпысан. Но якаясь падлюка выбросыла четвертый пункт. А там для нас саме главне. — Каретников порылся среди бумаг, извлек одну, процитировал: — «В районе действий махновской армии разрешается местному рабоче-крестьянскому населению организовывать вольные органы экономического и политического самоуправления. Им гарантируется автономия и федеративная связь с государственными органами советской власти». Интересно було б узнать, куда делся этот пункт?
И тут снова вскочил горячий Голиков, закричал:
— А может, прекратим войну? Предупредим товарища Фрунзе, шо если не буде до завтрашнего дня пидпысан четвертый пункт, мы вертаемся до дому, в Гуляйполе!
— Ты шо ж, Левка, войну советской власти объявляешь? — насмешливо спросил Каретников.
— Не! Пока шо только цей, як його… ультимат!
— Раньше надо было про цэ думать, Левочка! А сейчас уже мы будем свою автономию, як милостыню, у советской власти просить. Поздно спохватились.
— Потому я и предлагаю ультимат! — стоял на своем Голиков.
— Не! Пойдем с советской властью дальше, до самого конца. Если есть у большевиков совесть, якось отзовутся на нашу просьбу, — и сказал, как припечатал: — Завтра утром вырушаем. Сперва на Джанкой, а потом на Айбар, Саки и до Евпатории. Кончится война, легшее будет торговаться.
На этом совещание закончилось.
Когда они с Каретниковым остались одни, Кольцов сказал:
— Я, Семен Никитович, пришел попрощаться. Кончилась у тебя моя служба. Отзывают.
— А я думав, ты с нами до конца, до самого Черного моря.
— Сами дойдете.
— Честно тебе напоследок скажу: не понравился ты мне поначалу. Даже не ты, а твое комиссарское звание, — откровенно сказал Каретников. — Шо такое комиссар? Я так думав, это шо-то вроде надзирателя в тюрьме: за всем следить, про всё начальству докладать. А ты не такой. Ты — совестливый, честный.
— С чего ты так решил? — улыбнулся Кольцов.
— Не только я. Сам Нестор Иванович посоветовав тебе до нас попросить. Ты ему понравился. А потом и я до тебе душой потянувся. Особенно, когда мы в Сиваши тонулы. Я боявся, вред от тебе буде, а оказалось, сплошна польза. Спасибо тоби.
— И вам всем спасибо! — И, пожимая руку Каретникову, Кольцов добавил: — Не навсегда прощаемся. Крым маленький. Ещё встретимся.
Кольцов понял: самое время уходить. Он растрогался, к горлу подкатился предательский ком. Он шагнул к порогу.
Но Каретников задержал его.
— Я знаю, вы, большевики, в Бога не верите, — торопливо сказал он и, сунув руку за ворот рубахи, потянул оттуда цепочку, стал снимать её через голову. — Хочу на память… шоб вспоминав…
— Но ты же сам сказал, что я в Бога не верю.
— Не то! — торопливо сказал он. — Не то!
В его руках оказалась цепочка, на которой, припаянная, покачивалась винтовочная пуля.
— Она должна була убить мене, а смилостивилась. В шапке запуталась. А тетка Христина — гадалка у нас в Гуляйполе — сказала: «Ты всегда носи её на себе. Она смерть от пули будет од тебе одвертать». И правда, три раза опосля в мене стреляли. Один раз — с пяти шагов, в упор. И мимо! — Каретников протянул свой амулет Кольцову. — Прими на память. Пускай она тебе храныть. А я всегда буду тебе помныть.
Каретников помог одеть Кольцову через голову цепочку с «заговоренной» пулей. Они обнялись.
Кольцов торопливо вышел.
Глава шестая
К Сивашу они подъехали верхом. Молодой махновец проводил его к самому берегу, и на трех конях вернулся обратно, в Юшунь.
Лодку они с Бушкиным нашли на том самом месте, где её всегда оставлял Мишка Черниговский — последний от него привет. Видно было, ею пользовались, но каждый раз оставляли на берегу Сиваша, на привычном для Кольцова месте.
В сумерках они переправились через Сиваш и вскоре уже были в Строгановке. Отыскали дом, где квартировал Гольдман. И вскоре уже сидели в тепле за столом, во главе которого восседал Исаак Абрамович. В доме было уютно. И что-то тихо шептал самовар.
Обменялись новостями. Одна из них очень заинтересовала Кольцова.
— Помнишь, ты меня про того вихлявого снабженца спрашивал?
— Жихарев, что ли? — напомнил Кольцов.
— Он самый. Представляешь, два продовольственных склада в Каховке поджег.
— Случайно, что ли? — не понял Кольцов.
— Матёрым врагом оказался. Его свои же разоблачили. А он, тертый калач, всех их вокруг пальца обвел — и сбежал.
— Куда?
— Известно, куда. К своим, к белякам. А я, Паша, всё думаю: мы с ним разговоры разговаривали, один хлеб с ним ели. И — никаких подозрений, ничего сердце не подсказало.
— Я уже у тебя это спрашивал. Хоть теперь скажи мне, пожалуйста, любезнейший мой друг Гольдман, не Жихарев ли помог тебе тогда достать тачанку для нашей поездки?
— Нет, не он! — напрягая память, как-то поскучнел Гольдман, но спустя короткое время облегченно вздохнул. — Нет.
Потом они пили морковный чай, продолжали разговаривать о разном. Гольдман был непривычно задумчив. И наконец сказал:
— Знаешь, Паша! Я ведь эту проклятую тачанку тогда действительно у снабженцев выпросил. С этим, Жихаревым, я, помнится, разговаривал, это точно. Но не о тебе и не о твоей поездке. Но он там вертелся, это точно.
Так начала приоткрываться одна увлекательная история, конца которой пока ещё не было видно.
* * *
Генерал Кутепов, находившийся на станции Сарабуз, спустя час сообщил по телефону Врангелю, что корпус Барбовича почти полностью уничтожен. Станция Юшунь в руках большевиков. Не входя в соприкосновение с противником, части дроздовской дивизии, остатки конного корпуса Барбовича и Донской корпус продолжают отступление. Подразделения Первого армейского корпуса сосредоточились у села Букулчак.
— Жду ваших дальнейших распоряжений, — заканчивая разговор, сказал Кутепов.
С трубкой у уха он ждал ответа главнокомандующего. Но трубка молчала.
Как ни готовился Врангель к этому известию, все же оно сразило его. Надеяться больше было не на что.
Трубка продолжала молчать пять минут. Десять. Кутепов положил её на аппарат и покинул вагон связистов.
Лишь к вечеру связисты разыскали Кутепова и передали ему приказ, который следовало исполнять незамедлительно.
Всем войскам, оторвавшимся от преследования противника, предлагалось направляться в порты на погрузку.
Первому и Второму армейским корпусам предписывалось следовать в Евпаторию и Севастополь. Остаткам конного корпуса Барбовича надлежало двигаться в Ялту. Кубанцев генерала Фостикова ждали для погрузки в Феодосии. Донской корпус генерала Абрамова и Тереко-Астраханская бригада направлялись в Керчь.
Для ускорения передвижения пехоту было приказано посадить на подводы. Коннице надлежало прикрывать отходы.
* * *
Утром Кольцова принял Менжинский. Поздоровался. Поздравил с возвращением, сказал подобающие в таких случаях слова и от имени командующего Южфронтом поблагодарил его с успешным завершением работы в Повстанческой армии.
— Да какая это работа! Скучная и неинтересная, — сказал Кольцов.
— Вам, Павел Андреевич, просто очень повезло, — возразил Менжинский. — Неожиданно, я подчеркиваю это, махновцы повели себя строго в рамках Старобельского соглашения. Отношу это за счет того, что с ними не было Нестора Махно, этого взрывного запала. Натерпелись бы, поверьте. Скучно, уверяю, вам бы не было.
— У них есть определенные претензии. И довольно серьезные, — вспомнил Кольцов свое прощание с махновцами. — К примеру, почему из Старобельского соглашения вдруг исчез четвертый пункт — о самоуправлении?
— Лев Давыдович посчитал его неуместным. Они хотят жить по своим экономическим и политическим законам. Но советская власть слишком молода, и расшатать ее всяческим инакомыслием пока довольно легко. Тут я целиком на стороне Троцкого.
— Но они рассчитывают на концессию Крыма. И только в Крыму и нигде больше они хотят установить свои законы, не вступающими в конфликт с нашими, — наступал Кольцов.
— Не будем об этом, — миролюбиво попросил Менжинский. — Закончится война, и эти вопросы будут решать на самом высоком уровне. Присаживайтесь.
И когда Кольцов уселся, Менжинский сказал:
— Сейчас вам предстоит куда более интересная работа, — он взял со стола листок, положил его перед Кольцовым: — Прочтите. Телеграмма Фрунзе.
Кольцов склонился над бумагой:
«По приказу главнокомандующего все войска Русской армии на юге России и гражданское население, желающее покинуть Крым вместе с войсками, могут уезжать. Я дал указание всем судам, находящимся под моей властью…».
Кольцов оторвал глаза от бумаги, спросил:
— Кто этот могущественный судовладелец?
— Французский адмирал Дюмениль. Полный его титул? Командующий средиземноморской эскадрой, командующий морской дивизией Леванта…
— Достаточно.
— Читайте дальше. Это, по сути, ультиматум
Кольцов продолжил читать:
«Я дал указание… оказать помощь в эвакуации и предлагаю Вам дать немедленный приказ вашим войскам, чтобы они не мешали вооруженной силой проведению погрузки на суда. Я сам не имею никакого намерения разрушать какое бы то ни было русское заведение, однако, информирую вас, что если хотя бы один из моих кораблей подвергнется нападению, я оставляю за собой право использовать репрессивные меры и подвергнуть бомбардировке либо Севастополь, либо другой населенный пункт на Черном море».
Кольцов ещё раз бегло просмотрел текст и поднял глаза на Менжинского:
— Собственно, разве у нас есть иное решение? — спросил он. — Пусть бегут. Практически, они выбросили белый флаг капитуляции, и в нашей власти позволить им покинуть Крым так, как они хотят. Не достаточно ли пролито крови и с той и с другой стороны? Пусть уезжают с миром. Иные, возможно, ещё вернутся.
— Я согласен с вами. Примерно так думает Фрунзе и многие другие военачальники. Они радиограммой обратились к Троцкому о помиловании всех остатков врангелевской армии, в том числе и командного состава.
— И что ответил Троцкий? — спросил Кольцов.
— Вот! — Менжинский положил перед Кольцовым ответ Троцкого на имя Фрунзе и члена Реввоенсовета Южфронта Гусева. Она была совсем короткой:
«Необходимо всё внимание сосредоточить на той задаче, для которой созданы "тройки". Попробуйте ввести в заблуждение противника через агентов, сообщив ту переписку, из которой вытекало бы, что ликвидация отменена или перенесена на другой срок».
— Это всё? — удивленно спросил Кольцов и печально добавил: — Какая страшная радиограмма! Любыми средствами, ложью, фальшивками выявлять инакомыслящих и расправляться с ними без суда и следствия, посредством «троек».
— Она однозначна, — согласился Менжинский. — Лев Борисович, по сути, предлагает ввести общероссийский террор.
После длительного молчания Кольцов спросил:
— Ну а что вы по этому поводу думаете? Вы лично?
— Думаю, — уклонился от ответа Менжинский. — Практически, это приказ. А приказы, как вы знаете, не обсуждают. Их выполняют.
— Но приказ можно обжаловать.
— Кому?
— Ленину.
— Боюсь, в этом вопросе Владимир Ильич скорее поддержит Троцкого. Я сужу по последним его распоряжениям. Он неоднократно подталкивал Фрунзе не считаться ни с чем, ни с какими потерями, и поскорее заканчивать войну. Телеграмма Троцкого по духу такая же.
Кольцов задумчиво молчал.
— По моим сведениям, отступающие белогвардейские войска движутся в направлении крымских портов. Уплывут тихо, ну и скатертью им дорога, — спокойно продолжил Менжинский. — Не успеют — возникнут большие проблемы. Накопившаяся за годы войны злость и злоба не пройдут в одночасье. Если мы не прекратим начинающийся террор, Крым в эти дни потонет в крови. Уже начались кровавые расправы. Наши красноармейцы настигают разрозненные группки отступающих белых и вырубают их всех. Не только офицеров. Всех! У меня есть сведения о нескольких таких случаях. Слишком кровавую точку мы можем поставить в Гражданской войне.
Весь этот разговор привел Кольцова в смятение. Быть может, впервые он начал осознавать, сколь огромны масштабы надвинувшейся на Россию катастрофы. Уничтожаются целые сословия, без которых общество не сможет существовать. Сейчас, в горячке борьбы, это мало кто понимает. Но уже завтра новой стране понадобятся талантливые инженеры, архитекторы, ученые, агрономы. А их не будет. Они сейчас, в эти самые минуты, возможно, уже грузятся на пароходы, чтобы навсегда покинуть Россию. И остановить это бегство никто не в силах. Да и нужно ли? Оставшиеся здесь попадут под кровавый нож «троек», покинувшие Крым спасутся. И, быть может, пережив все страхи, многие вернутся. Или на чужбине проявят свой талант и прославят Россию.
— Что же делать? — спросил Кольцов. — Это тупик?
— Ну, так уж и тупик. Я убежден, что в жизни практически не бывает безвыходных положений, — Менжинский встал, неторопливо прошелся по кабинету. — Мы с Михаилом Васильевичем на днях вспоминали вас. Он предложил следующее. С удостоверением полномочного представителя ВЧК и мандатом Комюжфронта вы выедете в войска. Посетите порты, узловые железнодорожные станции. Там будет завершаться последний акт Гражданской войны. Ваша задача, пользуясь данной вам властью, останавливать самосуды, делать всё, чтобы никто не препятствовал врангелевским войскам покинуть Крым. Пусть уезжают. Остынут страсти и, неровен час, многие захотят вернуться.
— Но телеграмма Троцкого? — спросил Кольцов.
— А что телеграмма? «Необходимо сосредоточить внимание», «Ввести в заблуждение противника»… Обратите внимание, деликатный Лев Давыдович ни на чем не настаивает. Это не приказ. Всего лишь добрые пожелания. Не правда ли?
— Да, конечно, — впервые за всё время улыбнулся Кольцов. В самом деле, поднаторевший в прежние годы на дипломатической работе за границей, Менжинский легко нашел выход. Собственно, это он, Кольцов, смотрел на любую телеграмму, подписанную Троцким, как на приказ. Но, оказывается, и здесь не всё так просто. И если бы выполнялись все приказы Троцкого, российское население уже было бы уполовинено. «Деликатный» Лев Давыдович мыслил категорией целесообразности для Советской республики, и с легкостью мясника посылал под нож тысячи людей.
Разговор, похоже, был исчерпан. Кольцов поднялся.
— Подберите себе несколько человек и — не теряйте время.
— Я хотел бы всё же знать, с чего начинать?
— Вот этого я тоже пока не знаю. Но уверен, поразмыслив, вы найдете верное решение, — сказал Менжинский.
* * *
Кольцов в спешке организовывал свой летучий отряд. Ему дали две тачанки с ездовыми и пулеметчиками, и ещё десять всадников, молодых, горячих, которых выделил ему от щедрот своих командарм Второй конной Филипп Миронов. Это были сотрудники Особого отдела его армии.
Еще в его отряд был зачислен неразлучный с ним Бушкин.
Поразмыслив, Кольцов решил заполучить к себе и Гольдмана. Каждый раз, когда жизнь сводила Кольцова с ним, он всегда оказывался настолько на месте, настолько нужным, что Кольцову казалось: он просто не сможет без него обойтись.
Надежд на то, что Менжинский отпустит Гольдмана, у Кольцова не было никаких. Но он всё же попытался.
На удивление Кольцова, Менжинский не стал скаредничать, хотя и отпустил его очень неохотно.
— Считайте, Павел Андреевич, я ради вас обезглавил Особый отдел. Да-да, именно обезглавил, — со вздохом сказал Менжинский. — Без меня он ещё смог бы существовать, без Гольдмана — не знаю. Транспорт, продукты, бензин, бумага, размещение в городах… Трудно даже перечислить всё, чем занимается у нас Исаак Абрамович.
— Чем же объяснить такую вашу щедрость? — спросил Кольцов.
— Я отпускаю его лишь потому, что дело, которое вам поручено, крайне важное. Вам он очень поможет, хотя бы даже в бытовых вопросах. А Особый отдел фронта ещё недели две здесь просуществует, потом возникнут новые структуры государственной власти, в том числе и местные Особые отделы или как их теперь назовут — и всё! Вместе с ликвидацией штаба Южного фронта исчезнем и мы. Сэ ля ви, как говорят ваши друзья-французы. Такова жизнь. В ней всё должно быть целесообразно. Но наши люди не останутся без работы. Они будут нужны государству и в мирной жизни. И вы — тоже.
— Я часто об этом размышлял, — задумчиво сказал Кольцов. — Каким бы делом мне хотелось заняться?
Менжинский поднял на Кольцова глаза, ждал ответа.
— Под Харьковом мы с Гольдманом и ещё с одним нашим чекистом создали что-то вроде детской коммуны. Эту идею тогда очень поддержал Феликс Эдмундович. Может, пойду туда. Природа, детишки — что ещё можно придумать лучшее для спокойной жизни!
— Слышал я про вашу коммуну, — сказал Менжинский. — Она разрослась. Там уже около полусотни ребятишек. А, может, уже и больше.
— А откуда вы это знаете?
— Ваш друг Гольдман рассказал. Он тут на сутки по делам в Харьков выезжал. С восторгом рассказывал об этой вашей затее. — Менжинский снял пенсне и, протирая его носовым платком, сказал: — Эх, с сотню бы таких коммун, и можно было бы порядочно уменьшить беспризорность.
— Ну, вот! Одну такую коммуну я и возьму на себя. Хорошее, благородное дело.
— Знаете, я и сам видел себя во сне где-то на пасеке. Солнце, цветы, тишина, пчелки жужжат, — мечтательно произнес Менжинский. — Мы с Фрунзе как-то разговаривали о конце войны, каким оно будет, наше будущее. Он ещё в Туркестане мечтал стать агрономом. Но, знаете, всё это несбыточно.
— Почему? — удивленно спросил Кольцов. — Кончится война, и всё! Каждый будет жить так, как об этом мечтал.
— Всё верно. — Согласился Менжинский, но тут же поправился: — Впрочем, не совсем. А если точнее, то совсем не верно. Кончится война, мы создадим единственное в мире государство, которым будут управлять рабочие и крестьяне. Думаете, нам позволят долго жить в мире?
— Нет, конечно. Я это понимаю.
— Россия — слишком лакомый кусок мировой суши. Богатый. Я поработал с капиталистами, знаю. Мы всегда будем под их прицелом. И выживем только в одном случае: если не демобилизуемся. Если весь свой опыт, накопленный в дни войны, не разбазарим, — и, без всякого перехода Менжинский добавил: — Детишками пусть занимается тот, у кого есть опыт в этом деле. А у нас с вами иной опыт. И он ещё понадобится новой России. Извините за столь высокий штиль. Но иногда приходится думать и такими категориями.
На прощание Менжинский вручил Кольцову удостоверение полномочного представителя командующего Южным фронтом с правом единоличного решения всех вопросов, относящихся к эвакуации врангелевских войск и дальнейшей участи военнопленных. В удостоверение был вклеен вкладыш, где Фрунзе просил оказывать Кольцову всемерное содействие и помощь при исполнении возложенных на него обязанностей.
Глава седьмая
Повстанцы, несмотря на затаившуюся в их душах обиду на большевиков, покинули Юшунь и двинулись в сторону Евпатории. Командование Южного фронта уже не принимало их во внимание и при разработке новых боевых операций не брало в расчет. Их уже словно и не было. Можно было развернуться и уйти к себе в Гуляйполе, никто бы и не заметил.
Но Каретников, стиснув зубы, решил до конца исправно исполнять все пункты Старобельского соглашения. И доказать, что не зря ели большевистский хлеб и имеют право претендовать если не на весь Крым (на это он всё меньше и меньше рассчитывал), то хотя бы на какую-то его часть.
Они не остановились в опустевшей и разграбленной белогвардейцами Воинке, и к вечеру уже были верстах в двадцати от Евпатории. Здесь их и разыскал нарочный с пакетом от Фрунзе. Каретникову предписывалось не препятствовать отступающим к морскому порту белогвардейским воинским подразделениям и избегать стычек с небольшими группами, отставшими от своих частей. Пропускать в порты даже отдельных вражеских солдат, если они не пожелали добровольно сдаться в плен.
Это было первое распоряжение, которое Кольцов в своем новом качестве подготовил для Фрунзе.
— Ох, не погладят нас по головке за это распоряжение, — подписывая бумагу, сказал Фрунзе. — Не приказ, а колыбельная. Слушайте, Кольцов, в вас напрочь отсутствует классовая ненависть.
— То, что она у меня есть, я уже не однажды доказал, — возразил Кольцов. — Но сейчас, мне кажется, надо руководствоваться нормальной человеческой логикой. Война кончается. Зачем же множить потери?
— Я придерживаюсь такой же логики. Но не уверен, что они там, в Реввоенсовете, думают так же.
Кольцов понял: Фрунзе говорил конкретно о Троцком, о его последнем распоряжении.
* * *
В Евпаторию Каретников не вошел. Он остановился верстах в десяти, в небольшом селе, где можно было если и не разместить бойцов по хатам, то хотя бы в сараях, амбарах и летних кухнях спрятаться от пронизывающих степных ветров.
Махновские дозоры то и дело сталкивались с небольшими группками пробивающихся в город белогвардейцев. В перестрелку они не вступали и скрывались в холодной темноте. В основном же кем-то предупрежденные, белогвардейцы стали обходить село далеко стороной. Лишь иногда махновские дозорные слышали в ночи их голоса и торопливый стук копыт по мерзлой земле.
Под утро Каретников вышел из хаты. Не спалось. Ночь была безлунная, но большие южные звезды светили ярко, и, похоже, их свет достигал земли. Во всяком случае, постояв немного в темноте, он постепенно стал различать тени его бодрствующих бойцов.
Село не спало. Какие-то парочки бродили по улице, где-то неподалеку то слева, то справа раздавались винтовочные выстрелы, иногда короткой очередью отзывался пулемет. Кто стреляет? Что видит он в этой темени? И снова надолго наступает тишина. Лишь где-то звякнет пустое ведро, промычит сонная корова или прозвучит тонкий дробный девичий смех.
Казалось, ничего не изменилось на земле, а чувствовалось, отзывалось в душе: кончилась война…
Совсем близко от себя Каретников услышал шуршание, и то, что он поначалу в темноте принял за дом, оказалось скирдой соломы или, может быть, сена.
— Тихо.
— А ты рукам воли не давай, — услышал Каретников голоса юноши и девушки.
— Я только погладил… Я всё думаю: мы ж могли на Симферополь пойти, чи на Феодосию. Могли у вас в селе не остановиться. Мне аж страшно.
— Чого? — с придыханием спросила девушка.
— Да как же. Я б тебя не встретил.
— Ну и не встретил бы…
— Говорят, люди ищут свою пару. Хто находит, той потом всю жизню счастливый. Мне повезло, я нашел тебя. Я як тебя увидел, так сразу и влюбился. На всю жизнь. Клянусь.
— Вы все такие слова говорите.
— Хочешь, кусок земли съем?
— Не надо. Еще заболеешь.
— О, значит, и ты меня тоже любишь, раз жалеешь.
— Не, еще не вспела. Я в первый вечер не влюбляюсь.
— А ты постарайся. А то мы завтра дальше пойдем. Может, и ты с нами? Я командира уговорю. У нас хороший командир. Он разрешит.
— Не можу. Мамка не пустять.
Каретников тихонько отошел от скирды.
Несколько бойцов узнали его по силуэту:
— Здравствуйте, Семен Мыкытовыч!
— Здравствуйте! Чего не спите? Ночь на дворе.
— Якый сон! Якый сон? Войне конец!
— Похоже.
— А правда, шо нам Крым обещали отдать?
— Правда, шо обещали. А чи отдадуть? Не знаю.
И, не вступая в дальнейшие разговоры, Каретников пошел дальше.
Едва не на ощупь нашел дом, где остановился начальник штаба Гавриленко. Отыскал дверь. Она была не заперта.
— Петро! — позвал Каретников.
— Туточки я! — отозвался Гавриленко. — Подожди, я сейчас.
Он пошарил в темноте и зажег каганец. Кровать, на которой он лежал, была примята, но не расстелена. Гавриленко был одет: снял с себя только френч и сапоги.
— Чего не спишь? — спросил Каретников.
— Не спится. Думаю.
— Вот и я.
— Ну и до чего додумался?
— Ни до чего. Тревожно на душе. Вроде як про нас забыли. Ни продовольствие не подвозят, ни фураж, ни боеприпасы. Никаких бумаг штаб больше не шлет. Чем объяснить?
— Може, беспорядками? — предположил Гавриленко.
— Не-е! Шо-шо, а снабжение у них было налажено… — И после длительного молчания Каретников сказал: — Не нужни мы им больше. Все на цэ похоже.
— Може, и так, — согласился Гавриленко. — А давай от шо! Давай уже завтра большу часть наших хлопцев обратно в Гуляйполе отправим. Оставим у себя Голикова с разведчиками. Ну и ще человек двести, на крайность, пятьсот, и полсотни пулемётных тачанок. Больше нам не надо. С большевиками мы воевать не станем, а Врангеля скоро уже в Крыму не буде.
— Мысль не дурна. Надо её хорошенько продумать. А може, и с батькой посоветуемся.
На том и порешили.
Рассвет зажигался морозный и солнечный.
Глава восьмая
По Севастополю уже второй день гуляли газеты, в которых на первых полосах крупным шрифтом было опубликовано небольшое правительственное сообщение:
«Ввиду объявления эвакуации для офицеров, солдат, других служащих и их семейств, правительство юга России считает своим долгом предупредить о тех тяжких испытаниях, какие ожидают отъезжающих. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море. Кроме того, неизвестна их дальнейшая судьба, так как пока ни одна из иностранных держав не изъявила желания оказать помощь как в пути, так и в дальнейшем. Всё это заставляет правительство советовать всем, кому не угрожает непосредственная опасность от насилия врага — остаться в Крыму».
Это сообщение не было согласовано с Врангелем, и он попросил адъютанта разыскать и пригласить к себе председателя правительства юга России Кривошеина.
— Сударь, я не совсем понял текст вашего… как бы его точнее назвать… воззвания… — мрачным голосом встретил Врангель главу правительства.
— Практически, я сказал лишь то, что надлежит знать всем, кто собирается рискнуть покинуть Россию, — попытался оправдаться Кривошеин.
— Не совсем так… Скажите, вам лично угрожает опасность от насилия врага?
— Обижаете, ваше превосходительство. Меня вздернут на первом же суку, — оскорбился Кривошеин.
Глядя на улицу из окна Чесменского дворца, где к Графской пристани двигались телеги, груженные чемоданами и баулами, шли небольшие отряды солдат, Врангель спросил:
— А вон к Графской пристани идут солдаты. Как по-вашему, что думают они?
— Откуда мне знать?
— Я вам скажу. Они тоже думают так же, как и вы. Ваше истеричное воззвание напугало всех. Извините, но от него больше вреда, чем пользы.
— Помилуйте, почему?
— Страх, который вы поселили в душах людей, не пойдет на пользу нашему общему делу. Он способствует панике. Я же стремился к тому, чтобы эвакуацию произвести, соблюдая порядок и дисциплину, — и, не позволив больше Кривошеину вступать в пререкания, Врангель сухо, с некоторым презрением сказал: — Пожалуйста, не предпринимайте больше никаких телодвижений без согласования со мной. Помогайте организованно произвести эвакуацию, это сейчас ваш единственный долг. Ни один человек, желающий вместе с нами покинуть Россию, не должен остаться на крымском берегу.
* * *
Штаб Русской армии постепенно пустел. Многие службы, уже утратившие свою надобность, покидали Чесменский дворец и со своим нехитрым имуществом перебазировались на Графскую пристань и размещались на кораблях, стоявших у причалов.
Коридоры дворца, ещё вчера наполненные штабной суетой, непривычно затихли.
«Какая страшная тишина, — идя по пустым дворцовым коридорам, подумал Врангель. — Как в гробу».
Ночью он переехал в гостиницу «Кист», которая размещалась возле Графской пристани. Там уже находился штаб генерала Скалона, ведавшего эвакуацией.
По сводкам, которые регулярно получал Скалон, суда для эвакуации уже находились в портах. Погрузка людей на корабли началась организованно.
Утром Врангеля навестил французский представитель граф де Мартель. Он принес долгожданную весть: правительство Французской Республики согласилось взять под свое покровительство всех беженцев, покидающих Россию. Для покрытия расходов на эвакуацию Русской армии и цивильных лиц, а также на кратковременное их продовольственное содержание Франция согласилась принять русский военный транспорт, как военные корабли, так и суда торгового флота, а также маломерные суда, способные плавать в открытом море.
— Спасибо за добрую весть, — сказал Врангель, дружески пожимая де Мартелю руку. Про себя он подумал: «Хапайте, тащите, обирайте Россию. Авось когда-нибудь подавитесь».
* * *
Защищавшая Чонгарскую сторону Первая бригада Кубанской дивизии генерала Фостикова, после того, как пал Перекоп, почти без боя сдала Тридцатой дивизии красных Таганаш и стала уходить в сторону Джанкоя.
На развилке железнодорожных путей, ведущих в Феодосию и в Симферополь, Фостиков решил устроить большевикам засаду. Очень уж было выигрышное место: виадук и две расходящиеся в разные стороны насыпи, как два растопыренных пальца во вскинутом вверх кулаке, обещали победу. Здесь было где разгуляться!
— Последний бой! Прощальный! Чтоб запомнили! Покинем Россию не под похоронный марш! — сказал Фостиков обступившим его солдатам и офицерам.
Он приказал выставить навстречу наседавшим на них красным тридцать пулеметов — всю наличность, оставшуюся после свирепых боев на Чонгаре и под Таганашем. Лошадей, тачанки и патронные двуколки велел укрыть за насыпями двух расходящихся дорог. Присматривать за всем этим хозяйством были оставлены пожилые ездовые: в бою они не понадобятся.
Обозные брички и первого и второго разрядов с конным отрядом Фостиков отправил дальше, на Феодосию. Они должны были имитировать отступавший корпус.
Не знал генерал, что ему на пятки наступал комдив Тридцатой стрелковой Иван Грязнов, опытный военный, от начала и до конца прошедший Первую мировую войну и всю Гражданскую, в полной мере хлебнувший в своей армейской жизни и горького и соленого. Рассматривая оперативную карту, Грязнов обратил внимание на этот перекресток дорог и подумал, что если бы ему довелось здесь отступать, он смог бы на этих насыпях хорошенько потрепать противнику нервы. И почему-то уверенно решил, что Фостиков — не тот генерал, который покинет Россию, не хлопнув с досады громко дверью. Местность располагала к этому.
Грязнов, как и Каретников, получил распоряжение Фрунзе не усложнять противнику путь к отступлению. По что делать, если противник сам усложняет себе этот путь?
Командиры полков уговаривали Грязнова не завязываться с кубанцами. Черт с ними! Пусть бегут! Даже его комиссар Романов, по прозвищу Светлейший, убеждал Грязнова, что противник деморализован, он бежит, ему не до хитроумных засад. Но Грязнов стоял на своем.
Он отправил два полка в обход этой, не нравящейся ему, развилки и приказал подойти к ней одновременно, с тыла, в назначенное время.
Подождав немного, Грязнов двинул оставшуюся часть дивизии к развилке.
Увидев беспечно приближающихся красноармейцев, Фостиков стал ждать, когда они подойдут поближе. Пусть идут! Ещё! Ещё! Ничто не должно их насторожить или спугнуть! А потом короткий взмах руки — и кинжальный огонь: изящное прощание с Родиной. Пусть помнит Россия, дрались за неё до конца!
Короткие пулеметные очереди за спиной Фостикова, ошеломили его. Быть может, впервые в жизни его так коварно обманули. Нет, это он обманул сам себя. Он поверил, что красные, не встречая на своем пути никакого сопротивления, легкомысленно напорются на его засаду. Он истово верил, что это сбудется. Он так хотел вкусить последний сладостный глоток крови врага!
Не получилось.
Поняв, что они — в западне, кубанцы бросились на красноармейцев. В нескольких местах завязались стычки. Стенка на стенку. Это было похоже на рождественскую парубоцкую забаву. Но кровавую. С остервенением.
Кто-то из красноармейцев обнаружил, что за насыпями, между двух железнодорожных путей, кубанцы припрятали своих оседланных коней. И уже сотня красноармейцев бросалась на железнодорожную насыпь и с неё скатывались вниз. С ходу прыгали в седла и, пришпорив коней, взлетали на насыпь, сваливались на пеших казаков. Сверкали на солнце казачьи сабли, скупо, в упор, палили из винтовок красноармейцы. Когда кончались патроны, подбирали рядом с лежащими убитыми сабли…
Сеча была отчаянная. Со времен татарских и турецких набегов эта крымская земля не помнила такой битвы. Раненые, обессилевшие кубанцы дрались до последнего вздоха, пока, истекая кровью, не падали под ноги своих же, захваченных красноармейцами, коней. За спиной у кубанцев уже не оставалось ничего: ни своей земли, ни надежды, и эта схватка походила на отчаянное самоубийство.
Удача отвернулась от генерала Фостикова. Ему уже было не до победы. Мысль о том, что он может погубить здесь весь свой корпус, обожгла его. Он велел ротным дать сигнал об отступлении.
Казаки стали спешно выходить из боя. У кого был конь, с тем, держась за стремена, бежали по двое, трое казаков…
Грязнов не стал преследовать кубанцев. Он вспомнил о распоряжении Фрунзе не чинить белогвардейцам препятствия к отступлению. А в том, что случилось, его вины не было.
Почти через сутки кубанцы генерала Фостикова спрятались за городскими стенами Феодосии. Грязнов со своей дивизией двигался следом, но в город входить не стал. Он знал, в городе могут завязаться короткие стычки, чреватые большими потерями.
Дозорные авангарда доложили комдиву, что в Феодосии разгорается стрельба, и в нескольких местах вспыхнули пожары. Несколько позже ветер стал доносить до них запах гари и легкие куски пепла.
Глава девятая
События развивались стремительно.
Кольцов ещё только тронулся со своим отрядом в дорогу, как пришло сообщение, что белогвардейцы уже полностью покинули Симферополь, издревле считавшийся столицей Крыма. Штаб Южного фронта и его Особый отдел тоже начали собираться в дорогу.
Кольцов со своим отрядом присоединился к обозникам, догонявшим свои армейские части. До Джанкоя им было с ними по пути. А дальше… Дальше либо в Симферополь, либо к морским портам, где скапливалось много белогвардейцев. Кто-то из них покинет Крым, иные, не разделившие их участь, останутся на берегу и до тех пор, пока не установится твердая власть, им понадобится помощь и поддержка.
Смысл своей должности Кольцов до конца так и не понял. Кто он? Прокурор, судья или просто созерцатель, в крайних случаях вмешивающийся в непредсказуемый ход событий, с дарованным ему правом направлять их в нужное русло.
Много новых, зачастую сомнительных должностей порождала новая власть. Но ведь и власти такой никогда не было, не было и опыта. Парижская коммуна, просуществовавшая всего семьдесят два дня, оставила по себе только печальную память и никакого опыта. Новой власти приходилось начинать с чистого листа.
* * *
Крымский Ревком был сформирован, когда шли бои в Северной Таврии.
Когда завязались жестокие бои на Перекопе и Чонгаре, члены Ревкома перебазировались в только что освобожденную Ново-Алексеевку и несколько дней отсиживались в маленьком кирпичном здании железнодорожного вокзала, ожидая, когда Южный фронт перейдет через Сиваш и начнет освобождать Крым.
Наконец это случилось: врангелевские войска покинули Симферополь. И уже на следующий день маломощная «кукушка» неторопливо двигалась по наспех подремонтированным рельсам. В единственном спальном вагоне размещалось всё крымское правительство и некоторые его службы, которые должны начать функционировать, едва только вагон остановится в Симферополе.
Как только поезд тронулся из Таганаша, председатель Крымского Ревкома Бела Кун написал короткое объявление:
«Всех офицеров и солдат, чиновников военного времени, работников различных учреждений так называемой Русской армии убедительно просим в трехдневный срок явиться в местные Ревкомы для регистрации».
Закончив писать, он передал листок Розалии Землячке. Водрузив на нос пенсне, она бегло прочла написанное и с некоторым неудовольствием посмотрела на Белу Куна.
— Что-то не так? — спросил Кун.
— Интеллигентщина. Вы обращаетесь не к городским обывателям, а к врагам. Зачем эти расшаркивания: «убедительно просим»?…
— Но мы действительно просим. Просим в трехдневный срок зарегистрироваться.
— Мы не просим. Мы приказываем, — сухо и холодно сказала Землячка. — И предупреждаем, что не явившиеся будут рассматриваться, как шпионы, по законам военного времени подлежащие военно-полевому суду и расстрелу.
— Ну, зачем же так сразу? — не согласился Кун. — Потом, если не явятся…
— Мы разговариваем с врагами Советского государства. Тон и лексика должны быть соответствующие.
— Возможно. Вам виднее, — под напором Землячки Бела Кун сдался. — Я не настолько тонко чувствую ваш язык, его нюансы.
— Вся соль именно в тоне и в нюансах.
— Поправьте, где считаете нужным, — попросил Кун.
Землячка склонилась над листком. Решительно вычеркнула «убедительно просим» и вместо этого крупными буквами вывела «приказываем». Подумав немного, добавила о расстреле.
— На время нам придется отказаться от доброты! — строго сказала она.
— Почему же? Доброта — это вершина человеческого духа. И ещё любовь, — сказал Сулейман Маметов и, встретив холодный блеск в глазах Землячки, стушевался, смущенно добавил: — Любовь человека к человеку. Так в Коране…
— Как я понимаю, вас не муэдзином в Крым назначили, — саркастически улыбнулась Землячка. — Пора всем понять: первое время мы будем находиться в основном в окружении врагов. Скажу мягче: бывших врагов. Обыватель не сразу начнет досаждать власти. Он будет зализывать свои хозяйственные раны, полученные во время отступления врангелевцев. И пока мы как власть не окрепнем, не окружим себя единомышленниками, враги попытаются воспользоваться этим. Ведь не зря барон, ещё задолго до бегства из Крыма, сказал: «Возможно, нам придется уйти. Но мы вернемся. Утроив, удесятерив свои силы, вернемся!» Где он найдет эти силы? Там, за границей? Глупости! Почему же он так уверенно это говорил?
Все промолчали.
— Потому, что уже тогда он знал, что в Крыму, в Таврии создано хорошо законспирированное подполье. Оно будет ждать возвращения Врангеля и, по возможности, нам вредить. Наше задача: ликвидировать вражеское подполье, и тогда барону некуда будет возвращаться!
Они с удовольствием слушали её пламенную речь. Когда-то давно, в подполье, её прозвали Жанной Д'Арк революции. Ещё её называли Стальной Розой. И многие её немного побаивались за скандальный характер.
Их было немного пока, членов Крымского правительства, всего шесть человек.
Председателем Крымского Ревкома был утвержден Бела Кун, крепкий круглолицый венгр с роскошной шевелюрой, густыми темными усами и жгучими черными цыганскими глазами. Ещё в Первую мировую он оказался в русском плену. Здесь он связался с большевиками и навсегда остался верным их идеалам. Участвовал в подавлении левоэсеровского мятежа в Москве. Вернулся в Венгрию и был одним из организаторов венгерской компартии. После поражения венгерской революции кружными путями вновь бежал в революционную Россию, стал со временем членом Реввоенсовета Южного фронта, а затем, во время боев в Северной Таврии, был назначен Председателем Крымревкома.
Розалия Землячка, член Реввоенсовета Восьмой армии, была назначена секретарем Крымского комитета РКП(б).
С ними ждали освобождения Симферополя назначенные на разные руководящие должности брат Ленина Дмитрий Ульянов, Сулейман Маметов, Адольф Лиде и Юрий Гавен. Двое последних были инвалиды, передвигались с трудом. Лиде тяжело ходил, опираясь на трость, а Гавен и вовсе передвигался с помощью костылей.
Несколько купе занимала походная типография, доставшаяся им от бежавших из Мелитополя врангелевцев. Её обслуживали три человека. Они были и грузчики, и наборщики, и печатники. Тихо скрипело, вращаясь, колесо печатного станка, и в корзину падали голубоватые бумажные листочки с грозным приказом о перерегистрации всех, кто служил во врангелевской армии, но не покинул Крым.
Первое и последнее купе занимали семь человек охраны.
Мимо окон вагона медленно проплывали разрушенные снарядами и сгоревшие полустанки. Незрячими выбитыми окнами смотрели на пустынные улицы покинутые жителями дома.
Не видно было ни людей, ни собак. Но кое-где из печных труб уцелевших домов тянулся к безветренному морозному небу жидкий дымок, свидетельствующий, что жизнь ещё теплится в этих переживших многодневный разор селах. Постепенно и робко она налаживалась.
Без остановки тихо проехали Джанкой. Городок почти не пострадал. Кутепов пытался создать здесь, на западной стороне, второе кольцо обороны Крыма, но не успел.
По улицам Джанкоя торопливо ходили люди, у магазина с вывеской «Хлебная торговля» стояла небольшая очередь. В дверь никто не входил, видимо, она была заперта.
— Вот! Обратите внимание! — обернулась к своим спутникам Землячка. — С этого надо начинать!
— С чего? — не понял Маметов.
— С хлеба.
Хлеба в Крыму никогда не было вдосталь. Пахотных земель здесь немного, зато много камня. Хлебом себя Крым никогда не кормил.
— Буквально завтра пошлем в Северную Таврию продотряды. Ничего! Пусть раскошелятся!
Землячка говорила решительно, едва ли не до крика повышая голос. Можно было подумать, что она с кем-то спорит или выступает с трибуны, хотя ей никто не возражал. Серьезных поводов не было, а вступать в спор с Землячкой по мелочам никто не хотел. Её скандальный характер был всем известен.
Сразу за Джанкоем поезд стал резко тормозить и остановился.
Бела Кун прошел к выходу, спросил у стоящих в тамбуре охранников:
— Что там? Что-то случилось?
Но охранники пока ещё ничего не успели выяснить.
Кун протиснулся к двери, выглянул наружу. Неподалеку двое путейцев о чём-то беседовали с машинистом «кукушки», видимо, объясняли ему причину остановки.
— Любезные! Не скажете, почему остановились? — спросил у них Кун.
— Пути подорваны, — ответил один из путейцев. Они, похоже, уже были посвящены в то, что в вагоне едет крымское правительство, потому что покинули машиниста паровоза и приблизились к вагону. Один из них продолжил обстоятельно объяснять: — Туточки вчерась красные с белыми сурьёзно поскубались. Людей побитых и порубанных много. И тех и энтих. И ранетых полно, ещё не всех увезли. У нас в Джанкое ещё с девятнадцатого больница разбита, не успели починить. В Симферополь везти далеко, не выдержат. И путя в трех местах разобраны, в одном — подорваны.
— И сколько стоять придется? — поинтересовался Кун.
— Я и говорю, путя в четырех местах поврежденные, — вновь как несмышленышу ласково объяснил путеец. — Как ремонтники постараются, так сразу.
Поняв, что остановка предстоит длительная, на насыпь спустился Ульянов и подал руку Землячке. Но та отклонила его руку и легко спрыгнула на мягкую насыпь. Вслед за нею спустился Маметов, и они вдвоем помогли Гавену и Лиде.
Гурьбой они прошли к пока ещё вздыхающему паровозу. Впереди увидели искорёженные взрывом рельсы, а внизу возле высокой насыпи суетилось множество людей, стояли телеги, повозки, тачанки, и среди них возвышались два потрепанных грузовых «форда».
Это было поле недавнего жестокого боя. По нему ходили санитары, склонялись над ранеными. Похоронная команда сносила в одно место убитых, и аккуратно укладывала их рядышком, накрывая лица шинелями, фуражками, конскими попонами — всем, что попадалось под руки.
Члены крымского правительства по пологой, недавно вытоптанной тропинке, спустились с насыпи вниз. Лиде и Гавену помогал Дмитрий Ульянов.
Землячка решительно подошла к санитару, который только закончил перевязывать раненого и, ожидая, когда поднесут следующего, старательно вытирал тряпкой окровавленные руки. Операционным столом служил стоящий на обочине дороги обычный крестьянский большой дубовый стол. Он стоял рядом с палаткой, потому что в палатку не помещался.
— Когда? — коротко, начальственным тоном спросила Землячка.
— Вчера по полудни. Кубанцы Фостикова и наши, Тридцатая стрелковая.
— Грязнов? — вспомнила фамилию комдива Тридцатой стрелковой дивизии Землячка. — Что ж так долго возитесь?
— А что ночью сделаешь? На голос ходили, потом с факелами. Фостиков так быстро отсюда сбежал, что не только убитых, но и раненых своих здесь оставил. И убитые и раненые, в основном, казаки.
— Наших-то много?
— Убитых пока семеро насчитали. И раненых тоже немного… Всех тяжелых уже подобрали, сейчас легких, но не ходячих, чаем отогреваем, — обстоятельно объяснял санитар.
— Кто начальник медслужбы Тридцатой?
— Фельдшер Трошкин.
— Пригласите его!
— Так это, извиняюсь, я и есть, — приложил руку к козырьку порядком изношенной фуражки санитар. — Был военврач Загальский, так он, в аккурат, тифом заболел. Его на том берегу Сиваша оставили.
— Так кто всеми вами руководит? — удивилась Землячка.
— Комиссар. Но он не наш, не из Тридцатой. Ехал мимо. А может, прислали? — объяснил Трошкин и указал куда-то в степь. — Да вона он, возле телег.
Подняв голову, Землячка увидела вдали, у стоящих телег и машин вполне осмысленное движение, центром которого был человек в лоснящейся на солнце кожанке. Он отдавал какие-то распоряжения по поводу раненых, их укладывали, кого в автомобиль, кого на телеги. Слов слышно не было.
Землячка двинулась в сторону незнакомого ей комиссара, так ретиво командующего санитарами Тридцатой дивизии. Члены крымского правительства, как цыплята за наседкой, пошли вслед за нею. Иногда она брезгливо переступала через тела убитых и ещё не убранных с поля боя казаков и шла дальше. Остальные обходили их и торопливо догоняли Землячку.
Когда они подошли ближе, до неё стали доноситься распоряжения комиссара:
— Те три телеги — в Колай. Подсадите ещё по одному раненому. Обещали принять двенадцать… Кто из Ак-Шейха?
— Мы.
— Сколько телег?
— Две.
— Возьмете шестерых. В Каранкут отправляйте «форд». Там медстационар на десять коек. Потеснятся немного, примут четырнадцать.
«Интересно, что за самозванец?» — подумала Землячка. Чем ближе она подходила, тем явственнее звучали напористые слова комиссара. Но поразили её даже не слова, а голос. Этот голос был ей чем-то знаком. Не просто знаком, она его не однажды слышала.
А комиссар не обращал никакого внимания на приближающуюся делегацию. Он был целиком поглощен своим делом.
— Кто едет в Каранкут? — он огляделся по сторонам, выделил среди обступивших его людей крепкую дивчину в шинели и в буденовке. — Давай, Даша, в Каранкут!
— А если не примут?
— Такого не может быть. Но, в случае чего, гони всех саботажников к чертовой бабушке и принимай на себя должность начальника стационара. Именем советской власти!
— Поняла!
Даша проворно забралась в кузов «форда» и примостилась на тесном пятачке среди лежащих на соломе раненых.
Только сейчас комиссар обратил внимание на приближающуюся к нему делегацию, поднял голову. И Землячка узнала…
Она не могла ошибиться: это был Кольцов. Тот самый Павел Кольцов, с которым встречаться ей ох как не хотелось. Не так уж давно, во время боев под Каховкой, он доставил ей немало неприятностей. Она хотела тогда предать его суду военного трибунала, и если бы не начальник Особого отдела Правобережной группы войск Андрей Кириллов, эта встреча уже никогда бы не состоялась. Тогда Кольцову в руки попала жена самого генерала Слащева. Кровавого генерала. Какие дивиденды можно было из этого извлечь! Но этот чистоплюй отпустил её, потому, что она, видите ли, беременна. Кстати, беременна она была от Слащева. Это буржуазное благородство он поставил выше преданности пролетарскому долгу. А потом у неё было трудное объяснение с начальником УкрЧК Манцевым, а позже даже с самим Дзержинским. По непонятным ей причинам, они тоже почему-то защищали Кольцова.
Ну что ж, ладно. Всё это ушло в давность. И как это не хотелось, но с Кольцовым ей рано или поздно все равно пришлось бы встречаться. Не лучше ли сделать вид, что она этой неприятности не придала никакого значения, что она обо всем этом просто уже давно забыла? К чему снова ворошить старое? Она слышала, что Кольцов на какое-то время куда-то исчез, но затем снова появился, теперь в Особом отделе фронта. Но она никогда не думала, что их встреча состоится так быстро и так внезапно
— Как неожиданны военные дороги! — воскликнула Землячка, и её лицо засветилась такой добротой, какой никогда и никто прежде у нее не замечал. Все ее коллеги удивленно на нее уставились. — Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Кольцов!
Для Кольцова эта встреча тоже была неожиданной. Но занятый ранеными, он не сразу нашел нужную тональность в разговоре, которой несколько позже стал придерживаться.
— Здравствуйте, — коротко ответил Кольцов и тут же окликнул двух ездовых: — А вы что? Ждете особых указании? По трое раненых — и в Криненталь. Там ждут! — И лишь после этого он снова обернулся к Землячке: — Дороги кривые, вы правы, Розалия Самойловна. Сейчас в Крыму можно встретить даже того, кого не надеялся встретить.
— Вы, наверное, хотели сказать: кого и не хотел бы встретить, — улыбнулась Землячка.
— Ну, зачем же вы так? Наоборот. А всякие размолвки, это — как дым на ветру.
— Если это искренне, я рада. Тем более, что нам в ближайшее время неизбежно предстояла скорая встреча, — сказала Землячка. — Хочу представиться вам в новом качестве. Назначена секретарем Крымского обкома партии большевиков, — она повернулась к сопровождающим: — С Белой Куном не доводилось прежде встречаться? Замечательный венгерский товарищ, большевик, с недавнего времени председатель Крымского Ревкома.
— С товарищем Куном мы виделись на заседании Реввоенсовета фронта.
— Познакомитесь поближе и, надеюсь, найдете с ним понимание.
Она по очереди представила своих товарищей, о каждом сказала хорошие слова.
Каждый из них пожал Кольцову руку. А Сулейман Маметов сказал, что он был в подполье, когда узнал, что адъютант генерала Ковалевского был красным разведчиком, и очень переживал, когда белогвардейский трибунал приговорил его к смерти. Они даже пытались что-то предпринять, но их подпольная группа была слишком малочисленна и слаба. Он сожалеет, что они не смогли ему тогда ничем помочь.
— По счастливой случайности, трибуналы пока всерьез не коснулись меня, — как бы между прочим сказал Кольцов.
Но Землячка строго взглянула на него:
— А вы злопамятный.
— Не принимайте это на свой счет, Розалия Самойловна. Я же понимаю, тогда это была всего лишь ваша шутка.
— Будем считать, что это так, — сказала Землячка и перевела разговор на другое: — Не скажете, в каком качестве вы здесь?
— Все в том же, Розалия Самойловна! Все в том же: полномочный представитель Всероссийской ЧК.
— Не понимаю, — удивилась Землячка. — Но при чем все это? — она обвела взглядом поле боя.
— Совершенно случайно. Направлялся со своим отрядом в Феодосию. Проезжали мимо вчерашнего поля боя. Смотрю, санитары растеряны, да и людей у них маловато, не справляются. И транспорта почти никакого. Вокруг степь. Пришлось вмешаться. Не могли же мы проехать мимо чужой беды!
— Да уж ваш характер я хорошо знаю, — многозначительно сказала Землячка.
— Стараюсь не менять.
— И дерзость у вас прежняя.
Пока они разговаривали, Землячка внимательно наблюдала за происходящим вокруг. Татары возчики подъехали к старенькой, выгоревшей на ветрах и солнце палатке с красным крестом. В одну и другую телеги забрали ожидающих своей очереди раненых.
— А что это вы белых казаков вместе с нашими бойцами? — недоуменно спросила Землячка.
— Раненые, Розалия Самойловна. Сами видите, сидят рядышком, беседуют о чем-то своем, крестьянском.
— Не уверена, что о крестьянском.
— Подлечим, потом разберемся, кто крестьянин, кто в чем виноват. Все — по закону.
— По закону их бы — в тюрьму. Мы намерены буквально с завтрашнего дня заняться этим. Создадим «тройки», пусть они разбираются, кто чем дышит. Нам бы в самом начале не погубить советскую власть чуждой идеологией. Ленин неоднократно предупреждал нас, большевиков, об этом.
— Не сомневайтесь, Розалия Самойловна, все будет по закону. Только законов, к сожалению, пока нет. Каждый выдумывает свои. В этом я вижу самую большую опасность для советской власти, — твердо сказал Кольцов. — А насчет казаков? Кругом степь. Они раненые. К тому же за ночь крепко заморозились. Села маленькие, рассовываем буквально по нескольку человек. Пусть отогреются, подлечатся. Люди ведь!
— Гнилой либерал! Я когда-то так и сказала Дзержинскому… — не зло сказала она Кольцову и с некоторым сарказмом в голосе добавила: — Люди! Не забывайте только, прежде всего они — враги.
— Тут у нас небольшое расхождение во взглядах. Совсем крошечное. Вчера они были врагами. А сегодня — раненые, безоружные беспомощные. Просто люди. Если угодно, военнопленные. Теперь об идеологии. Генерал Фостиков бросил их на поле боя. А мы отогреем, подлечим. Они спасибо скажут. Не мне и не вам. Советской власти. Вот это и есть идеология, как я ее понимаю.
— Мне всегда было трудно с вами разговаривать, — сухо сказала Землячка. — И все же, я надеюсь, мы найдем общий язык.
— Я тоже на это надеюсь… Минуточку! — Кольцов торопливо отошел в сторону, отдал какие-то распоряжения группе стоящих санитаров, снова вернулся и сказал: — Кстати, ваш старый знакомый Гольдман тоже здесь. Устраивает раненых в Курман-Кемельчи.
— Неразлучная парочка! — скупо улыбнулась она. — Что ж, буду рада видеть и его… И куда вы теперь? Ах, да! В Феодосию… Что за дела у вас там, если не секрет?
— В предписании сказано: особо уполномоченный командования Южного фронта по соблюдению законности в Крыму. Длинно и пока для меня не очень понятно. Пытаюсь разобраться.
— Что ж непонятного! Государево око! — Землячка зябко передернула плечами, обернулась к своим спутникам. — Холодно! Не пора ли нам вернуться в свою халупу?
Прощаясь с Кольцовым, она сказала:
— По должности вы были бы обязаны представиться новому крымскому правительству. Будем считать, вы это сделали. Буду рада видеть вас в Симферополе.
— Непременно навещу, — как можно любезнее согласился Кольцов.
— Навещу… — с сарказмом повторила Землячка. — Не на посиделки приглашаю. Приедете с отчетом! — уже другим, казенным голосом добавила она.
— Да, конечно. Если будет о чем отчитываться, — при этом Кольцов про себя подумал: «Век бы вас не видел, дорогая Розалия Самойловна!»
* * *
Расчищенное после недавнего боя поле небольшой отряд Кольцова покинул под вечер. К этому времени повреждения на железной дороге наспех отремонтировали и маломощная «кукушка» сипло попрощалась и неторопливо потащила правительственный вагон в столицу Крыма.
Уехала в сторону Феодосии на своем транспорте медслужба Тридцатой дивизии.
Разъехались возчики-татары, развозившие по окрестным селам раненых. Осталась здесь лишь похоронная команда, которая должна была предать земле убитых.
Неподалеку отсюда нашли неглубокую вымоину, углубили её лопатами. Дело затянулось почти до вечера. Обыскали всех убитых, своих и чужих, в поисках хоть каких-то документов, писем, хоть чего-то, что помогло бы выяснить фамилии и адреса погибших. Но определили фамилии немногих. Никто не предполагал умереть в этом самом последнем бою Гражданской войны.
На заходе солнца, когда могила была готова, мужики из похоронной команды немного поспорили, как хоронить: всех в одной общей яме или отдельно красных и белых. Сошлись на том, что смерть всех уравняла: и белых, и красных, православных, мусульман и атеистов. Православного священника нигде не могли отыскать. Напуганное слухами о большевистских репрессиях, православное духовенство сбежало из Крыма в предпоследние дни, накануне предполагаемого бегства Врангеля.
Татары возчики привезли перепуганного муллу, и тот пропел полагающиеся по этому поводу суры на непонятном языке.
И лишь когда все завершилось, Кольцов забрал с собой найденные при убитых бумаги, и его отряд из семнадцати человек тронулся в дальнейший путь. На развилке дороги остались только путейцы, не закончившие ремонтировать поврежденную железнодорожную ветку, ведущую на Феодосию.
Кольцов с Гольдманом ехали в одной тачанке, Бушкин — в другой. Темнело быстро. И едва только скрылось солнце, где-то вдали раздалось несколько выстрелов. Кто стрелял? Все еще пробирающиеся в Феодосийский и Керченский порты, отставшие от своих основных отрядов белогвардейцы? Или вышли на свой кровавый промысел мародеры? Или мальчишки, еще не успевшие повоевать, палили в небо из раскиданных повсюду винтовок? Проблем с оружием не было. После любой войны обыватели запасаются им впрок, в целях самообороны. По окончании боев всегда наступает время повального бандитизма и грабежей. И такие ночные перестрелки еще долго будут раздаваться в ночи: до тех пор, пока власти не сумеют окончательно ликвидировать все последствия войны. А это происходит не так скоро.
— Надо было в Джанкой вернуться, — сказал Гольдман. — Там бы спокойнее переждали ночь.
— Так в чем дело? — согласился Кольцов. — Пока еще не далеко отъехали.
— Плохая примета, — сказал возчик. — Тут недалеко село Колай, лучше там пересидим ночь.
Через час в глухой темени они едва не проехали село Колай. Света нигде в домах не было, и дома в черноте ночи совсем не угадывались. Собаки не лаяли, их во время войны беспощадно повывели. Нигде никого. Ни огонька, ни звука. Недобрая подозрительная и пугающая тишина.
Спустя какое-то время возчик их тачанки вдруг сказал:
— Вроде как оконце светится.
Остановились, присмотрелись. В черноте слабо прорисовывалось единственное оконце, в нем слабо угадывался свет. Видимо, в глубине комнаты тускло светил то ли подслеповатый каганец, то ли еле тлела перед иконами лампадка.
Они тронули коней, свернули и уперлись в массивные ворота.
Долго стучали. Но ни в доме, ни во двое не было слышно ни звука, ни шевеления. Даже окошко, слегка выделявшееся, совсем угасло, слилось с темнотой.
И все же настойчивость возчика, который продолжал стучать и выкрикивать: «Хозяин, выйди! Свои!», была вознаграждена.
Сперва в веранде послышался какой-то шум, потом прогремели засовы, и тихо скрипнула дверь.
— Чего стукаете! — прозвучал недовольный хриплый старческий голос. — Нормальни люди уже давно сплять.
— Папаша! Вы не бойтесь! Мы — свои! — повторил возчик елейным голосом.
— Своих теперь нема. Которы белые, допрежь як отступили, тоже говорили, шо свои. А ночью корову зарезали, одну шкуру посередке двора оставили. И вчера тоже. Якись «свои» на конях пригарцевали, дверь в церкви выбили, священника нашего Питирима во дворе холодной водой обливали, требовали золота. А у него всего-то золота: больна жинка та шестеро детей… — И без всякого перехода тем же сварливым голосом спросил: — Чего надо?
— Пересидеть бы в затишку до утра, — продолжил переговоры со стариком возчик. — Меру овса отсыплем, внукам на кашу будет.
— Внуков нема. И вас разместить некуда, — решительно сказал старик. — Трех ранетых на постой взяв.
— А хоть в сарайчике.
— Сколько вас? — начал сдаваться старик, понимая, что никуда эти гости в ночь не уйдут, а повернуть переговоры к худшему смогут.
— Семнадцать.
Неожиданно старик спросил:
— Может, хоть скажете, за кого вы? За белых, чи за красных?
— А вам, папаша, кто больше по сердцу?
В сенях зажегся фонарь «Летучая мышь», осветив большое окно на веранде. С фонарем в руках старик спустился по ступенькам во двор, через калитку вышел на улицу, осветил возчика, Гольдмана и Кольцова, цепко к ним присматриваясь. И затем бесцветным голосом сказал:
— Красни.
— Красные, папаша. Точно, — успокоил старика возчик. — Можете не бояться: никто ничего не присвоит.
— А мени не страшно. Шо могли, уже все присвоилы. — И, осветив фонарем стоящий на тачанке пулемет, старик добавил: — Вам и незачем ничого присваивать, все сами принесут, шо не попросите. А если и без спросу возьмете, тоже не станут супротивничать.
— Зачем же вы так-то, папаша? — укорил старика Гольдман, спускаясь с тачанки. — Мы — новая власть. Советская.
— Шо власть, это я поняв, — сказал старик. — Власти, оны завсегда при пулеметах. А которы при обрезах, те тоже власть, только бандитска. Оны солнця бояться, всё больше ночами властвують.
Он растворил ворота и, взмахнув фонарем, коротко осветил просторный двор.
Первые въехали тачанки, потом красноармейцы ввели коней.
— В летней кухне пересидите. Возле плиты есть трошки дров. Не пропадете.
— Тут ты прав, дедуня. В войну не пропали, а теперь и подавно, — сказал возчик.
В низенькой, но просторной летней кухоньке пол был выстлан соломой, видимо, здесь не однажды ночевали.
Зажгли печку, дрова были сухие и почти сразу весело заполыхали. Кухонька постепенно наполнилась теплом. Красноармейцы охраны отправили троих во двор дежурить, остальные улеглись на соломе. Пулеметчики и возчики пристроились возле самой плиты, и отблески огня время от времени освещали их лица и обдавали теплом.
Кольцов, Гольдман и Бушкин уселись за большой обеденный стол, под которым тоже спали красноармейцы. Несмотря на усталость, никто из троих не мог уснуть.
Старик тоже долго не уходил, принес и сложил возле печки еще охапку дров, сказал:
— Вы часто дверь не открывайте, вам тепла до утра хватит.
— Спасибо за заботу, папаша.
Собираясь уйти, старик потоптался у выхода, указал глазами на стоящий на столе фонарь, посоветовал:
— Вы его лучше погасите. Живее утром будете.
— Что, бывает? — насторожился Бушкин.
— Оны какось узнають, хто, где и у кого. У мово соседа Федьки Молокана трех ночевщиков застрелили. Люди, видать, в Феодосию добирались, а может, в Керчь. Все забрали, и вещи, и одежу. В одном исподнем покойников оставили. А Павло Зубач рассказывав, шо в одежи, бувае, люди карманы пришивають, а в них кладут золото. Потому как уезжають люди не на неделю, а на всю жисть.
— И часто такое? — спросил Кольцов.
— Все время. Опосля того, як царя скинули.
Старик ушел. Кольцов оглядел кухоньку. Почти всех его сопровождающих сморил сон. Они тихо похрапывали после тяжелого дня. Время от времени красноармейцы охраны тихо входили в кухоньку, поднимали сменщиков, а сами укладывались на пригретое ими место.
Склонив головы на стол, придремнули Гольдман и Бушкин. А Кольцов продолжал бодрствовать. Он потянулся к окну, нащупал там небольшую стопку книг. Взял одну, потрепанную, открыл ее: «Арифметика. Л.Ф. Магницкий». На титульной странице выцветшая надпись чернилами: «Сашко! Toбi на згадку, може колись станет прохфесором. Василь та Марiя. 1911 piк».
Кто он, этот Сашко? Кто Василь и Мария? Где они сейчас? Живы ли? Кем доводятся старику?
Под утро у стен кухоньки прогремело несколько выстрелов. Во двор выскочили все разом. Дежурившие в это время красноармейцы суетливо бегали по подворью, стали открывать ворота. Пока ездовые торопливо впрягали в тачанки коней, пулеметчики вставляли в «максимы» пулеметные ленты.
— Что за шум? — спросил у пробегающего красноармейца Кольцов.
— Четверо или пятеро на конях. Постукали в калитку. И хитро так: три раза стукнут — подождут. И опять. Хотел подождать, что дальше будет. А тут мой Букет как заржет, видать, кобылу учуял. Те, с перепугу, из четырех стволов. Из обрезов. И — дьору!
В тишине был слышен удаляющийся топот копыт.
— Может, влупить им вслед? — спросил у Кольцова пулеметчик.
— Зачем?
— И то правда.
Несмотря на переполох во дворе, старик из хаты не вышел: не слышал выстрелов или по другой какой причине не захотел появляться перед гостями.
Остальная часть ночи прошла спокойно, хотя в сон уже никого не клонило.
Утром, когда они выводили на улицу коней, на пороге веранды появился старик. Он по-хозяйски окинул взглядом двор, открыл ворота. На улицу, однако, не вышел, вернулся к дому. Ожидая, пока они покинут двор, топтался возле входа на веранду.
Кольцов понял его затруднение и щадить его не стал.
— Что потеряли, папаша? — спросил он.
— Вроде як стреляли?
— Сашко приезжал, сынок ваш, — сказал Кольцов. — Проведать. Не ждали?
— Якый Сашко? Якый Сашко? — растерялся старик. — Ниякого Сашка я не знаю, — но глаза у старика стали колючими, торопливо забегали в тревожных размышлениях.
— Живой он! Живой! — успокоил старика Кольцов. — Их несколько было. С обрезами. Ночная власть! — напомнил Кольцов старику его же слова. — А с дневной властью встретиться почему-то не захотели.
Старик ничего не ответил. Он исподлобья наблюдал за тем, как красноармейцы седлали коней, заводили их в тачанки и как, наконец, покинули двор. И тут же стал греметь запорами ворот.
— Спасибо за приют, папаша! — подошел к калитке Кольцов. — Когда ваш Сашко снова приедет вас проведать, вы ему передайте мои слова. Игры с обрезами их до добра не доведут. Советская власть — это надолго.
— Не знаю я Сашка.
— Знаете. И Сашка, и Василя, и Марию.
Старик, почувствовав, что худшее позади, и гости никаких решительных действий принимать не собираются, осмелел.
— А может, то и не он был? Теперь много всяких по Крыму мотаются. И все с обрезами. А в Феодосии, в Керчи еще пока беляки сидять. У их не обрезы. У их винтовки и пулеметы.
— И с теми разберемся! — жестко сказал Кольцов, усаживаясь в тачанку. Отряд тронулся.
С утра дорога была пустынная. Они ехали, словно по необитаемому острову. Но к полудню, сразу за небольшим лесным поселком Сайтлер, на узкой говорливой речушке Биюк-Карасу, они встретили путейцев, которые заканчивали ремонт небольшого железнодорожного мостка. Неподалеку на путях стояли два пассажирских вагона, в которых на ночь размещались ремонтники, и платформа для перевозки инструментов и необходимых строительных материалов.
Путейцы с интересом рассматривали движущийся по гужевой дороге отряд Кольцова. Поравнявшись с ними, возчики остановили тачанки.
— Здравствуйте! — поприветствовал их Кольцов. — Как тут? Все тихо?
— Это как слухать! — сказал крепкий усатый пожилой путеец, видимо, бригадир. — Белые отступали, порушили мосток. Отремонтировали. А вчерашней ночью уже бандиты нашкодничали. Опять возились. Такая вот тишина…
— Большая банда? — поинтересовался Гольдман.
— В темноте не разглядишь. Носятся ночью какие-то, — бригадир критически оглядел отряд Кольцова. — Для них вас хватит.
— Пугаете? — спросил Кольцов.
— Нет. Предупреждаю. Вы, извиняюсь, куда направляетесь, если, конечно, это не военная тайна.
— На Владиславовку, а потом на Феодосию.
— А не шибко спешите? — удивился бригадир. — Феодосия пока беляками забита, Владиславовка тоже.
— Не, из Владиславовки, кажись, их выбили, — возразил путеец помоложе.
— Видать, снова — у белых, — сказал бригадир. — Вчера тут прошел почти что целый кубанский полк. Мимо Владиславовки не пройдут.
— Вас-то не трогают?
— А шо у нас взять? — сказала разбитная молодица путейка. В ватнике и толстом платке она походила на матрешку.
Бригадир еще раз оглядел отряд и решительно сказал:
— Горячие вы, хлопцы. Но пока вы туда не суйтесь. Сколько у вас той силы? Як у комара зимой. А белогвардейцы сейчас злющие, як пчелы перед холодами. Напоретесь на них, раздавят и сами не заметят.
— Что вы предлагаете? — спросил Гольдман.
— Предлагаю не рисковать. Партизаны вчера до нас наведывались, говорят: в Феодосии полно пароходов, беляки на них грузятся. День-другой тут переждите, или рядом, в каком-нибудь селе. А потом на все четыре стороны.
— Мы подумаем, — сказал Гольдман.
Совещались недолго. И уже минут через десять пошли занимать один из двух пассажирских вагонов.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Генерал Фостиков вместе со своим штабом пробился в Феодосию ночью и обнаружил, что город заняли мародеры. Их было немного, но они парализовали все припортовые улицы. Подняв ружейную стрельбу, они бегали по улицам, грабили магазины и поджигали все, что могло гореть. К утру уже горели пакгаузы, железнодорожные вагоны и склады, где хранились снаряды.
Склады успели потушить.
Напуганный непредсказуемыми последствиями, пароход «Аскольд», который стоял у пирса, занятый ранеными, медперсоналом и работниками городских учреждений, спешно отошел на рейд и бросил там якорь, ожидая, когда в городе наступит порядок.
В порту скапливались все новые партии военнослужащих, но ни капитаны «Дона», ни «Владимира» погрузку не начинали.
— Спускай сходни, начальник! — кричали ему с берега.
— Не можем рисковать! — в рупор прокричал капитан «Дона». — Утихомирьте тех оглоедов, что носятся по городу с факелами.
На борьбу с мародерами отправили группу юнкеров. Вскоре они доложили, что грабежи прекращены. Часть мародеров расстреляли, остальные спрятались на окраинах.
— Начинай погрузку! — свирепо приказывали с берега капитанам.
— Не велено! — отвечали в рупор.
Наконец в порту появился генерал Фостиков. Он обнаружил, что вместо пяти обещанных, у пирсов находились только два парохода. Третий, «Аскольд», был полностью загружен и стоял на рейде. А в порту скопились уже больше восьми тысяч солдат и офицеров, с трудом пробившихся сквозь боевые порядки красных.
— Почему не загружают? — волновалась толпа.
Фостиков поднялся на «Дон», и к своему удивлению обнаружил, что он тоже уже частично занят. Причем, большей частью, цивильными.
— Кто такие? — спросил Фостиков.
— В приличном обществе принято представляться, — нагловато сказал холеный юноша.
— Почему здесь? — обозлился Фостиков.
— Я — заместитель председателя Акционерного общества «Центросекция». — Юноша указал глазами на еще нескольких молодых людей, уютно разместившихся на палубе: — А это — мои сотрудники.
— Плавать умеешь?
— Вы, собственно, к чему? — возмутился юноша.
— Вышвырните этого фармазона за борт! — приказал Фостиков.
И через короткое время раздался звучный шлепок о забортную воду.
— Остальным предлагаю без скандала покинуть корабль. Свое имущество прихватите с собой! — спокойно сказал напуганным сотрудникам «Центросекции» Фостиков. — На «Дон» грузятся только кубанцы!
— А нам что, пропадать?
— Не имеете права!
— Будем жаловаться генералу Фостикову!
— Жалуйтесь! Я — начальник обороны феодосийского укрепрайона генерал Фостиков.
— Зачем же вносите беспорядок?
— Я вношу порядок. Вывезем всех. Но кого и на каком корабле, буду решать я. Единолично. Освободите корабль!
— Не уйдем! — заупрямились сотрудники «Центросекции».
— Даю пять минут — и за борт! Вместе со всем имуществом!
И вскоре толпа тех, кто уже ухитрился обжиться на корабле, торопливо спускалась по шаткому трапу. Подчиненные Фостикова провожали их за ограду портовой территории, где столпились ждущие посадки солдаты и офицеры Фостикова и несколько разрозненных отрядов Тереко-Астраханской бригады. Многие были ранены и, ожидая посадки, перевязывали друг друга.
Объявили посадку. Возле трапа стали ротные командиры, старались не пропустить на корабль чужих. Таких было немало. Их сталкивали с трапа и силой выгоняли за ограду.
А войска все прибывали. Кубанцы едва умещались на «Дону». Обстановка накалялась.
Крики. Ругань. Драки.
Начали загружать «Владимир». В первую очередь на него проследовали члены Кубанской Рады и их хозяйственные тыловые части. Следом по образованному солдатами, ожидающими своей очереди, коридору, к трапу двинулся обоз Кубанской Рады. С десяток телег, груженных мешками и ящиками, проехал по пирсу и остановился возле трапа.
— Что на телегах? — спросил Фостиков у сопровождающего обоз штабс-капитана.
— Документы и другое имущество Кубанской Рады.
— За борт! — гневно приказал Фостиков и обернулся к ездовым. — Выпрягайте коней!
Штабс-капитан пытался ругаться, бегал вдоль груженых телег. Но его никто не слушал.
Фостиков тоже не обращал никакого внимания на крики штабс-капитана. Он с каменным лицом, как индейский вождь, стоял на пирсе, и отблески пожаров, которые полыхали в городе, отражались на его лице.
Тяжело бултыхнулись в воду телеги. Какие-то ящики и мешки, заполненные чем-то плавучим, долго не хотели тонуть, но, порядком промокнув, пошли ко дну.
Заканчивал погрузку «Владимир». Он забрал на борт больше четырех тысяч человек, но солдаты и офицеры продолжали лезть на корабль.
— Что вы делаете! — кричал помощник Фостикова подполковник Десницкий. — Мы потонем!
Его не слушали.
Убрали сходни. Солдаты и офицеры с разбега прыгали с пирса на корабль, цеплялись за ограждения, взбирались на палубу.
— Рубите канаты! — истерично закричал капитан.
Разрубили канаты. «Владимир» стал медленно отплывать от пирса. Но те, кто уже был на пирсе, не хотели упускать свой последний шанс и пытались по-прежнему с разбега допрыгнуть до корабля. Но водная гладь между ним и пирсом стала уже непреодолимой, они шлепались в ледяную воду и, барахтаясь, возвращались к берегу.
Кораблей у причалов больше не было. И будущее столпившихся у ограды и заполнивших причалы людей казалось катастрофическим.
В толпе раздалось несколько хлопков, и толпа шарахнулась в стороны, образовав небольшое пространство, на котором корчились в агонии и умирали самоубийцы.
Фостиков попросил радистов «Владимира» связать его с Врангелем. Командующий уже находился на крейсере «Генерал Корнилов» и оттуда руководил эвакуацией.
Врангель ответил сразу, видимо, он эту ночь не ложился спать, разрешая массу ежечасно возникающих проблем.
— Петр Николаевич! Фостиков! — представился командир кубанцев. — Феодосия получила только три парохода. Они уже полностью загружены. Но в порту ещё остаются люди, в частности, остатки Тереко-Астраханской бригады и беженцы.
— Количество? — спросил Врангель и повторил: — Меня интересует количество.
— Тысячи две, может быть, чуть больше.
Врангель какое-то время молчал, видимо, советовался с ответственными за эвакуацию службами и затем ответил:
— К сожалению, в Феодосию мы уже просто не успеем направить никакие плавсредства. Направляйте всех оставшихся в Керчь. Там есть возможность всех их разместить на кораблях.
— Но это же что-то около ста верст! — напомнил главнокомандующему Фостиков. — Транспорта у меня почти нет.
— А я не могу предложить вам ничего иного, Михаил Алексеевич! Исполняйте! — и Врангель отключился от радиосвязи.
Фостиков на катере приплыл к берегу, и с пирса в рупор сообщил волнующейся толпе:
— Я только что разговаривал с главнокомандующим. Направить к нам сюда пароход нет никакой возможности. Но…
Толпа ахнула, загудела.
— Слушайте дальше! Но в Керчи всех вас ожидают пароходы! Не теряйте время, отправляйтесь с Богом! Не оставляйте без помощи раненых и немощных. Лошади есть, телеги тоже! Командовать переходом будет… — Фостиков взглядом просеял толпящихся на пирсе, обратил внимание на малознакомого статного пожилого полковника, который с обреченным видом стоял чуть в стороне от толпы. Всплыла в памяти и его фамилия: полковник Ковальский из Тереко-Астраханской бригады. Они пару раз мельком встречались. С иными встречаешься по несколько раз на дню, и не запомнишь. А полковник запомнился своей несуетностью и неразговорчивостью, и ещё умным пронзительным взглядом, притягивающим к себе.
— Командовать переходом будет полковник Ковальский! Он — опытный офицер, прошу ему довериться!
Ковальский удивленно взглянул на Фостикова, но не тронулся с места, осмысливая услышанное. К нему бросились несколько офицеров, стали что-то вразнобой говорить, советовать. Ковальский терпеливо всех выслушал и коротко сказал:
— Не будем терять время.
А Фостиков крикнул им вслед:
— Доброго пути! И до встречи!
Но никто уже не обратил внимания ни на его слова, ни на него самого. Они повернулись спиной к Фостикову и с пирса стали выбираться на дымную припортовую площадь. Там они увидели много брошенных телег и покинутых оседланных коней, которые бродили в поисках своих хозяев.
Ковальский с помощью офицеров из Тереко-Астраханской бригады стал формировать колонну. Это удавалось с трудом, потому что большинство коней были верховыми и никогда не ходили в упряжке.
— На «Дон»! — приказал Фостиков мотористу, и катер, разрезая легкую волну, помчался к перегруженному донцами пароходу.
На рассвете, едва только затеплился горизонт, «Аскольд», «Дон» и «Владимир» вышли в море и взяли курс на Севастополь, чтобы присоединиться к покидающей Россию эскадре.
Глава вторая
Утром красноармейцы начдива Грязнова вошли в Феодосию.
Город догорал. Тяжелый запах пожарища висел над портовыми сооружениями. Среди дымных улиц бродили слишком поздно пробившиеся в город солдаты и офицеры — остатки каких-то воинских подразделений.
Пароходы уже покинули Феодосию. А полковник Ковальский с колонной вторые сутки двигался в Керчь. Опоздавшие люди не знали, что им делать и как поступить. Дать совет им уже было некому. Обезумевшие, они бродили среди дотлевающих пожарищ, то вдруг возникая из дымной синевы и так же торопливо растворяясь. Иногда раздавался глухой хлопок: кто-то, вконец отчаявшийся, кончал жизнь выстрелом в висок. Но большинство, сорвав с себя погоны, растекались по городским окраинам, пытаясь там найти укромное место и спрятаться.
Не успели ещё красноармейцы прочесать улицы и принять в плен и согнать в одно место оставшихся в городе белогвардейцев, как начальник разведки Рукавицын доложил Грязнову, что неподалеку от города к берегу пристали несколько катеров с какими-то вооруженными винтовками и пулемётами людьми.
— Кто такие? — спросил Грязнов.
— Издалека: люди, как люди. Погон нету, знаков отличия тоже, одеты, кто во что горазд. Но при двух пулемётах. Может, партизаны?
— Подробно выяснить и доложить! — приказал разведчикам Грязнов. — Если партизаны, принять с почётом.
Разведчики ушли, предварительно выставив вдоль набережной несколько пулеметов.
Военком Романов с несколькими своими подчиненными тоже спустился к берегу, стал ждать.
Прибывшие морем гости никуда не торопились. Они сидели на своих катерах, не предполагая, что находятся под наблюдением трех пулеметов. Видимо, совещались. Потом человек десять пошли по набережной к центру города. Шли безбоязненно, но с винтовками наготове. Могучий бородач катил перед собой, как детскую коляску, пулемет «Максим». Впереди вышагивал маленький, круглый, похожий на мячик морячок, одетый в кожаный бушлат и морскую офицерскую фуражку. Под их ногами сухо шелестела галька.
Когда они подошли почти к центру города, к портовым причалам, Романов внезапно вышел к ним из-за афишной тумбы. Он хотел несколько ошеломить их: слишком беспечно и безбоязненно шли они по чужому городу.
Но гости шаг не сбавили, продолжая все также неторопливо приближаться к Романову.
— Кто такие? — спросил Романов.
— Вот! Именно это интересует и меня! — сказал морячок и остановился напротив Романова.
— Я б не того-этого, не выкабенивался, — сказал гостям разведчик Рукавицын. — А то вон там, из-за сарайчика вас рассматривает один пулемет, из-за той хатки — второй.
— Вот это уже другой коленкор! А то сразу с вопросами! — весело сказал морячок: — Отряд крымских партизан!
— Вижу, что не беляки, — сказал Романов и представился: — Тридцатая стрелковая, комдив Грязнов, военком Романов — это я!
Романов взмахнул рукой, и из переулка вышли, ожидавшие сигнала, сам Грязнов в сопровождении своих ординарцев, связных и нескольких командиров полков. Когда они вплотную подошли к гостям, морячок как-то смешно сделал пару шагов ему навстречу и, вскинув руку к своей флотской фуражке, доложил:
— Командир отряда крымских партизан Иван Папанин. По распоряжению штаба прибыли занять город для установления в нем советской власти.
— Ах, ты ж, какая неприятность! Даже и не знаю, как поступить! — с деланной озадаченностью сказал комдив и тоже представился: — Командир Тридцатой дивизии Грязнов.
— Так в чем проблема? — спросил Папанин.
— Ну, как же! Вы пришли занять город, а мы, извиняюсь, уже его заняли. Вот я и думаю, может, нам на часок выйти, а вы его тут же быстренько займете?
И все рассмеялись.
— Нет, ну что тут скажешь! — весело сказал Папанин. — Шли на боевую операцию, а попали на праздник!
Он обернулся, глянул вдаль, туда, где ждали его сигнала катерники. И тоже взмахнул рукой.
Взревели моторы, катера промчались по краю моря и лихо остановились у причала. Из них высыпало человек шестьдесят партизан, подтянулись к беседующим командирам. Впереди вразвалку шел меднолицый пожилой моряк. Если бы здесь был Кольцов, он без труда узнал бы в нем своего давнего друга Семена Красильникова, с которым на длительное время его разлучила война.
Красноармейцы и крымские партизаны здоровались, братались. У кого-то из партизан нашлась гармошка. Исцарапанная, латаная, она, видать, прошла с партизанами немало крутых крымских троп.
Под музыку гармошки, гурьбой, а не строем, они с порта вышли на главную улицу Феодосии — Итальянскую. Несмотря на слабый ветер, по ней всё ещё плавал легкий синий дымок дотлевающих пожарищ.
* * *
Войска отступали по всему Крыму. Никаких надежд уже не было. Все свои усилия Врангель направил на эвакуацию войск. Он верил, что если сумеет спасти армию, то в недалеком будущем еще сможет повторить деникинский поход на Москву. Такой случай обязательно представится. Народ России не примет большевиков. Надо только будет внимательно следить за событиями в их стране и угадать момент.
Слащев был одним из тех генералов, которые не хотели мириться с поражением. Сосланный за экстравагантные выходки снова в армию, он находился при штабе Кутепова, но должность так и не получил. Врангель велел Кутепову держать его под своим личным наблюдением.
Оборона Крыма уже полностью перешла в ведение Кутепова. В сущности, обороны уже не было. Арабатская стрелка и все побережье до самой Керчи было занято большевиками. Крымские порты были запружены войсками. И задача Кутепова состояла лишь в том, чтобы пытаться, по возможности, задерживать наступление красных до отхода последнего корабля, покидающего Крым.
Когда Кутепов в очередной раз докладывал по телеграфу главнокомандующему из Сарабуза о печальных поражениях на фронтах (фронтов уже фактически не было), Слащев попросил разрешения сказать Врангелю несколько очень важных слов.
Заканчивая разговор, Кутепов передал по телеграфу Врангелю:
— Ваше превосходительство, с вами хочет переговорить генерал Слащев.
Слащев напрягся, готовясь передать Врангелю несколько, по его мнению, важных слов.
— Увольте, Александр Павлович! — пришел ответ.
Кутепов скомкал телеграфную ленту и сунул ее в карман.
— Он не захотел? — спросил Слащев.
— Наоборот. Но очень занят. Пообещал связаться позже…
— Вы даже врать убедительно не умеете, — сухо сказал Слащев и вышел. Расстроенный, он несколько минут ходил возле штаба. И выждав, когда Кутепов уйдет от телеграфистов, снова вернулся к ним. Взял лист бумаги и написал телеграмму, предлагая сформировать десант и уверяя главнокомандующего: большевики настолько выдохлись, что задачу выбросить их из Крыма он берется решить за день-два.
Наивный, он не знал, что уже больше половины Крымского полуострова находилась в руках большевиков, и белогвардейский Крым доживал последние дни.
Врангель прочитал телеграмму, и в очередном сеансе связи с Кутеповым попросил передать Слащеву, что ценит его благородный порыв и предоставляет полную свободу ему и всем желающим продолжать борьбу. Если Слащев желает остаться в тылу противника и сформировать партизанский отряд, главнокомандующий благословляет его.
— И это все? — спросил Слащев.
— А что вы хотели услышать еще? — спросил Кутепов.
— Это отговорка. Главнокомандующий забыл, как я летом девятнадцатого высадился десантом на пляжах Коктебеля, и через несколько дней весь Крым уже был в наших руках, — сердито произнес Слащев.
— Но главнокомандующий сказал вам: дерзайте! — возразил Кутепов.
— Мне не нужны советы! Мне нужен чёткий приказ по Русской армии, какая из частей пойдет со мной. Мы высадимся в Хорлах, где нас меньше всего ожидают большевики. И через сутки или двое вернем себе Крым.
— Мысль хорошая, Яков Александрович. Но несбыточная.
— Почему же?
— Потому что нет уже тех частей, которые бы пошли с вами. Они частично разбиты, частично деморализованы. Фронта, в сущности, уже нет. Войска бегут к портам в надежде спасти свои жизни. Такова жестокая правда.
В тот же день Слащев выехал в Севастополь.
* * *
Город встретил его полнейшим запустением. На центральных улицах были выбиты стекла окон и разбиты витрины магазинов. Какие-то люди с мешками за плечами торопливо перебегали улицы, прятались в подворотнях, старясь не попадаться на глаза прохожим.
Движущиеся к порту военные ничему не удивлялись и ни на что не обращали внимание. Город был во власти мародеров.
Гостиница «Кист» ещё зачем-то охранялась, но Врангель сутки назад перенес свой штаб на крейсер «Генерал Корнилов».
Слащев попытался проникнуть на крейсер, но его не пустили. Ему сообщили, что главнокомандующий не сможет его принять из-за чрезвычайной занятости, а последние его пожелания Слащеву остаются в силе.
Дом, куда накануне своего отъезда на фронт он перевез из салон-вагона свою жену Нину Нечволодову, денщика Пантелея и всю живность, оказался пустым. Соседи сказали, что его личная охрана отвезла его жену и денщика в порт, а бесхозную живность они выпустили на волю.
В квартире было все перевернуто, видимо, собирались второпях. Среди брошенного и ненужного нашелся и его белый ментик, отороченный мехом. Где-то в заветных закромах разгромленной комнаты он отыскал пузырек с белым порошком-кокаином. Высыпал порцию между пальцев и одним вдохом втянул его в себя. Затем переоделся, натянул на себя ментик и в таком экзотическом виде пошел к Графской пристани.
Завидев его, редкие прохожие останавливались. Постепенно вокруг него собралась небольшая толпа. Все пытались поговорить с ним, выспросить у него их общее будущее.
Слащев охотно вступил в разговоры.
— Скажите, Яков Александрович, это конец?
— Ну что вы! Это только начало. Видите, сколько военных в порту? Я собираюсь с ними обо всем договориться. Мы высадим мощнейший десант в тылу у большевиков. Таких десантов ещё не знала военная история. Мы повернем события вспять. Да-да! Только бы мне не помешал главнокомандующий.
— Ну что вы, Яков Александрович! Генерал Врангель…
— Он трус! — Слащев не стал слушать говорившего. — Он предал Россию. И если такие, как я, не возьмут ситуацию в свои руки, мы действительно потеряем все.
И Слащев шел дальше.
В порту он попытался поговорить с солдатами. Но они не стали его слушать: волновались, торопились на погрузку.
Высланные Ниной Нечволодовой казаки из его охраны, которых Слащев оставил при беременной жене, сбились с ног, разыскивая его. Кутепов сообщил Нине, что Яков Александрович выехал в Севастополь и посоветовал искать его там.
Но его нигде не было.
Наконец появился первый след: соседи видели Слащева и рассказали о его экзотическом наряде.
Поиски облегчились. Человека в гусарском ментике видели прохожие.
Несколько кораблей, подбирали всех отставших от своих частей. Полностью загруженные пароходы отходили от причалов и бросали якорь на рейде, ожидая дальнейших команд. Ушел на рейд и пароход «Русь», где находилась Нина Нечволодова.
Слащева казаки нашли на опустевшем пирсе. Он продолжал бродить здесь, выискивая слушателей. Но им было вовсе не до разговоров с чудаком в гусарском ментике.
Наконец кто-то из казаков заметил одиноко стоящего на пирсе Слащева. Они подошли к нему.
— Ваше превосходительство, заканчивается посадка, — сказал кто-то из них. — Вот-вот отойдет последний корабль.
— Плевать! Это не имеет никакого значения, — сказал Слащев. — Я остаюсь с теми, кто не покидает Россию. Мы будем сражаться до конца.
Казаки понимающе переглянулись. Они знали: со Слащевым такая агрессия случалась после принятия излишней дозы кокаина. Тогда он становился упрямым, неуправляемым, критиковал всех и все.
— Но вас ждут, генерал. Начинается совещание, — решили схитрить казаки.
— Не желаю иметь с ними никаких дел! — решительно заявил Слащев.
— Но обсуждают вопрос обороны Крыма.
Что-то осмысленное промелькнуло в глазах Слащева.
— Где они, эти трусы, бегущие с тонущего корабля! — гневно воскликнул он. — Хочу посмотреть им в глаза! А главнокомандующий уже там?
— Все там. Ждут только вас.
Слащев позволил взять себя под руки и проводить на ледокол «Илья Муромец». Там ему сказали, что, к сожалению, совещание уже закончилось. Впрочем, Слащев на него уже не рвался. К нему подступило тяжелое кокаиновое похмелье.
— А где Нина? — капризно спросил он. — Почему ее нет?
— Она на «Твери». Вы скоро встретитесь, — успокоили его казаки.
Больше он никаких вопросов не задавал.
Его провели в пока еще пустующую каюту, уложили на койку, укрыли одеялом.
Врангель не забыл о Слащеве. Поинтересовался, где он? Ему рассказали. Главнокомандующий распорядился переправить Слащева на «Тверь» под наблюдение Нины Нечволодовой. С тех пор он больше никого не озадачивал до самого Константинополя.
Глава третья
Опоздавшие на погрузку и уже не вместившиеся на сверх меры загруженных кораблях, остатки Донского корпуса и Тереко-Астраханская бригада под командованием полковника Ковальского покинула пылающую Феодосию и пешком, верхом и на телегах, не делая даже коротких привалов, меньше, чем за двое суток прошли до Керчи. Лошадей не жалели, знали, что их все равно придется бросить.
В порту Керчи скопилось около тридцати тысяч солдат и беженцев. Но войска все прибывали.
Три транспорта — «Мечта», «Поти» и «Самара» — забрали всех. Но когда они покинули Керчь, в город пробилось ещё более десяти тысяч солдат. Они взволнованно толпились за портовой оградой, с надеждой и отчаянием вглядываясь в чистый морской горизонт.
Лишь под утро в Керчь прибыл посланный главнокомандующим ледокол «Гайдамак» и пароход «Русь». Они забрали всех, кто хотел покинуть Россию.
Когда «Гайдамак» и «Русь» покинули порт, на набережную стремительно влетела красная конница. Подскочили к самой воде. У кого-то из всадников сдали нервы, а возможно, из озорства, вскинул винтовку и выстрелил.
Капитан «Гайдамака» не оставил без ответа этот выстрел. Издалека до красноармейцев донесся протяжный и тоскливый басовитый гудок. И означал он прощание с Родиной.
* * *
В Евпаторию для посадки прибыло несколько маломерных судов, на них посадили все восемь тысяч человек желавших уехать. Старый начальник порта адмирал Клыков получил распоряжение не идти в Севастополь, чтобы дожидаться там отхода всей эскадры, а двигаться в Константинополь самостоятельно.
Повстанцы-махновцы вошли в город без единого выстрела.
* * *
Трудно проходила эвакуация из Ялты. Отступая, сюда с трудом пробилась уцелевшая часть корпуса Барбовича. Повинуясь приказу Врангеля «проявить максимальное благорасположение к генералу Барбовичу», ему отдали под погрузку самый большой, прибывший в Ялту, транспорт «Крым». Барбович, вопреки всем прежним приказам, не пожелал расставаться с конским составом, и со скандалом, с потасовками загрузил в транспорт не только три тысячи кавалеристов, но и их лошадей. Несколько часов понадобилось, чтобы Барбович отказался от этой своей безумной затеи. Беженцы и некоторые военные учреждения едва не остались на берегу. И все равно все не поместились. Паника прекратилась, лишь когда в Ялту прибыли еще несколько небольших судов. На них разместили всех желающих покинуть Россию.
* * *
Севастополь всегда обладал притягательной силой. Во время отступления сюда хлынуло значительно больше людей, чем первоначально рассчитывали ведавшие эвакуацией командующий Черноморским флотом адмирал Кедров и командующий армейским тыловым районом генерал Скалой. Для того чтобы вывезти всех, французы были вынуждены дополнительно зафрахтовать суда иностранных держав: Греции, Италии и Польши. Привлечены были даже баржи, которые большие суда брали на буксир.
Суда подходили на погрузку несвоевременно. В ожидании очередного транспорта у многих солдат и офицеров сдавали нервы. Некоторые из них, как сомнамбулы толкались в многолюдной толпе, ничего перед собой не видя. Их глаза были устремлены на горизонт. Поручик Чижевский прямо возле портовой ограды застрелил своего коня, а затем пустил пулю себе в лоб. Кто-то из более стойких где-то раздобыл металлический рупор и время от времени выкрикивал: «Господа! Умоляю, не стреляйтесь! Пароходы уже на подходе! Все уедем!»
Постепенно Севастополь пустел.
К полудню Врангелю доложили, что во всех портах погрузка солдат и беженцев полностью завершена.
Заканчивалась посадка и в Севастополе. Оставленные у причалов несколько кораблей предназначались для тех, кто пока ещё оборонял город. Они должны будут последними вернуться в порт и последними отплыть в море. Не погрузились на корабль и юнкера-сергиевцы. Им была доверена охрана порта и наблюдение за порядком при посадке на суда. Третьи сутки они ни на минуту не покидали порт.
Перед тем как судам навсегда покинуть Россию, Врангель попросил построить юнкеров на площади у Главного штаба.
Впервые за последние дни многие увидели бодрого, энергичного главнокомандующего. Каких усилий ему это стоило, знал только сам Врангель. Легкой походкой он вышел к юнкерам. Этот строй не был предусмотрен никаким церемониалом. Юнкера стояли молча, однако по-уставному «ели глазами начальство», устремив на главнокомандующего свои взоры. Печальный строй, однако, они держали четко, как на параде.
— Соотечественники! Друзья! Вся Российская армия, все те, кто решил покинуть Россию и вместе с нею разделить её тяготы, уже погрузились на корабли. Капитаны ждут команды покинуть родные берега, — негромко сказал он, но на площади стояла такая тишина, что если бы он заговорил даже шепотом, все услышали бы каждое его слово. — Хочу от всей души поблагодарить вас за службу. Вы недавно в армии, но уже успели познать все тяготы армейской службы. Вы с честью послужили России до самых последних её минут.
Отныне нашей России больше нет. Есть другая, советская Россия, чуждая и непонятная нам. Что будет с нею, как сложится её судьба, этого вам сегодня никто не сможет сказать.
Голос Врангеля дрогнул. Он смолк и неторопливо пошел вдоль строя, пристально вглядываясь в лица стоящих перед ним юнкеров. Он словно пытался запомнить каждого из них.
— Оставленная всем миром, обескровленная армия, боровшаяся не только за наше русское дело, но и за дело всего мира, покидает родную землю, — продолжил Врангель. — Но мы уходим с высоко поднятой головой, в сознании до конца выполненного долга. Мы сделали всё, что могли. И, я надеюсь, придет час, когда другие, а может быть, и вы, молодые, со временем поправите эту историческую ошибку, и полноправными хозяевами вернетесь на свою землю. Искренне верю в это!
Сняв свою корниловскую фуражку, он низко поклонился на все четыре стороны и неторопливо, не оглядываясь, пошел к причалу, где его ожидал катер. Спустя несколько минут он уже был на крейсере «Генерал Корнилов».
На борту крейсера разместились помимо штаба главнокомандующего также государственный банк со всей документацией, штабные офицеры, их семьи и семьи команды.
Вместе со всеми уезжал и епископ Вениамин. Он сопровождал икону «Знамение» Курскую Коренную. Побывав после новороссийской трагедии в Сербии, она на короткое время вернулась в Россию и вот снова уплывала в изгнание. И кто знал, суждено ли ей снова вернуться в Россию. Россия становилась безбожной: ни для кого не было секретом, что большевики взрывали церкви, жгли иконы, расстреливали священников.
В два часа дня «Адмирал Корнилов» направился к рейду, где уже собрались корабли, которые должны были идти вместе, единой эскадрой. Французский крейсер «Вальдек Руссо» произвел последний салют русскому флагу, развевающемуся на мачте «Адмирала Корнилова». Двадцать один залп прозвучал над опустевшим Севастополем.
Когда эскадра снялась с якорей и бесконечно длинным строем двинулась в море, в городе послышалась ружейная стрельба.
Сто двадцать шесть судов следовали в кильватере за «Генералом Корниловым». Они увозили сто сорок шесть тысяч россиян. Многие впоследствии ещё вернутся, а некоторые приживутся на чужбине, но навсегда сохранят в сердце память о своей покинутой родине.
* * *
Море было спокойное. Как последний привет, с моря в сторону Севастополя дул легкий бриз, волна была ленивая, добрая.
Врангель какое-то время стоял на верхней палубе и с печалью смотрел на уплывающий вдаль белокаменный город. Он мысленно перебирал в памяти события последних лет. Все было сделано не так. С себя он вину не снимал. Но у него уже не было шансов повернуть все вспять. А у Деникина…
Ах, Антон Иванович! Подсказывали тебе умные головы: прежде, чем идти на Москву, повернул бы свой взгляд на восток. Колчак в то время владел огромной и боеспособной армией. Сообща смели бы большевиков, а уж потом стали делить пироги. Побоялся стать у Верховного правителя России мальчиком на побегушках? Не захотел ни с кем делить славу? Но ее прежде надо добыть.
И он, Врангель, тоже советовал Деникину объединить свои силы с Колчаком и лишь потом идти на Москву. Но кто он был тогда, в мае девятнадцатого, когда Деникин начинал свой поход на Москву? Одним из немногих командующих в вооруженных силах Юга России. К тому же нелюбимый, хотя и удачливый командующий, часто споривший по самым разным поводам, что немало раздражало Деникина.
Вода за бортом крейсера пенилась и уплывала вдаль. Так и мысли, которые одолевали Врангеля. Они, как пена на воде: могло быть так — не могло быть так. Время не повернешь назад. Все кончено! И теперь надо, по возможности сохранив достоинство, до конца пройти этой тропой позора. Не он его виновник, точнее, не только он. Но пережить позор Господь определил, прежде всего, ему.
Только одно осталось ему в утешение: рано или поздно, при его жизни или позже, все вернется «на круги своя». Он любил древнюю китайскую мудрость: «Сиди на берегу реки, и Бог принесет к твоим ногам труп врага твоего». Время когда-нибудь смоет позор с его имени.
Чувство тяжелого одиночества охватило Врангеля. Он спустился с верхней палубы вниз, направился к судовой церкви, где уплывала на чужбину икона «Знамение» Курская Коренная. Она издревле считалась покровительницей войск и походов.
В узком сумеречном коридоре с нему подошел высокий седой мужчина в рабочей одежде, с лицом, изборожденным глубокими морщинами. Видимо, он давно ждал его здесь.
— Ваше превосходительство! — обратился он к Врангелю. — Дозвольте и мне приложиться к Коренной.
Врангелю не понравился этот разбойного вида человек, видимо, из обслуги судовой машины, не понравилась встреча в сумеречном коридоре, и напористая и подозрительная просьба войти в церковь.
— Будет время для команды, — отказал ему Врангель. — Помолитесь вместе со всеми.
— Мне бы сейчас, ваше превосходительство! — настойчиво повторил свою просьбу незнакомец. И с отчаянием в голосе объяснил: — Эта икона всю мою жизнь перевернула. Дозвольте!
— Что ж… — неуверенно произнес Врангель. И подумал: бывало и у него такое, вдруг возникала такая потребность помолиться, что он откладывал все свои важнейшие дела и шел в собор, чтобы постоять в благоговейной тишине, подумать, разобраться в себе, в своих тревогах и сомнениях. И всегда замечал: на душе светлело. — Ну что ж… Пройди! Звать-то тебя как?
— Василием… Уфимцев Василий, помощник машиниста. Сам я курский. И она тоже.
— Должно, и прежде, там, в Курске посещал её в храме? — спросил Врангель.
— Случалось.
— Ну, идем.
Они вошли в маленькую и тесную, без иллюминаторов, судовую церковь. Перед иконостасом теплилось несколько свечей, а на аналое лежала икона «Знамение» Божьей Матери, Курская Коренная. Российская святыня.
Василий остался на пороге, ожидая, когда помолится Врангель и разрешит пройти к иконе и ему.
Было тихо, лишь угадывалось, как в бронированные бока крейсера бьет легкая волна и детскими голосами покрикивали носящиеся над эскадрой чайки. Врангель склонился к аналою, припал к иконе и стал почти беззвучно (хотя Василий слышал каждое его слово) молиться:
— Святая Матерь Божья! Спаси и сохрани Россию. Не дай сгинуть ей в темени смут и раздоров и погрязнуть в безбожии. Сохрани людей, ведомых мною и поверивших в меня. Веди нас своею рукою. Помоги обрести нам новую родину или вернуться в прежнюю. Только это прошу… Для себя ничего… Со смирением приму все посланные мне испытания.
Завершив молитву, Врангель прошел к двери и посторонился, уступая путь к иконе Василию.
— Иди. Приложись.
И Василий несмело, ступая на одних носках, приблизился к Коренной, но не приложился к ней, а лишь склонился над ее ликом и с нечеловеческой тоской в голосе не прошептал, а словно бы сдавленным голосом прокричал:
— Прости меня, Матерь Божья! Прости! Не ведал, что творю! Каюсь! Прости! — и торопливо, не перекрестив лба, пошел к выходу из церкви.
Когда они вышли в коридор, Врангель сказал:
— Не хочешь, не говори. Что за камень давит твою душу? Должно быть, большой грех носишь ты в себе, коль не нашел других слов, кроме: прости!
— Вина моя большая, но глупая. И не для человеческого уха, не смею никому рассказать, — сказал Василий.
— Обратись к владыке, исповедуйся.
— Проклянет.
Это уже заинтересовало Врангеля, он попросил:
— Расскажи. Может, полегчает?
Василий промолчал.
Врангель понял: он не хочет рассказывать о своем грехе. Может, убийство? Или разбой? Не стал больше настаивать. Поднялся на палубу. Василий последовал за ним.
Вдали, на самом горизонте, виднелся, освещенный солнцем удаляющийся Севастополь. Он уже выглядел не городом, а лишь белоснежной зубчатой полосой.
Василий остановился возле Врангеля. Молчал. Врангель понял, Василию хочется облегчить свою душу, но и не решался открыться. Не знал, как отзовется генерал на тайну его греха.
— Давно это случилось. В молодости, — решившись, внезапно заговорил Василий. — Прельстили меня большевики. Сильные, смелые. Против царя разговоры вели. Светлую жизнь обещали: коммунизмом называется. Одно только мне в голову не укладывалось: а как же будут люди жить без Бога. И подумал: а может, большевики никого не обманывают? А может, его и в самом деле, нет? Ночами не спал, всё в голове перевернулось. А ответа ни у кого не мог получить. Один ответ был у большевиков: Бога придумали те, кто хочет владеть миром. Бог — это выдумка, сказка.
Рассказывал Василий тихим ровным голосом. Чувствовалось, давние думы пересказывал. И поныне они все еще тревожили его.
Врангель молча слушал.
— К нам в Курск привезли икону «Знамение», поместили в храме Святого Николая. Народу шло к ней тьма-тьмущая. По темноте своей и по молодости мы с дружком моим Левкой Коганом решили проверить, есть ли Бог или его нет. Придумали: взорвем храм. Если икона сгинет в руинах, то никакая она не святая. И ведь взорвали. С динамитом тогда недостатка не было. Заложили по пуду в пяти углах. Три дня трудились. От храма ничего не осталось — гора кирпичей. А когда разобрали развалины, нашли икону. Верите или нет, ни трещины на ней, ни царапины. Такая вот история.
Василий немного помолчал, потом добавил:
— И свет не перевернулся, и солнце не погасло. Стали понемногу забывать об этом. На Ленина молились. А тут — на тебе! Дружка моего Левку молнией убило. И дождь был почти никакой. Так, покапало. Один раз гром прогремел. Левка в поле был. Насмерть… На икону тогда посмотреть не мог, боялся. Потом, позднее, стал в церковь ходить, свечи ставил, каялся, прошения за грех свой у Божьей Матери просил. А исповедаться никому не решился. Вам первому рассказываю.
— На крейсере как оказался? — спросил Врангель.
— Из Курска сбежал, на флот подался. Подальше от своего греха. А тут вдруг узнаю: она у нас на крейсере…
И ещё раз, после долгого молчания, сказал:
— Подумал, что смерть за мной явилась. А ну, как Господь из-за меня наш крейсер потопит? Сколько невинных пострадает.
Врангель смутно припомнил: ему рассказывали, как пьяные большевики взорвали в Курске храм. Так они решили бороться с религиозным дурманом.
А оказывается, все было не так просто. Перед ним стоял один из тех, кто совершил этот варварский поступок. Запутавшийся человек, ищущий свою правду в этом сложном противоречивом мире. Виноват ли он? И кто виноват в его бессмысленном злодеянии?
Глядя на убегавшие за кормой буруны, не оборачиваясь к Василию, Врангель сказал:
— Молись. Господь милостив, простит.
Василий ещё какое-то время ждал, что Врангель продолжит, но тот больше не проронил ни слова.
— Простите, ваше превосходительство, за такую правду, — со вздохом сказал Василий. — Сколько живу, все об этом думаю. Молюсь. Каюсь. А признаться никому не могу. А вот вам рассказал, даже не знаю почему. И вроде как на душе стало легче…
И он тихо ушел.
Врангель остался один. Он оглядел растянувшийся до самого горизонта строй судов, следующих за «Генералом Корниловым». А дальше за мягкой синевой скрывалась земля. Уже почти был невидим, скорее угадывался вдали Севастополь. Ещё совсем немного, и эта белая черточка скроется за горизонтом.
— Господи, что оставили мы там, в России? Сердце? Душу? — с отчаянием в голосе прошептал начальник штаба генерал Шатилов. Врангель не заметил, когда он подошел к нему и сколько времени они стояли так, молча рядом.
— Кресты! — ответил Врангель и спустя какое-то время снова задумчиво повторил: — Да! Кресты!
Глава четвертая
Они два дня прожили у путейцев. Мимо них время от времени проходили небольшие и сильно потрепанные в недавних боях группки солдат и офицеров. Всего боялись. Бесплотными тенями проскальзывали они мимо стана путейцев и торопливо шли дальше, опасаясь опоздать в Феодосию на погрузку.
На третий день это движение прекратилось, Кольцов понял: Феодосию белогвардейцы уже покинули. Пора!
Где-то после полудня за Ислам-Тереком они обогнали колонну пленных белогвардейцев, человек около ста. Их сопровождали шестеро красноармейцев. Пленные с интересом рассматривали пулеметные тачанки и едущих в них людей. Лица пленных в основном были молодые и не замутненные злобой. Крестьянские и рабочие парни и средних лет мужики — последняя мобилизация генерала Врангеля. Они переговаривались между собой, улыбались. Видимо, спали в тепле и были накормлены.
— Куда их? — спросил Гольдман, когда тачанка поравнялась с тощеньким конопушным красноармейцем-охранником, почти мальчишкой.
— В Феодосию, на регистрацию. По селам насбирали.
— В Феодосии уже наши?
— А кто его знает. Велели — в Феодосию.
— Не боитесь, не сбегут? — смерив мальчишку взглядом, спросил Гольдман
Вместо охранника ответил один из пленных, коренастый, седой, по выправке, похоже, офицер:
— Хотели бы, ушли с Врангелем.
— Что ж остались? Не успели?
Седой ожег Гольдмана недобрым взглядом:
— Вам этого не понять, — ответил он и отвернулся. И больше не взглянул в их сторону.
Солнце ещё не свалилось за горизонт, когда отряд Кольцова въехал во Владиславовку, узловую станцию, откуда одна железнодорожная ветка уходила в Керчь, а другая, совсем короткая, в — Феодосию.
При въезде во Владиславовку они встретили красноармейский патруль и выяснили, что Феодосию уже двое суток назад покинули корабли Врангеля, а Керчь пока ещё в руках белых. Но это не точно. Возможно, что и Керчь белогвардейцы покинут к сегодняшнему вечеру.
Хотели проехать Владиславовку сквозняком, и ночью уже были бы в Феодосии. Но опытный и поднаторевший в бытовых передрягах Гольдман ворчливо сказал:
— Не понимаю. Нас кто-то ждет в Феодосии?
Кольцов промолчал.
— Понял, — сказал ему Гольдман. — У меня там тоже ни сестры, ни брата. Куда торопиться? — И пояснил: — Феодосия забита войсками. Там и Тридцатая стрелковая дивизия и, кажется, Девятая. Скажите, кому среди ночи захочется нами заниматься, устраивать на ночлег?
— Вы говорите так, будто нас кто-то ждет здесь, — лениво не согласился Кольцов. Но перспектива еще несколько часов трястись в тачанке ему тоже не очень улыбалась.
— Светло. Еще сумеем где-нибудь прилично устроиться, — настаивал на своем Гольдман.
Выяснив у красноармейцев, где находится комендатура, они поехали по Владиславовке. Долго плутали по широко разросшемуся, но нескладному, похожему на лабиринт, поселку.
Еще совсем недавно, менее тридцати лет назад, это было маленькое, забытое Богом и людьми село, в основном населенное магометанами. Свое название оно приобрело в то время, когда от Харьковско-Севастопольской железной дороги протянули ветку на Феодосию и Керчь. Тогда сюда приехало много православных переселенцев из Левобережной Украины неведомых до сих пор, но нужных здесь профессий: путейцев, металлистов, инженеров.
На телеграфных столбах, на фасадах домов Кольцов заметил голубенькие бумажные квадратики со знакомым текстом о регистрации всех, кто служил в войсках барона Врангеля — привет от Куна и Землячки. И свидетельство того, что советская власть уже утверждается и здесь.
С помощью редких прохожих они отыскали двухэтажный кирпичный дом, над входом в который красной краской на фанере было выведено «Комендатура». Другой краски во Владиславовке, видимо, не нашлось. Еще совсем недавно это здание занимала какая-то торговая контора и как будто его специально спланировали для комендатуры. Здесь были большие кабинеты и совсем маленькие, зарешеченная комната с двумя вмонтированными в стену бронированными сейфами, и даже несколько комнат без окон, которые новые хозяева тут же приспособили для арестованных. Их, правда, пока еще не было.
Кольцов спросил у дежурного по комендатуре:
— Простите, а где у вас начальство?
— А у нас тут, почитай, все кругом — начальство. Окромя охраны, — флегматично ответил дежурный. — Если можно, позвольте посмотреть на ваши документы.
Бегло взглянув на удостоверение Кольцова, дежурный словно стряхнул с себя сонливость, торопливо вышел из-за перегородки.
— Пожалуйте на второй этаж. Тамочки оно все, и наше, владиславовское, и которые приезжие, из Судака.
Кольцов и Гольдман поднялись по крутой скрипучей деревянной лестнице наверх и уже в коридоре столкнулись с маленьким круглым морячком Иваном Папаниным. Это он с небольшим отрядом партизан спустился с гор и на катерах высадился в Судаке, который к тому времени уже оставили белогвардейцы. Решив развить свой успех, он наведался в Феодосию. И тоже опоздал. Там уже хозяйничала Тридцатая стрелковая начдива Грязнова.
Увидев незнакомых людей, Папанин напустил на себя строгий вид, коротко спросил:
— Кто такие? Документы!
Кольцов вновь предъявил свое удостоверение. Папанин долго его изучал.
— Извините за излишнюю бдительность. У нас тут по побережью бандочка гуляет, прошел слух: выдает себя за чекистов. — И, ещё раз взглянув на удостоверение, потом на Кольцова, спросил: — Так вы и есть Кольцов?
— А вы бы тоже, товарищ, представились, — вместо ответа недружелюбно сказал Кольцов.
— Извиняюсь, Папанин, командир особого партизанского отряда. Сюда вчера залетели, надеялись банду накрыть.
— И что же?
— Не получилось пока. Хитрая банда. Она еще при белых объявилась.
— А комендант? — спросил Кольцов.
— Кожемякин? В Феодосию поехал. Скоро вернется. — И Папанин вновь вернулся к прежнему разговору: — Кольцов! Слыхал про вас. Может, однофамильцы? Мне про него такие легенды рассказывали! А может, это вы у Ковалевского в адъютантах были?
— Был такой грех.
— Стойте здесь. Я сейчас, — и Папанин мячиком покатился по коридору. Заглянул в несколько комнат. В одной задержался подольше. И вышел оттуда с человеком, которого Кольцов узнал ещё издали по особой, только ему присущей раскачивающейся походке. Это был Красильников.
Оставив Гольдмана стоять посредине коридора, он торопливо направился навстречу Красильникову. Тот тоже ещё издали узнал Кольцова. Не говоря друг другу ни слова, они обнялись и молча долго стояли так, дружески похлопывая друг друга по спине.
— Ну, Семен! Вот это подарок! — высвободившись из крепких объятий Красильникова, радостно приговаривал Кольцов, разглядывая своего давнего друга. — Часто вспоминал. Думал: жив ли?
— Я тебя тоже. Как только спустился с гор, стал искать. Раньше возможности не было. Кто-то сказал, будто ты махновцами верховодишь.
— Ими поверховодишь! Не тот народ! — улыбнулся Кольцов и объяснил: — Наблюдателем в махновской Повстанческой армии был от Южного фронта.
— Я так и подумал. Собирался, как только выдастся минута, рвану в Особый отдел фронта. Там мне наверняка бы сказали, жив ли, где сейчас?
Перебивая друг друга, они торопились высказать всё, что передумалось, наболело за долгое время разлуки.
— А я в Евпаторию на свободе хотел поехать, — сказал Кольцов. — Помнится, вроде там у тебя семья?
— Не нашел бы! Точный адрес никому не говорил. Мало ли что…
— Конспиратор.
— И это… Теперь вместе туда поедем. До детишков моих, до семьи. Они, верно, там. Только не в самой Евпатории, а неподалеку, в татарском ауле Донузлав. Я там полжизни прожил.
А Иван Папанин ходил вокруг них и радостно приговаривал:
— Ну, молодцы! Ну, надо же! А он мне всё: «Кольцов, Кольцов». А я ещё подумал: не такой Ковалевский дурак, чтоб на такую наживку пойматься. У него разведка и контрразведка. Враз бы всё вычислили. А выходит…
— А выходит — дурак, — добродушно сказал Красильников.
Потом они спустились на первый этаж, где уже вторую ночь занимали комнату Папанин и Красильников. Сюда хотели поставить два топчана для Кольцова и Гольдмана. Но Гольдман запротестовал:
— Я — с Бушкиным. А вы тут, повспоминайте. У вас есть что вспомнить.
В соседнем здании, бывшем доме купца Харитонова, нашлось место для Гольдмана и Бушкина, а также для всех членов отряда Кольцова. Там же, в добротном сарае, который совсем недавно служил гаражом для харитоновского автомобиля марки «Остин», разместили лошадей. Пулеметы на всякий случай закатили в свое жилище.
Поначалу Кольцов, Красильников и Папанин сидели в комнате втроем. Кольцов и Красильников вспоминали друзей и знакомых, живых и погибших. Папанин сидел в уголочке на своем топчане, слушал, но в разговор не вмешивался. Понимал, что для них это святые минуты.
Потом из Феодосии вернулся комендант Владиславовки Кожемякин. Папанин познакомил его с Кольцовым. Кожемякин куда-то на минуту вышел и вернулся не с пустыми руками. Он вкусно поставил на стол две бутылки вина из чьих-то графских погребов.
— Извините, что недокомплект, — сказал он. — До такого вина полагались бы фрукты, но на них не сезон, — и уже к стоящему на столе вину добавил кулечек сахара, четвертинку буханки хлеба, три вяленых рыбины и завернутый в холстину кусок сала.
Выпили по полкружки вина, закусили рыбой и салом. Поговорили о Феодосии, где прошлой ночью какая-то банда проникла в музей Айвазовского, но ее спугнули, и все обошлось без потерь.
— Тут одна интересная банда по побережью Крыма мотается. Она еще до прихода наших войск здесь объявилась, — сказал Кожемякин.
— Чем интересная? — спросил Кольцов.
— Она главным образом по сейфам специализируется. Крымские богачи надеялись вскоре вернуться, кое-что в сейфы припрятали. А эти «медвежатники» сейфы уродуют. Лом и кувалда — их главный инструмент.
Узнав, что еще совсем недавно Кольцов был у махновцев, Кожемякин неожиданно проявил к ним большой интерес: как воевали, где сейчас?
— Чем объяснить ваше любопытство? — спросил Кольцов.
— Брат мой где-то там у них. Иван Кожемякин. Может, видели его или что слышали? Жив ли?
— Про него ничего сказать не могу. А воевали они хорошо, сам убедился, — коротко ответил Кольцов и добавил: — Сейчас, по моим сведениям, они в Евпатории или где-то поблизости. Если, конечно, не вернулись обратно к себе, в Гуляйполе.
— И как по-вашему, какое у них будущее? Я к тому, что конфликты с большевиками у них были. Простят ли? Не станут ли мстить? — спросил Кожемякин.
— Если вы заметили, большие, крепко стоящие на ногах люди, как правило, доброжелательные и великодушные, — сказал Кольцов. — Россия тоже большая и тоже, надеюсь, великодушная. Война кончилась. Кому мстить? И зачем? — и бодро добавил: — Будем жить! И, как в той сказке: и добро наживать.
Как бы исчерпав общие, интересующие всех темы, Кожемякин предложил Папанину:
— Идем ко мне, Ванюша! Может, удастся какой часок поспать. А им, — он кивнул на Кольцова и Красильникова, — им не до сна. Им небось хочется без свидетелей старое вспомнить и о будущем поразмыслить.
После того как они остались одни, Красильников предложил:
— А и вправду, давай чуток повспоминаем. Наверное, ты знаешь что-то такое, чего не знаю я. К примеру, жив ли Старцев?
— Жив и здоров. Он по-прежнему в Харькове.
И Кольцов подробно рассказал Красильникову о работе Старцева в Гохране. А это потянуло за собой воспоминание о неудаче Старцева в Париже. Рассказал о своей поездке во Францию Ивану Платоновичу на выручку.
Воспоминания сродни спутанному клубку ниток: потянешь за одну, а она вдруг оборвалась. А иная — бесконечная, с массой узелков, которые неторопливо развязываются. И вот у тебя в руках уже две, три нитки — только тяни, только развязывай!
Рассказывая о своей поездке в Париж, Кольцов не мог не вспомнить Фролова. И пошел новый рассказ об удивительном повороте в жизни их общего давнего друга. Из чекистов он вынужденно, по велению партии большевиков, стал банкиром, работал в Турции и Англии, а в последние месяцы переселился в Париж, совладеет одной из крупных банкирских контор.
Следом возникла еще одна ниточка, еще одно воспоминание — о человеке, который сыграл важную роль во время поездки Кольцова в Париж. Он рассказал все, что знал и помнил о графе Юзефе Красовском (он же румынский барон Гекулеску). На самом же деле, если ему верить, он был обнищавшим русским дворянином Юрием Александровичем Мироновым. Это был уникальный экземпляр в коллекции персонажей, с которыми сводила Кольцова жизнь. Его бы показывать в цирке: единственный в России дворянин, который зарабатывал себе на кусок хлеба малопочтенной профессией «медвежатника» и другими головоломными аферами. Он даже ухитрился продать Эйфелеву башню: один раз богатому шейху, а второй раз — американскому миллионеру. Ни один из пострадавших обращаться в суд не стал.
Потом Красильников вспомнил о дочери Старцева Наташе.
— Она тоже в Харькове?
— Ее нет в России. Уехала. Влюбилась во врангелевского офицера и уехала. Кажется, в Аргентину или в Мексику.
— Во, рыбья холера, как жизнь все перекручивает, — вздохнул Красильников. — Последний раз я видел ее в горах. Она ехала в сопровождении офицерика. Сказала, что это наш человек. Я, старый дурень, ей поверил, а мог бы спасти.
— И хорошо, что не спас. А она своей ложью спасала не офицера, а своего возлюбленного. Ты не злобись на нее, Семен Алексеевич. Это — любовь. Он — полковник, артиллерист. Фамилия, насколько помню, Барсук-Нездвецкий.
— Дожились! — горестно вздохнул Красильников. — Эх, Натаха, Натаха! А я уж, грешным делом, мечтал: кончится война, и выдам я ее замуж за хорошего парня, смелого, умного, лихого чекиста!
— И кого же ты ей присмотрел? — с легкой иронией в голосе спросил Кольцов.
— Тебя. Ты ей всеми статьями подходишь. И она тебе… Эх!
— Не огорчайся, Семен Алексеевич. Она счастлива, и это — главное. Всей своей жизнью, опасной работой в подполье она заслужила свое женское счастье.
— Но ведь белый офицер, Паша! — не принял доводы Кольцова Красильников. — Заклятый наш враг!
— Кончилась война, Семен! Все! Другое время. Нет больше белых и красных. Есть просто люди. Хорошие и плохие.
— Не согласный я с твоей философией! Париж на тебя, что ли, так повлиял? — И, слегка пристукнув кулаком по столу, он твердо произнес: — Нет, Паша! Были красные и были белые! И были они нам кровными врагами. Из памяти это не вычеркнешь.
— Но я не хочу жить в том мире, где будут белые и красные. Это будет мир злобы и ненависти, — спокойно сказал Кольцов.
— А что? Простить? — рассерженно крикнул Красильников. Кольцов никогда не видел его таким. Он даже не мог предположить, что в душе этого тихого, покладистого и даже слегка флегматичного человека бушуют такие страсти.
— Нет, конечно. Прямых виновников войны не так много. С этими действительно надо разобраться. Кто этого заслуживает, наказать. А остальных — да, простить. Самое страшное, если мы разделим людей по цветам и стравим их друг с другом. Мы свалимся в Средневековье, в мракобесие. Подумай об этом, пожалуйста, и пойми.
— Ага! Понять и простить?
— Да! Понять и простить!
— Я подумаю, — миролюбиво пообещал Красильников, поняв, что спор переходит в ссору. А она не нужна ни ему, ни Кольцову.
Потом вспомнили о Юре. Кольцов ничего о нем не знал, Красильников тоже. Жив ли? Где находится? Чью сторону принял? Его неокрепшую душу еще можно было легко повернуть в любую сторону.
Красильников сказал, что от кого-то слышал, будто у Климова в авиаотряде летал мальчишка лет пятнадцати. Его чуть не сбили. И лично сам Фрунзе запретил ему летать на боевые задания.
— Я уверен, это Юрка, — сказал Красильников.
— В Каче его надо искать, у дядьки. Если, конечно, его дядька не бежал с Врангелем. Мог и Юру с собой забрать, — задумчиво сказал Кольцов.
— Не, Юрка не такой! — не согласился Красильников. — Я уверен, он у Климова!
Ночь тихо приближалась к рассвету, а они все продолжали говорить. Вспомнили всех, кого когда-то знали, и чья судьба была им интересна.
Лишь одно табу Красильников не нарушил: ничего не спросил у Кольцова о Тане Щукиной. Он знал о их любви и не одобрял Павла. Понимал, дело слишком личное. Захочет, сам расскажет.
Безмятежную рассветную тишину взорвала винтовочная пальба. Стреляли неподалеку. Это было похоже на короткую стычку: десятка полтора выстрелов, и тишина.
Но комендатура зашевелилась. Кто-то сбежал по лестнице вниз, носились взад-вперед по узкому коридору красноармейцы.
Кольцов и Красильников тоже оделись.
Папанин широко распахнул их дверь, схватил с вечера забытую здесь кожанку и тут же выскочил. Кольцов и Красильников устремились за ним.
Во дворе стояли несколько грузовиков, они освещали фарами небольшое дворовое пространство, в котором мелькали красноармейцы. А посредине всей этой суеты, стоял Кожемякин и как дирижер размахивал руками.
— Гусев со своими — на Феодосийскую дорогу! Харченко — на Керченскую! Четвертый взвод — со мной, в имение Свечникова!
Заметив во дворе Кольцова, он сказал:
— Вы бы, товарищ Кольцов, досыпали! С дороги все-таки! Да и незачем вам туда! Ничего интересного!
— Посмотрю на неинтересное.
— Залезайте в кабину!
Интересного, и правда, было мало. Они ехали каких-то минут пять, въехали в узкую аллею и вскоре остановились перед массивным двухэтажным домом в русском купеческом стиле: с двумя, похожими на бочонки, колоннами по обеим сторонам парадного входа.
На ступенях лежал красноармеец. Шинель у его плеча была пропитана кровью.
Увидев Кожемякина, красноармеец попытался приподняться, но не смог. Ему помогли, усадили.
— Что у тебя, Чугай? — на бегу спросил Кожемякин.
— Рука! Поглядите, Степан Матвеевич, есть у меня рука?
— Рука на месте. Сейчас санитары подъедут!
— Узнайте, шо там с Ленькой Саморядом? — Чугай указал глазами на входную дверь в дом. — Мы им двери не открывали. Они, гады, через окно.
Два окна с тыла дома, и верно, были выбиты, сломанные рамы валялись на вытоптанном снегу. Отсюда, похоже, бандиты и забрались в дом.
Мертвый Ленька Саморяд лежал в луже крови в коридоре второго этажа. Кровавый след тянулся в комнату без окон, где на полу валялись два тяжелых бронированных сейфа. Когда принесли фонарь, стало ясно, что Леньку убили в комнате с сейфами, а затем, чтобы тело не мешало, вытащили его в коридор.
В глухой комнате был полный разгром. Вмурованные сейфы были выворочены из стен и лежали на полу. По ним, судя но вмятинам в металле, долго били ломом или молотом. Они были покалеченные, но замки грабителям не поддались. Чем-то испуганные, они не успели закончить свое дело и бежали.
Кожемякин вернулся к Чугаю. Его обступили красноармейцы и, не дожидаясь приезда санитаров, сняли с него мокрую от крови шинель и, как умели, стали перевязывать.
— Ну что у него? — спросил Кожемякин.
— В руку возле плеча. Кость вроде не задета, — ответил пожилой красноармеец, перевязывая найденным в доме полотенцем раненую руку. — В крови все, не поймешь. Но, похоже, повезло.
— Ты хоть видел их, Серёга? — спросил Кожемякин.
— Четверо или пятеро. Мимо пробегали. Я там, за лестницей сховався, — морщась от боли, ответил Чугай. — В одного стрельнул. Не знаю, может, попал? Посмотрите там, в хате, возле окна.
— Никого не разглядел? Ну, может, хоть какие-то приметы запомнил?
— Та как их разглядишь! В хате тёмно, а они все в черном.
Когда совсем рассвело, они обнаружили на первом этаже возле окна капли крови. И во дворе, среди перемешанного убегающими бандитами снега, обнаружили редкие кровавые пятна.
У дороги на задворках имения, среди вытоптанного снега, они нашли бумажную обертку от ваты. Кровавые следы исчезли. Здесь бандиты сели на коней и умчались из Владиславовки.
* * *
Уже в комендатуре, в кабинете Кожемякина, они восстановили картину происшедшего.
Поняв, что входная дверь заперта и без шума её не открыть, бандиты влезли в дом через окно. Чугай находился внизу, Саморяд — на втором этаже. Что дом охраняется, бандиты не знали. Услышав шум, Чугай спрятался под лестницей. Не увидев его, бандиты пробежали на второй этаж. Примерную планировку дома они знали, дом Свечникова почти ничем не отличался от других купеческих домов, и они сразу направились к сейфам. Там они обнаружили Саморяда и тихо, ножом, расправились с ним. До Чугая сверху стал доноситься грохот: бандиты выламывали сейфы из стены, затем пытались взломать замки.
Чугай стоял под лестницей в темноте, размышляя над тем, как незаметно и бесшумно выскользнуть на улицу и поднять тревогу. Напротив него вдали виднелось сереющее в предрассветных сумерках окно.
Вопрос, что понадобилось одному из бандитов искать в темноте на первом этаже, так и остался без ответа. Может, искал ключи от входной двери или что-то другое? Бандит кружил неподалеку от Чугая. Чугай на короткое время увидел его силуэт в окне, выстрелил и, выскользнув во двор, снаружи запер дверь.
Гулкий выстрел, раздавшийся внутри дома, напугал бандитов. Бросив на полу свой инструмент, они посыпались через выбитое окно на улицу. Теперь Чугай их хорошо видел. Подняв винтовку, он выстрелил вслед убегающим бандитам, но, вероятно, не попал. Бандиты огрызнулись, но стреляли не прицельно, скорее от страха.
Отставший от остальных, видимо, раненый Чугаем, бандит обернулся и тоже выстрелил. Просто так выстрелил, в Божий свет, как в копеечку. Но пуля-дура нашла свою цель, попала в Чугая.
Проанализировав все, после продолжительной паузы, Папанин сказал:
— Поразительный факт. Опять — ничего. Никаких зацепок.
— Может, это не одна банда?
— Почерк ее. В Новом Крыму, под Феодосией, устроили полный разгром. На даче археолога Саватеева ломом продолбили стену, а опустошили только один примитивный сейф, унесли коллекцию античных монет. У князя Голицына в Новом Свете бронированный сейф ломом изуродовали. Через день повторили попытку и опять ушли ни с чем.
— Может, и до нас еще придут? — спросил Кожемякин.
— У них спроси, — сказал Папанин.
— И спрошу, — пообещал Кожемякин,— Поймаем, я про все у них спрошу
— Сперва поймай, — и Папанин продолжил: — И, заметьте, охотятся только за драгоценностями. Даже ценное, но габаритное, не берут. Как по-вашему, что это значит?
— Понятно: легче вывезти. И там, за границей, легче сбыть, — сказал Кольцов.
— И я так подумал, — согласился Папанин и устремил свой взгляд на Кольцова. — Вот вы, товарищ Кольцов. У вас опыт. Что бы вы предприняли в этом случае? Ну, в смысле, как вы думаете, на какой крючок их бы можно подловить?
— Не знаю, — чистосердечно сознался Кольцов. — В этих делах у меня опыта никакого.
— И все же? — допытывался Папанин.
— Думаю, надо охранять все брошенные господами особняки и постепенно вывезти из них все ценности. И мародерство прекратится. Во всяком случае, эта банда самоликвидируется или уйдет туда, где еще можно чем-то поживиться.
— Это понятно, — сказал Кожемякин. — А вот как именно ее выловить? Очень мне хочется ее наказать за такую наглость.
— Для этого надо знать, что это за банда, — продолжил размышлять Кольцов. — Где-то же они ночуют, едят, держат коней. Ездят по тем же дорогам, что и вы. Вероятно, вы даже встречаетесь с ними. Возможно, у них даже есть какие-то документы.
— А если ввести спецпропуска? — предложил Красильников.
— На это уйдет время. А его нет, — сказал Кольцов. — Они могут в любой день со всем награбленным покинуть Крым.
— Я полагаю, без хорошей добычи они не сбегут, — не согласился Папанин. — Каждую ночь выезжают на промысел. Часто — неудачно. Возвращаются туда снова и снова. Оставляли засады — не приходят. Словно их кто-то предупреждает.
— Вполне возможно, — сказал Кольцов,— Если это так, у них у первых появятся эти пропуска.
— Так что же все-таки делать? — спросил Папанин.
— Думать.
* * *
Ночью Кольцов тупо смотрел в потолок — не спалось. Несколько раз просыпался Красильников, ворчливо спрашивал:
— Чего не спишь?
— Ехать в Феодосию надо.
— Не торопись. Подмогни хлопцам. Все ж таки у тебя опыта поболее.
— Там дела.
— И это дело тоже тебя касаемо.
— Всех нас.
— Я и говорю: и тебя тоже.
Помолчали. Красильников поворочался, сказал:
— Ты спи.
— Не спится. Думаю.
— Барское занятие. Завтра будешь, как побитая собака.
Кольцов ничего не ответил. Продолжил изучать потолок. Красильников снова уснул. А Кольцов, полежав еще с полчаса, тихо встал, прошел по коридору, заглянул в комнату, где спали Папанин и Кожемякин. Разбудил Кожемякина. И когда тот вышел в коридор, Кольцов отвел его в дальний угол, спросил:
— Можешь связать меня с Харьковом?
— Вот так сразу? — удивился Кожемякин.
— Вот так сразу, — подтвердил Кольцов.
— Может, подождешь до утра? — с надеждой спросил Кожемякин. — Люди спят.
— Разбудим.
— Подожди, оденусь.
На станции они прошли на узел связи. Городок был в глубоком сне. Не брехали собаки. Лишь где-то на дальних путях, подчеркивая предрассветную тишину, время от времени сиротливо и одиноко покрикивала маневровая «кукушка».
Им долго никто не открывал. И лишь когда Кожемякин сердито назвал себя, прогремели засовы и на пороге встал заспанный дежурный.
— До утра ничего не ожидается, — опередив вопросы, доложил Кожемякину дежурный.
— Дорогу починили? — спросил Кожемякин.
— Вроде. Днем товарняк с Джанкоя пришел.
— А скажи, дружок, можешь меня с Харьковом связать?
— Так ночь же, — не понял дежурный.
— А мне ночью и нужно. Сумеешь?
— Постараюсь, — зевнул дежурный. — Только через Феодосию не получится. Попробую через нашу, путейскую.
— Ты не пробуй. Ты смоги, — нахмурился Кожемякин и мягким голосом добавил: — Очень нужно.
Дежурный присел к столу, уставленному серыми металлическими ящиками, защелкал тумблерами. И ящики стали оживать, загудели, засветились разноцветными огоньками.
Кожемякин и Кольцов присели на скамейку и с интересом молча наблюдали.
— Джанкой! Отзовись, Джанкой! Что, разбудил?… Да пришли твои товарняки, уже в Феодосии. Ты вот что: ты дай мне, пожалуйста, Александровск.
Даже на расстоянии они слышали доносящееся из трубки звучание эфира: писк, обрывки морзянки, искаженные расстоянием приглушенные голоса, требующие со второго кого-то переместить на четвертый путь, потому что… Но почему, они так и не услышали. Сквозь все эти шумы пробился грубый мужской голос:
— Кому там не спится? Ты, Джанкой?
— Владиславовка!
— Серафим?
— А то кто ж еще! — обрадовался владиславовский дежурный. — Слушай, Степан! Мне бы Павлоград!… Ничего, проснутся! У нас работа такая!… Павлоград? Спал, Коляня?… А нам не до сна! Удружи, дай мне Харьков!
Вскоре отозвался Харьков. На просьбу соединить с УкрЧК Харьков заупрямился. Какой-то полусонный железнодорожный чин стал доказывать, что по инструкции он не может занимать связь неслужебными разговорами и категорически запрещено включаться в городскую линию.
Кольцов понял, что сейчас все труды дежурного пойдут на смарку и протянул руку за трубкой:
— Дай-ка, я ему пару слов скажу! — И затем в трубку Кольцов сказал: — Харьков! Слушай меня внимательно! Делай, что тебе сказали!… Кто я? Запиши! Обеспечивал связь полномочному представителю ВЧК Кольцову. Там ответит дежурный. Попроси его срочно разыскать Манцева! И быстро! Доспишь потом!
Минут через пять отозвался Манцев.
— Василий Николавевич! Это Кольцов, звоню из Владиславовки! Большая просьба! Крайне важно! Пошлите сейчас же кого-то в Основу, там детская коммуна Заболотного. У него работает человек по фамилии Миронов. Так вот этот Миронов завтра должен быть здесь, у меня. Запишите: Миронов, Владиславовка… Потом все подробно расскажу. И главное! Этот Миронов должен выехать ко мне со всеми своими инструментами для починки и вскрытия сейфовых замков… Да, вы почти угадали: открываю мастерскую по починке замков. Нет-нет, не шучу… Какое — до утра! У меня время на часы идет, может, даже на минуты! Государственной важности дело!… Заранее спасибо!
Когда они возвращались обратно в комендатуру, Кожемякин всё пытался понять, что затевает Кольцов. Ясно, что-то связанное с сейфами. Может, решил осуществить одно из своих первоначальных предложений: опустошать все сейфы и таким образом лишить бандитов их грабительских доходов. Но уйдут ли они? Или переключатся на более мелкие кражи, станут грабить обывателей? Нет, это не решение. Надо бы ликвидировать эту наглую банду!
И уже когда они подходили к комендатуре, Кольцов спросил:
— Вы когда-нибудь рыбачили?
— В детстве ещё. Мальчонкой.
— И щук ловили?
— Щурят. Щук ловили, которые постарше. Особенно весной, когда паводок сойдет.
— А как?
— Да просто. В бочажке живца словишь, и на него.
— Вот и мы попытаемся поймать банду «на живца», — сказал Кольцов и больше ничего объяснять не стал.
Вернувшись, Кольцов сразу же уснул. Он знал: Манцев сделает всё возможное, чтобы Миронов уже к вечеру или ночью был во Владиславовке.
* * *
Утром они собрались у Кожемякина. Кольцов попросил пригласить сюда Бушкина и Гольдмана. По просьбе Кольцова они большую часть времени проводили в Феодосии, в штаб Особого отделения Девятой дивизии, которая сменила Тридцатую. Пришел один Бушкин, Гольдман остался в Феодосии.
— Я вот о чем подумал, — начал Кольцов. — Бандиты оказались не совсем подготовленными для своих бандитских операций. Мелкие сейфы им удается вскрывать. А вот бронированные, со сложными замками, им взять не под силу. Лом не берет. Могли бы, конечно, взрывать. Но дело это шумное и опасное. Советская власть установилась здесь надолго, это они уже поняли. И вряд ли их устраивает перспектива остаться здесь. Поэтому они торопятся побыстрее обогатиться и затем сбежать за границу. И я решил немного им поспособствовать.
Кольцов говорил медленно, словно вслух размышлял. На последней его фразе все с удивлением переглянулись.
— Вы не ослышались. Завтра к вечеру сюда, во Владиславовку, приедет крупный специалист по сейфам. Иными словами, «медвежатник». Наша задача: распространить о нем слух, и он должен дойти до бандитов.
— Каким образом? — поинтересовался Папанин. Было видно, что ему нравится предложение Кольцова, но пока не до конца понимал способ его реализации. — Бандиты — парни тертые. Их слухом не возьмешь — не поверят.
— Просто слухам не поверят, — согласился Кольцов.
— А если и поверят, попытаются сперва проверить, — сказал Кожемякин.
— Совершенно верно, — сказал Кольцов. — Нам надо будет постоянно держать нашего «медвежатника» в поле зрения. Задача не простая.
— У вас есть предложения? — снова спросил Папанин.
— У меня есть одно из предложений. Возможно, кто-то подскажет что-то более остроумное и менее громоздкое. Я придумал то, что придумал. Не судите строго.
— Рассказывайте! — едва ли не в два голоса попросили Папанин и Кожемякин.
С интересом ждали ответа Кольцова Красильников и Бушкин.
— Завтра или, на крайность, послезавтра в Феодосии открывается мастерская по ремонту обуви, одежды и конечно же по ремонту замков и изготовлению ключей?
— Откуда у вас такие сведения? — не понял Кожемякин.
— А мы ее откроем. Сами.
— Но причём тут обувь, одежда?
— Не нужно акцентировать внимание на замках. Так, между прочим. В этом случае еще можно надеяться, что бандиты ухватятся за наш крючок, — сказал Кольцов. — Сапожников и портных надо поискать среди своих. Важно, что б в мастерской не было чужих людей.
Кольцова слушали с куда большим интересом, чем царь Шахрияр Шехерезаду. Предложение все одобрили, иных не последовало. И, вероятно, каждый из них подумал: как все просто. Но почему же бандиты не додумались поискать «медвежатника»?
Впрочем, как его искать, чтобы не вызвать подозрение! А их мало, и далеко не в каждом городе его можно найти. Профессия сама по себе уникальная, а в дни вселенских катаклизмов еще и весьма востребованная. Поди, поищи! А тут — вот он, сам идет им в руки.
Но конечно же прежде чем привлечь мастера к своему делу, бандиты попытаются убедиться, что он — именно тот человек, который им нужен. Не преминут устроить ему проверку: не связан ли мастер с ЧК? К этому их «медвежатник» Миронов тоже должен быть готов.
Решили также, что Бушкин будет постоянно при Миронове, но при этом держаться в тени. Одинокий мастер вызовет меньше подозрений.
Заговорили о помещении.
— Найдем! — пообещал Кожемякин. — Тут, рядом с вокзалом, есть хорошее помещение. Я хотел там устроить пункт для перерегистрации.
— Владиславовка не годиться, — возразил Кольцов. — Бандиты могут больше сюда не явиться. А времени на этот спектакль у нас крайне мало.
— Где же? — спросил Кожемякин.
— Лучше всего, конечно, в Феодосии. Не знаю только, как там насчет помещений. Место нужно людное, броское.
— С этим проблем не будет, — сказал Папанин. — Где-нибудь на Итальянской улице или на Генуэзской. Может, возле Лазаревского сквера. Там всегда очень многолюдно.
— И все это за день? — с сомнением спросил Кожемякин.
— За сутки. Сегодняшний день и ночь. К утру мастерская должна быть так оборудована, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений.
До вечера было еще далеко, и Бушкин вызвался съездить в Феодосию и там вместе с Гольдманом поискать подходящее помещение. Благо, пустующих пока что было еще немало. Но надо было найти такое, чтобы оно отвечало всем их требованиям: для каждого мастера было бы по комнате, а у мастера по ремонту замков — и вторая, смежная, из которой можно было бы наблюдать за посетителями.
К тому же с помощью нескольких красноармейцев, которых выделили в подчинение Бушкину, надо было привести помещение в надлежащий порядок.
Бушкин покинул кабинет, Кольцов вышел его проводить. Выслушав последние наставления Кольцова, он уверенно сказал:
— Хотите — верьте, хотите — нет, но наша затея увенчается успехом.
— С чего ты так решил?
— Мне сегодня приснился снег. Вроде иду я это по полю, а кругом снег. От края и до края. Чистый, пушистый.
— Ну, снег. Ну и что?
— У меня бабка полуцыганка была. Ее дед из табора украл. Ну, не то, чтобы украл, она сама с ним сбежала. Полюбила, должно быть. Так она умела как-то сны разгадывать. Чистый снег — это удача, радость.
— Глупости все это, Бушкин, — улыбнулся Кольцов.
— А я верю. Еще когда пацаненком был, запомнил. Бабушка так говорила: когда человек умирает, его тело на земле остается, а душа в какой-то иной мир переселяется и оттуда за нами наблюдает. Они там все про всех знают: и что было и что будет. А сон, это знак оттуда. Предостеречь могут, если на человека какая-то беда надвигается. Словами сказать не могут. Человек должен сам расшифровать свой сон, понять посланный оттуда знак.
— Ты же большевик. А сколько глупостей намешано в твоей умной голове, — укоризненно покачал головой Кольцов.
— Одно другому нисколько не мешает. Вот вам пример. Мы когда с товарищем профессором в Париж с бриллиантами ехали, мне в поезде приснился сон. Никому не рассказывал, вам первому. Будто гроза такая, что от молний светло, как днем. А грома не слышу, тишина. И мы с товарищем профессором идем по грязи. А она все глубже, уже чуть ли не по пояс, еле-еле идем. Товарищ профессор уже задыхается. И просит меня: иди один, может, еще спасешься. Я его тащу, а он сопротивляется. И вдруг, чувствую, где-то глубоко под грязью вроде как твердое что-то. Стал ногами в это твердое упираться и вышел на поляну. А там зеленое все, солнце, море цветов. И я еще подумал: «Красота какая! Вроде как в раю». Такой вот сон! И ведь все сбылось: и бриллианты нашли, и домой благополучно вернулись.
— Ты вот что, Бушкин! Ты эти глупости больше никому не рассказывай! — сердито сказал Кольцов. — Не расхолаживай людей. А то и впрямь подумают: зачем нам стараться, если и без наших стараний все хорошо образуется.
И Бушкин уехал.
Кожемякин и Папанин со своими красноармейцами занялись остальным: вывеской, поисками среди своих бывших сапожников, портных различного сапожного и портновского инструмента.
Все так поверили в эту задумку Кольцова, что комендатура превратилась в подобие пчелиного роя.
Сапожника нашли среди своих. Многодетный пулеметчик Калиберда сказал, что дело это ему знакомо. Пошить сапоги или ботинки он, конечно, не сумеет, а подметку подбить или латку на сапог пришить — это не вопрос. Своим шустрым детишкам ему чуть не каждый день приходилось чинить обувку.
С портным оказалось потруднее. Но решилось и это: истопник комендатуры в молодости был подмастерьем у еврея портного, и с тех пор на досуге обшивал не только свою семью, но и соседей. У него оказалась вполне приличная швейная машинка «Зингер» и вся портновская атрибутика.
Красноармейцы и папанинские партизаны мотались по Владиславовке в поисках всего, что еще было необходимо для мастерских: сапожные колодки, металлические лапы, дратву, березовые гвозди, куски кожи на подошвы — словом, выпрашивали все, что могло бы убедить будущих посетителей в том, что это настоящая мастерская.
Из кабинета Кожемякина забрали большой обеденный стол. В домашней мастерской не до конца разграбленного имения купца Свечникова отыскали верстак, тиски и различную слесарную мелочь.
Все добытое складывали в грузовик.
Вывеску сотворили из двух прямоугольных листов кровельного железа, выпрошенных в депо. Там же разжились черной и красной краской, другой не было. В связи с этим разгорелся нешуточный спор, какой у вывески должен быть фон. Одни настаивали на черном с красными буквами. Другие с ними не соглашались:
— Такая вывеска только для погребальной конторы.
Выбор был небогатый. Остановились на красном фоне с черными буквами. Вверху крупно написали «Ремонт» и ниже рядочком: «одежды, обуви, замков». «Изготовление ключей» на вывеске не вместилось.
К вечеру, когда из Феодосии вернулись Гольдман и Бушкин, у Кожемякина было все готово. Гольдман доложил, что подходящее помещение они нашли на Базарной площади, в одном из трех каменных корпусов. Прежде там размещался магазин галантерейных товаров, который прекратил свое существование незадолго до того, как врангелевские пароходы покинули Крым. Вместе с кубанцами генерала Фостикова бежал за границу и владелец магазина купец Рукавишников, отец которого на свои средства устроил на Феодосийском насыпном молу маяк с переменным светом.
Ночью приехал Миронов. С Харькова Манцев отправил его «литерным», который до Джанкоя домчался без всяких задержек и, высадив его, побежал дальше, в Симферополь. А Миронов не без труда, на попутных маневровых паровозах и даже на дрезине к полуночи добрался до Владиславовки.
Встречал его Бушкин. Первое, что сказал ему Миронов, повергло его в легкое замешательство:
— Имейте в виду, никаких сейфов я вскрывать не буду. У меня теперь новая жизнь. И мне нравится быть честным человеком.
— А никто вас и не заставит.
— В таком случае, зачем мне было приказано волочь на себе эту кучу железа? — Миронов пнул носком сапога свою тяжелую ношу.
— Возможно, придется кого-то проконсультировать. Для наглядности.
Бушкин подхватил гремящий железом ранец Миронова.
— Я почти забыл своё непочтенное ремесло. Нет, не так. Я, даже если бы захотел, уже не смог бы вскрыть серьезный сейф: не те руки, не те глаза, не тот слух. В коммуне я занимаюсь мужской работой, мои руки огрубели. Но, дай Бог здоровья товарищу Кольцову, я теперь, может быть, впервые в жизни, откровенно счастлив. И лучшей доли себе не желаю.
Пока они шли по темным улицам Владиславовки, Миронов продолжал рассказывать:
— Знаете, у нас в семье было много детей, две няни и две гувернантки. Жизнь мне портили только занятия французским и музыкой. А в остальном — веселое, беззаботное и шумное детство. Вероятно, так выглядит детское счастье. И я все задумывался, а как же выглядит взрослое счастье? Теперь там, в коммуне, я его познал. У нас там около полусотни детишек: беленьких, рыженьких, конопушных, курносых — на любой вкус. Извините, Бушкин, у вас есть дети?
— Не довелось, — не совсем впопад ответил Бушкин.
— Уже надо торопиться, — сказал Миронов. — У меня там, в Основе, есть на примете одна замечательная дама. Я уверен, она вам понравится.
— Это интересно, — бесцветным голосом ответил Бушкин. — Еще поговорим. Потом, позже.
И Бушкин стал рассказывать Миронову о бандах, которые грабят богатые имения, ломами и молотами пытаются вскрывать тяжелые бронированные сейфы.
— Какая мерзость! — поморщился Миронов. — Хорошие сейфы требуют деликатного обращения и тишины. Их раздражает даже грубый голос. Да-да!
— Ну, это вы уж загнули! — хмыкнул Бушкин.
— Представьте себе! Однажды я работал со сложнейшим сейфовым замком конструкции англичанина Шубба. Дело ночное. Нервы. А за моей спиной еще трое: наблюдают, разговаривают, ссорятся. А у меня, хоть плачь, ничего не получается. И тогда я попросил всех выйти. А сам так ласково поговорил с замком, попросил его меня не подводить. И что вы думаете? Едва я дотронулся до его нутра щупом, как все шесть пластин одновременно поднялись. До сих пор не могу объяснить, почему так произошло.
Кольцов встретил Миронова радостно. Миронов торопливо рассказал ему об Основе, о Заболотном, о его детях Кате и Коле. И одновременно напряженно наблюдал за сутолокой, которая творилась вокруг него. На всякий случай повторил, теперь уже Кольцову:
— Но, прошу вас, Павел Андреевич, не заставляйте меня вскрывать замки. Я уже разучился. Я вполне доволен своей новой жизнью.
— Замки вскрывать вы не будете. Надо будет только убедительно сыграть знакомую вам роль опытного «медвежатника», знающего себе цену. Если придется, поторгуетесь — и не сойдетесь в цене. И все. Мы будем рядом, в обиду вас не дадим.
И Кольцов рассказал суть своей затеи. Задача: поймать банду грабителей. Разыгрывается этот спектакль лишь в надежде, что бандиты придут к нему.
— Нам важно увидеть хотя бы одного из них. На этом ваша миссия заканчивается.
— Рискованная затея. Ставлю сто против одного, что из этого ничего не получится, — с сомнением сказал Миронов.
— Почему?
— Потому, что я плохой артист. Они это сразу поймут. А мне, между прочим, еще жить хочется. Она у меня только наладилась.
— Вам ничего не нужно играть. Ведите себя так, как всегда.
* * *
Папанина и его отряд отзывали в Симферополь. Времени на прощание не было. На короткое время собрались в кабинете у Кожемякина.
— Жаль, не увижу, чем закончится ваша пьеса, — с грустью сказал Папанин.
— Мы тебе потом все доложим, — пообещал Кожемякин.
Кольцова огорчило это известие. Расставаться с Красильниковым не входило в его планы. Хотел запросить Фрунзе, чтобы Красильникова передали в его распоряжение, но не успел. Вернее, не подумал об этом сразу же после встречи. Не отказал бы.
Кольцов подсел к Папанину.
— Так понимаю, кончается твоя боевая жизнь, Ваня?
— Боевая, может, и не кончается, а партизанская — это точно.
— Кому собираешься передать свой отряд?
— Начальство скажет. Скорее, Красильникову.
— А если я попрошу тебя оставить Красильникова мне?
— Не, не могу! — решительно сказал Папанин.
— А если я тебя очень попрошу? — сказал Кольцов. — Понимаешь, ты с ним только фунт соли съел, а я пуд, а то и больше. Партизанил он вынужденно. По призванию он чекист. И он мне сейчас очень нужен.
Кольцов внимательно смотрел на Папанина, и было видно, что ему трудно дается решение этой задачи. Кольцов понял, что он, скорее всего, откажет. Но запакует свой отказ в красивую обертку.
— Откровенно скажу тебе, Павел Андреевич, — неторопливо и раздумчиво начал Папанин. — Ты мне понравился. При таких чинах, а простой. Не ставишь себя выше других…
Кольцов остановил его:
— Давай, Ваня, перевернем разговор с головы на ноги. Сначала скажи, отдаешь мне Красильникова или же нет, а потом валяй комплименты.
— Я и говорю: другому бы отказал, а тебе не могу. Бери и помни мою доброту!
— Спасибо тебе, Ваня! — Кольцов встал, намереваясь уйти. — Извини, дел выше крыши. Но ты продолжай комплименты. В мое отсутствие тебе будет даже сподручнее.
Папанин взял его за руку, снова усадил.
— Добро за добро. Эта банда у меня поперек горла встала. Они в Судаке много дел натворили, потом исчезли. Я прикинул: должны они еще раз во Владиславовке появиться. Жаль, не довел дело до конца.
— Постараемся, — коротко сказал Кольцов.
— Ты слушай! Кожемякин с этой бандой не справится. Народ у него молодой, необстрелянный. А Степан, он мой старый товарищ. Еще с детских лет. Потому и приехал сюда вроде как ему на выручку. Не получилось. Вы уж тут подмогните ему.
— У меня, Ваня, нет такой привычки: на полдороге дела бросать. Надеюсь, что все у нас получится.
Когда к Владиславовке подкрались сумерки, Папанин со своим отрядом уехал в Симферополь. Красильников долго с тоской смотрел вслед уходящему поезду. Потом подошел к Кольцову, задумчиво сказал:
— Вот и всё. Перевернул еще один листок. Только книжка не очень веселая.
Глава пятая
Ночью во время комендантского часа Кольцов и Кожемякин со своими бойцами двумя грузовиками выехали в Феодосию. Не оглашая ревом автомобильных моторов сонную тишину центральных улиц, они заулками, с тыла подъехали к Базарной площади. Несколько красноармейцев к тому времени заканчивали наводить марафет во всех комнатах мастерской.
Кольцов прошелся по коридору, тускло освещаемому подслеповатыми керосиновыми лампами, бегло заглянул в каждую комнату. Гольдман давал пояснения. Он уже заранее определил, где разместить какую мастерскую.
Кольцова главным образом интересовала только мастерская по ремонту замков. Он несколько раз обошел все помещение и остановил свой взгляд на дальней маленькой комнатке.
— Замки, пожалуй, здесь! — твердо сказал он.
— Теснота! — запротестовал Гольдман.
— Эта мастерская и должна выглядеть сиротой. Что б ни в чью голову не могла закрасться мысль, что это подстава.
— Далеко от входа! — продолжал настаивать Гольдман.
— И это нам на руку. Кому надо, тот найдет нас и здесь, — настаивал Кольцов. — Отсюда хорошо видна вся площадь. И смежная комната не лишняя. В ней посадим кого-нибудь из наших. Желательно, молодого и сильного.
— Подстраховываешься?
— Размышляю, — Кольцов обернулся на голос отдающего какие-то распоряжения Красильникова. — Семен! Вопрос!
Красильников подошел к ним.
— Ты Феодосию хорошо знаешь?
— Бывал.
— Представь себе: пришел сюда тот, кто нас интересует.
— А ты сомневаешься?
— И что дальше?
— Затащим его туда, — Красильников указал глазами на смежную комнату. — Допросим.
— А на улице его напарник ждет.
Красильников слегка задумался:
— Не тронем, проследим за ними.
— День. Народу на улицах, как обычно. Опытный и осторожный человек слежку сразу заметит. И что?
— А черт его…
— Огород перекопали, да ничего не посеяли, — сказал Гольдман. — Бандиты исчезли.
— Ну что вы, ей-богу! — слегка вспылил Красильников. — Бандиты не умнее нас. Пусть придут, остальное придумаем.
— Нет, Семен, давай уж на берегу думать. Потом будет поздно, — спокойно сказал Кольцов.
К утру мастерская выглядела так, будто находилась здесь едва ли не со дня основания Феодосии.
* * *
…Ранним утром Красильников спустился в порт, стороной обошел два огромных элеватора-зернохранилища и большое количество окружавших их пакгаузов. Несмотря на такую рань, здесь уже кипела работа. Вся территория, на которой размещалось это хозяйство, в спешном порядке было огорожено высоким колючим забором. По распоряжению Белы Куна и Розалии Землячки местный начальник Особого отдела Зотов проводил повторную перерегистрацию бывших белогвардейцев. Но тюрьма уже была переполнена, места не хватало. И в этой загородке предполагалось какое-то время держать арестованных, разбираясь с каждым по отдельности.
Для объективности разбирательства, по указанию председателя Реввоенсовета Республики Троцкого, по всему Крыму были созданы специальные «тройки». Лев Давыдович считал, что они помогут поскорее очистить Советскую республику от белогвардейского подполья. О том, что Врангель оставил его здесь, ни у Троцкого, ни у многих высокопоставленных большевиков сомнений не было. «Тройки» были придуманы исключительно для того, чтобы и допросы и наказания выглядели объективными и справедливыми. Не могут же в самом деле три большевика ошибаться!
Красильников к молу не пошел, а свернул к портовому Карантину, сожженному врангелевцами во время бегства. Высокие стены Карантина были покрыты копотью, окна выгорели. За ним друг против друга стояли две уцелевшие, но никому сейчас не нужные сторожки, возле которых копошилась ребятня.
Когда Красильников вышел из-за обугленного Карантина, возле сторожек уже никого не было. Мальчишки попрятались.
Он подошел к одной сторожке, заглянул внутрь. Пол был выстлан толстым слоем порядком перетолченной соломы. И нигде никого — тишина.
— Эй! Пацаны! Выходите! Есть дело! — крикнул Красильников в глубину сторожки.
Долго никто не отзывался. Только там, в глубине, слышалось соломенное шуршание и приглушенные голоса. Видимо, мальчишки совещались.
— Ну, не бойтесь! Выходите! Надо потолковать! — вновь повторил Красильников.
Снова там звучали тихие голоса. И наконец в проеме пошедшей на растопку двери, появился долговязый и тощий прыщавый мальчишка. Если бы здесь был Юра Львов, он бы узнал своего приятеля Леньку по прозвищу Турман.
Турман поглядел на Красильникова, и глаза его расширились от удивления.
— Вы?
— Ты чего? Узнал, что ли? — спросил Красильников.
— Ага! — расплылся в широкой улыбке мальчишка.
— Может, обознался? Я тебя не помню.
— А вы меня не видели.
— Ну, ты, брат, с фантазией! Ты меня видел, а я тебя нет?
— Так и было.
— Ну, расскажи.
— Кореш у меня был Юрка, да вы его знаете.
— Львов, что ли? — пришло время удивляться Красильникову.
— Я у него фамилию не спрашивал. Просто кореш. А у него родного дядьку беляки в Севастопольскую крепость кинули. Он красным шпионом был. Про него во всех газетах прописали. Юрка из Киева приехал, дядьку выручать. А как выручишь? Деньги нужны.
— Что-то припоминаю. Юрка у какой-то женщины кошелёк украл.
— Да не он, я кошелек тиснул. Юрке кинул, шоб притырил. Ну, спрятал. А она нас закнокала, сирену включила. Ну, вой подняла.
— Помню, было такое. Но тебя я там не видел.
— Я ж не червонец, шоб светиться. Я издаля за вами наблюдал, как вы его повели…
— Так! Это мы выяснили! — остановил Красильников воспоминания. — Давай, лучше, о деле! Дело серьезное!
— Можно, — согласился Турман и спросил: — За так, чи сармак будет?
— А что нужно?
— Шамовка[29].
— Сколько вас тут?
— Много. — Турман обернулся и крикнул в глубину сторожки: — Слышь, Гнедой! Пересчитай, сколько нас?
— Семеро! И двое хворых, — услышал Красильников тонкий голос мальчишки по прозвищу Гнедой.
— Во! Девять! Говорите, дяха, дело! В цене сойдемся.
— Выследить кое-кого надо.
— Покажете — выследим.
— А я и сам его ни разу не видел.
— Ну, вы даете! Найди того, не знаю кого.
— Надо будет пару дней погулять по Базарной площади, возле галантереи Рукавишникова.
— Так ее уже там нет. И Рукавишников смылся.
— Там какие-то мастерские, — небрежно сказал Красильников.
— Погуляем. И что дальше?
— А дальше, когда появится нужный человек, я дам знак. Какой — договоримся.
— А если не появится? Пропала наша работа?
— Не пропадет. Я наперед кое-что дам: пару буханок хлеба и что-то до хлеба. «Кровянки»[30], может.
— Вы на «кровянку» не поскупитесь. Народ шамать хочет, — нахально попросил Турман.
Видя мирную беседу Турмана с незнакомцем, беспризорники постепенно подтянулись к выходу. С любопытством рассматривали Красильникова голодными глазами.
— Будем считать, договорились! — сказал Красильников и, оглядев обступивших его мальчишек, велел Турману: — Кормить будешь всех. А на дело возьмешь, кто постарше, пошустрее.
— За это не дрефьте! Дело знакомое. Один дядька нас нанял за его кралей понаблюдать. Все чин-чином сделали. Два дня нас в «Обжорке» кормил. И ещё царский червонец на лапу положил. Настоящий, не «керенку» какую-нибудь.
* * *
Город после бегства Врангеля постепенно оживал. Люди с тихих патриархальных окраин потянулись к центру. Бродили по Екатерининской, Итальянской, Генуэзской улицах, гуляли по Базарной площади и Лазаревскому скверу. Подходили к разбитому снарядом фонтану «Добрый гений», сворачивали к памятнику Александру Третьему, поставленному «Благодарной Феодосией» за то, что перенес сюда порт и протянул железную дорогу.
Новая власть решила, что благодарить царя не за что и незачем. Строили порт и тянули сюда железную дорогу простые мужики, а благодарит город царя. Несправедливо. И чтобы стереть с памяти феодосийцев эту историческую ошибку, трое рабочих с кирками и ломами добросовестно крушили памятник, точнее, его основание. Бронзу ни лом, ни кирка не брали, и поверженный на землю царь походил на раненого солдата. Такая в России традиция: каждая новая власть, прежде всего, обращает свой гнев на памятники.
Кое-где на центральных улицах, по старой памяти, стали открываться магазины. Но полки в них пока были пустые.
Бойко работал только магазин «Хлебная торговля». После ухода белогвардейцев водолазы извлекли из затопленной баржи мешки с мукой, она почти не пострадала в воде, и в городе стали выпекать хлеб. Пекаря-буржуя поначалу арестовали, потом стали привозить в пекарню в автомобиле и в сопровождении охраны. Потом сопровождение отменили. А еще через день, когда выяснили, что пекарь все же не буржуй, а трудящийся, отменили и автомобиль.
На Базарной площади внимание привлекла торжественная и нарядная вывеска — черные буквы по красному фону. Она сообщала об открытии ремонтной мастерской и, как и хлебная торговля, представляла интерес для порядком обносившихся за годы войны обывателей. Мужчины и женщины ходили в старых тяжелых солдатских ботинках, носили невесть что, тоже чаще всего, перешитое из солдатской и красноармейской одежды.
Замки мало кого интересовали потому, что во времена смуты все, что можно было, разграбили и растащили. Зато популярность приобрели прочные запоры. Ими закрывались на ночь не столько от грабителей, сколько от молодежи, несмотря на комендантский час рыскающей по домам в поисках чего-нибудь съестного. Они были вооружены. Обрез на базаре отдавали за буханку хлеба, за две можно было выменять револьвер «смит-вессон» или системы «Наган». Патронами торговали, как в давние добрые времена семечками.
И все же уже в первый день в сапожную мастерскую пришел одноногий инвалид и попросил отремонтировать подошву на одном принесенным им ботинке. Появились клиенты и у портного.
К Миронову никто не шел, и он сидел у окна и с тоской смотрел на площадь. На противоположной стороне ссорились, дрались и мирились оборванцы-беспризорники. Были среди них Турман и Гнедой. Но их знал только Красильников, который пока, в отсутствие посетителей, придремывал в своей каморке, примыкающей к мастерской Миронова.
— Семен Алексеевич, спите? — спрашивал Миронов.
— Лежу. Думаю.
— О чем?
— О детишках своих. Байстрюками растут.
Помолчали.
— А вы бы отдали их к Заболотному в коммуну.
— Нельзя. У них мать есть.
— Мать для мальчишек — не то. Для мальчишек отец нужен. Мать из мальчишек девочек воспитает.
— Я и думаю: что за поколение после войны вырастет? Стране мужики понадобятся. Защитники…
— Тихо! Кто-то идет.
В дверь постучал первый клиент. Войдя в мастерскую, он, как в церкви, снял шапку.
— Доброго здоровьица! — сказал он и выложил на стол перед Мироновым завернутый в тряпицу замок. Попросил сделать к нему ключ. Миронов порылся среди железной рухляди, собранной красноармейцами во Владиславовке. Нашел подходящий. Пришлось только очистить его от ржавчины и напильником сделать в нем выборку.
— Вы какими берете? — спросил дедок, обрадовавшись, что замок в руках мастера со щелчком открылся. — Царскими чи керенскими? Ходят слухи, шо при новой власти денег совсем не будет. Срасходуем царские, и шо тогда?
— Перейдем на натуральную оплату, — сказал Миронов.
— Скажить, а чи не могу я вам сейчас предложить натуральную? — спросил дедок и вывалил на стол пять тараней, сухих и изнутри светящихся жирком.
У Миронова накатилась слюна. Он торопливо сказал:
— Можно, конечно, и натуральную, — и смахнул рыбу в ящик, стоящий на стуле, рядом со столом.
Дедок поблагодарил Миронова и ушел.
А Миронов вынул из ящичка две таранки, позвал Красильникова:
— Нет никого. Иди, угощайся.
— Сейфовыми замками не интересовался? — спросил Красильников.
— На бандита не похож, — ответил Миронов.
— А ты думаешь, у них на лицах написано, что бандиты? Отчего ж мы столько дней не можем их выследить?
— Я в этом деле не очень разбираюсь, — равнодушно сказал Миронов. — Вам виднее.
Красильников посмотрел на площадь, увидел ватагу беспризорников и среди них Турмана. Тот был на страже. Он вопросительно смотрел на окно мастерской, ждал сигнала.
— Пусть проверит, — сказал Красильников и помахал рукой.
Турман кивнул, отыскал глазами дедка, неторопливо побрел за ним. Остальные трое остались напротив мастерской. Согреваясь, они время от времени устраивали между собой потасовку.
А Миронов и Красильников аккуратно очистили по таранке. Она была малосольная, жирная и очень вкусная.
— Днепровая, — сказал Красильников. — Астраханская, та сухая, постная. Нам раньше, когда в Особом отделе служил, паек астраханской выдавали. А днепровой — ни разу.
— Тарань — пища бедных. Лучшая рыба — лабрадор, и еще осетр и семга. Царская еда. Когда я еще мальчишкой был, нам часто к обеду осетра подавали.
— А ты что, и вправду, из графьев? — спросил Красильников.
— Это было так давно, я уже успел забыть.
— Ты не шибко много болтай, — посоветовал Красильников Миронову. — Всех графьев советская власть под нож пустит. Гляди, что б и ты в их компанию не попал.
— Разные графы были. Мы — из худосочных, бедных. Дед настоящим графом был. Все богатство в карты проиграл. Мы тогда под Екатеринбургом жили, с Демидовыми соседствовали. А неподалеку от нас ежегодная ярмарка была. На всю Россию ярмарка — Ирбитская, называлась. Дед и повадился туда ездить. От него нам один титул остался, все промотал. — Миронов поднял на Красильникова вопрошающий взгляд: — Или вы всех, без разбору?
Красильников не успел ответить. В дверь постучали, и он торопливо нырнул в свою каморку.
В мастерскую вошла старуха. Долго шаркала на пороге старыми ботинками, поставила на стол свою ношу.
— Может, я не до вас? — простуженным голосом спросила она, разворачивая укутанный в мешковину самовар. — Не сможете запаять?
Миронов коротко взглянул на укутанную в семь одежек старуху, стал рассматривать самовар. Был он необычный, не тот стандартный тульский, которыми была наводнена Россия, а небольшой, изящный, похожий на графин. Такие Тула выпускала только на заказ.
— Сожалею, но пока не смогу вам помочь. Зайдите через пару дней, — сказал Миронов. — Мы только открылись. Ни олово, ни кислоту ещё не успели завезти. Да и паяльная лампа нужна.
— Понимаю: первый день, — согласилась старуха, но уходить не собиралась. — Вы и в замках разбираетесь?
— Я в них-то только и разбираюсь. Пайка самоваров, это так, мой побочный приработок. А что у вас за замок? — подозревая, что речь пойдет о сейфовом, спросил Миронов.
— В скрыне замок спортился. Еще мамкина скрыня, в приданое мне досталась. Такой хороший замок! Открываешь, в он звоночками шо-то такое веслое грает. А года два назад… чи три… В позапрошлом годе на Пасху открываю, а в ём шо-то хрустнуло, и он замолчал. С тех пор молчит. Нельзя его вам принести?
— А вы сможете его вынуть?
— Я — нет. А сын выймет.
— Приносите, посмотрю. Сумею — вылечу.
Старуха стала заворачивать самовар, но затем вдруг спросила:
— А, может, я у вас его оставлю? Шоб до дому не нести.
— Оставляйте. Место не залежит, — согласился Миронов.
И старуха пошаркала по коридору.
Красильников снова появился из своей каморки.
— Старуха с самоваром… — небрежно бросил Миронов и затем спросил: — Все же надеетесь?
— День-два подождём. Должны бы объявиться, — сказал Красильников и, после коротких раздумий, добавил: — Если, конечно, в другие края не отправились.
— А, может, они в Феодосии и вовсе не бывают?
— И это возможно, — угрюмо согласился Красильников. — Самое паршивое дело: ждать, искать и догонять.
Они еще не знали, что события уже начали разворачиваться.
* * *
Когда старуха вышла из мастерской и пошаркала по Базарной площади, мальчишки долго смотрели на витринное окно. Видели двух сидящих мужчин. Один из них был им знаком: он утром «от пуза» накормил их и обещал еще. Но сигнала он не подавал. Может, забыл о них? Или не видел?
Был бы здесь Турман, он решил бы, как поступить. Но он все еще не вернулся, а заходить в мастерскую им не разрешено.
А старуха уходила.
— Ты гляди, как нарезает, — глядя ей вслед, сказал Гнедой.
— Ага. То еле шла, а сейчас, як солдат.
Слоняться целый день на Базарной площади им уже порядком надоело, и они приняли самостоятельное решение: пока старуха не затерялась среди прохожих, последовать за нею.
Они уже почти потеряли ее из вида и нагнали неподалеку от зернохранилищ. Оттуда она вышла к Карантину, где все было им знакомо.
Выйдя на мол, она не пошла к маяку, а направилась на пустыри, где вдали высились развалины генуэзской башни. Феодосийцы еще называли ее башней Климента. Когда-то давным-давно и она, и стены возле нее были одним целым — крепостью. Она защищала Кафу (так называлась некогда Феодосия) от набегов кипчакского хана Джанибека. Теперь от крепости остались только живописные руины, куда беспризорники иногда отправлялись поиграть в разбойников.
— Постоим здесь, — остановил товарищей Гнедой. — На пустыре она враз нас заметит.
— Куда она идет? Может, до рыбацкой хаты?
— Ты там был?
— Турман рассказывал. Он бывал. Только зимой там никто не живет.
— Так куда ж она?
Время от времени оглядываясь, старуха пересекла пустырь и скрылась в развалинах.
Прошло немного времени, и из развалин выехал всадник. Он пришпорил коня и вскоре скрылся за холмами.
— Интересно, — сказал Гнедой. — А старухи не видно.
— А, может, она там живет? — сказал цыгановатый Гоча.
— Подождем.
Прождали еще с полчаса. Старуха из крепости так и не вышла.
— Ну, ладно, пацаны. Я пойду туда, а вы отсюда следите, — сказал Гнедой. В отсутствие Турмана он принял на себя командование их компанией.
И он ушел. Быстро добрался до крепости, недолго побыл там и вновь появился. Встав на остатки стены, помахал им руками. Они поняли, что в стенах крепости старухи нет.
Затем он слез со стены и, еще раз махнув им рукой, пошел куда-то дальше. Причем пошел он по следу всадника, потому, что тот скрылся за теми же холмами.
Они долго ждали. Но Гнедой не возвращался.
Когда солнце стало клониться к закату, из-за холмов выехали четверо всадников. Они промчались мимо крепости и скрылись в Рабочем поселке.
— Должно, чекисты. Третий день тут носятся, — сказал тощий рыжий беспризорник по прозвищу Шива.
— Ага. Беляков отлавливают, — предположил Гоча. — Видал, какую загородку на элеваторе для них отбабахали?
— Но почему Гнедого до сих пор нету?
Мальчишки начали беспокоиться.
— Может, берегом вернулся? — сказал Шива. — В город берегом ближе.
И они вернулись в город. По пути заглянули в свою сторожку, предполагая, что Гнедой уже вернулся и ждет их. Но Гнедого они в сторожке не нашли.
Вновь вернулись на Базарную площадь. Солнце уже зашло, наступили серые сумерки. Гнедого не было и возле мастерской.
— Ну и что теперь? — спросил Шива.
— Вернется! — уверенно сказал Гоча. — Гнедой, он не пропадет.
Они стояли напротив мастерской. В ней горел тусклый огонек. Они видели там одиноко сидящего человека, он время от времени склонялся над столом, вероятно, что-то мастерил.
Наступил комендантский час, и им надо было возвращаться в свою сторожку. Но и уйти ни с чем они не могли.
— Надо бы рассказать ему про Турмана и про Гнедого, — сказал Гоча.
— А, может, он у Матвея Степановича на ближнем маяке заночевал? — предположил Шива. — Гнедой его знает.
— Все равно, надо рассказать, — сказал Гоча и решительно направился к витринному окну. Снизу оно слегка заморозилось, и он прежде слегка продышал в стекле круглую проталинку, затем постучал.
Миронов, а следом за ним и Красильников увидели прилипшее к стеклу лицо мальчишки. Красильников торопливо прошел к запертой входной двери, впустил Гочу.
— Что случилось? — спросил Красильников. Он знал, что просто так, по пустяку, беспризорники не станут их тревожить.
— Ни Турмана, ни Гнедого нигде нет, — взволнованно сказал Гоча, войдя в коридор.
— Турман вернулся. Он недавно ушел туда, в вашу сторожку, — успокоил мальчишку Красильников.
— А Гнедой?
И Гоча подробно рассказал о их приключениях, о том, как они решили проследить за старухой и как она потом исчезла в крепости. Вошла в развалины и больше оттуда не выходила. Зато из крепости выехал всадник. Может, он ее убил? Гнедой отправился в крепость, там никого не нашел и пошел дальше, в степь. И исчез.
Вспомнил Гоча и о всадниках, что промчались мимо крепости.
Приключения мальчишек взволновали Красильникова.
— Ты один?
— Нет, с Шивой. Он там, на улице дожидается.
— Зови его. Пересидите здесь до утра.
— Не, мы пойдем. Турман рассердится. А, может, и Гнедой уже явился?
— Комендантский час, — напомнил Красильников.
— Нас это не касаемо. Мы дворами и переулками. На главные улицы не выходим.
Красильников выпустил Гочу на улицу, вслед ему сказал:
— Утром, как договорились, снова сюда.
— Не боись, дядя, не подведем, — солидно ответил Гоча, и они с Шивой скрылись в темноте.
Оставшись вдвоем, Красильников с Мироновым стали подробно обсуждать известие, принесенное мальчишками.
— А что, если это вовсе и не старуха была? — задумчиво спросил Красильников.
— Вполне допускаю, — согласился Миронов. — Я еще обратил внимание на ее одежду. Слишком много на себя натянула. И платок. Глаза да нос. Поди, пойми, мужчина или женщина.
Поздно вечером явился Кольцов. Он прошел к ним с черного хода.
— Не спите? — спросил он и бросил Красильникову: — Пошел бы в комендатуру. Там хоть ноги можно вытянуть.
— Тут такое дело, что лучше бы комендантский взвод вызвать, — и Красильников рассказал Кольцову последние новости, принесенные беспризорниками.
— Та-ак, — задумчиво сказал Кольцов. — Наживку схватили. Что последует за этим?
— И я об этом же. Лучше бы тут эту ночь пересидеть, — предложил Красильников.
— Оружие проверь, мало ли что! — велел Кольцов Красильникову и затем обратился к Миронову: — Вы, граф, из винтовки стрелять умеете?
— Не приходилось, — чистосердечно ответил Миронов. — Но если придется…
— Будем надеяться, что этой ночью еще не придется. А с завтрашнего дня устроим здесь засаду. Кольцов еще раз придирчиво осмотрел мастерскую.
— Свет, пожалуй, погасим. Посумерничаем.
— Зачем? — спросил Красильников.
— В окно могут пальнуть.
— Не пальнут. На выстрел комендантский взвод тут же примчится. Не выгодно это им. Они мастера наверняка живьем хотят захватить.
— Кто знает, что у них на уме?
— Не люблю без света, — сказал Красильников. — Уж лучше перейдем в каморку. Она без окон.
Перешли в каморку, прикрыли дверь в мастерскую. Фонарь «Летучая мышь» взяли с собой. Он светил ярко, розоватым светом.
Очистили оставшуюся тарань. Вновь и вновь обсуждали последнюю новость.
— Утром надо бы в крепость проскочить. Возможно, какие-то их следы там обнаружим. И вокруг поглядим. Если это они, где-то там их логово, — сказал Красильников.
— Не хотелось бы их спугнуть, — возразил Кольцов. — Уйдут или на дно залягут. И то и другое не в наших интересах. Хотелось бы взять их горячими. — Кольцов поморщился от яркого света: — Да прикрутите фитиль. В сумерках лучше думается. Тарань, не бойся, мимо рта не пронесешь.
Свет пригас. Фитиль еле тлел. В сумерках тревожное чувство стало отступать.
— Кто его знает, быть может, напрасны наши тревоги. Старуху пацаны могли просто проворонить. А всадники… Да мало ли их сейчас тут носится? И не только бандиты, — сказал Красильников.
И эта мысль показалась им простой и понятной, она их несколько успокоила. Единственное, что было пока необъяснимо: куда подевался беспризорник. Не мог он без всяких причин не вернуться в город. Решили, что поищут его следы с утра. А чтобы не вспугнуть бандитов, лучше всего это сделать с помощью тех же беспризорников. Их много сейчас здесь. Они наводнили Крым, о них никто не заботится. На них просто не обращают внимания. Не вызовут они подозрений и у бандитов.
Павел вспомнил Вадима Сергачева, мальчишку, которого он отобрал у бандитов батьки Кныша. Он тоже, как и все эти беспризорники, рвался сюда, в Крым, где всегда лето. Интересно, прижился ли он у Ивана Платоновича? Или, может быть, уже живет в коммуне у Заболотного?
С этими мыслями он и задремал.
* * *
Приключения Гнедого начались еще днем, когда он, оставив своих товарищей Гочу и Шиву, пошел следом за старухой в развалины крепости. Но старухи там не было. И следов ее пребывания он там тоже не обнаружил. Зато земля внутри остатков крепостных стен была истоптана конскими копытами, по углам было разбросано сено. И еще он обнаружил там сломанное колесо от телеги и кусок старой ваты с высохшей на ней кровью.
Гнедого заинтересовала эта загадка: куда могла отсюда деться эта старуха? Кругом открытое пространство, и если бы она куда-то ушла, он обязательно ее бы заметил.
И как ни размышляй, но получалось так, что это она ускакала на коне. Но куда? На мол не свернула, значит, направилась она не на маяк Рукавишникова. Может, на старый маяк? Свежие следы на снегу вели, похоже, именно туда.
Гнедой знал смотрителя маяка и решил наведаться к нему и выяснить, что это за старуха и почему она мотается здесь, по степи.
Но за версту от старого маяка след уходил влево.
Гнедой уже хотел было возвращаться к себе в сторожку, когда увидел четырех всадников. Они направлялись в город.
Встреча с всадниками в голой степи не была в интересах Гнедого. Смутное подозрение, что это плохие люди, поселилось в его душе. Он отыскал взглядом вымоину, поросшую шиповником. Не за один год проделали ее вешние воды.
Улегшись в промоине, Гнедой старался не выглядывать. Удаляясь, простучали лошадиные копыта. Всадники скрылись из вида.
Гнедой долго размышлял, быть может, стоит вернуться обратно и обо всем увиденным посоветоваться с Турманом? Или все же пройти к рыбацкой хате? Дальше по побережью не было никакого жилья, ничего.
Рыбацкая хата зимой пустовала. Зато с весны и до поздней осени в ней проживали рыбаки, а с первыми осенними морозцами они разъезжались по своим домам. Дверь на замок не запирали, а лишь подпирали деревянным брусом. Случайным прохожим и проезжим иногда доводилось переждать здесь непогоду. Но знало о ней не так много людей, и поэтому мало кто сюда наведывался. Не там ли расположились эти четверо? Кто они?
Любопытство перебороло все сомнения Гнедого, и он зашагал в сторону рыбацкой хаты. Прикинул, что еще до вечера он успеет вернуться в город и доложить чекистам все свои сомнения. А Турман точно знал, что человек, нанявший их, был чекистом.
Хату он увидел еще издали, она стояла на пригорке, недалеко от берега. А в бухточке, под сбросившими на зиму листву деревьями, покачивалась на воде одномачтовая рыбацкая шхуна. К ней с берега вели сходни. По шхуне деловито ходил человек, и время от времени оттуда доносился гулкий стук топора. Видимо, он что-то там ремонтировал.
Широкий след, истоптанный лошадиными копытами, тоже вел сюда, к хате.
«Может, и впрямь, рыбаки?» — подумал Гнедой. По рассказам стариков он знал, что в редкие годы здесь, у феодосийских берегов, после первых заморозков появлялись косяки какой-то рыбы. Тогда здесь собирались с десяток фелюг и шхун. Кто знает, может, и эти приплыли сюда в поисках рыбацкого счастья?
Гнедой спустился к берегу, убедился, что вокруг нигде никого и, выждав, когда человек скроется в рулевой рубке, юркнул в хату.
Хата была обжита. Пол устлан соломой, большой стол завален объедками недавней трапезы.
Оглядев стол, Гнедой взял недоеденный кусок мяса и стал его жадно жевать. Одновременно рассматривал все уголки. Заглянул в сумеречный чулан, где друг на дружке стояли какие-то ящики, коробки и чемоданы. Он ни разу не видел, что б в такой таре перевозили рыбу. Потрогал верхний ящик, он был тяжелый.
Снова вернулся в единственную комнату, которая одновременно была и кухней, и столовой, и спальней. Плита была теплая, на дне казана осталось какое-то варево. Гнедой взял на столе ложку и зачерпнул. Он даже не мог вспомнить, когда ел такую вкусную мясную юшку.
Не долго размышляя, Гнедой стал торопливо черпать из казана. Уже много дней он не ел ничего такого вкусного, а о юшке и вообще забыл и доел все, до последней капли. Хлебным мякишем зачистил дно казана. Потом принялся за мясные объедки. Еще не доев один кусок, он уже тянулся ко второму, а глазами высматривал третий.
Он ел и ел. Старался наесться до «не хочу», чтобы и через неделю у него не возникло желания есть.
Начало смеркаться. Скупой зимний свет все с большим трудом освещал это рыбацкое убежище. Гнедой подумал, что уже надо бы и уходить, но не удержался, еще раз прошелся по комнате, высматривая, что бы такое можно было прихватить с собой на память о гостеприимных и беспечных хозяевах.
И тут он услышал топот конских копыт и понял, что оказался в западне: из хаты невидимым ему уже не выбраться, а в хате спрятаться негде. Дорого обойдутся ему суп и мясо.
Он бросился из хаты в чулан, чтобы там, за ящиками и коробками спрятаться. Но ящики стояли небольшими горками вразброс, и спрятаться за ними не получалось. Тогда он придумал поставить их друг на друга невысокой стенкой, и спрятаться за нею. Но первый же ящик, за который он взялся, оказался ему не по силам. Он даже не мог сдвинуть его с места. Кроме того, он понял, что, заглянув в чулан, хозяева сразу же поймут, что здесь нарушен их порядок.
Всадники же, привязав коней к стоящей неподалеку акации, миновав вход в хату, пошли к шхуне. Им навстречу со шхуны на берег вышел мастер. Они обступили его и стали разговаривать.
Гнедой ждал момента, чтобы незаметно выскользнуть из хаты. Но они стояли кругом, и лицо хотя бы одного из них было направлено в сторону двери.
Потом двое направились к хате.
Гнедой отскочил от двери и в поисках спасения стал снова торопливо оглядываться вокруг. Двое, о чем-то разговаривая, приближались. Гнедой понял: спасения нет.
И тут в серых сумерках чулана, в самом его углу, он увидел лесенку. А над нею виднелся лаз на чердак.
Недолго размышляя, он бросился к лесенке, стал торопливо взбираться по ступеням. Только бы успеть! Две ступени под ним с треском обломились, но он уже успел ухватиться руками за края лаза. С силой оттолкнулся от лестницы, и она с грохотом обрушилась вниз.
Двое вошли в хату. Гнедой, лежа на самом краю лаза, затаился, затих.
— Слыхал? Вроде, что-то прогремело? — сказал один из вошедших.
— Старая хата. Что-то обвалилось, — успокоил товарища второй.
— Наливай, пока хозяин не явился.
Лежа возле самого лаза, Гнедой слышал каждое их слово.
— Так он говорил, что ночью опять.
— До того, как ехать, протрезвею. Холодно! Насквозь промерз!
— Ничего. Скоро отогреемся. Хозяин обещал, еще дня три-четыре.
Гнедой лежал на чем-то твердом и ребрами упирался в какой-то выступ. В боку стало саднить. Он попытался распрямиться. Под ним зашуршал камыш. И он снова замер.
Прошло какое-то время. Двое молча закусывали. Потом Гнедой снова услышал:
— Ты последний выходил из хаты?
— А что?
— Та кулеш в казане оставался. А сейчас пусто.
— Должно, хозяин доел.
— Не знаю, как тебе, а мне это уже надоело. Хоть одну бы ночь дал отоспаться.
— Спешит. И не гневи Бога, не за так недосыпаешь.
— Опасно стало.
— За это и платят.
Они ненадолго смолкли. Гнедой только слышал тяжелые шаги по хате. Потом снова заговорили:
— Ну что они там?
— Видать, что-то не ладится?
— А если и с этим мастером по замкам не заладится? Спрашиваю, запаяешь? Олова, говорит, нету, лампы нету. Похоже, у них пока еще ничего нет. Может, и мастера тоже.
— То — не наше дело. То пусть у хозяина голова болит.
Проскрипела дверь, и эти двое ушли из хаты. Видимо, снова направились к шхуне.
Гнедой подумал: самое бы время сбежать. Но вспомнил про сломанную лестницу. Если с бегством ничего не получится, снова на чердак он уже вернуться не сможет. Нет, уж лучше выждать, может, опять уедут. Один из них сказал же: ночью опять…
«Интересно, чем они ночами занимаются? — стал думать Гнедой. — Может, сети ставят? А может, они и вовсе эти… контрабандисты?».
Гнедой поворочался, прошуршал старым пересохшим камышом. Переполз подальше от лаза, нашел подходящее место у дымохода, вытянулся. От кирпичей дымохода тянуло теплом.
Долго никто не приходил. Потом послышались голоса, они о чем-то громко разговаривали, спорили. Но слов отсюда Гнедой уже не мог разобрать.
Потом голоса стихли, и Гнедой даже подумал, что они снова покинули хату. Но оттуда, снизу, изредка доносился кашель и топот ног.
Постепенно Гнедой угрелся и его сморил сон. Однако спал он чутко. И когда внизу вновь загудели голоса, он проснулся.
Они опять долго о чем-то спорили, что-то с грохотом перетаскивали. Потом стало тихо.
Гнедой тихонько перекатился поближе к лазу. Но внизу было темно. И голоса стали доноситься теперь со двора. Пофыркивали кони.
Наконец дружно застучали копыта, всадники покинули подворье рыбацкой хаты.
Гнедой ещё какое-то время лежал возле лаза, прислушивался. Но нигде не было слышно ни звука. Он решительно свесил вниз ноги, но снова вспомнил, что лестницы нет. Отпустив руки, прыгнул. Свалился он на ящики, стоящие друг на друге почти под самым лазом.
Ящики рухнули. Какой-то из них разломался, и из него с тяжелым металлическим звоном что-то посыпалось. Гнедой нащупал в темноте небольшую железку, и сунул ее в карман, на память о своем пребывании у негостеприимных хозяев. Он все больше и больше стал думать, что никакие это не рыбаки, а скорее всего, контрабандисты, а то, может, и вовсе обыкновенные бандиты.
Во дворе никого не было. Лишь из оконца рулевой рубки пробивался слабый свет.
Было темно. Но широкий след, проторенный всадниками, был хорошо виден на снегу. Он тянулся наверх, на пригорок, и исчезал сразу же за ним.
Гнедой, придерживаясь следа, зашагал в сторону спящего города.
* * *
Где-то далеко прозвенело разбитое стекло. Звук был не дробный, бутылочный, а тяжелый, тягучий.
— Проснись, Павел! — Красильников подергал Кольцова за полу кожаного бушлата.
— Что? Уже утро? — громко спросил Кольцов.
— Тихо! — прошептал Красильников. — Похоже, гости пришли.
Кольцов вскочил с лавки, словно его подбросила тугая пружина. Огляделся: фонарь в каморке по-прежнему еле тлел.
Тем временем Красильников проскользнул в мастерскую и едва не силком втолкнул в каморку ещё не проснувшегося, ничего не понимающего Миронова.
А в коридоре послышались шаги. Громкие, уверенные. Бандиты шли по коридору мастерской, никого не опасаясь. По пути открывали едва угадывающиеся в темноте двери. Видимо, они уже узнали расположение комнат.
— Лихие парни, — прошептал Кольцов и извлек из кармана кожанки револьвер. — Ни в чем не разобравшись. Нахрапом…
— Торопятся, — буркнул Красильников.
— Где моя винтовка? — раздался тихий голос Миронова.
— Вон, в углу, — ответил Красильников. — Только не балуйтесь, граф. Она заряжена.
Шаги приближались.
Всё время, пока бандиты шли по коридору, Кольцов лихорадочно размышлял, как в этом случае лучше поступить. Помещение тесное, принять в нем бой вряд ли разумно. Стрельба в темноте, рикошеты пуль. Уцелеть в этой свалке — шансы невелики.
И ещё в голове промелькнуло: очень уж смело идут. Знают, что мастер находится здесь. Он должен был ночевать в комендатуре, там ему заказано место. Но оно пустует. О том, что мастер остался ночевать у себя, они могли узнать только в одном случае: если кто-то из бандитов тесно связан с комендатурой.
Возможно и такое: они незаметно следили за мастерской и убедились, что мастер не покинул помещение. Но в таком случае они должны были бы знать, что он здесь не один, и вряд ли рискнули бы на такой безумный поступок.
Они шли безбоязненно, по-хозяйски. Явно, ни на какой отпор не рассчитывали. И эти громкие шаги — для устрашения.
А что, если…
Кольцов плотно прикрыл дверь в каморку, торопливо подкрутил фитиль в фонаре. Ярко вспыхнул свет. Кольцов высоко поднял лампу на вытянутой руке, и когда заскрипела входная дверь в мастерскую, он дал знак Красильникову: открывай!
Красильников резко открыл дверь каморки, осветив бандитов.
Кольцов выстрелил в потолок.
Ах, как жалел он потом, что не выстрелил в бандита. Но эта мысль возникла мгновением позже. А сейчас он стремился только к одному: ошеломить осмелевших бандитов, испугать их, лишить их воли к сопротивлению.
— Руки! — закричал он.
Бандиты шарахнулось назад. Их было несколько. Кольцов заметил это до того, как Красильников втолкнул его обратно в каморку. От толчка он выронил из рук фонарь, и со стеклянным звоном фонарь покатился по полу. Коротко вспыхнул фитиль и погас. Но в этой мгновенной вспышке Кольцов увидел искаженное, испуганное лицо бандита, и оно показалось ему знакомым. Нет, даже не знакомым, а где-то когда-то виденным… Бывают такие лица: один раз увидишь и потом долго его помнишь.
Всё остальное происходило в кромешной темноте.
Бандиты ломанулись обратно к выходу, отстреливаясь, побежали по коридору. Он заполнился пороховой гарью. Со стен и потолка посыпалась штукатурка.
Опасаясь пули, Кольцов и Красильников вскочили в сапожную мастерскую. И когда захлопала дверь черного хода, они вновь бросились за бандитами. Выбежали на пустынный двор. Бандиты на бегу, почти не оборачиваясь, продолжали стрелять. Миронов тоже выбежал из мастерской и, стоя на пороге, неумело дергал затвор винтовки. Долго целился и нажал курок.
Бегущий последним, бандит опустился на колени.
— Попал! — удивленно сказал Миронов. — Вы слышите, Павел Андреевич, я, кажется, попал!
Стоящий на коленях бандит пытался подняться на ноги. Трое других, поняв, что их товарищ ранен, приостановились. Но, увидев настигающего их Красильникова, снова побежали. Вскоре они скрылись за заборами. А раненый бандит, раскачиваясь, стоял на коленях с револьвером в руке. Он неторопливо приставил револьвер к виску, но его отвлек бегущий на помощь Красильникову Кольцов.
— Не упусти их из виду! — крикнул Кольцов. Он не видел, как бандит перевел ствол на него, только слышал торопливый топот удаляющихся коней.
«Упустили!» — с огорчением ещё успел подумать он. И тут его кто-то резко толкнул в грудь. Он с тоской посмотрел вслед бегущему вдали Красильникову, и ничком упал в истоптанный снег.
Глава шестая
Из глубокой тишины до него донесся веселый мотивчик давно слышанной немецкой песенки «Ах, мой милый Августин!». Тогда, в четырнадцатом, её играл на губной гармонике пленный австриец. Сейчас она звучала по-иному, словно её исполняли на клавесине. А затем с высоты стали медленно опускаться вниз, похожие на стеклянные шары, дождевые капли. Замерзая, они становились молочно-белыми и, падая на лед, с тяжелым медным звоном, рассыпались.
— …три… четыре… пять…— стал мысленно их считать Кольцов.
Потом в эти волшебные звуки стали вплетаться вполне земные покашливания, чьи-то печальные и совершенно неразборчивые перешептывания.
— …семь… восемь…
На эти небесные звуки наслоился знакомый голос:
— Девятый час, доктор. Вы обещали…
— Обещал. Но я не Бог.
— Скажите, он в коме?
— Повторяю для непонятливых: вашему товарищу несказанно повезло. В своей практике я с таким случаем встречаюсь впервые. Он отделался легкой контузией. Похоже, он уже очнулся.
«О ком это они?» — подумал Павел.
— Вы так думаете?
«Да это же голос Семена…» И в его памяти всплыл бегущий в темноту Красильников, и испуганный Миронов с винтовкой в руке.
«Какой странный сон. Или бред?…»
— Я не думаю, уважаемый товарищ. Я знаю.
— Но почему же…
— Извините, но вы мне уже порядком надоели. Сейчас мы поможем ему проснуться. Сестра, нашатырь!
По дуновению воздуха, наполненного запахами лекарств, он почувствовал, что над ним кто-то склонился. Ему было легко и уютно в этом волшебном пространстве, и ему совсем не хотелось его покидать. Но едкий запах оборвал его грезы. Он закашлялся и открыл глаза.
Над ним был белый потолок, а чуть ниже, на стене висели массивные французские часы, переселившиеся сюда, в госпитальную палату, из какого-то богатого особняка.
Он перевел взгляд на лицо седого человека с крупными чертами. У него был большой мясистый нос, и топорщились жесткие, как у моржа, усы. Таким лицом можно было бы пугать детей, если бы не его глаза: добрые и весёлые. Доктор отвернулся и кому-то сказал:
— Ну, вот он! Живой и здоровый! — он произнес это с некоторой торжественностью, почти как факир после исполнения колдовского номера. И назидательно добавил: — Если уж он такой замечательный, лучше его берегите.
Кольцов повернул голову.
Перед ним, как в театре, на длинной скамейке сидели, а сзади стояли люди. Постепенно он стал различать лица. Вот Красильников с перевязанной бинтом головой. Что это с ним? Ранен? Но когда? Дальше сидели Кожемякин, Гольдман, Бушкин и Миронов.
За их спинами стояли двое мальчишек. Одного, высокого, тощего, со взъерошенными волосами, Кольцов вспомнил. Кажется, это беспризорник из команды Красильникова со странным именем Турман. Он силился вспомнить что-то важное, связанное с этим мальчишкой, но воспоминание ускользало. Кажется, он исчез, и его собирались искать. Или речь шла не о нем?
Кольцов ободряюще подмигнул. Турман понял, что Кольцов улыбнулся именно ему. И тоже улыбнулся в ответ.
— Жив? — спросил Кольцов почему-то именно беспризорника чужим хриплым голосом.
— Живем, не тужим, жуем — веселимся, — расплылся в улыбке Турман. И торопливо заговорил: — А я вас, дяденька Кольцов, давно знаю. Может, с год, а то и больше. У меня кореш был, так он…
— Воспоминания потом! — строго прервал мальчишку доктор, и Турман запнулся на полуслове.
«Но почему они здесь? И причем здесь врач, который позволяет себе всеми командовать?» — все ещё ничего не мог понять Кольцов.
— Повидали? Жив и даже здоров! Но пара дней постельного режима ему не помешает, — сказал доктор.
И у Кольцова словно спала с глаз пелена. Всё прояснилось.
— Я ранен? — спросил он у врача.
— Вы контужены. И чисто случайно не убиты, — доктор наклонился к тумбочке, уставленной различными пузырьками: — Можете считать это своим вторым днем рождения.
Открыв ящик тумбочки, он что-то оттуда извлек и вложил в руку Кольцову. Павел ощутил небольшую круглую металлическую пластину. Разжав руку, он увидел на своей ладони орден Красного Знамени с глубокой вмятиной по самому центру. Это была вмятина от пули, она вдавилась глубоко в металл, но не сумела пробить его насквозь.
Кольцов понял, это был его орден, который он всегда носил на гимнастерке.
— Если бы не орден, все было бы куда печальнее, — сказал доктор.
— Веселенькое дело, — мрачно сказал Кольцов и вспомнил вдруг прощание с Каретниковым и его памятный подарок: заговоренную пулю, которая не убила его. Он пошарил рукой по шее и с испугом спроси: — Доктор! Тут у меня на шее…
Доктор снова опустил руку вниз, в ящик тумбочки, извлек оттуда цепочку с припаянной к ней пулей, брезгливо поднял её над головой Кольцова:
— Амулет, что ли?
— Да, доктор! Он самый!
— Странный вы народ, большевики, — укоризненно сказал он. — В Бога не верите, крестов на шее не носите, а это… шаманский амулет, постыдное украшение…
— Это — не украшение. Это — память об одном очень хорошем человеке, — немного помолчав, Кольцов добавил: — О друге…
И тут же подумал: где же они сейчас, эти странные мужики-хлеборобы, которые поверили в своего сельчанина Нестора Махно, в то, что он единственный знает, как обустроить жизнь, чтобы все были счастливы. Это совсем просто! Нужно, чтобы крестьянин растил хлеб для себя и для рабочего, а рабочий бы ковал для него плуги. И производили бы взаимовыгодный обмен. И никаких тебе денег, потому что деньги портят людей. От них на свете все беды, все зло.
Каретников был человек мудрый, обстоятельный, его красивыми посулами не возьмешь, но и он безоглядно поверил в своего вожака Нестора Махно и пошел за ним в гражданскую бойню.
Посетители неохотно выходили из палаты. Кольцов задержал Кожемякина, Гольдмана и Красильникова.
— Доктор, вы уж, пожалуйста, не ругайтесь. Очень серьёзное дело. Нам надо немного посовещаться, — сказал Кольцов врачу.
Врач весьма удивился. Еще несколько минут назад больной был без сознания, но вот вместо слабого голоса у него вдруг прорезался строгий, начальственный. Удивительное племя идет на смену патриархальной России!
— Что, без вас они уже не обойдутся? — спросил врач и подумал, что он не только мог бы, но и обязан запретить это совещание по медицинским показаниям, но понял, что эти твердокаменные большевики все равно поступят по-своему, и он добродушно, но ворчливо сказал: — Шут с вами, совещайтесь. Минут пятнадцать, не больше.
И вышел.
Трое снова присели на скамейку.
— Ну, рассказывайте. К сожалению, у меня в памяти о той ночи мало что осталось, — он взглянул на Красильникова. — Ты куда-то бежал, это я помню. И Миронова помню, он, кажется, стрелял.
— Похоже, бандиты решили «арендовать» у нас Миронова. Как мы и думали, он очень им нужен. Тебя в этой катавасии и контузило.
— С этим всё ясно, — остановил Красильникова Кольцов. — Что с бандитами?
— Ушли. Но одного все же взяли. Его, кстати, Миронов подстрелил. В ногу. Бегать не будет, а ходить…Я так думаю, ходить ему тоже уже недолго осталось.
— Что за фрукт? Допросили?
— Молчит. По всему, похоже — главарь.
Гольдман загадочно добавил:
— Увидишь его — удивишься.
Красильников рассказал Кольцову все, что узнал от побывавшего в бандитском логове Гнедого. Рассказывая, он вынул из кармана и положил перед Кольцовым небольшой, но украшенный драгоценными камнями золотой крест.
— Откуда это? — спросил Кольцов.
— Пацан из их логова прихватил. Говорит, у них там много этого добра. Должно, стаскивают туда все ранее награбленное. Боюсь, не сегодня, так завтра они рванут за границу. У них и шхуна там, в бухточке, стоит наготове. — Красильников поднял на Кольцова глаза: — Может, сегодня и возьмем?
Кольцов долго молчал, затем задумчиво сказал:
— Кто знает, сколько, чего и где у них еще припрятано. Пусть свозят все. Брать будем в море, — и добавил: — Пока они не догадываются, что мы знаем об их логове, они не станут торопиться.
— Но их главарь — в тюрьме. И не сегодня, так завтра он во всем сознается. И все. Всю нашу работу присвоят себе феодосийские особисты, — горячился Красильников. — И даже спасибо нам не скажут.
— Все возможно, — спокойно сказал Кольцов. — Но пока что положением владеем мы. Из этого и будем исходить. Прежде всего, не надо суетиться. У Степана Матвеевича уже налажены отношения с начальником Особого отделения Зотовым. — Он перевел взгляд на Кожемякина: — Будете следить за телодвижениями феодосийских особистов. В случае чего, предупредите от моего имени Зотова, что мы занимаемся этой бандой и несем ответственность за все последствия.
Кожемякин согласно кивнул головой.
— Вы, Исаак Абрамович, свяжетесь с Судаком, — обратился Кольцов к Гольдману. — Пусть для нас круглосуточно держат на ходу хотя бы один быстроходный катер. И ты, Семен! Что за ранение у тебя там, под бинтами?
— Та ничего такого, — смутился Красильников. — Когда ночью за бандитами гнался, споткнулся. Ерунда, царапина.
— Все равно, тебе полезен морской воздух. Будешь круглосуточно наблюдать за бандитами. Должен наперед знать, что они замышляют.
Обсудив свои дела, посетители поднялись, чтобы уйти.
Кольцов, бросив короткий взгляд на дверь, попросил:
— Вы мне какую-нибудь одежку сюда забросьте. — И шепотом добавил: — Сбегу.
— Ну, хоть сутки полежи. Мы пока и без тебя справимся, — сказал Гольдман. — За шхуной уже наблюдаем. В случае чего, тут же тебя известим. Так что, лежи, отдыхай.
* * *
Немного давило в груди, побаливала голова. Кольцов маялся в постели, пытался уснуть, но сон не приходил. Смутное ощущение, что какая-то мелочь, легкомысленный пустяк могут свести на нет все затраченные ими усилия, не позволяло ему успокоиться. Уже в середине дня он уговорил медсестру принести ему его одежду и, не докладывая врачу, покинул госпиталь.
В комендатуре он отыскал Гольдмана. Кожемякин уехал к себе во Владиславовку, Красильников и Бушкин находились на старом маяке, откуда было удобно наблюдать за рыбацкой хатой.
— Ну, зачем же ты так! — увидев, укорил его Гольдман. — Хотя бы сутки отлежался!
— Сутки? Я уже давно отвык мыслить такими временными категориями.
— Тогда, почему ты здесь?
— У меня много всего в голове. Но, прежде всего, я хотел бы увидеть «нашего» бандита. Помнится, ты обещал мне удивление.
— Его содержат в тюрьме. Это несколько кварталов отсюда. Дойдешь ли?
— Ради того, чтобы удивиться, дойду.
Феодосийская тюрьма была построена едва ли не в те времена, когда сюда протянули железную дорогу, и по ней хлынуло большое количество разного люда, в том числе и те, кто не очень чтил российское уголовное уложение.
Ее статус не изменился и после бегства Врангеля из Крыма. Лишь стражников сменила комендантская охрана, а заключенными стали бывшие врангелевские высшие военные чины и уклонявшиеся от регистрации цивильные, попавшие по каким-то причинам под подозрение властей.
Начальник Особого отделения Девятой стрелковой дивизии Петр Зотов провел в Феодосии еще одну, вторичную перерегистрацию, и всеми теми, кто имел хоть какое-то отношение к службе у Врангеля, забил тюрьму и спешно огороженную территорию элеватора и зернохранилищ. Каждое утро и после полудня он заставлял арестованных петь. А к вечеру, если выдавалось свободное время, читал им лекции о всемирной революции и о торжестве коммунизма на всем земном шаре.
Кольцов и Гольдман неторопливо шли по городу. Кольцов ступал тяжело, у него время от времени кружилась голова. И тогда он останавливался для передышки.
Откуда-то издалека до них донеслось нестройное и безголосое хоровое пение. С трудом можно было разобрать мелодию. Пели «Интернационал».
— Что это за концерт? — спросил Кольцов.
— Зотов, особист Девятой, буржуазию к новой жизни приучает. Дня три назад ничего не получалось. А сейчас, смотри, все равно как соловьи, — пояснил Гольдман.
— Дурость какая-то.
— Дурость дуростью, а санкционирована она нашей подругой Розалией Землячкой.
Оставив Кольцова одного в комнате для допросов, Гольдман вышел.
Кольцов ждал, когда приведут заключенного, и его не покидало любопытство, что за загадочную фразу обронил Гольдман: увидишь — удивишься… Какой сюрприз ожидал его?
Потом он услышал гулкие приближающиеся шаги. С глухим металлическим скрипом открылась дверь и, в сопровождении двух охранников, вошел высокий давно не бритый мужчина, одетый не без некоторого изыска. На нем были хромовые сапоги, галифе с кожаными вставками и, как нечто чужеродное, грубая домотканая рубаха навыпуск. Он медленно ковылял, опираясь на корявую деревянную палку.
Кольцов внимательно посмотрел на него. И сейчас, как и при короткой вспышке света вчера ночью, его лицо показалось ему знакомым. Возможно, они даже встречались. Этот синеватый шрам на губе, эти глаза с монгольским разрезом он уже когда-то видел. Где? И когда?
Арестованный тоже долго и удивленно своими слегка раскосыми глазами всматривался в Кольцова. И затем как-то торопливо отвел глаза. Кольцов понял: он его узнал.
Припадая на ногу, арестованный проковылял к столу, уселся. Глаз больше не поднимал.
Кольцов продолжал внимательно рассматривать арестованного и выдерживал паузу. Он знал этот прием: молчать и ждать, когда арестованный заговорит первым. Нервы у него напряжены. Ему не комфортно долго находиться в неведении. Он ждет разговора. И срывается. Как правило, это означает, что в этом поединке ты выиграл первую схватку.
С бандитом этот прием не сработал, хотя и заговорил он первым. Заговорил напористо, агрессивно:
— Час твоего триумфа, товарищ комиссар! — глухо сказал он.
И голос! До боли знакомый голос! О чём он? О каком триумфе?
Бандит ждал реакции Кольцова на его слова. А Кольцов силился его вспомнить и никак не мог.
Устраиваясь удобнее на табурете, бандит чуть повернулся. И Павел под воротом расстегнутой рубахи увидел край морской тельняшки. И этого было достаточно. В памяти всплыла недавняя поездка из Харькова в Снегиревку, и этот морячок, напористый, нагловатый. Кажется, снабженец… Что-то о нём недавно рассказывал Гольдман. Да, о том, что он устроил в Бериславе или в Каховке какие-то поджоги и сбежал на ту сторону, к Врангелю.
Кольцов даже припомнил его фамилию: Жихарев.
— Давайте, Жихарев, расставим все точки над «и». Я вам — не товарищ.
— Пожалуй, — согласился Жихарев. — Но тогда, быть может, вы позволите мне называть вас коллегой. Мы ведь и в самом деле коллеги. Вы — у нас в тылу, у генерала Ковалевского, я — у вас, в Отделе снабжения фронта. Неужели, не поймем друг друга, как профессионалы?
— Как же мы можем друг друга понять? Кто-то вас хорошо проинформировал: я действительно в прошлом разведчик, но вы-то — бандит, вор-домушник.
— Так сложились обстоятельства. Но я вас понимаю, — сказал Жихарев. — Меня ведь привели на допрос. Спрашивайте. Но лучше не трудитесь. Я ничего не собираюсь говорить. Просто нечего. Прошлое никого не интересует. Давно когда-то попал в плен. Чтобы не расстреляли, завербовался. Никаких поручений не выполнял. Всегда был предан нашим… А сейчас? Да, решил немного обогатиться. Возраст, болезни заставляют побеспокоиться о будущем.
Кольцов рассматривал Жихарева. Понемногу с него сползала бравада и оставался человек, которого крепко потрепали бессонные ночи и рисковые, опасные метания с целью грабежей.
— У нас с вами, Жихарев, разные «наши». И не надо прикидываться мелким мародером, жертвой обстоятельств. С ними советская власть тоже расправляется беспощадно, — жестко сказал Кольцов. — Вы — враг. Когда вы переметнулись к Врангелю, по какой причине, нас это уже мало интересует. Я не буду вас допрашивать. Хочу задать вам один личный вопрос и получить на него честный ответ.
— Личный? Интересно. Спрашивайте. Захочу — отвечу.
— Вы были знакомы с Савелием Яценко?
— С кем?
— С бывшим махновцем. У него еще кличка была: Колдун.
— Припоминаю. Встречался…
— А вопрос такой: по чьей просьбе наняли его, чтобы он переправил меня на ту сторону фронта, к вашим, — последнее слово Кольцов подчеркнул. — У кого к моей персоне проявился такой живой интерес? Не у вас же?
— Не знаю. Забыл…
— Знаете.
— Ну, знаю. А сказать — не скажу. Пообещаете послабление — вспомню.
— Это не в моих силах.
— В ваших. Вы, комиссары, теперь хозяева жизни. А я кто? Всего лишь щепка в этой круговерти. Протянете руку — не забуду.
— Лишние слова, Жихарев. Я бы всю дальнейшую жизнь стыдился, если бы попросил вас помиловать. Я, как и большинство людей, ненавижу бандитов. Извините, не хочу вам ничего обещать.
— Какой я бандит? Много ли в одиночку сделаешь? Сейчас вон целые банды по Крыму носятся. Их бы ловили. А я у Врангеля практически не служил, врагом советской власти не был. В плену, верно, был. Попытались завербовать. Согласился, потому что иначе бы расстреляли. Так что, с какой стороны не поверни, совесть у меня чистая.
Кольцов понял: не прост Жихарев, издалека заходит. Пытается выяснить, что известно Кольцову о его банде? «Всего лишь щепка», «что в одиночку сделаешь?…»
Жихарев ждал, что скажет на это Кольцов. Не дождавшись, продолжил:
— Таких, как я, сейчас тысячи? Что, всех к стенке поставите?
— Это уже не мое дело, — сказал Кольцов. — Разберутся с каждым.
— Не получается у нас разговор, комиссар. Я тебе чистосердечно, как на духу. А ты…
— Я тоже чистосердечно. Может, все же, вспомнишь? Ни тебе вреда, ни мне пользы это твое признание уже не может принести.
Жихарев долго молчал, видимо, прикидывал, сказать или не сказать? И в том, и в другом случае, комиссар прав, ни вреда, ни пользы.
— Попросили, я исполнил, — решился Жихарев.
— Кто?
— Какой-то штабной. Высокий чин. Не за красивые глаза: он меня от плена спас.
— Фамилия?
— Не знаю. Правда, не знаю. Кто-то мне сказал, что сам адъютант Врангеля. Лично я его ни разу не видел. Просто, передали его просьбу. Пообещали…
— Поверю, — сказал Кольцов. Он ещё там, в Париже, подумал о том, что отказ Тани выйти замуж за Микки Уварова как-то отзовется в его жизни. И вот — отозвался.
Продолжать дальше разговор с Жихаревым ему больше не хотелось. Все, что хотел узнать — узнал. О Жихареве и его банде он тоже знал ровно столько, сколько было необходимо.
— Ну что ж, — вставая, сказал Кольцов. — Если захочешь сказать мне еще что-то важное, вызови. По мелочам встречаться у меня нет ни желания, ни времени.
— А разве я тебе мало сказал? — удивился Жихарев.
— Почти ничего. Об адъютанте Врангеля Уварове я догадывался. Ты только подтвердил мое предположение. Так что весь наш разговор стоит не больше медного пятака. Извини, конечно…
— Вот так всегда, — разочарованно сказал Жихарев. — Такое, видать, время. За добро люди либо ничего не платят, либо платят злом.
— Добро — не товар, им не торгуют, — сухо сказал Кольцов и пошел к выходу.
Когда он был уже у двери, Жихарев встал и сказал ему вслед:
— А я тебя вчера ночью, комиссар, узнал! Я всегда для себя последнюю пулю берегу. Был бы кто на твоем месте, я б застрелился. А тут так захотелось в тебя стрельнуть, спасу нет. Жалею, что плохо прицелился. Такие, как ты, всю эту смуту заколотили.
— Нас таких много. На всех патронов не хватит.
— Не-ет, таких мало! От вас всё зло. Вы как те дрожжи, не кинешь в тесто, хлеб не получится.
— Спасибо на добром слове.
— Слышь, комиссар, не уходи! Не торопись! Ещё минуту!! — И, захлебываясь словами, он торопливо продолжил: — Ты не думаешь, что все еще как-то по-другому может повернуться? Вот ты меня уже из живых вычеркнул, а я все же еще на что-то надеюсь. Глядишь, мы еще встретимся в другое время и в другом месте и выпьем по бокалу доброго вина. Я угощу!
Говорил Жихарев зло. Он мстил Кольцову.
— Надейся, — спокойно сказал Кольцов.
И все же последние слова Жихарева задели его, навели на смутное подозрение. Слишком уж он уверенно сказал о будущей встрече. Не такой Жихарев человек, чтобы бросать слова на ветер. Нет, что-то он держит в своих тайниках. Что-то еще зреет в его голове?
* * *
И позже, лежа у себя в номере в гарнизонной гостинице, под тихое посапывание Гольдмана, Кольцов продолжал размышлять о сегодняшней встрече с Жихаревым. Не слишком ли уверенно сказал он о будущей встрече? Бравировал? Дразнил? В отчаянии говорил невесть что? Не похоже. Возможно, в ярости сболтнул немного, самую малость…
Во всяком случае, на эти слова Жихарева следует обратить внимание. Он — в тюрьме, под охраной. Сбежать без посторонней помощи невозможно. Кроме одного, единственного варианта: если его выведут оттуда и выпустят.
Члены его банды никаким мыслимым способом освободить его не смогут — ни подкупом, ни подкопом.
А кто бы смог это сделать?
Уполномоченный Ударной группой Данишевский может. Это в его силах и в его власти.
Зотов тоже может. Он — начальник Особого отделения дивизии, и феодосийский гарнизон находится в пределах его власти.
Кто ещё?
Комендант города Добродицкий. Тюрьма находится в прямом его подчинении.
Вероятно, существуют и еще какие-то способы живым выйти Жихареву из тюрьмы, но они были вне зоны его размышлений.
И еще Кольцов подумал о том, что слишком много времени и сил он уделил банде Жихарева и совсем упустил то, ради чего сюда послан. Но тут же память подбросила ему успокоительную мысль, что ликвидация банд сейчас, на первых порах, имеет важнейшее значение для утверждения советской власти на полуострове. Сам для себя он определил свою миссию широко: делать все возможное для внедрения добра, справедливости и законности на территории освобожденного Крыма.
В связи с этим он на ближайшее время наметил посетить лагерь задержанных во время перерегистрации. Выяснить: в каких условиях они содержатся? Обеспечены ли питанием? Какое будущее им уготовано?
Но, прежде всего, надо покончить с бандой Жихарева. Не слишком ли много внимания уделил он ей? Их пока много, таких банд. Но почему именно эта встала поперек его пути? Что это, перст судьбы? Интуиция? Слепой случай?
Но теперь Кольцов точно знал, что они — Микки, Таня и он — связаны между собой прочным канатом. И разорван он может быть только в случае, если Таня устанет его ждать и выйдет замуж за Уварова, либо Микки выложит ей неопровержимые доказательства, что Павла уже нет на свете. И лишь тогда она, возможно, примет предложение Уварова. Павел в этом раскладе существовал, как некая абстракция, как в школьном задачнике, когда записывают условие задачи: дано… и так далее. Он ни на что не мог повлиять.
Мысли стали путаться, и он уснул.
Глава седьмая
Вторая регистрация всех белогвардейских офицеров и чиновников была проведена вскоре вслед за первой. Ей предшествовало появление в Феодосии уполномоченного Ударной группы Данишевского. Он прибыл с секретными инструкциями, касающимися белогвардейцев и чиновников из аппарата Русской армии. Широкому разглашению эта инструкция не подлежала. С нею был ознакомлен предельно узкий круг лиц: Зотов, Добродицкий и несколько преданных им командиров, на которых возлагалась особая миссия.
После этого Зотов, Данишевский и их доверенные лица объехали все феодосийские окраины, взяли на заметку остатки Генуэзских крепостей, а также пустыри и овраги. А в порту в спешном порядке была огорожена высоким колючим забором территория элеватора и зернохранилищ.
Не в пример первой регистрации, после второй бывших офицеров и чиновников тут же брали под стражу и отвозили в порт, в концлагерь.
Одновременно была проведена перерегистрация в Судаке, Алуште и Керчи. Феодосийский лагерь все больше наполнялся арестованными. Данишевский в соответствии с данными ему полномочиями создал революционную «тройку», некий трибунал в усеченном виде. Логика была простая: один человек субъективен, двое, если у них возникли разногласия, оказываются в тупике, и лишь трое могут соблюсти объективность.
«Тройка» вершила правосудие под навесом зернохранилища, за столом, накрытым кумачовой скатертью. Задержанных подводили к ним по одному. Несколько коротких вопросов, таких же коротких ответов. И приговор.
— Фамилия и прочее?
— Лагода Андрей Макарович, уроженец села Голая Пристань Херсонской губернии, года тысяча восемьсот девяностого.
— Вероисповедание?
— Православный.
— Служба у Врангеля? Звание?
— Месяц в Дроздовской пехотной дивизии. Солдат. Потом…
— Достаточно. Служили ли в рядах Красной армии?
— Полтора года. В Пятнадцатой стрелковой дивизии. Красноармеец. Под Мелитополем попал в плен. Может, слыхали, там дроздовцы отсекли…
— Достаточно. Почему не бежали из плена?
— Не было такой возможности.
— Достаточно. Почему не бежали вместе с Врангелем? С какой целью остались в Советской России?
— Вы что? В чем-то меня подозреваете? Да я…
— Понятно, — многозначительно сказал один из «тройки» — Данишевский и обвел взглядом остальных двоих. Те не сказали ни слова, лишь кивнули головами.
После этого Зотов, вероятно, отвечающий за надлежащее оформление приговоров, сделал несколько пометок в лежащей перед ним толстой амбарной книге и передвинул её Добродицкому. И затем книга опять вернулась к Данишевскому.
Данишевский монотонным голосом прочёл:
— Исходя из нами услышанного, вы, Лагода Андрей, Макаров сын, уроженец Голой Пристани Херсонской губернии приговариваетесь к высшей мере революционной справедливости расстрелу. Уведите!
В день перед тройкой проходило сто — сто пятьдесят человек. Иногда, очень редко, приговор звучал иначе: «Отправить на север для революционного перевоспитания», и крайне редко: «Отпустить, как не представляющего угрозы для Советского государства». Но таких были единицы.
Ежедневно на рассвете к оврагу выезжала расстрельная команда. Первое время выезжали недалеко, к Генуэзской крепости и, расстреливая, сбрасывали тела в древние колодцы. Когда же колодцы заполнились, стали вывозить к оврагам.
Андрея Лагоду вывезли на расстрел в степь, к глубокой балке, промытой вешними водами, не одно столетие текущими к морю. По сторонам оврага поставили два пулемёта, и ещё два — в центре. Чтобы они не бросались в глаза, их до поры накрывали либо шинелями, либо лошадиными попонами.
С интервалом в час-полтора к оврагу подъезжали еще одна-две автомашины. Приговоренных с криками и ударами плетей ссаживали на землю:
— Быстрее! Быстрее! Вашу мать!
Приговоренные жались друг к другу, в последней надежде, что это какое-то недоразумение, что это всего лишь акция устрашения, что будет еще один суд и он во всем разберется. Среди ждущих в лагере своей участи часто запускали такой слух: вывозят в степь якобы для расстрела, а на самом деле немного попугают, а потом отпустят.
Андрея Лагоду привезли утром, первую партию вывезли еще раньше, на рассвете. Над белой от изморози степью вставало солнце. И хотя был только декабрь, небо было по-весеннему голубое и обещало хороший день.
Возле Лагоды старался поближе держаться парнишка из юнкеров, его земляк из Алешек. Они не были до лагеря знакомы, и о том, что земляки, узнали только здесь. Его должны были отпустить, он был призван едва ли не в последние дни войны, когда белые уже покидали Северную Таврию. Но на какой-то вопрос он ответил не так, как хотелось «тройке». Почему оказался в плену, он сказал, что был контужен. С армией не покинул Россию по той же причине: отказали ноги, не мог ходить.
Когда раздались пулеметные очереди и люди вокруг них стали оседать и падать, парнишка-землячок с удивлением обернулся к Андрею, хотел что-то сказать, но не успел. Одна или несколько пуль попали в него. Падая, он толкнул Андрея, и они вместе скатились по склону оврага, а затем с какого-то выступа полетели вниз, упали на мягкое. Андрей понял, это тела тех, кого расстреляли раньше, на рассвете.
Затем на них свалились ещё несколько мертвых тел. Парнишка-землячок не подавал признаков жизни. А сверху доносились голоса, что-то там говорили, но Андрей разобрать не мог. Раздались новые выстрелы. Он понял: пристреливают раненых. Придавленный телами убитых, он затаился.
Потом зарокотали и удалились автомобили. Но послышались тяжелые удары, и сверху на них обрушилась земля. Андрей понял: их засыпают. Затем наступила тишина.
Пролежав неподвижно еще несколько часов, он попытался двинуть рукой. Это удалось. Но освободившееся пространство сразу же заполнилось землей. Стало тяжело дышать. Видимо, земля перекрыла какое-то пространство, откуда к нему поступал воздух. Положение было безвыходное: или умереть от удушья, или растолкать тела своих убитых товарищей и получить доступ к воздуху. Он с трудом приподнял и опустил голову. На него вновь посыпалась земля. Он повторял это снова и снова, и вдруг увидел над собой свет, и стало легче дышать. И все же он еще немного неподвижно полежал, прислушиваясь. Но голосов больше не было слышно.
Он лежал, ощущая, как коченеют тела расстрелянных. Ему стало страшно от мысли, что он не сможет выбраться из-под застывших тел, и начал испуганно ворочаться. Земля постепенно стала его отпускать.
Работая руками, ногами и головой, он отвоевал какое-то крохотное пространство. На нем сверху лежал парнишка-землячок, но его окоченевшее тело уже не прогибалось и не сильно давило на него. Он оказался среди мертвых тел, как в коконе.
Стряхнув с лица землю, он открыл глаза и над собой увидел верхний край обрыва, поросший шиповником. На шиповнике ещё сохранились ярко-красные ягоды. Он вспомнил их кисловато-сладкий вкус и ощутил нестерпимую жажду и голод.
Небольшая стайка птиц прилетела лакомиться шиповником. Они весело прыгали с ветки на ветку, переговариваясь на своем птичьем языке. Он понял: наверху никого нет.
И все же он решил не рисковать и дождаться, пока на землю опустятся сумерки.
Было уже совсем темно, когда он выбрался из-под мертвых тел и пошел по оврагу. Но вспомнил, что надо хотя бы немного скрыть свои следы. Он вернулся обратно и, продвигаясь вдоль почти отвесной стены, стал обрушивать глиняную обочину и засыпать глиной свой след. И лишь затем ступил на нетронутую землю оврага.
Ничего не видя в темноте, он едва ли не на ощупь шел по оврагу. Он знал: овраг выведет его к морю. А там, на побережье, ближе к Феодосии, есть заброшенная рыбацкая хата. В ней можно будет пересидеть несколько ночей. Когда-то весной он ночевал в ней с отцом. Тогда там было тепло и весело. С десяток рыбацких фелюг причалили возле нее, следуя за богатым рыбным косяком.
Хату он нашел едва ли не под утро, когда силы уже оставляли его. Окно было занавешено какой-то тряпкой, дверь закрыта, но не заперта. Он осторожно приоткрыл ее, и страх прошел. Внутри хата пахла запустением и прогорклым дымом давно не топленного очага.
Возле плиты лежала небольшая охапка дров, их было столько, чтобы немного обогреть помещение. Сухие дрова загорелись сразу же, отблески огня заплясали по стенам.
На плите стоял казанок, прикрытый крышкой. Андрей заглянул в него. В казанке был лед. Он подержал палец на поверхности льда и затем лизнул его. Это была вода, кем-то заготовленная для незнакомого путника. Ничего съестного ни в комнате, ни в чулане он не нашел.
Утром он осторожно вышел во двор, огляделся. Неподалеку, в узкой заводи, шумно билась и клокотала волна. Ветер дул с моря, и редкие волны с шумом выплескивались на берег и едва не докатывались до порога хаты.
Походив по подворью, Андрей насобирал охапку каких-то щепок, палок, корней — всего, чем можно было кормить огонь.
Осторожно обследуя местность, неподалеку от хаты он нашел кустарник шиповника. Исцарапав руки, нарвал ягод, высыпал их в казан и долго кипятил. Затем, зачерпнув кружкой, обжигаясь, стал пить. Постепенно, не в один день, к нему стала возвращаться уверенность, что черная полоса в его жизни кончилась. Он стал подумывать, как однажды он сходит на маяк и, возможно, смотритель пригреет его у себя. Он знал, что работы на маяке всегда хватает и помощник смотрителю не помешает. Ему бы до тепла где-то перебиться. К тому времени окончательно установится власть, и он попытается вернуться домой, к жене, детям. Весной отремонтирует свою фелюгу и, как и прежде, станет таскать на ней грузы в Херсон, а то и в Очаков.
Сидя у пылающей плиты, он верил в то, что ещё вернутся к нему хорошие времена.
Но случилось все совсем не так, как он представлял. В один из вечеров он еще издали услышал топот конских копыт. Всадники простучали по взгорку и затем спустились вниз, во двор. Привязав коней к старой акации, они подошли к двери, кто-то из них подергал ручку двери.
Андрей услышал:
— Замка нема, а не открывается.
— Сильнее дергай, может, набухли.
— Не! Видать, изнутри!
— А ну, погодь! — после чего раздался грохот в дверь. Стучали, похоже, прикладом винтовки.
— Эй, кто там! Открывай! А то хату запалим!
Спрятаться было некуда. И не выбраться отсюда, ни проскользнуть незамеченным: окно выходило во двор.
Андрей прошлепал босыми ногами к двери, откинул запор. Дверь тотчас распахнулась, и первое, что он увидел: ствол винтовки, направленный на него.
— Руки подыми! — раздался из вечерних сумерек строгий голос. — Будем знакомиться!
Андрей понял: с этими ночными гостями не поспоришь Кто они, неизвестно. Но надо подчиняться.
Зажгли фонарь, прежде всего осветили стоящего с поднятыми руками Андрея.
— Один здесь?
— Один.
— Опусти руки. Кто сам?
— Человек.
— Вижу, не корова. Чего здесь живешь? От кого ховаешься?
— Жду.
— Кого?
— Рыбаков. Отстал от бригады. Косяк пойдет, они вернуться.
Андрей присматривался к гостям, пытался вычислить, кто же они? Не сразу поймешь. Одеты вразнобой, двое — в полушубках, один — в пальто. Все с короткими кавалерийскими винтовками. Их начальник, Андрей определил это сразу, был в теплом кожаном бушлате, с кобурой на поясе. И национальность определишь не сразу: вроде русский, а лицо смуглое, глаза злые, монгольские, раскосые. Это был Жихарев. Вопросы он задавал строго и напористо:
— Брешешь. Косяки весной пойдут, а счас… От кого ховаешься?
— Сказали б, за кого вы: за тех чи за этих. Чтоб мне не брехать лишку.
— Мы — за тех.
— За красных? — попытался угадать Андрей.
— Нет.
— Значит, за белых.
— Опять не угадал. Белые — в Турции.
Четверо вели себя по-хозяйски: подвесили на крюке под потолком фонарь, уверенно уселись на лавки.
Андрей продолжал присматриваться к гостям.
Жихарев это заметил, коротко сказал:
— Запоминаешь? Не пригодится.
— Что я, в потолок смотреть должен? — вскипел Андрей. После того что с ним произошло, он все еще равнодушно относился к смерти. Однажды пережив ее, он еще не успел снова влюбиться в жизнь. Не за что пока ему было ее любить. — Стращаете? Винтовкой под носом машете. Не я к вам, вы ко мне пришли. Гости, называется.
Жихарев удивленно, и даже с некоторым восхищением посмотрел на разгневанного Андрея. Андрей не мог сдерживать обиду, потому что был голоден и оттого зол.
— А он мне нравится, — сказал Жихарев своим напарникам, затем обернулся к Андрею: — Ты не очень горячись. Мы тоже горячие. Поговорим спокойно.
— Не получится спокойно. Третьи сутки отвар из шиповника пью. Сперва бы накормили, а потом допрос сымали.
— С этого бы и начинал, — и Жихарев кивнул крепенькому мужичку с короткими ногами. — Развязывай «сидор»! Поесть, и правда, уже пора.
Тот вышел из хаты и тут же внес тяжелый холщовый мешок. Стал выкладывать на стол хлеб, сало, круг домашнего сыра, мясо, кровяную колбасу, несколько луковиц. Такого богатства Андрей уже давно, со времени боев в Северной Таврии, не видел.
Со дна мешка коротконогий извлек алюминиевые миски, ножи, ложки.
— Воду закипячу, — сказал Андрей. Он накинул на себя свою изорванную, измазанную глиной куртку и хотел выйти.
— Ты куда? — остановил его Жихарев.
— Воды принесу. Тут под бугорочком родник.
— Не суетись. Есть кому, — сердито сказал Жихарев. И к роднику опять же пошел коротконогий. Видимо, он в их команде исполнял роль завхоза. Вернулся он с закопченным чайником в руке, сказал Жихареву:
— Шхуна на подходе.
— В заводь поместится.
— Войдет. И по глубине должно получиться.
Ели неторопливо, обстоятельно. Андрей ел вместе со всеми.
— Ну, вот. Мы с тобой один хлеб ели, — сказал после ужина Жихарев. В хате было тепло, он снял с себя кожанку, из-под домотканой теплой сорочки выглянула тельняшка. — Теперь выкладывай, чего здесь обитаешь? Кого ждешь?
— Никого.
По поведению гостей, по каким-то незначительным репликам Андрей понял, что советскую власть гости тоже опасаются. Но и на белогвардейцев они тоже не похожи. Носятся верхом, по ночам. Судя по всему, они знали об этой рыбацкой хате. Возможно, она когда-то уже служила им убежищем. Скорее всего, это обыкновенные бандиты.
— Не ответ! — нахмурился Жихарев.
Андрей подумал: нет смысла ему с ними хитрить. Если они бандиты, не в их интересах сдать его советской власти. Если белогвардейцы, они тоже не будут искать встречи с красными. Но и он им не нужен. И они легко и просто, одним выстрелом, избавятся от него. Не лучше ли оказаться им нужным?
— Сказал же: прячусь.
— От кого?
— От красных. Они меня уже один раз расстреляли. Не понравилось. Не хочу повторения.
— Красивая версия. Чем докажешь?
— Могилой, где я, случайно не убитый, лежал среди мертвых товарищей. Там несколько сот убитых.
— Где это?
— Верстах в пяти отсюда, в Кривой балке. По ней почти до конца идти. Там все сами увидите. Мертвых они только слегка присыпают глиной.
— Проверим, — Жихарев пристально посмотрел в глаза Андрею. — Если сбрехал, кожу с живого снимем. Может, ты из тех, кто стрелял?
— Тогда я б не тут скрывался, а в Феодосии в комендатуре от трудов праведных отдыхал.
— Ну, может, подослали?
— Думайте, как хотите. Ваше дело.
— Чем раньше на хлеб зарабатывал?
— В молодости рыбачил. Потом грузы на своей фелюге таскал по Днепру и по лиману. Тем и зарабатывал. — И он пояснил: — От покойного отца фелюга досталась, беспалубная, двухмачтовая.
— По морю ходил?
— Не доводилось. А вверх по Днепру — до порогов, и вниз — по лиману — до Очакова. Дальше на беспалубной опасно.
Неподалеку послышался сиплый свисток, в окне что-то коротко блеснуло.
Все четверо пошли к двери. Андрей тоже засобирался с ними. Но Жихарев сухо приказал:
— Оставайся здесь.
— Не доверяешь? — усмехнулся Андрей.
— Слова твои — золото, — сказал Жихарев. — Но я — стреляный воробей, отвык доверять сладким речам, — и с силой захлопнул дверь.
Андрей продышал в морозном стекле окна окошко и увидел осторожно вплывающую в заводь одномачтовую шхуну. Ее косой парус уже был приспущен, обвис.
Шхуна заякорилась. С нее на берег бросили узкие сходни. Все четверо гуськом поднялись на палубу. Шхуна была легкая, не загруженная. Ее борта на несколько футов поднимались над водой.
Андрей время от времени подходил к окошку, смотрел на едва угадывающуюся в темени шхуну. Оттуда доносились неясные голоса, судя но всему, там о чем-то спорили.
Потом они вернулись. Теперь их было пятеро. Этот, пятый, тоже был из их команды. Он все пытался доказать Жихареву свою правоту. Но Жихарев каждый раз его останавливал коротким словом:
— Потом!
— Я к чему это? — продолжал пятый, который, вероятно, приплыл на шхуне. — Говорю ему, нигде не светись. У них теперь по всему побережью…
— Потом! — и Жихарев взглядом показал новенькому на Андрея.
Андрей улыбнулся, но промолчал.
Ночью пятый их товарищ несколько раз подходил к окну, пытался сквозь изморозь что-то в ночи рассмотреть. И под утро он вдруг бросился к двери и, обернувшись, крикнул спящим на полу:
— Уходит, гад!
Бандитов словно пружиной подняло с пола. Они торопливо сунули ноги в сапоги, похватали винтовки, выскочили во двор. Об Андрее забыли.
Светало. Андрей уселся на порожке и наблюдал, как шхуна осторожно, под наполненным ветром парусом, выбирается из заводи.
Бандиты с двух сторон обежали заводь.
— Ты что, Семен! Сдурел? — кричали они.
— Я ж говорил, он что-то, паскуда, задумал! — кричал пятый, приплывший на шхуне.
— Поворачивай обратно!
И одновременно щелкнули пять винтовочных затворов.
— Чего суетитесь! Я подумал: лучшее кормой к берегу! Что б потом, в случае чего… — отозвался со шхуны рулевой.
— Смотри, не балуй! — пригрозил ему Жихарев револьвером. — А то, знаешь! У меня не заржавеет!
Шхуна под прицелами винтовок пристала кормой к берегу, рулевой опустил парус. Пришвартовавшись, спустился на берег. — Ну, шо? Очко заиграло? — улыбнулся он. — А так лучшее. Чуть шо, и чики-тики!
— Ладно! Иди к себе, поспи, — сказал Жихарев. — Артист! Чики-тики!
И, уходя с берега в хату, Жихарев остановился возле того, пятого, и негромко сказал ему:
— Твое место на шхуне, рядом с Семеном. Я тоже не доверяю ему. У него дури на все может хватить.
И тот, пятый, неохотно пошел на шхуну.
Спали дольше обычного. Андрей встал вместе со всеми.
Коротконогий поставил на плиту чайник, стал раскладывать еду. За стол не садились, ждали, когда придут те двое, со шхуны.
А они все не шли.
— Сходи, Василь! Поторопи!
Коротконогий Василий вразвалочку пошел к шхуне, но уже через минуту бегом вернулся. Распахнув дверь, испуганно закричал:
— Тимофей там… Зарезанный! Горло, гад!
— Кто?
— Да кто? Сенька, кто ж ещё!
— Тащи его сюда!
— Нет его! Видать, сбежал.
Они всей гурьбой бросились к шхуне. Андрей тоже попытался бежать с ними. Но Жихарев, как и прежде, остановил его:
— Сиди в хате! Не твоя забота!
Вскоре они вернулись. Жихарев отвязал своего коня, вскочил на него.
— Я до крепости и обратно! — сказал он. — Серега и Артём! Проскочите по берегу. Не мог он далеко уйти! Ты, Василь, на хозяйстве! С этим! — кивком головы он указал на Андрея.
Часа через полтора они снова собрались вместе. Рулевого не нашли. Затем вынесли со шхуны мертвого Тимофея и, прихватив две лопаты, скрылись за бугром. Василя оставили сторожить Андрея.
Вернулись они усталые и злые. Прогремели в сенях лопатами. Уселись за стол.
— Доставай из «энзе»! — велел Жихарев.
Василь вышел в сени и, вернувшись, поставил на стол бутыль. Молча разлили, молча выпили.
— Так, говоришь, на фелюге до Очакова ходил? — вдруг спросил у Андрея Жихарев.
— Было такое.
— А на шхуне сумеешь?
— Разница небольшая. Парус такой же, ветер — тоже, — ответил Андрей.
— А по морю?
— Нужда заставит, и по океану поплывешь. В Судак или в Ялту, тут все просто, вдоль берега.
— А если по компасу?
— Если не в шторм, можно попробовать. Батя в Одессу ходил, а мне не довелось.
Андрей хорошо понимал, к чему клонит хозяин, так про себя называл он Жихарева. Это его устраивало. Появлялась возможность уйти подальше от Феодосии, где его могли в любой день случайно поймать и снова поставить к стенке. А с этими можно рискнуть. А там — время покажет.
— Так как? Соглашаешься? — нетерпеливо спросил Жихарев.
— Не знаю, — покачал головой Андрей. Он подумал, что не надо слишком легко и просто соглашаться на предложение бандитов, чтобы не вызвать у них излишние подозрения. — Смотря, как договоримся. Может, и рискну, — и пояснил: — Не для моря посудина. Загрузить надо балластом для устойчивости. И то… боюсь, хорошего шторма она не выдержит.
— Балласт будет, — Жихарев переглянулся со своими напарниками. — Заплатим, как положено. А будешь стараться, может, и в долю возьмем. Тимохину долю тебе отдадим.
— Не знаю, — повторил Андрей. — Море — не лиман. Оно бывает бешеное.
— Ты вокруг да около не ходи, — начал сердиться Жихарев и выложил последний козырь: — Переправишь через море, и шхуна твоя. Как тебе такое предложение?
— Подумаю, — повторил Андрей.
Он сказал это искренне. После пережитого им расстрела он не однажды до встречи с бандитами сам себе задавал вопрос: как он вживется в эту власть, которая с самого начала дала понять, что нет ему места на его же земле? И где ему искать то место, которое для него? А тут вдруг такое предложение!
Конечно, эти бандиты — парни лихие, рисковые. Но какое ему дело до их жизни, их риска! Вот-вот наступят безлунные ночи, и если выйти в море поздно вечером, к утру уже можно быть далеко от этой кровавой мясорубки, именуемой Россией. Что будет там, на чужой земле, никто ему не скажет. Но пока есть силы, руки и голова на плечах, хуже там ему не будет. А когда окончательно все там у него образуется, можно будет и семью выписать. Или назад вернуться.
И он со вздохом сказал:
— А что мне еще остается, кроме как согласиться?
После бегства рулевого жизнь бандитов превратилась в сплошные гонки. Иногда они на целые сутки исчезали. Возвращаясь, что-то тяжелое заносили в хату, какие-то ящики, коробки. Андрей предположил, что они здесь, на побережье, грабили богатых людей, не уехавших на чужбину, и был недалек от истины. Его переселили на шхуну, путь в хату был ему заказан.
Жихарев, однако, опасался, что Андрей может сбежать, и однажды, еще в самом начале, примкнул его в рулевой рубке на прочную цепь. Их не было целую ночь. А на рассвете они застали его на берегу. Он сидел на прибрежном валуне и мрачно курил.
— Ты… как это?… Почему? — не сразу нашелся Жихарев.
— Я — не Полкан! — сказал Андрей. — Не доверяете — уйду. Обещаю: о вас нигде, никому и никогда.
С тех пор они вроде как приняли Андрея в свою компанию. Уезжали, доверяя ему свое хозяйство. Но в хату он, скорее всего, от затаенной обиды, больше не входил. С утра до вечера находился на шхуне, что-то ремонтировал, прибивал, прикручивал, словом, по-хозяйски приводил ее в должный порядок.
В те дни однажды сюда, в хату, пробрался беспризорник Гнедой, вынужденно провел на чердаке ночь и, никем не замеченный, ушел.
Это была ночь начала ликвидации банды. На рассвете после очередной вылазки не вернулся Жихарев. Трое его перепуганных напарников ничего толком рассказать Андрею не могли. Сказали только, что столкнулись ночью с чекистами и еле унесли ноги. Коротконогий Василь клялся, что видел, как упал Жихарев. Наверное, убитый.
— А если только раненый? — спросил Андрей.
— Ты к чему это? Что хочешь сказать? — заволновался Василь.
— Ничего.
— Ладно! Ладно! Не нагнетай! — Вскричал Василь и, успокаиваясь, добавил: — Конечно, надо быть готовым ко всему.
— Лично я готов, — сказал Андрей. — Ночи безлунные, парус в порядке, дует легкий бриз…
— Ты думаешь, что… — Василь хотел что-то спросить, но осекся.
— Надо бежать, — ответил Андрей Василю на незаданный вопрос.
— Подождем, — не согласился Василь. — Если он живой, может, ещё вернется. Он такой, он всё может.
Андрей давно понял: мотором у бандитов был Жихарев. Не зря они не только за глаза, но и при общении называли его не по имени, не по фамилии, а «хозяином». Растерянные, испуганные, без Жихарева эти трое ничего собой ровным счетом не представляли. Власть сейчас лежала у Андрея под ногами. Стоило только нагнуться.
И он поднял ее. Он строго посмотрел на каждого из них и внушительно сказал:
— У нас не так много времени на ожидание. Сегодня-завтра чекисты могут явиться сюда. Эту хатку многие знают.
— Но мы не готовы…
— Это вы им скажете.
— И вообще… — Василь посмотрел на двух своих товарищей и спросил: — Нам бы посоветоваться?
— Святое дело. Советуйтесь, — милостиво кивнув, разрешил им Андрей. Он почувствовал, что власть уже в его руках.
Они пошли в хату и долго там, в тепле, советовались. Потом вернулись. Вероятно, Василь понял, что их растерянность не ускользнула от взгляда Андрея, и заговорил с ним не столько строго, сколько крикливо:
— Значит, так! Мы решили: будем ждать хозяина. Тем временем соберемся! К завтрашней ночи соберемся. И все! И никаких разговоров!
— Вы только имейте в виду: у каждого человека есть свой порог выносливости, — сказал Андрей. — Выдержит ли хозяин?
— О чем ты?
— О пытках. Они умеют допрашивать. Вспомнишь даже то, чего не знал.
— Он — выдержит. А, если живой, то сбежит. — И Василь снова повторил: — Он такой, он всё может.
— Ну что ж! Завтра, так завтра! — согласился Андрей.
С тех пор как выбрался с братской могилы, он боялся только одного: снова оказаться перед теми тремя военными чиновниками с казенными голосами, называющими себя «тройкой». А рыбацкая хата, хоть и затерянная среди оврагов, все же была многим известна. И ему было непонятно, почему сюда еще не завернул конный красноармейский дозор. Это может случиться сегодня, завтра, в любой момент.
И Андрей твердо решил: ждет до завтрашнего вечера, а потом…
Даже если эти трое не будут готовы, если они будут тянуть время, ожидая хозяина, он уплывет один. Как это сделать, он уже придумал.
Не знал Андрей Лагода, не знали и эти трое, что они уже находятся под пристальным наблюдением.
Глава восьмая
С маяка в бинокль хорошо просматривалась рыбацкая хата и ее подворье. После ареста Жихарева их осталось четверо: трое без устали носились по каким-то своим делам, а четвертый почти не сходил со шхуны на берег. Он то поднимал и опускал парус, то вдруг, среди дня, зажигал и гасил топовые огни, то подолгу не выходил из рубки, выполняя там какие-то работы.
На следующий день они больше не отлучались с подворья: что-то переносили в шхуну, укладывали, затем стали жечь во дворе костерок.
— Что они там, рыбу коптят? — обернулся Кольцов к Красильникову.
— Шхуну смолят. Видать, подтекает, — объяснил Красильников. Все свое детство и раннюю юность он провел на море, и все рыбацкие заботы знал досконально. — Судя по всему, готовятся смыться.
— Ты думаешь?
Они стояли на самом верху маяка, в маленькой, круглой, со всех сторон застекленной каморке. И четверо бандитов там, вдали, выглядели потревоженными тараканами.
— Сам суди: вон как бегают. Торопятся.
— Думаешь, без Жихарева уйдут?
— Наверное, считают его убитым. Главное у них теперь: свою шкуру спасти.
— А если они знают, что он жив? — спросил Кольцов.
— Откуда?
— Не знаю. Как-то выяснили. Они-то предполагают, что Жихарев ни под какими пытками ни в чем не сознается. К тому же они знают, у него есть чем расплатиться за свободу.
— Ну и что тянуть? Может, возьмем?
— Не знаю. Держу в голове самые разные варианты. Не исключаю и этот. Но посмотрим. Больше всего мне бы хотелось взять их с поличным, на горячем. И с Жихаревым на борту.
— Откуда он там возьмется?
— Есть у меня кое-какие подозрения.
К вечеру они отправили поближе к рыбацкому подворью Турмана. Если он ночью увидит, что шхуна отходит от берега, он подаст им световой сигнал. Для этого они снабдили его жестяной банкой с намоченными керосином тряпками и коробком спичек.
На маяке оставили Гольдмана, его подменял Бушкин. Они должны были круглосуточно неусыпно дежурить на маяке и поддерживать телефонную связь с Судаком. Туда выехали Кольцов и Красильников.
Звонок раздался в полночь. Гольдман сообщил Кольцову, что шхуна с погашенными топовыми огнями отошла от берега и подняла парус.
О сторожевом катере Кольцов договорился с пограничной службой ещё накануне днем. Моторист и рулевой полтора дня томились в катере, ожидая приказа выйти в море. Ночью, едва Кольцов и Красильников с тремя своими подчиненными спустились к берегу, как катер гулко забарабанил и, выждав, когда гости разместятся, как застоявшийся конь, сорвался с места.
Какое-то время они мчались по морю, словно сквозь туннель. Скорость угадывалась лишь по реву мотора и соленым брызгам в лицо. Ни неба, ни воды видно не было. Потом, когда глаза чуть привыкли к темноте, по сторонам катера и чуть сзади стали едва видны, скорее угадывались два упругих буруна. Они изгибались крутой дугой и были похожи на два больших колеса, пытающихся догнать мчащийся в черноте ночи катер.
Такой сумасшедший бег по морю длился около часа. Затем моторист отключил двигатель, и катер ещё какое-то время, все ниже зарываясь в бризовую волну, остановился. После басовитого рокота двигателя вдруг наступила оглушающая тишина.
— Почему остановились? — спросил Кольцов у вышедшего из рубки рулевого.
— Мы на траверзе Стамбула. Они должны пройти где-то здесь, — объяснил рулевой. — Подождем.
Ждали полчаса. Потом еще час.
Волна играла не заякоренным катером, хлестала по ее бортам, разворачивала, крутила.
Моторист и рулевой стали заметно нервничать. Часто курили, коротко о чем-то переговаривались.
— А, может, они раньше нас здесь проскочили? — спросил Кольцов у рулевого.
— Не должно бы!
— Не должно или не проскочили? — настойчиво спросил Кольцов.
— Тут они точно не проскочили, — уверенно ответил подошедший к ним пожилой моторист. И затем, размышляя, добавил: — Может, на Гудауту свернули? Под грузинский берег.
— Ну и что будем делать?
Кольцов начинал понимать, что хитроумная поимка бандитов с поличным, на которую потрачено столько сил и времени, похоже, начинает рушиться. Быть может, прав был Красильников, когда убеждал его: «Чего мудрить! Накроем их без всякой канители». Но хотелось с канителью. Хотелось изящно, с поличным.
— Ловить будем! — решительно сказал рулевой. — Даже если на Гудауту свернули, далеко пока уйти не успели. Наши будут!
И снова взревел мотор. Высоко задрав нос, катер встал едва ли не на дыбы.
Ночь истаивала. Стояла все та же темень, но сквозь небесную черноту стали проглядывать высокие холодные звезды, и слева по борту узкая серая полоска отделила море от неба.
— Ну что? — вновь нетерпеливо спросил Кольцов у рулевого.
— Пока не видать, — вглядываясь в предрассветные сумерки, ответил тот.
— Прозевали?
— Не может быть! — уверенно ответил рулевой. — Говорю, не может быть, что б они хитрее нас оказались. Они думают, что мы их на траверзе Стамбула ищем, а сами под бережок, на Анапу движутся. Они на той шхуне открытого моря боятся.
— Что, знакомая шхуна?
— Одномачтовка? Так полагаю, что это наша, к Судаку приписана. Старика Власенка корыто. Семь раз штормами калеченная, семь раз тонула. Ее, в аккурат, с неделю назад украли.
Прошло минут двадцать. Кольцов, стоя рядом с рулевым, вглядывался в серую даль. «Глупое дело! Что тут можно увидеть! — с тоской подумал он. — Проглядели!»
И тут рулевой вдруг показал Кольцову:
— Глядите! Ползут, голубчики!
— Где?
— Да вон же! Во-он, под самым бережком.
Кольцов ничего не видел.
— Хитрые, заразы! — повеселевшим голосом сказал рулевой.
— Может, какая другая? — усомнился Кольцов.
— Она! Я ее из сотни узнаю. Она когда-то двухмачтовой была.
Потом и Кольцов увидел серую посудину под косым парусом, неторопливо плывущую почти под самым берегом. Показал Красильникову.
— И скажи, еще какой-нибудь час, и за Таманью в заливах бы спрятались. Точно, не нашли бы, — продолжал вслух радоваться удаче рулевой. — А потом бы они, на следующую ночь — вдоль бережочка до Батума…
Ещё было сумеречно, но шхуна уже была хорошо видна. Катер весело мчался ей наперерез. Глядя перед собой, рулевой продолжал громко комментировать.
— Заметили!… Куда ж вы теперь, голубчики! Скрыться-то некуда, кругом мели!
На шхуне, и верно, начался какой-то переполох. Трое с чем-то носились, что-то сбрасывали за борт.
— Ну что, крысы! Ищете норку? — войдя в азарт, закричал рулевой. — А ну, Афанасий! Влупи в оба глаза!
И моторист Афанасий, развернув два прожектора, осветил шхуну. Там на мгновенье все замерли, потом стали торопливо убирать парус. Моторист на расстоянии выключил двигатель катера, и он уже по инерции стал приближаться к шхуне.
Вдоль борта катера встал Кольцов и Красильников с револьверами, и трое особистов с винтовками. Катер тихо, кранцами, прислонился к шхуне. Моторист, несмотря на трех, угрюмо исподлобья глядящих на него мужчин, перепрыгнул на борт шхуны и, завернув швартовый канат за кнехт, подтянул к ней катер.
Двое особистов из команды Кольцова прошли на шхуну. Один из них заглянул в рулевую рубку, велел сидящему там Андрею Лагоде присоединиться к остальным трем, которые стояли на разбросанных по дну шхуны рыболовных сетях.
— Оружие, ножи попрошу сдать. Гранаты, если имеются, тоже.
— Оружия нет. А ножи… Как же рыбаку без ножа?
Кольцов уже тоже поднялся на шхуну и слышал этот разговор:
— Приказывают — сдайте! — коротко сказал он.
На сети к ногам Кольцова упали три финских ножа с короткими, но широкими лезвиями.
— А оружие — в море? — спросил Кольцов. — Или припрятали? Заранее скажу, оно вам больше не понадобится.
— Какое оружие? Какие гранаты? — коротконогий Василь попытался сыграть возмущение. Он начинал понимать, что дело их проиграно и самое время спасать свою шкуру. Но как?
— Что, разве непонятно, что мы — рыбаки. Обыкновенные рыбаки! — дерзко продолжал Василь.
— Что ловить собирались?
— Кефаль. Говорят, кефаль пошла…
— Что ж это она так? Сдуру, что ли? — спросил Кольцов. — Насколько я помню, кефаль — рыба весенняя.
Он нагнулся, приподнял край сети, сунул все свои пять пальцев в ячею. Сеть предназначалась для лова очень крупной рыбы, явно, не для кефали. И на шхуне, похоже, служила декоративным инвентарем.
Внимательно оглядев всех четверых, Кольцов заметил: у одного из-под шапки выглядывал край бинта. Подошел поближе, попросил:
— Сними шапку.
Тот неохотно снял. Бинт был давний, потемневший от грязи.
— Где ж это тебя?
— Да дрова рубал, — торопливо пояснил бандит. — Кусок отлетел, ну и…
— Что ж ты так, без шапки? Все ж зима, морозы.
Бандит не ответил.
— И чего тебя понесло в имение Свечникова дрова рубать? — с наигранным недоумением спросил Кольцов.
— Какое имение? Какой Свечников? — вскинулся от негодования бандит.
— Имение Свечникова во Владиславовке, — спокойно и даже с некоторым сочувствием сказал Кольцов. — Это там, где вы сейфы ломами уродовали. И не куском дерева тебя задело, а красноармейской пулей. На первом этаже, возле окна.
Бандит хотел было все отрицать, но после таких подробностей лишь с недоумением и со страхом посмотрел на Кольцова. Странно, этот комиссар знал то, чего не знал никто. Была темнота, и он, заблудившись в барских коридорах, искал выход. Значит, это он, этот комиссар, был тогда там, в темном здании. Это его пулевую отметину носил он на своей голове.
Красильников тем временем обошел шхуну, заглянул во все подозрительные уголки, но нигде ничего не обнаружил. Растерянный, подошел к Кольцову. Тот вопросительно взглянул на Красильникова, но он в ответ только отрицательно покачал головой.
— Так вот, господа бандиты! Речь моя сводится к следующему, — обратился Кольцов ко всем четырем. — Вы, верно, уже догадались, что мы кое-что о вас знаем. И даже чуть больше, чем вам бы этого хотелось. Никакие вы не рыбаки, а обыкновенные мародеры. И мы вынуждены будем передать вас советским властям. Если же вы чистосердечно во всем сознаетесь, я обещаю вам лишь одно: походатайствовать о смягчении вам наказания.
Наступила тишина, лишь было слышно, как бьет в борт шхуны тугая волна и плачут в вышине чайки.
— В чем сознаться? — нервно, но и несколько нагловато спросил Василий. — Верно, мы не рыбаки. Мы не успели бежать вместе с Врангелем. Да и не хотели, не их поля мы ягоды. И лишь когда убедились, что и здесь нас не ждет ничего хорошего, решились на бегство. Вот и вся правда.
— Слова ваши разумные и очень похожие на правду, — холодно сказал Кольцов. — А вот верить вам мне почему-то не хочется. Вы посовещайтесь, подумайте. Может, и решитесь во всем сознаться. А нет, вам же хуже. Поверьте мне на слово, господа, вашей пешке уже никогда не стать королем.
— Каких слов вы от нас ждете? — снова обиженно выкрикнул Василий. Но тем не менее обернулся к своим напарникам.
От внимания Кольцова не ускользнуло и то, как эти трое отступили от рулевого и лишь после этого стали вполголоса о чём-то разговаривать. Рулевой был явно не из их компании, в разговоре участия не принимал, стоял в сторонке в одиночестве.
Но и среди них, заметил Кольцов, тоже не было согласия. Разговор у них был нервный и часто переходил на тихий спор.
Когда они наконец смолкли, Кольцов спросил:
— Ну, до чего додумались?
— Вы ждете от нас каких-то признаний. А мы сказали все, как на духу. Больше нечего, — ответил за всех Василий.
— Ну что ж! Не скажете потом, что я вас не предупреждал. А сейчас… — Кольцов оглядел всех троих, перевел взгляд на особняком стоящего рулевого. — Сейчас очистите лодку от всей этой бутафории, — он указал на сети. — Все — за борт! И быстрее!
Все трое засуетились, схватились за сети. Рулевой же не тронулся с места. Всем своим поведением он как бы подчеркивал, что не имеет к бандитам никакого отношения.
— А вы что же? — спросил Кольцов у Андрея.
— Чужое добро. Я его сюда не приносил, не буду и выбрасывать.
Трое бандитов стали дружно выбрасывать в воду сети. Андрей продолжал стоять, не трогаясь с места.
Наконец дно лодки полностью освободилось. Оно было хорошо и свежепросмоленное. Но рыбья шелуха уже после ремонта успела прилипнуть к доскам. Это несколько смутило Кольцова.
Красильников прошел по шхуне. Солнце взошло, и сейчас уже хорошо просматривались все закоулки и закутки.
— Рубку осмотри! — попросил Кольцов.
— Смотрел. Ничего, — развел руками Красильников. Он ещё неторопливо обошел шхуну. Выглянул за борт, посмотрел осадку.
— Ну что?
— Осадка мне не нравится. Груза никакого, а сидит в воде глубоко. С другой стороны: рыбья чешуя на досках старая.
— Напрасно стараетесь, — услышав сомнения Красильникова, сказал Василий. — Брехать не станем. Мы себе не враги.
— Это точно, — согласился Кольцов. — Но все же очень похоже, что вы советской власти враги.
— Не верите людям, — похоже, даже обиделся Василь.
— Не верю, — откровенно сказал Кольцов.
Рулевой продолжал молча стоять, не спуская взгляда с Кольцова. И Павел вдруг заметил то, на что до сих пор не обращал внимания: трое бандитов угрожающе поглядывали на рулевого. Проходя мимо него, каждый пытался как-то его задеть, обратить его внимание и бросить на него злобный взгляд.
«Они его почему-то боятся», — подумал Кольцов.
Рулевой словно находился в ступоре и не обращал на тех троих никакого внимания. Он не замечал ни их взглядов, ни толчков.
Красильников вновь подошел к Кольцову:
— Ничего не пойму, рыбья холера! — с досадой выдохнул он. — Нутром чувствую, не простые разбойнички. А ничего понять пока не могу.
Рулевой слышал это. Он вдруг словно стряхнул с себя оцепенение и громко и решительно попросил:
— Дайте топор!
Красильников вопросительно взглянул на Кольцова.
— Дай ему топор! — велел Кольцов.
Трое бандитов застыли в испуге. И, лишь когда в руках рулевого оказался топор, они поняли то, чего ещё пока не поняли ни Кольцов, ни Красильников. Василий закричал:
— Он же сумасшедший! Он всех нас потопит!
— Не бойся, не потонешь! Говно не тонет! — зло огрызнулся рулевой и с каким-то злорадством и силой опустил топор на дно шхуны. И второй раз! И третий! Выколупнул кусок деревянного днища. Но вода в шхуну не хлынула. На месте вырубленной доски образовалась узкая темная щель.
Трое бандитов почти одновременно бросились к рулевому. Но прозвучали два выстрела: двое особистов, не спускавших глаз с бандитов, выстрелили в воздух:
— Стоять!
Бандиты застыли и угрюмо смотрели, как рулевой крошит фальшивое днище шхуны. Постепенно открывалось нутро тайника. Стали видны ящики, доверху набитые сверкающей желтизной. Это было не просто золото, а золотые изделия, которые носили на руках, на груди, которыми украшали свою жизнь очень богатые люди. Эти трое, как и их главарь Жихарев, знали, что на этот товар там, куда они пытались бежать, всегда будет спрос.
— Свяжите их! — приказал Кольцов.
Им заломили руки и уложили на корме яхты.
— Веревка — в рубке, — подсказал рулевой, продолжая, теперь уже бережно, крошить фальшивое днище, выбрасывая куски досок за борт.
Кольцов стоял возле раскрывающегося тайника. В руке он держал револьвер. Но трое бандитов, похоже, наконец-то смирились со своей участью и, связанные, тихо и молча лежали на корме.
Лишь когда рулевой, продолжая свою работу, приблизился к ним, Василь не выдержал:
— Думаешь, выслужишься? — злобно сказал он, встретившись с рулевым взглядом. — Думаешь, тебе всё простят?
— Мне теперь всё одно! Смерти я уже не боюсь! Но и с вами в одной компании помирать не хочу! — сказал Андрей и, отложив топор, устало вытер рукавом куртки лицо и присел на кнехт.
* * *
— Ну, рассказывай!
Они сидели вдвоем в рулевой рубке шхуны: Кольцов и рулевой Андрей Лагода. Шхуну тащил на буксире сторожевой катер. На катере, под охраной Красильникова и особистов, сидели связанные бандиты.
Шхуна клевала носом, зарываясь в волну, спущенный парус сухо шелестел на легком ветру.
— А что рассказывать? — обреченно спросил Андрей.
— Всё рассказывай. Как дошел до жизни такой? Как в банде оказался?
— Это вам для интереса? Или допрос сымаете?
— Мне показалось, ты не из их шайки.
— Правильно показалось. От безвыходности я к ним пристал. А если точнее, они ко мне.
— Вот и рассказывай.
— Все равно, не поверите.
— Почему же! Но, конечно, проверю.
— Так и в Феодосии. Поверил, прошел регистрацию. Видать, что-то у них не сошлось: вторую регистрацию объявили. И с комендатуры прямиком за колючку. Всех без разбора. Неделю морили голодом. Издевались. В шесть утра из зернохранилищ на улицу выгоняли, пересчитывали, а потом заставляли строем ходить и петь «Интернационал». Вечером человек сто отсчитают, и утром — на расстрел.
— Как это? Без суда и следствия? — не поверил Кольцов.
— Почему же! Судили! «Тройка» называется. Не коней тройка, а судей. Фамилию спросят, в бухгалтерскую книжку запишут. И всё — на расстрел. По сто человек в день судили.
— Такого не может быть.
— Я знал, что вы не поверите. Мне бы такое рассказали, тоже не поверил бы. Но меня так расстреляли.
— Погоди, погоди! Что значит «расстреляли»?
— Обыкновенно. Как на бойне. Там скотину, правда, молотом по голове. А нас из пулеметов. Разница небольшая. Набили нас полный грузовик, и — за Феодосию, в балку. Только мне в тот раз не суждено было помереть, ни одна пуля меня не задела. В балку вместе со всеми упал. До ночи выждал, а потом из-под мертвецов выбрался и ушел.
Андрей рассказывал неторопливо, ровным голосом, словно бы и не о себе. Пожалуй, отболело в нем уже все: и обида, и страх, и отчаяние. Может, просто возникла потребность выговориться. Или затеплилась в выгоревшей душе какая-то надежда.
Кольцов вспомнил, как проходил мимо огороженных колючей проволокой зернохранилищ и элеватора и слышал нескладное, подневольное пение «Интернационала». Всецело поглощенный поисками банды грабителей, он ни разу не поинтересовался, что и как там. А ведь направило его командование фронтом с конкретным заданием: проследить за исполнением законности в первые дни советской власти в Крыму. Нигде и никогда на свете ещё не было такой власти, она только рождалась. И как при всяком новом деле, ретивые исполнители могли наломать немало дров. Вспомнил недобрую улыбку Розалии Землячки и ее презрительное определение его должности — «государево око».
Да, он должен был быть государевым оком. А он бросился гоняться за бандой мародеров, одной из многих, промышлявших в Крыму. Не его это было дело, другие бы справились. А вот то главное, ради чего его сюда направили, он не выполнил.
— Дальше, — попросил Кольцов.
— А что дальше? Понял, что если снова попадусь им в руки, уже не промахнутся. Решил забраться в какую-нибудь глухомань и там переждать это расстрельное время. Не будет же оно вечно.
Андрей смолк. Было видно, что воспоминания даются ему не просто. А Кольцов обратил внимание на эти два слова: расстрельное время… Какое точное словосочетание! Не литератор, не политик, не интеллигент, которым по образу жизни надлежит осмысливать происходящее, а обыкновенный мужик, солдат определил суть последних месяцев этой кровавой бойни, именуемой революцией.
Расстрельное время!
— Я знал тут, под Феодосией, заброшенную рыбацкую хату. Решил там немного пожить, пока все успокоится, — продолжил Андрей. — Эти случайно на меня набрели. Я не сразу понял, что они обыкновенные бандиты. Они где-то эту шхуну украли, собирались в Турцию уплыть. Но их напарник-рулевой от них сбежал. А я это дело с юности знаю. Стали меня уговаривать, я и согласился. Подумал: второй раз меня поймают, уже так не повезет. А как там, в Турции, будет, я не знал, но что не расстреляют, был уверен. Вот так я в банду попал, — закончил свою горестную исповедь Андрей. И, немного помолчав, добавил: — Я так понял, вы здесь, в Крыму, какой-то начальник. Если поверили мне и если это в вашей власти, не выдавайте меня. Я ни единым словом вам не соврал. А помирать пока еще не хочется.
Они еще много о чем переговорили, пока катер тащил шхуну к причалам Судака. Кольцов расспрашивал Андрея о его службе в Красной армии и о том, как его взяли в плен кубанцы генерала Фостикова. Ему тогда предложили выбор: или служить у белых, или расстрел. Подумал: умереть он ещё успеет. Надеялся сбежать к своим. Не удалось.
— Скажите, Андрей, почему вы избрали такой странный маршрут? Почему под кавказские берега ушли?
— Поначалу так и думали: с Феодосии напрямую. А уже перед самым отплытием к ним какой-то человек приходил. Ночью. Я его не видел. Но после этого они велели мне идти на Нижнее Джемете, это под Анапой. В Джемете собирались ночь переждать, а потом на Батум и в Турцию.
«Странный зигзаг, — подумал Кольцов. — Напрямую и путь короче, и риска меньше. Вдоль кавказских берегов пока еще не все утихло».
* * *
В Судаке, после швартовки, из катера вывели троих связанных бандитов. Кольцов с Андреем тоже вышли на пирс.
— А что с этим? — кивнул Красильников на Андрея. — Может, тоже до их компании?
— Нет, Семен.
— Проверить бы надо
— Обязательно проверим. В деле. А пока…
Кольцов задумался.
Красильников ждал его решения.
— Пока вот что! Сегодня же съездишь с ним во Владиславовку и от моего имени попросишь Кожемякина, пусть сразу же выдаст ему какой-нибудь документ. А то снова попадёт под регистрацию.
— Так, может, мы здесь ему все сделаем? У меня тут, в комендатуре, есть свои люди.
— У Кожемякина, — твердо сказал Кольцов. — Здесь, в комендатуре, ему светиться совсем не с руки.
— Понял. Мы туда и обратно.
— Да, пожалуйста! У нас с тобой, Семен, с завтрашнего дня здесь, в Феодосии, начинаются серьезные дела.
Подъехали на автомобиле Гольдман, Бушкин и Миронов. Кольцов пошел им навстречу.
— Почему Миронова обратно в Харьков не отправили? — сердито спросил Кольцов.
— Не хочет.
— Вы знаете, Павел Андреевич, мне понравилось воевать. Как вы на это посмотрите? — спросил Миронов.
Кольцов удивленно хмыкнул:
— Я на это посмотрю отрицательно.
— Напрасно. Если бы не я, ваша биография к нынешнему дню сложилась бы иначе.
— Ваш мужественный поступок, граф, я оценил. Но благодарить вас буду в Харькове.
Тем временем особисты из отряда Кольцова стали вытаскивать из тайников шхуны тяжелые ящики.
Кольцов взял Гольдмана за руку:
— А вам с Бушкиным, Исаак Абрамович, поручаю разобраться со всем этим бандитским имуществом. Все описать, взвесить, подсчитать. Составить соответствующие описи. И сдать здесь, в Судаке, на ответственное хранение. Позже подумаем, как все эти ценности переправить в Москву, в Гохран.
— Что? Опять бриллианты? — воскликнул Бушкин.
— И бриллианты тоже, — сказал Кольцов.
— Все понятно. Значит, опять начнутся неприятности, — вздохнул Бушкин.
— Почему? — удивился Кольцов.
— Как? Разве вы не знаете? Бриллианты всегда притягивают к себе неприятности. Это такой закон. Вспомните хотя бы Париж.
— Ничего! — улыбнулся Кольцов. — Те неприятности пережили, может, переживем и эти.
Глава девятая
Медленно и трудно город залечивал свои раны.
Самым первым заработал базар, хотя на нем никто ничего не продавал. Большей частью менялись. Своих денег новая власть ещё не выпустила, а в старые — николаевские, керенские — уже никто не верил. За кусок сала здесь можно было выменять слегка поношенные сапоги, за ведро картошки — нарядную женскую кофту или мужские брюки. Даже рыба, которой всегда был завален базар, сейчас стала редкостью и поднялась в цене. Хорошую пятифунтовую рыбину можно было сторговать за буханку хлеба. Но эквивалентом деньгам все же служило сало.
К вечеру город пустел. Горожане расходились по домам, закрывали ставнями окна и на все запоры и засовы запирали двери. Под городом все еще бродили небольшие, не истребленные пока банды, иногда они отваживались залететь на окраину города, слегка пограбить и торопливо раствориться в степи.
Газет еще не было, и большей частью город жил слухами.
У ворот Реввоенсовета и комендатуры денно и нощно стояли часовые с винтовками. К ночи они выкатывали еще и пулеметы, они, как легавые собаки, лежали у их ног.
Красильников вернулся из Владиславовки к вечеру. Миронова он, вопреки его нежеланию, все же отправил поездом обратно в Харьков. Лагоду Кожемякин переодел в красноармейскую одежду и снабдил документами, но от этого страх у него не прошел. Он боялся всех и всего, что имело отношение к власти. Красильников поселил его вместе с собой в гостинице и попросил его свою комнату без крайней надобности не покидать. Можно было, конечно, отправить Андрея домой, но Кольцов имел на него другие виды. Он понял, что будет вынужден выйти на тропу войны с «тройкой», и Лагода ему был нужен, как свидетель.
Ночью Кольцов поделился с Красильниковым всеми своими размышлениями.
— Это что же получается? Похужее царских застенков? — удивился Красильников. — Нет, Паша, я в это не верю.
— Верю — не верю, это что-то из дамской карточной игры. Я допускаю, что это возможно, и обязан проверить… — Ворчливо сказал Кольцов и сокрушенно добавил: — Слишком много времени мы истратили на банду Жихарева.
— И правильно сделали, — не согласился Красильников. — Иначе все ими награбленное уже сегодня было бы у турецких барыг.
— Ладно! — махнул рукой Кольцов. — Сделали — и сделали. Впредь будем умнее.
— Что ты предлагаешь?
— Проверить все рассказанное Лагодой. Я ему верю.
— Ну, веришь. А как проверять будешь? Если они обыкновенные бандиты, они с такой же легкостью, с какой расправились с арестованными, расстреляют и нас. А потом еще и докажут, что мы с кем-то там состояли в каком-то сговоре или еще что-нибудь более нелепое.
— В этом ты прав, — согласился Кольцов. — Надо хорошо подготовиться. Вернутся Гольдман и Бушкин, соберем всю нашу команду. Если понадобится, подключим Кожемякина с его бойцами.
Размышляя, Кольцов пару раз прошелся по комнате, остановился напротив Красильникова:
— Будем надеяться, всё произойдет спокойно.
— Так думаешь? — спросил Красильников. — Объясни, почему?
— Ты вот сказал: бандиты у нас под носом орудуют. Это не совсем так. Эти — не бандиты. Тут нечто другое, — Кольцов замолчал и долго так стоял, невидяще глядя перед собою, видимо, собирался с мыслями. Затем продолжил: — Понимаешь: законов пока нет, а проблем много. Решают их, кто как может: кто по здравому размышлению и по совести, а кто бездумно, но старательно и ретиво исполняет указания, спускаемые с большой или не с очень большой высоты. Инструкции всегда пишутся для людей здравомыслящих, а исполняют их зачастую дураки. К примеру, в инструкции пишут, что надо тщательно разобраться с бывшими врангелевцами, которые не отплыли в чужие страны и остались здесь, выявлять тех, кто может угрожать советскому строю. Умный будет разбираться, а бездумный дурак при власти примет эти слова к исполнению и, перестраховываясь, станет расстреливать всех подряд. Похоже, это наш случай.
— Я и говорю, они и нас всех перестреляют, — повторил Красильников.
— Не-ет! Дурак боится бумажки. Он ей молится, как иконе, потому, что дурак, — сказал Кольцов.
— Но нам-то что от этого?
— Мы — государево око! У нас есть подписанное Фрунзе право единолично решать все вопросы, касающиеся дальнейшей участи военнопленных. Для дурака эта бумага страшнее пулемета.
— Ну а если эти, которые здесь, не дураки? Если они дорвавшиеся до власти обыкновенные бандиты? — снова высказал свое сомнение Красильников. — Таких сейчас тоже хватает.
— Я и сказал: на этот случай надо хорошо подготовиться!
* * *
Едва только красные войска вошли в Феодосию, здесь сразу же был сформирован уездный военно-революционный комитет. Он занял помещение гостиницы «Астория».
Комиссар Девятой большевистской дивизии Лисовский и Председатель военно-революционного комитета Жеребин в первые дни провели в городе показательные расстрелы. Прямо на железнодорожном вокзале были расстреляны раненые и выздоравливающие чины 52-го Виленского полка. Затем террор распространился на солдат и офицеров второго армейского запасного батальона, чинов Одесских пулеметных курсов, служащих Сырецкого госпиталя Красного Креста. Их пешком гнали до мыса святого Ильи и там расстреливали из пулеметов.
Военно-революционный комитет исчез также внезапно, как и появился. На его месте возникло, возглавляемое П. Зотовым, Феодосийское Особое отделение 9-й стрелковой дивизии. Оно заняло одно из самых красивых зданий города. Там же разместились местные чекисты, комендатура и морской отдел. В здании творилась полная неразбериха, часто, после удачных кровавых операций, здесь отмечались празднества с дебошами и стрельбой.
При Зотове были проведены две перерегистрации бывших белогвардейцев. Во время второй перерегистрации их задерживали и помещали в Виленские и Крымские казармы. Но из-за большой скученности вынуждены были создать ещё один лагерь, огородив колючей проволокой бывший элеватор и зернохранилище. Его заполнили бывшими белогвардейцами, свезенными из окружающих Феодосию сел и небольших курортных городков.
* * *
Они дождались Гольдмана и Бушкина, которые полтора суток, без сна и отдыха, разбирали награбленные жихаревской бандой ценности. Они приехали утром, и уже утром Бушкина отправили во Владиславовку к Кожемякину с просьбой быть готовым в любую минуту выехать со своими людьми в Феодосию.
Зотов встретил Кольцова и его товарищей радушно. Широко раскинув руки для объятий, он направился навстречу Кольцову. Но Павел как-то ловко и необидно увернулся от объятий.
Был Зотов высокий, румянолицый, со светлыми кудрявыми волосами и голубыми, чуть белесыми глазами. В нем было что-то от херувима, как их изображают на дешевых иконах. При всей внешней красоте, в его дряблом лице и ускользающем взгляде проглядывалось что-то злое и вместе с тем хитрое, лисье.
— Рад! И даже очень! — сказал Зотов, ласково глядя на Кольцова. — Сколько времени здесь, и все больше во Владиславовке. Я как-то нашего друга и товарища Кожемякина даже пожурил: почему держишь дорогих гостей у себя в провинции! И вот вашего товарища Гольдмана тоже упрекнул: что вы там нашли, в той Владиславовке? Мы все же здесь столица.
— Дела! — коротко пояснил Кольцов.
— Я немного посвящен в ваши дела. По долгу службы. Ночью Гаврюхин из Судака звонил. Говорят: хороший куш сорвали.
— Говорят? — нахмурился Кольцов. — Это плохо, что говорят.
— Не на базаре же! В наших, в командных кругах! Так что не скромничайте! — Зотов по-свойски ободряюще хлопнул Кольцова по плечу. — Между прочим, вы этот жирный кусок у нас отобрали. Я когда узнал, что вы этой бандой занимаетесь, сказал своим: пусть погоняется. Понимаю, после кабинетов к настоящему делу тянет. Вот и я: после боев, после настоящей оперативной работы тут, как на выселках, прозябаю. Стыдно сказать, чем занимаюсь. Прокормом этих врангелевских недобитков. А их у меня на сегодняшний день больше трех тысяч. Попробуй, накорми!
— Говорят, больше было? — спросил Кольцов.
— Работаем. Чистим помалу вражеские ряды. Стараемся.
— И каким же способом?
— Строго индивидуально. Каждого, как этим… как рентгеном просвечиваем. Порядочно приходится отсеивать.
— «Отсеиваете», это как же?
— Ну, выявляем потенциальных врагов советского строя. Откровенных врагов, шпионов. В основном только эти в Крыму и остались.
— И как это происходит? Ну, как выявляете?
Зотову не понравилась въедливость Кольцова, но он все же пояснил:
— Знакомимся с каждым, разговариваем. Иногда ведем перекрестный допрос. Конечно, определенные навыки в этом деле надо иметь.
Зотов говорил торопливо, но внушительно, как бы убеждая гостей. Ему очень хотелось понравиться Полномочному представителю ВЧК. Он его несколько побаивался — с тех пор, как ему позвонила Розалия Землячка. Она интересовалась у Зотова, чем там занимается Кольцов, и коротко его охарактеризовала: «Большая сволочь! Если сумеете, держитесь от него подальше!».
Держаться подальше не получилось. И Зотов всячески старался произвести на Кольцова благоприятное впечатление своей преданностью делу.
— Так, может, с этого и начнем? — предложил Кольцов.
— С чего, простите?
— Со знакомства с лагерем.
— Понимаю. Хотите лично познакомиться с врагами? Так сказать, лично посмотреть им в глаза! О, они сейчас совершенно другие. Были волками, стали овцами.
— И как только вы их определяете? Это же так не просто! Вы, вероятно, физиономист?
Зотов почувствовал в словах Кольцов издёвку. Но помня предостережение Землячки, не подал вида, что обиделся:
— Дело не простое. Но помогает опыт. Честно скажу, есть такие, которых не сразу раскусишь. Но — справляемся.
* * *
Лагерь был густо огорожен колючей проволокой, привезенной с недавно оставленных передовых позиций. По внешней стороне, со всех четырех сторон, прохаживались охранники.
Вслед за Зотовым они прошли за ограду. Здесь было многолюдно. Собственно, это уже были не люди, а их тени. Неопрятно одетые, почерневшие, с глубоко проваленными глазами, они бродили медленно, короткими шажками, словно были бесплотны. Лишь глухой кашель сотрясал их тела.
Они сторонились друг друга. Собираться по двое, по трое им было запрещено. Переговариваться тоже.
«Поразительно, как за столь короткий срок энергичные солдаты и офицеры были доведены до такого ужасающего состояния», — подумал Кольцов.
— Кого бы вам хотелось повидать? — спросил Зотов.
— В каком смысле? — не понял Кольцов.
— Ну, врангелевских чиновников, полковников или генералов? Они тут у нас все рассортированы, — Зотов указал на сторожку, пристроенную к зернохранилищу. — Там у нас содержатся генералы. Их немного, пока им и в сторожке хватает места. А вон в том зернохранилище — поручики, подпоручики и солдаты. Этих много.
Кольцов свернул в сторону и направился к зернохранилищу с поврежденной снарядом крышей.
— Здесь у нас самые отпетые. Полицейские, стражники, даже несколько контрразведчиков?
— Они что, сами сознались, что контрразведчики?
— Ну что вы! Разве эти сознаются? Свои же выдали. У нас тут хорошо работает премиальная система. Мы, как бы это сказать, покупаем сведения. Сообщил что-то для нас полезное — получи килограмм хлеба. Или пару селедок. На выбор.
— Очень поучительная система. Ваше изобретение?
— Нет. Уполномоченного ударной группы товарища Данишевского. Ну и я кое-что предложил. Знаете, Павел Андреевич, мы почти все обо всех знаем.
— Я смотрю, уже и обо мне, должно быть, подробные справки навели. За буханку хлеба? Или за пару селёдок?
— Вы все шутите, — обиделся Зотов.
— Нет, не шучу. Если людей до людоедства довести, они и отца с матерью оговорят.
— Странно рассуждаете, товарищ Кольцов. Они ведь, если говорить честно, враги. А мы их все равно кормим. Не вдоволь, но все же. И покупка сведений, согласитесь, это же лучше, чем то же самое выяснять под пытками. Во всяком случае, гуманнее. Товарищ Данишевский рассказал Розалии Самойловне. Та одобрила. И Бела Кун тоже. Сказали, что введут подобную систему в других лагерях.
— Даже не сомневаюсь, — сухо сказал Кольцов.
Сквозь выломанную дверь они вошли в зернохранилище. Цементный пол был устлан соломой. Где-то наверху, в крыше, зиял пролом, и в нем тонко посвистывал ветер.
Несколько человек, увидев вошедших, встали. Большинство, зарывшихся в солому, продолжали лежать.
— Больные, — пояснил Зотов. — Остальные во дворе.
— Медицинскую помощь оказываете? — спросил Кольцов.
— Каждый день их осматривают медработники. Но, если откровенно, многие из них — обыкновенные симулянты.
Среди пленных Кольцов выделил высокого седого мужчину, с ненавистью глядевшего на них. Подошел к нему.
Собственно, ни с кем он разговаривать не собирался. Все и так было ясно. Но неожиданно для себя он задал вопрос, которого потом долго стеснялся. Этот вопрос всегда задавали заключенным в дешевых книгах, прочитанных в юности:
— На что жалуетесь?
— Разве сами не видите? На скотскую жизнь, — ответил седой и отвернулся.
Несколько пленных, с посиневшими и измятыми от холода и недоедания лицами, двинулись к Кольцову.
— Лучше уж расстреляли бы, что ли! Зачем же так-то? Мы все же пока еще люди!
Все больше пленных стали обступать их.
— Нам бы на всех одну винтовку и сотню патронов! — выкрикнул пожилой мужчина, голова которого была перевязана грязной тряпкой, сквозь которую проступила засохшая кровь. — Мы бы сами пострелялись. Вешаться не хочется. Не пристало российскому офицеру умирать такой поганой смертью.
Кольцов понимал, что нет у него для них никаких слов утешения. Если и скажет хоть что-то — соврет. Потому что не в его силах было в одночасье что-нибудь изменить. Он понимал, что лагерь для военнопленных — не санаторий. Но увиденное не укладывалось в голове. Надо срочно что-то предпринять! Уже сегодня!
Они вышли из зернохранилища. По выражению лица Кольцова и его спутников Зотов понял, что никакие оправдания ему не помогут. Надо уже сегодня звонить Розалии Самойловне. Иначе, похоже, разразится скандал.
— Напрасно не зашли к другим. Я же предупредил, здесь самые злостные наши враги, заслуживающие смерти… — Пытаясь как-то оправдаться, сказал Зотов и с вызовом спросил: — Или я не прав?
— Они уже осуждены? Приговорены к смерти?
— Вопрос дней. Не успеваем.
Зотов предложил зайти в «генеральскую» сторожку. Видимо, она была здесь образцово-показательной. Но Кольцов коротко сказал:
— Достаточно.
— Напрасно, — огорчился Зотов. — Я думал, вы заинтересуетесь. Насколько я осведомлен, вы были адъютантом генерала Ковалевского?
— Вы и это знаете? У вас хорошо налажена агентурная работа.
— Спасибо, стараемся. Говорят, вы были хорошим адъютантом. Исполнительным.
— Да, конечно. Поэтому довольно долго прослужил адъютантом. Ошибся всего один раз. О чем не жалею.
— Я и подумал, откуда у вас это, — сказал Зотов. — Теперь понял.
— Что значит «это»?
— Я имел в виду классовое чутье. Оно у вас притупилось. Так мне показалось.
«Ах, ты, подлая душонка! Издалека заходишь! — подумал Кольцов. — Скажи я, что у меня нет классовых предубеждений, и я становлюсь врагом не только Зотова, но и Розалии Землячки, Белы Куна, а также всесильного Троцкого. Я — чужой им. Чужеродный. Ибо все это: концлагерь, чахоточный кашель, холод, голод, бессудные расстрелы — все это зиждется на классовом чутье, иначе: на классовой ненависти. Никаких законов пока еще нет. Есть инструкции, руководства к действию, которые сочиняют все, кто хоть чуть-чуть поднялся над головами остальных. Страна живет пока по ним. А они тоже родились не на пустом месте. Еще Робеспьер сказал: «Чтобы казнить врагов, достаточно лишь установить их личности. Требуется не наказание, а уничтожение». Нет, они с Зотовым никогда не поймут друг друга!
Они вернулись в Особый отдел.
— Хотелось бы взглянуть на ваши отчетные документы, — попросил Кольцов.
— Какие? — Зотов сделал вид, что не понял.
— Книгу учета прошедших перерегистрацию и содержащихся в концлагере. Надеюсь, там отражено, кого и когда судила «тройка» и какой вынесла приговор.
— Ах, это! Есть, конечно, такая книга. Как же! Туда записаны все решения «тройки». Но она, извините, строго секретная. Без разрешения Землячки или Куна я не имею права никому ее выдавать.
— Мне — имеете, — спокойно сказал Кольцов и положил на стол свое удостоверение. — Видимо, ваши информаторы не известили вас, что помимо того, что я когда-то был адъютантом генерала Ковалевского, в настоящее время являюсь Полномочным представителем ВЧК, и Михаилом Васильевичем Фрунзе мне дано право единолично решать все вопросы, касающиеся дальнейшей участи военнопленных.
Зотов коротко взглянул на удостоверение. Все, что ему надо было знать о Кольцове, он, конечно, уже знал.
— Но, к сожалению, этой книги на данный момент у меня нет.
— Где же она?
— Она хранится в сейфе, в канцелярии.
— Попросите принести.
— Видите ли, люди разъехались, — забеспокоился Зотов. — Может быть, завтра? Прямо с самого утра.
— Сегодня. Сейчас, — настойчиво велел Кольцов.
— Да, конечно. Я понимаю, — подхватился с кресла Зотов.
— Не трудитесь, — сказал до сих пор не проронивший ни слова Гольдман. — Я сам схожу.
— Я помогу. Вам могут не дать.
— Мне? — удивился Гольдман. — Мне дадут.
— Не суетитесь! — строгим голосом остановил Зотова Кольцов.
Гольдман вскоре вернулся с толстой амбарной книгой, положил ее перед Кольцовым.
— Это решения «тройки», — пояснил Зотов.
— Кто в нее входит?
— Вам конкретно?
— Именно, конкретно.
— Значит так. Уполномоченный ударной группой товарищ Данишевский, комендант Особого района Добродицкий. В Особый район входят еще Керчь и прилегающие…
— Кто третий? — спросил Кольцов. Зотов все больше начинал его раздражать. — «Тройка» же! Кто третий?
— Ах, третий? Разве я не сказал? Третий — я.
— Ну, вот! Разобрались! — Кольцов открыл книгу. — Я немного ее полистаю.
Из книги выпал листок и упал к ногам Красильникова. Зотов подхватился, чтобы его поднять. Но Красильников опередил его.
— Это — так, ничего интересного, — Зотов попытался забрать его у Красильникова.
— Неинтересное нас тоже интересует, — остановил его Кольцов и велел Красильникову: — Ознакомься, Семен Алексеевич.
Кольцов стал неторопливо листать страницы «расстрельной» амбарной книги.
Фамилии, фамилии… Дата, место рождения, вероисповедание, воинское звание. И все. Больше никаких сведений. Лишь в конце строки, короткий, как выстрел, приговор: расстрелять. И дата приведения приговора в исполнение. Вся жизнь умещалась ровно в одну строку: была ли она короткой, как у юнкера Гуляева, или длинной, насыщенной массой различных событий, как у полковника Закревского. Всего лишь одна строка. Словно человек родился и крестился для того, чтобы тут же умереть.
Кольцов вспомнил о Лагоде, его рассказ о военных мытарствах. Служил в Красной армии, был пленен, под угрозой смерти мобилизован в армию Врангеля. Голодал, мерз, совершал тяжелые переходы, рыл окопы, переворочал сотни тонн земли. Что еще? Стрелял в противника. Возможно, кого-то убил, но не знает об этом… Обычная судьба простого солдата на обычной войне.
Интересно, что вменили ему в вину эти трое вершителей судеб? За какие прегрешения намеревались лишить его жизни?
Кольцов пробросил с полсотни страниц и открыл записи последнего времени. Долго искал знакомую фамилию. И, наконец, нашел. Такая же короткая строка: родился, крестился, служил в Кубанской дивизии, расстрелян. Тридцать лет его жизни втиснуты в десять коротких слов. Был ли он женат? Есть ли дети? И сколько? Как жил? Кем трудился? Чем увлекался? Мало ли что ещё нужно знать, чтобы определить, что это был за человек? Хороший он был или плохой?
— Ну, вот, к примеру, Лагода, — обратился Кольцов к Зотову. — Андрей Макарович Лагода…солдат. Что за человек? За что такой суровый приговор?
— Покажите.
Зотов склонился над страницей амбарной книги, долго изучал совсем короткую строку. И наконец просиял:
— Ну, конечно… Кубанская дивизия…Вы разве не знаете? Самая оголтелая дивизия. Одни головорезы. Закоренелые враги!
— Вся дивизия?
— Да вся…
— То есть если бы они все оказалась в вашем концлагере, их всех постигла бы участь Лагоды?
— Но вы же не будете возражать, что дивизия Фостикова нанесла огромный урон Красной армии под Александровом и потом здесь, в Крыму? — Зотов чувствовал свою правоту и поэтому весь как-то приободрился и даже слегка прибавил в голосе металла.
— Не буду, — согласился Кольцов. — Но я спрашиваю конкретно о Лагоде. В чем его вина?
— Не понимаю вас. Когда судят банду, расстреливают всех: и главаря, и рядовых воров. Даже наводчика.
— Не совсем так, — не согласился Кольцов. — То есть если вы имеете в виду самосуд, тут вы правы. Но ведь вы, я имею в виду вашу «тройку», судите именем советской власти. И именем советской власти расстреляли бы всю дивизию, все несколько тысяч человек, если бы они оказалась в ваших руках. За что? За то, что во время боев нанесли нам потери? Но ведь вина у командира и у солдата разная. Даже у солдат не у всех одинаковая: один стрелял, другой кашеварил. А вы — всех подряд. Око за око. Это не суд. Это — месть.
Зотов не сразу ответил. Он понял, что комиссар с яростным напором осуждает их: его, Данишевского, Добродицкого.
— А как мне тогда понимать слова Льва Давыдовича Троцкого о том, что особые внесудебные «тройки» должны выносить не только справедливые, но и суровые приговоры всем, кто может в дальнейшем угрожать советскому строю, — нашелся наконец Зотов. — Троцкий так и сказал: «И пусть не мучают вас сомнения!». И Розалия Самойловна выступает в том же духе. И Бела Кун. Это что же, все они не правы?
— Когда еще нет законов, надо включать свою совесть и поступать по справедливости.
— Вы хотите сказать…
— Я сказал то, что хотел сказать.
— Но, простите, совесть — это химера. Совесть, справедливость — это нечто неосязаемое. И у грешников, и у праведников — у всех она разная. Как тут быть?
— Думать. Вам вручили власть, веря в то, что вы поступите по совести. А вы поступаете по чьей-то подсказке.
— Льва Давыдовича Троцкого
— Лев Давыдович — трибун. В полемическом задоре всякое может сказать. А вам надлежит соразмерять услышанное со своим разумом и совестью.
Ах, как хорошо говорит комиссар! Соловей! Но он-то уедет, а нам оставаться здесь и почти каждый день заполнять страницы амбарной книги, а потом выслушивать гневные упреки Розалии Самойловны: «Вырождаетесь, братцы! Вам бы — в попы. Те всем грехи отпускают, кто не попросит».
— Между прочим, Розалия Самойловна, она тоже…
— Что, поддерживает эти внесудебные приговоры?
— Я не о том. Она хвалила вас как убежденного большевика и даже советовала включить вас в «тройку», — попытался польстить Кольцову Зотов. — Может, примете её предложение?
Зотов не соврал: такое действительно было. Всего пару дней назад. Интересуясь, чем там, в Феодосии, занят Кольцов, Землячка вскользь посоветовала Зотову:
— Вы бы подпрягли его к какой-нибудь работе. Что, не понимаете? Чтоб он был занят и не совал свой нос не в свои дела. В конце концов включите его в «тройку». Он — дотошный, быстро по уши увязнет.
— Четвертым, что ли: — в ответ на предложение Зотова, язвительно усмехнулся Кольцов.
— Нет. Товарища Данишевского отзывают в Симферополь. Вместо него.
— Благодарю за предложение. Но я не слишком подхожу для этой должности, — сухо сказал Кольцов.
Он силился вспомнить, что ещё хотел выяснить у Зотова. С трибуналом, тут всё понятно. Надо что-то предпринимать, не откладывая в долгий ящик. Уже сегодня же необходимо сообщить Менжинскому и Фрунзе, а возможно, и самому Ленину об этом палаческом конвейере. Что если такое же происходит и в других местах? И ещё? Что-то ещё очень важное он хотел выяснить у Зотова?
Вспомнил: о Жихареве. Сказал Красильникову:
— Сходи в гостиницу.
— Он здесь. Прихватил на всякий случай.
С той недавней встречи с Жихаревым в тюрьме Кольцову не давали покоя его глумливые слова о том, что они еще встретятся, и даже выпьют по чарке доброго вина. Либо это была ни на чем не основанная бравада, эдакий фанфаронский блеф, либо… Либо Жихарев знал нечто такое, чего не мог знать Кольцов, и был уверен, что не надолго задержится в Феодосийской тюрьме. В таком случае, на чью помощь он мог рассчитывать? Только на Зотова? Потому что тюрьмой, как и концлагерем, ведал главным образом он.
Кольцов решил проверить свое предположение. Для этого надо было еще раз встретиться с Жихаревым. Если он по-прежнему в тюрьме, значит, все те его слова были блефом. А, если — нет и Зотов подтвердит исполнение приговора, значит за Жихаревым шхуна направлялась в Нижнее Джемете. Отсюда следует только одно: Зотов покрывал бандита, пытавшегося вывезти в Турцию награбленное. Он с Жихаревым заодно. И у него далекие планы. Не альтруист же он, не станет, рискуя жизнью, помогать бандиту просто так, за красивые глаза. При разговоре об этом вполне может понадобиться Андрей Лагода.
— Я хотел бы посетить еще и тюрьму, — сказал Кольцов Зотову.
— А что там? Одни мародеры. С ними приказано не церемониться. По законам военного времени… — как-то очень суетливо произнес Зотов.
— Ну, положим, уже мирное время, — возразил Кольцов.
— Для них нет мирного времени, — не согласился Зотов. — У нас они больше суток не живут.
— Одного из них я все же хотел увидеть. — Кольцов поднял глаза на Зотова: — Жихарева!
Зотов, похоже, заранее знал, о ком пойдет речь, и был готов к этому.
— Жихарева? — равнодушно переспросил Зотов. — Опоздали. Он уже расстрелян.
— Откупился? — в лоб спросил Кольцов.
Пушистый херувим Зотов вдруг побагровел, все настороженное спокойствие сплыло с его лица.
— Под трибунал хотите меня подвести, комиссар? — И, повысив голос, он угрожающе добавил: — Я буду жаловаться! За меня есть кому постоять! К Розалии Самойловне обращусь! До Льва Давыдовича дойду!
— Под трибунал вы сами себя подвели, Зотов, — спокойно сказал Кольцов. Он был уверен, что попал в десятку. Но как это доказать? У него никаких фактов, он ничего не может выставить против Зотова, лишь одни слова. Единственное, что он может сделать, это сблефовать, нагнать на Зотова страха. Если он правильно вычислил, Зотов может с испуга нечаянно раскрыться.
И Кольцов продолжил:
— Насколько я знаю, Жихарев жив и здоров.
— Он расстрелян.
— Нет. Он сейчас, в это самое время, находится в Джемете. Не дождавшись шхуны, он отправится в Батум.
— Какое Джемете? Какой Батум? О чем вы, комиссар?
— У меня есть свидетели, Зотов, — спокойно сказал Кольцов и, глядя ему в лицо, жестко добавил: — Те трое жихаревских бандитов, которых вчера привезли из Судака к вам. Думаю, им уже нет смысла что-либо скрывать.
Лицо Зотова слегка изменилось, исчез страх. Он постепенно брал себя в руки
— Я же сказал: бандитов мы долго в тюрьме не держим. С ними было все ясно, и ночью их расстреляли.
— Хорошо прячете концы в воду, Зотов. Но остался ещё один свидетель.
— Блефуете, комиссар.
— Нет. Вы забыли про рулевого.
— Мне ваши выдумки не интересны, — равнодушно ответил Зотов.
— Семен Алексеевич, — обернулся Кольцов к Красильникову. — Пригласите товарища, которого сейчас очень не хотел бы видеть господин Зотов.
— Никакой я вам не господин, — обозлился Зотов.
— Извините, но и товарищем называть вас у меня не поворачивается язык, — сказал Кольцов.
В коридоре, куда вышел Красильников, под охраной двух особистов из команды Кольцова сидел Лагода. Вид у него был довольно испуганный. Как его не уговаривали, что ему не сулили, он продолжал бояться.
— Ну, пожалуйста, не бойся, — попытался приободрить его Красильников. — Это они должны тебя бояться.
— Постараюсь, — кивнул Лагода и встал.
Зотов с деланным равнодушием перебирал на столе бумаги, но время от времени бросал короткий беспокойный взгляд на дверь.
Когда в кабинет вошел Лагода, он не сразу поднял на него глаза: продолжал разыгрывать спокойствие.
— Ну, посмотрите, Зотов. Вы ведь недавно встречались.
Зотов оглядел Лагоду и, похоже, действительно его не узнал, потому что успокоился и равнодушно сказал:
— Первый раз вижу.
— Второй, — поправил его Кольцов.
— Не помню.
— Я вам напомню. Это тот самый Андрей Лагода. В вашем гроссбухе написано, что он расстрелян.
— Ну и что?
— А он, оказывается, живой. Да-да! Это он и есть, тот самый Андрей Лагода. Был расстрелян. Выжил. Случайно оказался на шхуне. Надеюсь, он удовлетворит любой суд.
Зотов молчал. Он немигающее смотрел на Лагоду. Быть может, он вспомнил его, посланного им на смерть. Он стоял перед Зотовым живым укором.
Кольцов поднялся.
— Идемте, Андрей Макарович! Оставим господина Зотова наедине со своей совестью. Если, конечно, она у него есть.
* * *
В тот же день Кольцов со своим отрядом выехал во Владиславовку, к Кожемякину. Оставаться в Феодосии он не хотел, да и опасался за Лагоду. Смертный приговор был «тройкой» подписан, но по вине расстрельной команды не исполнен. А Зотов злопамятен. К тому же ему не нужен живой свидетель его связи с Жихаревым. Поэтому он может поднять гарнизонную комендантскую роту, чтобы исправить ошибку
В пути Красильников вдруг вспомнил:
— Забыл тебе отдать. Это — тот листочек, что мы отвоевали у Зотова.
— Что там?
— Прочти, не пожалеешь Может, пригодиться, если начнутся неприятности.
После напряженных дней в Феодосии Кольцов почувствовал себя у Кожемякина легко и комфортно. Только здесь он извлек из кармана листок, переданный Красильниковым, и стал читать. Его поразила холодная бесстрастность и циничность текста, словно бы речь шла не о живых людях, а о дровах или металлических заготовках.
«Начособого отдела 8 декабря 1920 г.
Южюгзападфронтов
тов. Манцеву
Донесение
Начальника Особого отделения
9 стр. дивизии Зотова П.
Керченский полуостров от Судака до Керчи включительно до настоящего времени занимала 9 дивизия, а посему Особотделению пришлось при занятии произвести регистрацию в двух городах Керчи и Феодосии всех оставшихся белогвардейских офицеров и чиновников. Во время регистрации прибыл уполномоченный ударной группы тов. Данишевский с данными ему инструкциями о белогвардейцах.
Приступив к выполнению, Тройка в составе Данишевского, Добродицкого и Зотова произвела следующую работу:
1. Из первоначально зарегистрированных и задержанных в Феодосии белогвардейцев в количестве приблизительного подсчета — 1100, расстреляно 1006 человек. Отпущено 15 и отправлено на север 79 чел.
2. Задержанных в Керчи офицеров и чиновников приблизительно 800 человек, из которых расстреляно 700, а остальные отправлены на север или отпущены.
Расстрелянных по приблизительному подсчету можно подразделить в процентном отношении так:
1. Генералов расстреляно всего 15 человек. Не мешает отметить из них двух: бывшего губернатора Екатеринославской губернии Шидловского и председателя корпусного Военно-полевого суда генерал-лейтенанта Троицкого.
2. Полковники и подполковники — 20% общего количества.
3. Капитаны и штабс-капитаны — 15%.
4. Поручиков и подпоручиков — 45%.
5. Чиновников военного времени — 10%.
6. Полицейских, контрразведчиков, приставов, стражников и других — 10%.
По окончании регистрации и облав в городе, приступаю по всему Керченскому полуострову к облаве людей с целью выявления скрывающихся офицеров и бежавшей буржуазии.
Начосободив и член Тройки П. Зотов».
Кольцов хотел позвонить Менжинскому еще вечером, после прочтения донесения. По из-за душевного дискомфорта решил отложить этот разговор до утра. Понимал, разговор будет тяжелый и к нему надо хорошо подготовиться.
Но ночью, взволнованный всем происшедшим, Кольцов подробно рассказал Кожемякину о своих последних днях в Феодосии, о схватке с Зотовым.
— Я думал, ты обо всем осведомлен, — нисколько не удивляясь, сказал Кожемякин. — Съездил бы в Керчь, там творится примерно такое же. Я так думаю, нигде столько крови не пролито, как в эти дни в Крыму.
— И вы так спокойно об этом говорите! — упрекнул Кожемякина Кольцов.
— Я пытался что-то предпринять. Написал довольно подробное письмо Менжинскому, изложил ему все свои соображения. Тишина. Написал Троцкому — тот же результат. А тут узнаю: Троцкий сказал, что он не приедет в Крым до тех пор, пока не будет ликвидирован последний контрреволюционер. Что Крым отстал в своем революционном движении на три года, и большевики обязаны быстро продвинуть его к общему революционному уровню России.
— Ну и как это должно выглядеть на практике? — спросил Кольцов.
— Вот Зотов и продвигает. На практике. Он — добросовестный исполнитель чужой воли. Но все идет не от него, а от верхов. От Землячки, Куна, Гавена, Маметова — людей, не без крови на руках. Ну и, вероятно, от Ленина, Троцкого.
— Что вы такое говорите! — упрекнул Кожемякина Кольцов.
— Хотел бы думать иначе, но факты не позволяют. — И, помолчав немного, добродушно проворчал: — А вы меня не слушайте! Старческое брюзжание!
Позвонил Кольцов Менжинскому утром. Начал рассказывать о серьезной размолвке с Зотовым, но Менжинский остановил его:
— Не трудись, я все знаю, — мрачно сказал он. — Звонила Землячка. Сообщила, что Зотов ночью покончил с собой. Она винит тебя, ждет твоих объяснений. Забирай всю свою команду и выезжай в Симферополь.
Глава десятая
До Симферополя они добирались почти сутки. Особый отдел фронта отыскали без большего труда. Он уже сворачивал здесь свою работу.
Спутников Кольцова, которых в свое время передал ему Миронов, сразу же прикрепили к Особому отделу Южфронта. Гольдман вернулся в хозуправление и уже через короткое время с головой ушел в работу. Лагоду Гольдман оставил при себе, и тот старательно паковал ящики с бумагами и ставил их в угол.
Красильников, мучаясь от безделья, ходил по коридорам, заглядывал в кабинеты, отыскивая своих давних товарищей по прежней службе в разведотделе.
Кольцов ждал Менжинского, который куда-то выезжал по делам. Возвратился он незадолго до полудня. Увидев Кольцова, сразу же пригласил к себе. За то короткое время, что они не виделись, Менжинский осунулся, похудел. Наступившее мирное время, судя по всему, не убавило ему ни работы, ни забот.
Поздоровавшись с Кольцовым, он сказал:
— Ну, вот! Скандал разрастается! — и, присев к столу, Менжинский стал тщательно протирать носовым платком очки. — Я имею в виду скандал, связанный с самоубийством Зотова. Землячка уже побывала у Фрунзе, в смерти Зотова винит вас. Вспомнила еще какую-то историю, тоже со смертью ее человека. Тоже винит вас. Настаивает на том, чтобы предать вас военному трибуналу.
Павел подумал: Землячка всё же решила с ним расквитаться за гибель Греця под Каховкой.
— Да, был такой случай. Мы возвращались с Корсунского монастыря на правый берег Днепра. С левого берега нас обстреляли, погиб один-единственный человек: сотрудник Землячки, которого она приставила ко мне соглядатаем. Вот, собственно, и вся история.
— В самоубийстве Зотова Землячка тоже обвиняет вас.
— Её дело. Впрочем, в самоубийстве Зотова я действительно виноват.
Менжинский вскинул на Кольцова удивленные глаза.
— Косвенно. Я уличил его в измене.
— Вот как?
— Это не просто слова. У меня есть доказательства, есть свидетель. Зотову ничего не оставалось, кроме как покончить с собой. В связи с этим, я хотел бы встретиться с Михаилом Васильевичем, объясниться. В конце концов Землячка высказала свою версию, у меня же есть своя.
— Встретиться с Фрунзе вам в эти дни не удастся. Михаил Васильевич перебазировался в Мелитополь. Туда временно передислоцировался штаб пока ещё не упраздненного фронта. Война-то продолжается. Теперь с бандами. Большими и малыми. Их расплодилось неимоверное количество, — и Менжинский попросил: — Расскажите мне все о Зотове. Как можно подробнее. Что бы я был готов к разговору с Землячкой.
И Кольцов стал рассказывать о бессудных расправах над военнопленными. При этом он положил на стол перед Менжинским копию донесения Зотова Манцеву.
Менжинский бегло просмотрел донесение. Кольцов ждал, как он отнесется к этой бумаге. Но Менжинский спокойно сказал:
— К сожалению, это происходит во всех городах Крыма.
— Но это же истребление народа! Это дикие бессудные расправы над поверженным врагом.
— Пытаемся остановить. Об этом уже знают Ленин и Троцкий. Но, к сожалению, пока никак не реагируют… Продолжайте!
Кольцов рассказал Менжинскому о банде Жихарева, о награбленных ценностях, которые он намеревался вывезти в Турцию, и о шхуне, которую группе Кольцова удалось перехватить уже в море. Зотов находился в прямом контакте с Жихаревым. И когда того арестовали, Зотов освободил его из тюрьмы. Шхуна должна была подобрать его где-то под Анапой.
— Я думаю, Зотов поступил правильно, что так завершил свою жизнь, — закончил свое повествование Кольцов. — Я готов доказать это не голословно. Сегодня же встречусь с Землячкой.
— Сегодня не встретитесь. Она сегодня утром со следственной группой ЧК выехала в Феодосию, — сказал Менжинский. — Мне кажется, вам лучше не встречаться. У вас, вероятно, взаимная антипатия.
— Но придется же.
— Во всяком случае, не в ближайшие дни. Вас здесь уже второй день ждет человек, по фамилии… — Менжинский заглянул в лежащий перед ним блокнот, куда имел обыкновение записывать фамилии и имена всех своих собеседников, — по фамилии Колодуб. Насколько я помню, вы с ним знакомы.
— Да, конечно. Это связной Нестора Махно.
— Я уже собрался отозвать вас из Феодосии. Повстанцы находятся сейчас в Евпатории. И они, и даже Нестор Махно просят вас приехать туда, к ним.
— Махно там?
— Он — в Гуляйполе. Но прислал тебе записку, — и Менжинский передал Кольцову четвертушку бумаги, на которой старательно, крупными буквами, было выведено:
«Павло Андреевич, дорогой мой комиссар! Посылаю до тебя моего ординарца известного тебе Петра Колодуба. Он расскажет тебе все в подробностях, чего я писать не хочу. Похоже, пироги мы пекли вместе, а есть их будут только одни твои дружки-приятели. От и душит меня обида-гадюка, шо идет все совсем не так, як мы в Старобельске друг дружке клялись. Где ж тогда тая справедливость, про якую вы, большевики, на своих знаменах пишете? Разберись. С тем остаюсь, Нестор Махно. Гуляйполе».
Письмо было тревожное. Нестор не очень любил писать, и уж коль он прибегнул к эпистолярному жанру, происходящее в Евпатории серьезно его взволновало.
— Вы не знаете, что там случилось? — спросил Кольцов.
— Бузотерят. По приказу Троцкого все, находящиеся в Крыму войска, объединяются в составе Четвертой армии. Махновцы отказываются подчиняться приказу. Говорят, что у них есть своя армия и подчиняться они будут только своим командирам.
— Ну и что же дальше?
— Дело конечно же не в переподчинении, — задумчиво сказал Менжинский. — Дело в Крыме. Но и в неподчинении приказу тоже.
— Но есть ведь Старобельское соглашение. Обещали…
— Нет. На словах, верно, обещали. Но в соглашении о Крыме ни слова.
— И как теперь быть? — въедливо допытывался Кольцов. Он и раньше понимал, что рано или поздно наступит час, когда надо будет сказать правду. И получается так, что сказать эти слова должен будет он.
— Это тот случай, который не нам дано решать.
— Но ведь вы просите меня поехать к повстанцам. Значит, я должен им что-то сказать?
— Можете не ездить. Я вас не посылаю. Вас просит Нестор Махно. Я же, честно говоря, хотел отправить вас туда, чтобы вы не влезали в эти дрязги с Землячкой. Я так понял, она намерена выпить много вашей крови. Уверен, что отобьемся. Но нервов нам это будет стоить.
— Ну, положим, я ее не очень боюсь, — сказал Кольцов, и долго сидел так, в задумчивости.
Менжинский не нарушал тишину, он перекладывал на столе какие-то свои бумаги, понимая, что Кольцов решает для себя, как поступить.
— Я поеду! — решительно сказал Кольцов. — Встречи с Землячкой я нисколько не боюсь. И поеду я к повстанцам вовсе не из-за того, что не желаю с нею встречаться. Я там, под Сивашом, съел с ними пуд соли. И они в моей жизни стали что-то значить. Я поеду, чтобы поддержать их. И слезная просьба Нестора Махно тоже — не пустяк. Не могу от нее отмахнуться.
— Я уже сказал вам, это не приказ. Решение принимать вам.
— Еду.
* * *
В небольшим особняке, покинутом каким-то важным чиновником, разместились сотрудники Особого отдела пока еще не расформированного фронта. Там и отыскал Кольцов Колодуба.
Увидев Кольцова, Колодуб как ребенок обрадовался. Они обнялись.
— А я уж хотел не солоно хлебавши вертаться. Третьи сутки тут бока отдавливаю. А душа болит. Хлопцы там, в Евпатории, живуть, як трава. Нихто не презжае, ниякых приказов не спускають. Вроде, як нас и нема.
— Как там Нестор Иванович? — поинтересовался Кольцов.
— Стрыбае, сменив костыли на палку. Тоже не понимае, почему про нас забыли, — обстоятельно объяснял Колодуб. — Когда в Евпаторию посылал, сказал: «Чуе мое сердце, шо-то недоброе большевики против нас затевають». И попросыв: «В случай чого, пошукай там нашего комиссара. Из всех большевиков я только одному ему доверяю». Вас имел в виду. «Он — при штабах, може, знает, шо там на уме у большевиков насчет нас», — и он вопросительно посмотрел на Кольцова.
— Ничего не знаю, — сказал Кольцов. Он догадывался, но точно ничего не знал. А врать не хотел. — И в штабах… Я так думаю, у них не вы на уме. Война кончилась, новую жизнь налаживать надо. А дело это не быстрое. Нигде, ни в какой книжке не написано, как ее, эту новую справедливую жизнь наладить.
— Во! — поднял палец Колодуб. — А батько Нестор Иванович знает. С ним бы посоветовались. Он другой раз як затеет рассказывать про будущу жизню, часами б слухав. Жизня буде, як песня.
Менжинский, конечно, знал, но ничего не сказал Кольцову о том, что командующий южным фронтом Фрунзе, в соответствии с указаниями Троцкого, в эти дни издал следующий приказ:
«В связи с ликвидацией Врангеля надо в кратчайший срок очистить территорию Украины от бандитских шаек. Предлагаю совместно с войсками внутренней службы (командующий Р. П. Эйдеман) поставить данный вопрос в порядок дня и выработать соответствующий план».
В нем ничего не говорилось о Повстанческой армии, но, похоже, этот приказ касался и ее. А, возможно, ее в первую очередь.
Если бы знал Кольцов об этом приказе, поехал ли бы он в Симферополь? И что сказал бы он повстанцам? Кто знает… На этот вопрос Кольцов не мог ответить даже самому себе.
* * *
Из Симферополя в Евпаторию в мирное время ходили пассажирские омнибусы, но их еще деникинцы мобилизовали на нужды фронта, и где-то там, на фронте, они и закончили свою жизнь. И сейчас добираться в Евпаторию пришлось на попутках: кто десять верст подвезет, кто — две версты. А от Сак до Евпатории и вовсе шли пешком по узкой пересыпи, отделяющей Сасык-Сивашское озеро от моря.
Зимняя Евпатория произвела на Кольцова тягостное впечатление. С оплетенных виноградной лозой домов слетела листва, и их стены даже в центре города, даже на Лазаревской улице выглядели неопрятно. Они были будто густо опутаны толстыми канатами. Лишь древняя мечеть Джума-Джами, построенная в незапамятные времена ханом Давлет-Гиреем, была едва ли не единственным украшением Лазаревской улицы.
Небольшие отряды махновцев несли гарнизонную службу в городе и его окрестностях. Квартировали на окраинах. Но с утра и до вечера большинство махновцев собирались у крепостной стены на Базарной площади и обсуждали различные слухи и предположения. Горячились, спорили. Потом эти споры перетекали в здание гимназии, где разместился штаб Повстанческой армии. Там, в большом актовом зале, продолжались споры до хрипоты. А началось все дня за три до приезда Кольцова в Евпаторию.
Три дня назад из Мелитополя, со штаба фронта, в Евпаторию прискакал нарочный. Он привез приказ: явиться всему командному составу Повстанческой армии для решения назревших неотложных задач.
— Шо за неотложные задачи? — стали размышлять махновцы.
— Може, в Абиссинию пошлють. Слухи пройшлы, будто большевики там собираются устанавливать советску власть.
— Яка Абиссиния! Зима на весну повертает. До дому пора…
Семен Каретников тоже, вместе со всеми, терялся в догадках: что за неотложные задачи. Ну, если бы вызывали только его одного, это он еще мог как-то понять. Но почему туда должен ехать весь командный состав? Грамотами наградят? Орденами?
Закрадывались в душу и тревожные мысли.
— Як поступить? У кого якне мнения? — спросил у собравшихся в зале Каретников.
— А шо думае командир? — хитровато спросил кто-то из махновцев.
— С одной стороны, приказы принято сполнять. Но с другой стороны…
— С батькой бы посоветоваться! — загудели в зале.
— Где батько, а где мы? Сами должны решить.
— Шо это за неотложны задачи? Може, их можно трошки отложить? А тым временем пошлем нарочного до батька.
— Пишут же «неотложни». Може, про Крым решать будуть? — с сомнением высказался начальник штаба Гавриленко.
— Один смотайся! — посоветовали Гавриленко. — Вроде як на разведку.
— Это — не вопрос. Могу, конечно, — согласился Гавриленко, и затем с сомнением добавил: — А если придется серьезный документ пидписувать? Я ж не уполномоченный. И потом, почему-то просять весь командный состав.
Спорили до позднего вечера. Но так ни к какому решению и не пришли.
Продолжались споры и на следующий день. Говорили всё о том же. Каретников раньше других понял бессмысленность этого вече. Надо заканчивать разговоры и принимать решение. И он сказал:
— Значит, так! Приглашають — поедем. Заодно и про Крым все разузнаем. Все ж мы хорошо подмоглы большевикам. Може, и про Крым решать в нашу пользу?
— А если откажуть?
— Откажуть — так откажуть. Тогда и будем думать, як с ими дальше жить! Меры предосторожности, конечно, соблюдем. Марченко и Тарановского оставляю замест себя на хозяйстве. На всякий случай…
Так и решили.
Провожали махновцы своих командиров до самой окраины Евпатории. Послали с ними человек двадцать охраны. Ещё бродили по Крыму одичавшие голодные банды. Встреча с ними в пути была вполне возможна.
Провожали всем миром. Решили: путь не дальний, за день доберутся. Стояли, глядя им вслед до тех пор, пока и не скрылись они за далеким песчаным пригорком.
* * *
Кольцов, Красильников и Колодуб приехали в Евпаторию на следующий день после отъезда командиров в Мелитополь.
Как и два дня назад, уже больше по привычке, свободные от службы махновцы, продолжали в актовом зале гимназии митинговать. Когда появились в зале Кольцов, Красильников и Колодуб, их сразу же тесно обступили.
— Ну, рассказывайте! Як там наши? — спрашивали Кольцова. — До чего договорились?
Только сейчас Кольцов узнал, что всё руководство повстанцев уехало в Мелитополь на встречу с Фрунзе.
— Мы только из Симферополя, ничого не знаем, — ответил за всех Колодуб.
— Ну, хоть шось же товарищ комиссар знають. Оны ж с Фрунзе, як я, к примеру, с Васькой Бондаренко, — сказал ординарец Каретникова Степан Зленко. — Воны и на Сиваши с нами булы, вместе воювалы. Воны шось знають…
— Братцы, я все время в Феодосии был. Ничего не знаю.
— Вы — на трибуну! Шоб все слыхали!
Кольцов поднялся к кафедре, оглядел зал. Повстанческая армия отличалась от Красной армии возрастом. Здесь, у Нестора Махно, воевали старики и крестьяне средних лет. Молодежи было меньше. В Красной армии наоборот: больше было молодежи. Стариков в основном выбили в боях или выкосили разные недуги.
— Хотел бы сказать вам что-то хорошее, но врать не хочу. Ничего — ни хороших, ни плохих новостей — у меня нет. Но будут! — начал Кольцов. — Воевали вы славно. Как могли, помогали советской власти. Не без вашей помощи наступил мир. Новое государство вскоре выработает новые справедливые законы, и тогда…
Он осекся на полуслове: дверь в актовый зал гимназии широко и резко распахнулась, и в проеме встал весь взлохмаченный, с почерневшим лицом и со злыми глазами, начальник разведки.
— Левка! Голиков! — ахнули махновцы.
— Мы ж тебя вчера в Мелитополь…
Левка молча, устремив глаза в одну точку, пошел по залу. И махновцы перед ним расступались. Он поднялся на сцену, снял свою лохматую шапку и хриплым простуженным голосом сказал:
— Их арестовалы… Всех…
— Кого? — не поняли многие.
— Всех! До единого! Каретникова, Гавриленка, Середняка, Павлова, Чалого… — И, озлившись, он закричал: — Вам всех перечислять? Всех двенадцать? Я их всех бачив! Им скрутили руки канатами и отвели в сарай. И все! Больше ничого не знаю. Всю ночь скакав! Налейте стакан самогону, а то впаду!
Левкины разведчики, измочаленные ночной скачкой, как и он, подхватили его, повели из зала.
Когда дверь за ними закрылась, Кольцов обратил внимание, что все глаза устремлены на него. Никто не проронил ни слова. Стояла мертвая тишина. Сотни глаз сверлили его. Они не понимали, что произошло.
Не понимал и Кольцов. Но не произнесенный вопрос висел в напряженном воздухе.
— Это какое-то недоразумение, — только и смог сказать он, — Я так думаю, все вскоре прояснится.
Потом, позже, Кольцов попытался выяснить у Голикова подробности. Узнал только, что и штаб, и сарай, куда поместили арестованных, охраняет Свободный дивизион курсантов. Левкины разведчики попытались проникнуть к сараю, но это оказалось невозможным. Сарай надежно охранялся.
В тот же вечер несколько махновцев ускакали в Гуляйполе, чтобы известить Нестора Махно об аресте его командиров.
Спать никто не ложился. Махновцы собирались в кучки, тягостно курили, вполголоса разговаривали, вполголоса спорили. Атмосфера была такая, будто где-то в соседней комнате обряжали покойника.
Кольцов долго ходил по коридорам гимназии, Красильников неотступно следовал за ним. Молчали. Затем Кольцов решительно сказал:
— Пойду, поищу Марченко. Поеду в Мелитополь.
— Вот так, среди ночи? — И, помолчав немного, сказал: — Я с тобой.
— Не нужно. Мне Марченко даст сопровождение. К утру буду в Мелитополе. Там ты мне, извини, не помощник.
— Везде был помощник, а «там» — не помощник, — ворчливо отозвался Красильников.
Кольцов вдруг грустно улыбнулся Красильникову:
— Ты всегда, Семен, был мне верным помощником. Не обижайся… Я ведь еду не решать вопрос. Я так понимаю, он уже решен. И не в Мелитополе, не Фрунзе его решал. Возможно, Троцкий. Как ты понимаешь, с ним не поспоришь.
— Ну а мне одному что здесь делать?
— Выслушай добрый совет. Езжай к своим. Повидай жену, детишек. Ты ведь об этом мечтал.
— Ну, мечтал.
— Сюда не возвращайся. А я тоже к тебе приеду. Обещаю.
Глава одиннадцатая
К утру Кольцов был уже в Мелитополе. Его сопровождающие остались в хуторе под городом. Колодуба, который тоже приехал с ним, он отправил на базар и велел ждать его там. Сам же отправился в Штаб фронта.
Фрунзе нисколько не удивился появлению в штабе Кольцова.
— Менжинский сказал мне, что вы выехали в Евпаторию. И я ждал вас.
— В Евпатории назревает бунт. Что тут случилось? Разведчики, которые сопровождали сюда, к вам, махновских командиров, вернулись и рассказали, что все они арестованы. Что происходит?
Вместо ответа Фрунзе положил перед Кольцовым приказ председателя Реввоенсовета республики. В нем говорилось:
«Могучим ударом Красной армии разбит и уничтожен барон Врангель.
Трудящиеся могли бы наконец приступить к мирному труду, хозяйственному строительству, но на пути мирной трудовой жизни встают бандитские шайки Махно. Командование так называемой Повстанческой (махновской) армии отказалось выполнить требования Реввоенсовета фронта о расформировании его частей, с тем чтобы они влились в состав Красной армии. Кое-где они уже переходят к открытому неподчинению.
Махно и его штаб, послав для очистки совести против Врангеля ничтожную кучку своих приверженцев, предпочли засесть с остальными бандитами во фронтовом тылу. Теперь эти виды раскрываются. Господа махновцы занялись борьбой с транспортом, грабежами…»
Кольцов оторвался от чтения, поднял глаза на Фрунзе:
— Но ведь все это ложь. Повстанческая армия несет службу в районе Евпатории. Никаких грабежей не отмечено.
— Это — там, в Гуляйполе и вокруг него, — пояснил Фрунзе. — И Каретников тоже. Он отказался перейти в наше подчинение. Предложили разоружиться, не согласились. И что дальше? Мощное военное соединение в наших тылах. Но не отвлекайся, читай дальше.
Кольцов снова вернулся к тексту приказа:
«…Производится мобилизация крестьянства, главным образом кулацкого населения. Усиленно ведется агитация среди многочисленных военнопленных белогвардейцев. Частям Южного фронта не остается ничего иного, как приступить к активным действиям против махновских банд.
Поэтому, приказываю:
1. Борьбу вести со всей решительностью и беспощадностью, ставя задачей полное истребление банд и уничтожение очагов бандитизма.
2. По занятии районов расположения махновских отрядов, провести беспощадное разоружение всего населения.
3. В случае выхода каких-либо частей противника из-под наших ударов, вести конными частями безостановочное преследование, имея в виду полное уничтожение шаек…».
Дальше шел целый перечень мер, которые должен был предпринять Южный фронт для окончательной ликвидации махновщины.
Подпись под приказом стояла: «Председатель РВСР Л. Троцкий».
«Вот и вся разгадка», — подумал Кольцов. Ещё раньше, разговаривая с Фрунзе о передаче Крыма махновцам, Михаил Васильевич ловко уходил от прямо поставленных вопросов. Вероятно, он уже тогда знал то, о чем лишь иногда догадывался Кольцов.
— Но зачем было заключать Старобельское соглашение? — спросил Кольцов. — Зачем вся эта ложь?
Фрунзе с некоторым сочувствием, как на несмышленого ребенка, посмотрел на Кольцова.
— Я ведь не однажды говорил с вами о желании махновцев получить Крым, — продолжил Кольцов. — Вы уходили от прямого ответа. А ведь они, помогая нам, проливали кровь. Много крови. Неужели они не заслужили иной участи?
Фрунзе присел напротив Кольцова:
— Уважаемый Павел Андреевич! Скажите, могли ли мы, большевики, позволить кому-то строить коммунизм по иному рецепту, кроме предложенного Лениным? Зачем нам нужны, в нашем новом государстве, оппоненты?
Кольцов молчал.
— Но мы ведь могли обойтись без этого Старобельского обмана? — наконец сказал он.
— Могли. Но это стоило бы нам много лишней крови. У нас не было иного решения. В наших тылах находилось довольно мощное воинское соединение с умным и талантливым командиром. Я имею в виду Нестора Махно. И куда направил бы он свои силы, мы не знали.
— И что теперь? Опять война?
— Ну, какая война? Неделя-две, и со всеми бандами будет покончено.
Кольцов хотел и боялся задать вопрос, ради которого почти всю ночь добирался сюда:
— И как вы собираетесь поступить с арестованными командирами Повстанческой армии? Они верно служили нам, и немало нам помогли.
Фрунзе ответил не сразу. Он встал, прошелся по кабинету и лишь затем коротко ответил:
— Сегодня ночью их расстреляли.
— Что? — воскликнул Кольцов. — Зачем?
— Павел Андреевич, вы — человек военный. И знаете: приказы высшего начальства сначала выполняются, а затем обсуждаются, — сухо сказал Фрунзе. — Прежде чем выполнить этот приказ, я долго думал. И тоже пришел к выводу, что иного решения нет.
— Ну, почему же? Почему? — не выдержал, повысил голос Кольцов.
— Оставь мы их живыми, идеология анархизма прорастет в новых поколениях. А, может, ещё и в этом. И все повторится. А страна устала от потрясений. Ей нужен долгий и прочный мир.
Кольцов встал. Ему было все ясно. Больше никаких вопросов у него к Фрунзе не было. Уже у двери он обернулся, спросил:
— Вы позволите выдать махновцам тела? Пусть похоронят на родине. Хоть в этом давайте поступим по-человечески.
— Да, конечно, — согласился Фрунзе.
— И дайте указание воинским подразделениям нигде их не задерживать.
— Если возчики поедут без оружия, — нетерпеливо ответил Фрунзе, склоняясь над письменным столом. Что ему эти мертвые махновцы? Смели их, как крошки с обеденного стола. Другие дела захлестывали Фрунзе. Он не был сейчас человеком, а лишь одной из шестеренок в безостановочном механизме все еще длящейся войны.
Кольцов вышел из здания, спустился по ступеням во двор. Огляделся. Где же он, этот проклятый сарай? Прошел за угол и увидел низкий приземистый каменный амбар с тяжелыми двустворчатыми воротами, на которых висел большой кованый замок. Возле амбара топтались двое молоденьких часовых.
— Желаете взглянуть? — услышал он сзади чей-то голос. Следом за ним шел пожилой красноармеец со связкой ключей.
— Здесь они? — спросил Кольцов.
— Так точно. Может, открыть? — звякнул ключами красноармеец.
— Не нужно.
Кольцов развернулся, пошел к выходу на улицу.
— А я вас знаю, товарищ комиссар, — сказал пожилой красноармеец. — Мы с вами не так давно на «форде» до махновцев ехали. Помните?
Кольцов взглянул на него, и не сразу, но узнал и этого пожилого красноармейца, и ту недавнюю поездку, во время которой его едва не пленила банда Савелия Яценко. Вспомнил: их было два брата, оба похожие друг на друга.
— А, пулеметчик, — тихо сказал Кольцов. Этих двух красноармейцев подводил станковый пулемет «гочкис», и время от времени они последними словами крыли Америку. — Ну, как, починил пулемет?
— Не, товарищ комиссар, на «максима» сменил. Эн тот, хоть и тяжелый, а все же наш, рассейский. Своих не подводит. А тот американец…
— «Гочкис» — французский.
— Да? Все равно, капиталистицкий.
Остановились. Кольцов поднял глаза на красноармейца, спросил:
— Скажи, как всё было?
— Обнакновенно. К стенке приставили… — Красноармеец вдруг что-то вспомнил: — Не, не так. Взвод Карпухина назначили. И когда к стенке их приставили, карпухинцы отказались стрелять. В бою, говорят, это — пожалуйста. А в мирное время, в безоружных… И отказались. Начался форменный переполох. Тогда молодых нашли, из латышей. Те сполнили.
Молча пошли дальше, к калитке.
Остановились возле калитки. Красноармеец снова сказал:
— А померли они любо-дорого. Стояли они, пока новых расстрельщиков ждали, промеж себя об чем-то говорили. А когда латыши пришли, один из них, самый главный, вы не поверите, песню запел: «Ой, ты Галя, Галя молодая!…» — после недолгого молчания добавил: — И все!
Кольцов вышел на улицу. Поначалу, погруженный в свои тяжелые мысли, шел, сам не зная куда. Просто, шел, чтобы не стоять, чтобы двигаться. Потом, словно очнулся, вспомнил, что на базаре его ждет Колодуб.
Увидел он Колодуба ещё издали. Видимо, тот уже устал его ждать, решил, что в этой сутолоке Кольцов его не найдет и стал выбирать малолюдные места.
Колодуб тоже увидел Кольцова, заторопился навстречу.
— Ну, шо там? Як оны?
— Ты, Петро, мотнись до наших сопровождающих. Пускай проскочат по хуторам, добудут двенадцать телег.
— Зачем? — не сразу понял Колодуб. Лишь спустя какое время в его голове стало что-то проясниться. Он поднял на Кольцова испуганные глаза, тихо спросил: — Шо? Повбывалы? Да за шо ж? Воны Врангеля ненавидели, до советской власти начали помалу припасовываться… Шо, правда? Повбывалы?
— Правда…. Объявили Нестору Махно войну.
— Нестор Ивановыч знав, шо так буде, — вспомнил Колодуб. — Часто любыв повторять: «Не вживуться два медведя в одной берлоге». — И, словно очнувшись от кошмарного сна, тряхнув головой, настойчиво спросил: — Шо? Отдадуть хлопцив?
— Пообещали.
— Так я мигом.
И Колодуб торопливо пошел к выходу из базара. И затерялся среди многолюдья.
* * *
Возчики подъехали под вечер. Каждая из двенадцати телег была устлана сеном, прикрытая сельской рядниной или куском брезента. Их встретил Кольцов, к тому времени уже заготовивший нужные пропуска для беспрепятственного проезда до самого Гуляйполя.
Знакомый красноармеец впустил телеги в штабной двор, и они выстроились одна за другой вдоль стены амбара.
Открылись тяжелые амбарные двери. Кольцов вслед за красноармейцем вошел в амбар, и не сразу, а лишь когда глаза стали привыкать к сумеркам, увидел выложенных в ряд расстрелянных махновских командиров. Первым в этом скорбном ряду лежал Каретников. На его белом лице все еще сохранялось выражение удивления. Рот был слегка приоткрыт, словно он пытался допеть свою любимую песню про Галю.
Тихо вошли возчики, неслышно переговаривались, решая какие-то свои дела. Путь предстоял хоть и недалекий, но ночью, с покойниками, по дорогам, густо наводненным войсками. Они уже успели окружить махновские районы.
Кольцов не сводил глаз с Каретникова. Вспомнил их трапезу в штабе, на берегу Сиваша. Пили «казенку». И Кольцов уверял тогда Каретникова, что большевики их не обманут. Он искренне верил в это. А получилось — обманули. И прощание в Юшуни вспомнил, последнюю их встречу. И «заговоренную» пулю вспомнил, которую подарил ему Каретников. И даже ощутил ее на своей груди.
Спасла его «заговоренная» пуля. Хотя, может, это простая случайность. Но ведь никто ничего про это не знает, ни один человек. А ведь так хочется верить и в «заговоренные» пули, и в новую жизнь после смерти. Может, и она есть? Кто знает?
Кольцов подошел к лежащим в ряд убитым, остановился возле Каретникова. Подумал о том, что обязан хоть запоздало, но сказать ему свое горячее спасибо за отведенную от него смерть.
Но что он может? Сказать слова? Снять с шеи и обратно вернуть Каретникову его «заговоренную» пулю? Не то, не то…
И тут его осенило. Он сунул руку в карман своей гимнастерки, нащупал свой изуродованный орден Красного Знамени. Он сохранил ему жизнь! Равноценная и равно дорогая память!
Он встал на колени и вложил свой изуродованный орден в карман гимнастерки Каретникова. Это было последнее спасибо за все: за сохраненную жизнь, за дни их ненавязчивой дружбы и боевое сотрудничество. Больше он ничего не мог для него сделать. Все остальное уже было не в его силах…
Траурная процессия медленно, под чириканье вездесущих воробьев, выехала со штабного двора и неторопливо двинулась по узким улицам Мелитополя. Тела убитых лежали на сене, прикрытые ряднами и брезентом. На передней телеге, рядом с возчиком, мрачно восседал Колодуб.
Кольцов проводил этот печальный обоз до Ореховского почтового тракта, ведущего в Гуляйполе. На тракте обоз остановился. Колодуб подошел к Кольцову.
— Вот и всё, Павел Андреевич! — сказал он. — Разлучает нас война. Чи доведется еще встренуться? Живить довго, и хай Бог помогае вам. Вин там, у себе, не делит людей на большевиков, белогвардейцев чи махновцев, а только на хороших и плохих. Вы — хороша людына. Спасибо вам за все… — И, помолчав немного, добавил: — В Евпаторию не возвертайтесь. Всякое может случиться. Народ у нас горячий. Хлопцев, шо нас сопровождали, я обратно в Евпаторию отправил, оны все там расскажуть. А Нестор Иванович и так уже все знае. Слышите?
Кольцов прислушался. Где-то из-за Орехово, от Полог и Гуляйполя, доносился гул, словно по булыжной мостовой катили бочки.
— То пушки, Павло Андреевич, — пояснил Колодуб. — Нестора Ивановича вразумляють.
Обоз снова тронулся. Кольцов провожал его печальным взглядом, пока он не скрылся за дальним поворотом.
Куда теперь? В Донузлав, чтобы разыскать Красильникова? Нет, пусть он еще побудет дома. С детишками, с семьей. За долгие годы войны он заслужил хоть эту малость счастья.
Возвращаться обратно в Симферополь? Все, что ему было поручено Менжинским, он выполнил. Ехать туда не хотелось. Там опять начнутся тяжелые выяснения отношений с Розалией Землячкой и Белой Куном. Землячка ему ничего не простит, ни давних своих унижений, ни давней гибели Греця, ни самоубийства Зотова.
Но если же он не вернется, Землячка начнет сводить счеты с Гольдманом, а если каким-то способом выйдет на Андрея Лагоду, уничтожит и его.
Он подумал, что не может, не имеет права бежать ни от Землячки, ни от Белы Куна, оставляя в беде своих товарищей. Это было не в его характере.
Уже через час он на поезде возвращался в Симферополь.
Глава двенадцатая
Менжинский принял Кольцова сразу же, едва только секретарь доложил о визитере. Он вышел ему навстречу, провел в кабинет.
— Присаживайтесь. С приказом Троцкого по поводу Махно и махновщины вас, конечно, в штабе Южфронта познакомили.
— Мне даже предъявили вещественные доказательства: расстрелянных командиров Повстанческой армии. Совсем недавно я вместе с ними форсировал Сиваш.
— Да, печальный поворот. Но, поверьте, иного выхода нет.
— В этом меня убеждал также Фрунзе.
— Вы не согласны? — спросил Менжинский.
— Согласен я или нет, разве это имеет теперь какое-нибудь значение! — вспылил Кольцов. — Был другой выход. Я провел с повстанцами не слишком много времени. Но, кажется, немного узнал их. Это — крестьяне, легковерные и искренние. Зачем было прельщать их Крымом?
— Этого не было, — возразил Менжинский.
— Этого не было на бумаге, но было на словах. У них там, в селах, бумаги не в чести. Живут под честное слово. И нам поверили. Не Старобельскому соглашению, а слову. А кончилось чем? Слову изменили, в душу наплевали, вероломно пошли на них войной.
— Но какой выход вы бы предложили? — примирительно спросил Менжинский.
— С ними надо было разговаривать. Я знаком с Махно. Он не твердокаменный. Его тоже можно было вывести на нашу дорогу. Может, не сразу, не в одну неделю. Надо было уговаривать. Убеждать…
— Видимо, посчитали, что на уговоры, увещевания у нас уже исчерпано время, — сказал Менжинский. — Страна в разрухе.
— А вы не подумали, что это наше вероломство ещё нам отзовется.
— Каким образом? Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду память. Не обычную, человеческую, а народную. Пройдет время, вырастут дети и внуки тех, кто сегодня и завтра будет убит. Они не забудут.
— Ах, Павел Андреевич, как я завидую вашей наивной молодости, — вдруг ласково сказал Менжинский. — Если в результате мы построим справедливое и богатое государство, они нам все простят. А если провалимся, мы сами себе ничего не простим. Разве не так?
Кольцов промолчал.
— Сожалею, что на какое-то время я буду лишен удовольствия беседовать и спорить с вами. Особый отдел Южного фронта ликвидируется. Нам возвращен статус Особого отдела ВЧКа. Несколько меняются и наши задачи. Совет труда и обороны принял постановление: на нас возлагается охрана всех советских границ. Главным образом в наши обязанности будет входить борьба со шпионажем. Контрабандой займется Наркомвнешторг.
— Ну что ж: поборемся со шпионами. Дело знакомое, — согласился Кольцов.
— Но, к сожалению, Феликс Эдмундович отзывает вас. Я просил его оставить вас здесь, ссылался на ваш опыт. Но мне было категорически отказано.
— Не говорил, зачем я ему?
— Вы же знаете Феликса Эдмундовича? А из других источников я узнал, что вокруг вас затевается какая-то нешуточная возня. В ее центре — Землячка. В ней задействован даже Лев Давыдович Троцкий.
— Ничего себе! Она уже выдвигает на поле боя тяжелую артиллерию, — улыбнулся Кольцов.
— Веселиться-то особенно не от чего, — мрачно сказал Менжинский. — Вам пока еще не страшно, а Дзержинский за вас побаивается. Он просил отправить вас в Харьков, в распоряжение Манцева. Вы ведь, кажется, с ним знакомы?
— Да.
— Ну, вот… Побудете там, пока улягутся страсти. Надеюсь, долго вам отдыхать не придется.
— Но почему не в Москву?
— Разве не понятно: там Троцкий… Кстати, сегодня уже звонила Землячка. Интересовалась, когда вы вернетесь из Евпатории.
— Ну что ж! — решительно сказал Кольцов. — Что б не оставлять здесь незаконченных дел, сегодня же с нею встречусь.
— Вот этого не нужно. Я думаю, что лучше всего вам сегодня же выехать в Харьков. Забирайте своих товарищей, я имею в виду Гольдмана и Красильникова… Лагоду оставьте здесь. У меня на него есть кое-какие виды. У Землячки на него увесистое досье. Она пыталась мне что-то излагать, но главная обида у нее на вас. А Лагоду я в обиду не дам
— Как-то не по-мужски получается: спасаюсь бегством, — грустно сказал Кольцов.
— Плюньте! — махнул рукой Менжинский. — Вам нужны эти пустые хлопоты? Она ничего не добьется, но уж нервов вам помотает!
— Я знаю её: дама склочная и злопамятная.
— Это бы ещё ничего. Но, к сожалению, она — дама влиятельная.
…В тот же день Кольцов и Гольдман сели в Харьковский поезд. И когда поезд тронулся, Кольцов впервые за много дней подумал, что для него война теперь-то уже наверняка кончилась. Под убаюкивающий стук вагонных колес он крепко уснул.
Не предполагал он, что спустя всего несколько месяцев прошедшая война покажет ему свой новый, трагический лик.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
12—14 ноября 1920 года белая армия навсегда покинула Крым, Россию. Врангелевцы увезли с собой остатки Черноморского флота. На 126 судах и боевых кораблях было вывезено 145 тысяч человек, не считая судовых команд.
За годы Гражданской войны — годы лишений, голода, холода, смертей — вместе с усталостью в её участниках накопилась тяжелая, угрюмая ненависть, которая привела в двадцатом году в Крыму к невиданному но жестокости красному террору. С трудом можно найти ему объяснение.
Во многом все годы войны ненависть подогревалась недальновидной политикой партии большевиков.
Ещё в декабре 1918 года член ВЧК, а затем Председатель ВУЧК Мартын Лацис, повторяя идеи Робеспьера, писал: «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить: какого он происхождения, воспитания, образования или профессии? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».
В конце войны, во время завершающих боев за Крым (11 ноября 1920 года), командарм Южного фронта Фрунзе обратился по радио к Врангелю с предложением прекратить сопротивление. «Революционный военный совет армий Южного фронта на основании полномочий, предоставленных ему центральной Советской властью, гарантирует сдающимся в плен, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех проступков, связанных с гражданской борьбой. Всем нежелающим остаться и работать в социалистической России будет дана возможность беспрепятственного выезда за границу, при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и Советской власти».
Ответ Врангеля не последовал.
Узнав о столь либеральном предложении, Ленин потребовал, чтобы все враги советской власти понесли суровое наказание. В телеграмме, посланной Лениным Фрунзе, говорилось: «Крайне удивлен непомерной уступчивостью условий… Если противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их и нужно расправиться беспощадно».
Лев Троцкий в телефонном разговоре с Белой Куном, сказал ему: «Я не приеду в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер остается в Крыму. Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не должен выскочить. А так как Крым отстал на три года в своем революционном развитии, то мы быстро подвинем его к общему революционному уровню России».
Беспощадно расправляться стали сразу же.
Здесь мы приводим только документы, свидетельства очевидцев и проверенные факты.
Точное число расстрелянных и казненных на территории Крыма после исхода врангелевцев не установлено. Исследователи предлагают разные цифры: от 50 тысяч до 150.
Характеризуя состав погибших, официальный представитель Наркомата в Крыму М. Султан-Галиев писал следующее: «…среди расстрелянных попадало очень много рабочих элементов и лиц, оставшихся от Врангеля с искренним и твердым решением честно служить Советской власти. Особенно большую неразборчивость в этом отношении проявили чрезвычайные органы на местах. Почти нет семейства, где бы кто-нибудь не пострадал от этих расстрелов: у того расстрелян отец, у этого брат, у третьего сын и т.д.».
Известный писатель Шмелев, разыскивая своего расстрелянного сына, приехал в Крым в самый разгар красного террора и пережил там голод. Он стал одним из свидетелей, дававших затем показания Лозаннскому суду. По его сведениям, которые он тщательно собирал, в Крыму после ухода Врангеля расстреляно или убито иным способом (вешали, зарубали шашками, топили в море, разбивали головы камнями) больше 120 тысяч мужчин, женщин, стариков и детей.
По сведениям писателя Романа Гуля, в Крыму только руководители крымской власти Бела Кун и Розалия Землячка расстреляли и казнили больше 100 тысяч бывших военнослужащих армии Врангеля, которым была «дарована амнистия».
О чудовищных расправах в Крыму заслуживают доверия свидетельства хозяйки «конспиративной» квартиры, в которой доводилось скрываться Ленину, М.В. Фофановой.
После оставления Крыма Врангелем Фофанова была введена в состав «тройки» ВЦИК для изучения положения дел на полуострове. Ею было установлено, что массовые убийства солдат и офицеров белой армии и гражданского населения начались незамедлительно после захвата войсками Южного фронта Крыма. По глубокому убеждению Маргариты Васильевны, массовые расстрелы и казни были организованы председателем Реввоенсовета республики Л. Троцким, членом Реввоенсовета Южного фронта, а затем Крыма — Белой Куном, а также большевистскими комиссарами Р. Землячкой, Г. Фельдманом и другими палачами. Особенно свирепствовали они в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Керчи, Карасу-Базаре, Феодосии, Гурзуфе, Судаке, Алупке.
Как свидетельствовала Фофанова, расстреливали не только солдат и офицеров белой армии, но и больных и раненых прямо в госпиталях, лазаретах и санаториях. За «содействие контрреволюционерам» расстреливали врачей, медсестер и санитаров, а также мирное население: стариков, женщин и даже грудных детей. Тюрьмы городов были забиты заложниками. На улицах валялись трупы расстрелянных, среди которых были и дети. Как ни странно, об этих злодеяниях широко извещали местные издания, такие, к примеру, как «Известия» временного Севастопольского Ревкома, Керченские «Известия» и некоторые другие газеты.
В Севастополе казнями руководила «худенькая и стриженая дамочка» Надежда Островская. «Эта сухонькая учительница с ничтожным лицом, писавшая о себе, что у нее душа сжимается как мимоза от всякого резкого прикосновения», была главным персонажем ЧК в Севастополе, когда расстреливали и привязывали к ногам грузы. Долго еще потом через чистую морскую воду были видны рядами вертикально стоящие мертвецы. «Опустившемуся на дно водолазу показалось, что он на "митинге мертвецов"», — писал в монографии «Неизвестный Дзержинский» А. Иванов.
Фофанова также свидетельствовала, что в Керчи пленным солдатам и офицерам устраивали «десант на Кубань»: вывозили на баржах в открытое море и там топили. Землячка вошла в историю как автор фразы: «Жалко тратить на них патроны, топить их в море».
Очевидец казней в Феодосии Анастасия Павловна Майкова рассказывала, что старые генуэзские колодцы уже в первые дни освобождения Крыма от белых войск были заполнены расстрелянными солдатами и офицерами. Жертвами красного террора стали также многие рабочие.
Исследователь кровавых событий тех дней историк С.П. Мельгунов в своей книге «Красный террор в России», которая недавно издана и у нас, тоже немало страниц уделяет красному террору в Крыму. Он упоминает о десятках тысяч врангелевских офицеров и солдат, поверивших Фрунзе и ликвидированных по приказу Белы Куна и Розалии Землячки.
Но это не основная часть казненных. Осталось немало людей мобилизованных или добровольно служивших в тыловых учреждениях и по гражданскому ведомству. Все эти лица не имели никакого отношения к Белому движению, иногда даже относились к нему враждебно. Они-то, вместе с гражданским населением, и стали равными жертвами большевистского террора. Больше всего расстреливали в Севастополе не только солдат и офицеров, но и врачей, медсестер, инженеров, учителей, профессоров, крестьян, священников, женщин, стариков и детей. Расстреляли даже около шестисот своих же пролетариев — портовых рабочих за участие в погрузке судов врангелевской армии при эвакуации.
Иностранцы, вырвавшиеся из Крыма, описывали потрясающие картины красного террора. Исторический бульвар, Нахимовский проспект, Приморский бульвар, Большая Морская и Екатерининская улицы были буквально завешаны качающимися трупами. Вешали везде: на фонарях, столбах, на деревьях и даже на памятниках. Если жертвой оказывался офицер, то его обязательно вешали в форме и при погонах. Гражданских вешали полураздетыми.
В Симферополе в течение первых нескольких ночей расстреляли около 6 тысяч человек. За Еврейским кладбищем можно было увидеть убитых женщин с грудными младенцами. Во время облавы было схвачено 12 тысяч человек. Мало кто из них был отпущен на свободу.
В Алупке расстреляли 275 медсестер, докторов, служащих Красного Креста, журналистов, земских деятелей. Не пощадили и своих бывших приятелей: секретаря Плеханова социал-демократа Любимова и социалиста Лурье.
В Керчи обезумевших от горя матерей гнали по улицам нагайками и в пути некоторых расстреливали. Керчь была окружена заградительными отрядами. Буквально всех жителей заставили регистрироваться.
В Феодосии население оставляло свои дома, близкие к местам расстрелов, не будучи в состоянии вынести ужаса убийств. Кроме того, нередко недобитые, под покровом ночи, подползали к домам и стонали о помощи. За оказанную помощь сердобольные жители платили своей головой.
Во многих местах казни приняли извращенные формы. Людей разрывали лебедками, сдирали кожу, обматывали свои жертвы колючей проволокой и скидывали в пропасть.
В Представлении к награждению сотрудника Особого отдела Южного фронта Е.Г. Евдокимова за расстрел 12 тысяч человек «белого элемента» говорится:
«Во время разгрома армии генерала Врангеля в Крыму, тов. Евдокимов с экспедицией очистил Крымский полуостров от оставшихся там для подполья белых офицеров и контрразведчиков, изъяв до 30 губернаторов, 50 генералов, более 300 полковников, в общем — до 12 тысяч белого элемента».
Когда покончили с городами, принялись за казни в селах.
Тех, кому жизнь была случайно сохранена, отправляли в концлагеря на Север. Оттуда, как известно, мало кто вернулся.
В своей книге «Солнце мертвых» И. Шмелев рассказывает о начинавшемся в Крыму голоде. Вспоминает обезумевшего от голода маститого доктора-химика. Он создал свою собственную систему подсчета количества жертв в тоннах человеческого мяса. «Я высчитал: только в одном Крыму, — пишет Шмелеву безумец-учёный, — за первые три месяца — десять тысяч тонн свежего человеческого мяса, молодого мяса. Сто двадцать тысяч голов! Человеческих!».
Завершив ревизию, Маргарита Васильевна Фофанова написала письмо Ленину. Она обстоятельно проинформировала главу партии и государства о терроре, злоупотреблениях и массовых насилиях местных властей против населения, солдат и офицеров армии Врангеля, оставшихся в Крыму.
Судя по тому, что по поводу письма Фофановой Ленин никому не писал, не телеграфировал, ни с кем по телефону не разговаривал и никому взбучку не давал, это письмо его ничуть не взволновало и не обеспокоило.
Фофанова была отозвана из Крыма и переведена на другую работу. Как агронома ее направили инспектором в сельское хозяйство.
А чуть позже население Крыма стали вымаривать голодом. Это был самый большой по количеству жертв голод в Крыму. Он поразил 500 тысяч человек, около 70% населения, и даже вошел в официальное издание «Книги рекордов Крыма». От голода погибло за два года ещё до 150 тысяч человек. Покинуть Крым никто не мог. Все без исключения пропуска на выезд подписывались в самых высоких крымских инстанциях.
Не зря даже спустя долгие годы, пока все эти события не ушли в давность, Крым называли «кладбищем России».
Хочу привести строки еще одного человека, пережившего в Крыму время «красного террора». Это — Максимилиан Волошин, поэт, писатель, художник. Одно из его стихотворений так и называется — «Террор»:
Собирались на работу ночью. Читали донесенья, справки, дела. Торопливо подписывали приговоры. Зевали. Пили вино. С утра раздавали солдатам водку, Вечером при свече Вызывали по спискам мужчин, женщин, Сгоняли на темный двор, Снимали с них обувь, белье, платье, Связывали в тюки. Грузили на подводы. Увозили. Делили кольца, часы. Ночью гнали разутых, голодных По оледенелой земле. Под северо-восточным ветром За город, в пустыри. Загоняли прикладами на край обрыва, Освещали ручным фонарем, Полминуты работали пулеметы, приканчивали штыком. Ещё не добитых валили в яму, Торопливо засыпали землей, А потом с широкой русской песней Возвращались в город, домой. А к рассвету пробирались к тем же оврагам Жены, матери, псы, Разрывали землю, грызлись за кости, Целовали милую плоть.Но чтобы не заканчивать это послесловие на такой отчаянно печальной ноте, приведу ещё одно стихотворение Волошина «Заклятие». Несмотря на реки крови, которым он был свидетелем, он верил в будущее возрождение России. Стихотворение написано в те самые кровавые дни, в 1920 году:
Из крови, пролитой в боях, Из праха обращенных в прах, Из мук казненных поколений, Из душ крестившихся в крови, Из преступлений, исступлений — Возникнет праведная Русь. Я за нее одну молюсь И верю замыслам предвечным: Ее куют ударом мечным, Она мостится на костях, Она святится в ярых битвах, На жгучих строится мощах, В безумных плавится молитвах.Примечания
1
Вячеслав Рудольфович Менжинский (19 (31) августа 1874, Петербург — 10 мая 1934, дача Горки 6, Архангельское Московской области) — советский партийный деятель, чекист, преемник Ф.Э. Дзержинского во главе ОГПУ (1926—1934).
(обратно)2
ВЧК СНК РСФСР — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Позже Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при Совете народных комиссаров РСФСР — орган по защите государственной безопасности СССР с 20 декабря 1917 до 6 февраля 1922 года.
(обратно)3
Фармазон — вольнодумец, нигилист, во время Гражданской войны вошло в обиход, как мошенник.
(обратно)4
Каптенармус — унтер-офицерское воинское звание, военный чин и должность в роте (батарее, эскадроне) русской армии ниже XIV класса в Табеле о рангах, ведающего учетом и хранением имущества и выдачей провианта, а также оружием, снаряжением и одеждой (в России — с конца XVII в. по 1917 год, в советский период — с 1918 года до конца 1950-х гг.)
(обратно)5
Филипп Кузьмич Миронов (1872—1921) — казак, советский военачальник, командарм. Легендарная личность. Во время Гражданской войны 1918—1920 гг. командовал крупными войсковыми формированиями, включая Вторую конную армию. Убит часовым во дворе Бутырской тюрьмы. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда в 1960 году «за отсутствием состава преступления».
(обратно)6
Семен Михайлович Буденный (13 апреля (25 апреля) 1883 года — 26 октября 1973 года) — советский военачальник, участник Гражданской войны, командующий Первой конной армией, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза.
(обратно)7
Лафитник — название, которое простой люд дал во второй половине XIX века округлым винным рюмкам в отличие от гранёных конусообразных водочных, делавшихся из толстого стекла, с тяжёлыми, устойчивыми ножками. Название дано по имени распространенного «барского» красного вина — лафита. Уже с конца XIX века и в начале XX века лафитником называли всякую рюмку (независимо от формы) из тонкого, дорогого по понятиям того времени стекла, а тем более рюмки, снабженные украшениями. В XX веке лафитник — это уже всякая дорогая рюмка, в том числе и хрустальная.
(обратно)8
Апанасенко Иосиф Родионович (3 апреля (15 апреля) 1890 года — 5 августа 1943 года) — советский военачальник, генерал армии.
(обратно)9
Пётр Петрович Ласси (30 октября 1678 года — 19 апреля 1751 года) — генерал-фельдмаршал российской армии (1736). Ирландец родом, с 1700 года на русской службе. В турецкой войне 1736—1737 гг. начальник отдельного корпуса.
(обратно)10
Михаил Васильевич Фрунзе (21 января (2 февраля) 1885 года, город Пишпек (ныне Бишкек) Семиреченской области Туркестанского края — 31 октября 1925 года, Москва) — революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее успешных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.
(обратно)11
Лев Николаевич Задов (Лёвка Задов, партийный псевдоним — Лев Зиньковский; 11 апреля 1893 года — 25 сентября 1938, Киев) — начальник контрразведки Революционной повстанческой армии Нестора Махно, позднее советский чекист.
(обратно)12
Михаил Архипович Фостиков (25 августа 1886 года, ст. Баталпашинская — 29 июля 1966 года, Белград) — русский военачальник, участник Гражданской войны, генерал-лейтенант. Организовал Повстанческую армию из нескольких тысяч казаков, бежавших от красного террора. Награждён бароном Врангелем орденом Св. Николая.
(обратно)13
Александр Павлович Кутепов (16 сентября 1882 года, Череповец — не ранее 26 января 1930 года) — российский военный деятель, генерал от инфантерии (1920), активный участник Белого движения. В 1928—1930 гг. — председатель Русского общевоинского союза (РОВС).
Федор Фёдорович Абрамов (4 января 1871 года — 10 марта 1963 года) — русский военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из руководителей Белого движения во время Гражданской войны в России. В феврале 1919 года, командуя группой войск, в сложнейших условиях отразил наступление Красной армии на Новочеркасск. С ноября 1919 года — инспектор кавалерии Донской армии. В апреле 1920 года сформировал из эвакуированных в Крым казачьих частей Донской корпус, командовал им во всех боях в Таврии летом — осенью 1920 года.
(обратно)14
Контрадмирал Дюмениль, командующий французской эскадры в Чёрном море. Осуществлял командование с крейсера «Вальдек-Руссо», который использовался для поддержки русских белых войск и флота (1919—1920).
(обратно)15
Яков Александрович Слащёв-Крымский (29 декабря 1885 года — 11 января 1929 года, Москва) — русский военачальник, генерал-лейтенант, активный участник Белого движения на юге России.
(обратно)16
Маштак — небольшая приземистая лошадка, калмыцких или казахских кровей.
(обратно)17
Каганец — светильник, состоящий из черепка с салом и фитиля.
(обратно)18
Сволок или матица — основная опорная балка, поддерживающая в деревянных постройках потолок. На безлесном юге Украины эта балка называлась сволоком.
(обратно)19
Постолы — грубая обувь из целого куска кожи, стянутого сверху ремешком.
(обратно)20
Иван Гаврилович Барбович (27 января 1874 года — 21 марта 1947 года, Мюнхен) — генерал-лейтенант кавалерии (1919). Деятель Белого движения в России. Организовал конный отряд из своих бывших однополчан, во главе которого выступил 26 октября 1918 года на соединение с Добровольческой армией генерала А.И. Деникина. С апреля 1920 года — командир 1-й Сводной кавалерийской дивизии в Русской армии генерала П.Н. Врангеля, участвовал в боях в Таврии. 19 июля 1920 года был произведен в генерал-лейтенанты. В сентябре — ноябре 1920 года командир конного корпуса. Награжден учреждённым Врангелем орденом Св. Николая 2-й степени за доблесть и самоотвержение, многократно им проявленное в целом ряде боёв.
(обратно)21
Распадок — мелкая ложбина или небольшая боковая долина, выходящая в главную; длинный овраг.
(обратно)22
Клуня — помещение для молотьбы хлеба и складывания снопов.
(обратно)23
Василий Константинович Блюхер (19 ноября (1 декабря) 1889 года — 9 ноября 1938 года) — советский военный, государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза (1935). Кавалер Ордена Красного Знамени № 1.
(обратно)24
Бела Кун (венг. Kun Běla) (20 февраля 1886 года, Силадьчех, Трансильвания — 29 августа 1938 года, Советский Союз) — венгерский коммунистический политический деятель и журналист, в 1919 году провозгласивший Венгерскую советскую республику.
ВСР пала 1 августа 1919 года, после 133 дней существования. Бела Кун со своими товарищами бежал в Австрию, где был интернирован в Гейдельмюле, затем в Карлштейне и Штейгофе. После освобождения вернулся в Россию, где восстановил членство в РКП(б). Вместе с Розалией Землячкой вел вооружённую борьбу против контрреволюционных войск Врангеля, оставшихся в Крыму. По мнению ряда авторов, был наиболее активным организатором и участником расстрелов тех офицеров белой армии, которые остались в Крыму и явились для «регистрации» в ЧК.
(обратно)25
Розалия Самойловна Землячка (урожденная Залкинд, по мужу Самойлова; 20 марта (1 апреля) 1876 года, Киев — 21 января 1947 года, Москва) — еврейская революционерка, советский партийный и государственный деятель.
Стала известной благодаря участию в организации первой русской революции, в частности московского восстания в декабре 1905 года, а впоследствии как один из организаторов карательных акций (красный террор) периода Гражданской войны, проводившихся в Крыму после поражения белой армии в 1920-1921 гг.
(обратно)26
Концессия (концессионное соглашение) — форма государственно-частного партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях.
(обратно)27
Юшка — уха, рыбная похлебка.
(обратно)28
Михаил Александрович Кедров (13 сентября 1878 года — 29 октября 1945 года, Париж) — российский военно-морской деятель, вице-адмирал (1920). С 12 октября 1920 года — командующий Черноморским флотом, был приглашен на этот пост командующим Русской армией генералом П.Н. Врангелем, произведён в вице-адмиралы. Руководил переходом Черноморского флота из Севастополя и других крымских портов в Константинополь поздней осенью 1920 года. Во время этого перехода в организованном порядке были эвакуированы части белой армии Врангеля и гражданские беженцы.
(обратно)29
Шамовка — еда, пища.
(обратно)30
Кровянка — колбаса определенного, кровяного сорта.
(обратно)
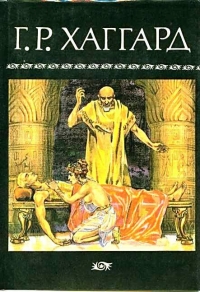
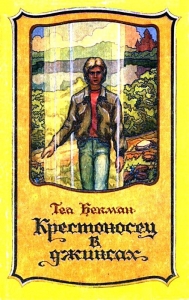




Комментарии к книге «Расстрельное время», Игорь Яковлевич Болгарин
Всего 0 комментариев