Редьярд Киплинг Ким
ГЛАВА I
На Страшный суд идти и вам. Чужой не презирайте храм, Где Будде курят фимиам Язычники в Камакуре! Будда в КамакуреВопреки запрещению муниципальных властей, он сидел верхом на пушке Зам-Заме, стоявшей на кирпичной платформе против старого Аджаиб-Гхара, Дома Чудес, как туземцы называют Лахорский музей. Кто владеет Зам-Замой, этим «огнедышащим драконом», — владеет Пенджабом, ибо огромное орудие из позеленевшей бронзы всегда служит первой добычей завоевателя.
Но Кима, пожалуй, можно было оправдать. Он спихнул с цапфы пушки сынишку Лалы Динантха, поскольку англичане владели Пенджабом, а Ким был англичанин. Хотя он был загорелым до черноты, не хуже любого туземца, хотя предпочитал говорить на местном диалекте, ибо на своем родном языке изъяснялся плохо, путаясь и проглатывая слова, хотя водился с базарными мальчишками на началах полного равенства, Ким был белым — бедным белым из самых беднейших. Метиска, у которой он воспитывался (она курила опиум и держала лавочку старой мебели на площади, где стояли дешевые извозчики), уверяла миссионеров, что она сестра его матери, но мать Кима была няней в семье одного полковника и вышла замуж за Кимбола О'Хару, молодого знаменщика ирландского полка Меверикцев. Впоследствии знаменщик поступил на Синдо-Пенджабо-Делийскую железную дорогу, и полк его вернулся на родину без него. Жена умерла от холеры в Фирозпуре, а О'Хара начал пьянствовать и таскаться вверх и вниз по линии вместе с востроглазым трехлетним младенцем. Благотворительные общества и капелланы, беспокоясь за ребенка, пытались его отобрать, но О'Хара перебирался дальше, пока не встретился с женщиной, которая курила опиум. Он перенял от нее эту привычку и умер, как умирают в Индии неимущие белые. Ко времени смерти все его имущество сводилось к трем бумагам: одну из них он называл своим ne varietur, ибо эти слова стояли на ней под его подписью, а другую — своим «свидетельством об увольнении». Третьей была метрика Кима. Эти бумаги, говаривал он в блаженные часы после трубки опиума, сделают из маленького Кимбола человека. Ни в коем случае не должен Ким расставаться с ними, ибо они являются атрибутами великого колдовства, которым занимаются люди там, за Музеем, в большом синем с белым — Джаду-Гхаре — Волшебном Доме, как мы называем масонскую ложу. Он говорил, что наступит день, когда все пойдет хорошо и охотничий рог Кима будет высоко вознесен меж столпами, громадными столпами красоты и мощи. Сам полковник верхом на коне, во главе лучшего в мире полка, будет сопровождать Кима, маленького Кима, который пойдет дальше своего отца. Девятьсот перворазрядных дьяволов, чей бог — Красный Бык на зеленом поле, будут служить Киму, если они не забыли О'Хару, бедного О'Хару, десятника на Фирозпурской линии. Потом он начинал горько плакать, сидя на веранде в сломанном камышовом кресле. Итак, после его смерти женщина зашила пергамент, бумагу и метрику в кожаный гайтан и повесила его Киму на шею.
— Наступит день, — сказала она, смутно припоминая пророчества О'Хары, — и к вам придет большой Красный Бык по зеленому полю и полковник, верхом на высоком коне и, тут она перешла на английский язык, — и девятьсот дьяволов...
— А, — промолвил Ким, — я запомню. Явятся Красный Бык и полковник верхом на коне, но отец говорил, что сначала придут два человека, чтобы подготовить почву. Отец говорил, что так они всегда делают и так бывает, когда люди занимаются колдовством.
Если бы женщина послала Кима с этими бумагами в местный Джаду-Гхар, провинциальная ложа, конечно, забрала бы его и послала в масонский сиротский приют, в Горы, но она относилась с недоверием ко всему, что слышала о колдовстве. Ким тоже имел на этот счет свое мнение. Выйдя из младенческих лет, он научился избегать миссионеров и белых людей с серьезными лицами, которые расспрашивали его, кто он такой и что делает, ибо Ким с огромным успехом ничего не делал. Правда, он знал чудесный окруженный стенами город Лахор, начиная от Делийских ворот и до форта Дитча; был запанибрата с людьми, которые вели жизнь столь странную, что она и Харун-ар-Рашиду не могла бы во сне присниться, и сам жил безумной жизнью героев «Тысяча и одной ночи», но миссионеры и секретари благотворительных обществ не могли понять ее красоты. В городе его прозвали Дружком Всего Мира: и очень часто, будучи гибким и незаметным, он ночью на кишевших людьми крышах исполнял поручения лощеных и блестящих молодых людей из высшего света. Конечно, поручения эти были связаны с любовными интригами, — это-то он понимал, ибо успел узнать все дурное, едва начал говорить, — но он любил игру ради самой игры: бесшумное скольжение по темным улицам и переулкам, лазанье по водосточным трубам, ночные тени и звуки женских голосов на плоских кровлях, и стремительное бегство с крыши на крышу под покровом жаркой тьмы. Он вел тесную дружбу со святыми людьми, обсыпанными золой факирами, сидящими у кирпичных храмов, под деревьями, на речном берегу; приветствовал их, когда они возвращались со сбора милостыни, и, если никого не было поблизости, ел с ними из одной чашки. Воспитательница его настаивала со слезами, чтобы он носил европейский костюм — штаны, рубашку и потертую шляпу, но Ким считал более удобным одеваться как индус или мусульманин, когда занимался некоторыми делами. Один из светских молодых людей — тот самый, которого нашли мертвым на дне колодца в ночь землетрясения, — подарил ему однажды полное индуистское одеяние — костюм уличного мальчика низкой касты, и Ким спрятал его в потайном месте, под балками на дровяном складе Нила-Рама, за Пенджабской судебной палатой, где душистые деодаровые бревна сохнут после сплава по реке Рави. Готовясь к работе или проказам, Ким надевал свое «имущество» и под утро усталый возвращался на веранду, накричавшись в свадебной процессии или навизжавшись на индуистском празднестве. Иногда в доме оказывалась пища, но чаще ее не было, и Ким шел поесть со своими туземными друзьями.
Барабаня пятками по Зам-Заме, он то и дело отвлекался от игры «в короля и замок», которой занимался с маленькими Чхота-Лалом и сыном продавца сластей Абдуллой, чтобы сделать оскорбительное замечание по адресу туземца-полицейского, сторожившего обувь посетителей, рядами выставленную у дверей Музея. Рослый пенджабец снисходительно ухмылялся: он давно знал Кима. Знали его и водонос, поливавший пыльную улицу из мешка козлиной кожи, и музейный столяр Джавахир-Сингх, склонившийся над новыми упаковочными ящиками, и все, кто были поблизости, за исключением крестьян, спешивших в Дом Чудес поглядеть на вещи, сделанные в их округе и других местах. В Музее были собраны образцы индийского искусства и ремесел, и всякий человек, ищущий знания, мог попросить объяснений у хранителя.
— Прочь! Прочь! Пусти меня наверх! — кричал Абдулла, карабкаясь по колесу Зам-Замы.
— Отец твой был пирожник, а мать украла гхи, — пел Ким. — Все мусульмане давным-давно свалились с Зам-Замы.
— Пусти меня! — визжал маленький Чхота-Лал. На голове у него была шапочка, вышитая золотом, а состояние его отца достигало полумиллиона фунтов стерлингов, но Индия — единственная демократическая страна в мире.
— Индусы тоже свалились с Зам-Замы. Мусульмане спихнули их. Отец твой был пирожник...
Он умолк, ибо из-за угла, со стороны шумного Моти-Базара, волоча ноги, шел человек, подобного которому Ким, полагавший, что знает все касты, никогда не видел. Ростом он был около шести футов, одет в собранную бесчисленными складками темноватую ткань вроде лошадиной попоны, и ни в одной из этих складок Ким не мог отыскать признаков какой-либо известной ему отрасли торговли или профессии. За поясом у него висели длинный железный пенал ажурной работы и деревянные четки, какие носят святые. На голове у него была шапка, похожая на огромный берет. Лицо желтое и морщинистое, как у Фук-Шина, базарного башмачника-китайца. Глаза, чуть скошенные кверху, казались щелками из оникса.
— Это кто? — спросил Ким у товарищей.
— Должно быть, человек, — ответил Абдулла, выпучив глаза, и засунул палец в рот.
— Без сомнения, — подтвердил Ким, — но он не похож ни на одного индийца, которого я когда-либо видел.
— Может, он жрец, — сказал Чхота-Лал, заметив четки. — Гляди! Он идет в Дом Чудес!
— Нет, нет, — произнес полицейский, качая головой, — я не понимаю вашего языка. — Полицейский говорил на пенджаби. Эй, Друг Всего Мира, что он такое говорит?
— Пошли его сюда, — сказал Ким и, сверкнув голыми пятками, соскочил с Зам-Замы. — Он — чужеземец, а ты — буйвол.
Человек растерянно повернулся и направился к мальчикам. Он был стар, и от шерстяного халата его еще несло неприятным запахом чернобыльника горных ущелий.
— О дети, что это за большой дом? — спросил он на хорошем урду.
— Это Аджаиб-Гхар, Дом Чудес! — Ким, отвечая старику, не употребил ни одного из обычных обращений, как, например, дала или миян. Он не мог угадать вероисповедание этого человека.
— А! Дом Чудес! А можно войти туда?
— Над дверью написано, что все могут входить.
— Бесплатно?
— Я вхожу и выхожу, а я не банкир, — засмеялся Ким.
— Увы! Я старый человек. Я не знал, — и, перебирая четки, он обернулся в сторону Музея.
— Какой вы касты? Где ваш дом? Вы пришли издалека? — спрашивал Ким.
— Я пришел через Кулу, из-за Кайласа, но что вы об этом знаете? С Гор, — тут он вздохнул, — где воздух и вода свежи и прохладны.
— Ага! Хитаи[1], — гордо произнес Абдулла. Фук-Шин как-то раз выгнал его из своей лавки за то, что он вздумал плевать на божка, стоявшего над обувью.
— Пахари[2], — промолвил маленький Чхота-Лал.
— Да, дитя, горец, с Гор, которых ты никогда не увидишь. Ты слыхал о Бхотияле[3]? Я не хитаи, я хотия[4], лама, или, скажем, гуру по-вашему, раз уж ты хочешь знать.
— Гуру из Тибета, — промолвил Ким. — Таких я еще не видывал. Значит, в Тибете есть индусы?
— Мы — последователи Срединного Пути и мирно живем в наших монастырях, а я собрался посетить Четыре Священных Места раньше чем умру. Ну, теперь вы — дети — знаете столько же, сколько я — старик. — Он добродушно улыбнулся мальчикам. — Ты ел?
Он порылся у себя за пазухой и вытащил потертую деревянную чашу для сбора подаяния. Мальчики кивнули. Все знакомые им жрецы просили милостыню.
— Сейчас я есть не хочу. — Он поворачивал голову, как старая черепаха на солнце. — Правда ли, что много священных изображений хранится в лахорском Доме Чудес? — Он повторил последние слова, как бы желая удостовериться, что адрес правилен.
— Это верно, — сказал Абдулла. — Он набит языческими бутами. Значит, ты тоже идолопоклонник?
— Не обращай на него внимания, — сказал Ким. — Это — правительственный дом и там нет идолопоклонства, а только сахиб с белой бородой. Пойдем со мной, я тебе покажу.
— Чужеземные жрецы едят мальчиков, — прошептал Чхота-Лал.
— А он чужеземец и бут-параст[5], — сказал мусульманин Абдулла.
— Он — новый человек. Бегите к своим матерям, спасайтесь у них на коленях. Пойдем!
Ким с треском повернул турникет, автоматически регистрирующий посетителей. Старик последовал за ним и остановился в изумлении. В вестибюле стояли самые крупные образцы греко-буддийской скульптуры, созданные — ученые знают когда — забытыми мастерами, чьи искусные руки таинственным образом сумели придать своим произведениям греческий стиль. Тут были сотни экспонатов: фризы с рельефными фигурами, фрагменты статуй, усеянные фигурами плиты, которые некогда покрывали кирпичные стены буддийских ступ и вихар Северной Страны, а ныне, откопанные и снабженные ярлыками, были гордостью Музея. С раскрытым от изумления ртом лама поворачивался то в одну, то в другую сторону и, наконец, застыл в восхищении перед большим горельефом, изображавшим коронование, или апофеоз, Будды. Учитель был представлен сидящим на лотосе, лепестки которого были высечены так глубоко, что, казалось, почти отделялись от плиты. Вокруг него в благоговении расположилась целая иерархия царей, старейшин и древних Будд. Внизу были покрытые лотосами воды с рыбами и водяными птицами. Два Дева с крыльями, как у бабочек, держали венок над его головой. Над ними два других несли зонт, увенчанный головным убором Бодисатвы, усеянным драгоценными камнями.
— Владыка! Владыка! Это сам Шакьямуни! — лама чуть не всхлипывал. Он потихоньку начал напевать чудесную буддийскую молитву:
Его Закон, его и Путь. Его вскормила Майи грудь... Ананды другу верным будь.— И он здесь! Наивысший Закон тоже здесь! Мое паломничество хорошо началось. И какая работа! Какая работа!
— Сахиб вон там, — сказал Ким и проскользнул вбок, между шкафами отдела искусств и ремесел. Белобородый англичанин смотрел на ламу, а тот важно повернулся, поклонился ему и, порывшись в халате, вытащил записную книжку и клочок бумаги.
— Да, это мое имя, — улыбнулся хранитель, глядя на детски неуклюжие печатные буквы.
— Один из нас, совершивший паломничество по святым местам, — теперь он настоятель монастыря Ланг-Чо — сообщил его мне, — запинаясь произнес лама. — Он рассказывал обо всем этом, — лама сделал широкий жест худой дрожащей рукой.
— Добро пожаловать, о лама из Тибета! Тут хранятся священные изображения, я же, — он взглянул ламе в лицо, — нахожусь здесь, чтобы накапливать знания. А сейчас пройдем в мой кабинет. — Старик дрожал от волнения.
Кабинет был просто-напросто чуланом, отделенным деревянной перегородкой от галереи, где были выставлены статуи. Ким лег на пол, приложив ухо к щели в растрескавшейся от жары кедровой двери, и, повинуясь своему инстинкту, приготовился подслушивать и наблюдать.
Большая часть беседы была ему совершенно непонятна. Лама вначале нерешительно рассказывал хранителю о своем родном монастыре Сач-Зене, расположенном против Крашеных Скал, на расстоянии четырех месяцев пути отсюда. Хранитель вынул огромный альбом с фотографиями и показал ему этот монастырь, громоздящийся на скале над обширной долиной, сложенной из геологических слоев разных оттенков.
— Да, да! — Лама надел роговые очки китайской работы. — Вот калитка, через которую мы носим дрова к зиме. И ты... и англичане знают об этом? Теперешний настоятель Ланг-Чо говорил мне это, но я не верил. А владыка — Всесовершенный — он тоже пользуется здесь почетом? И его жизнь известна?
— Вся она высечена на камнях. Пойдем, посмотрим, если ты отдохнул.
Лама, волоча ноги, побрел в главный зал и вместе с хранителем стал осматривать коллекции с благоговением верующего и чутьем художника.
Этап за этапом он перебрал прекрасную повесть, запечатленную на истертом камне, временами сбиваемый с толку непривычными условностями греческого стиля, но как ребенок радуясь каждой новой находке. Там, где нарушалась последовательность событий, как, например, в Благовещении, хранитель восполнял ее устно и при помощи книг — французских и немецких — с фотографиями и репродукциями.
Тут был изображен благочестивый Асита, тождественный Симеону в христианском предании: он держал на коленях божественного младенца, к которому прислушивались отец и мать, а там — эпизоды легенды о двоюродном брате Девадатте. Тут стояла в смущении злая женщина, обвинившая Учителя в нарушении целомудрия; там изображались проповедь в Оленьем парке и чудо, ошеломившее огнепоклонников; здесь — Бодисатва в образе царя, чудесное рождение, смерть в Кусинагаре, где слабый ученик потерял сознание. Созерцание под деревом Бодхи повторялось без конца, и повсюду были изображения поклонения чаше для сбора милостыни. Спустя несколько минут хранитель понял, что гость его не простой перебирающий четки нищий, а настоящий ученый. И они опять пересмотрели все с начала до конца, причем лама то и дело брал понюшку табаку, протирал свои очки и с быстротой поезда говорил на удивительной смеси урду и тибетского. Он слышал о путешествиях китайских паломников Фа-Сяня и Хуань-Цана и хотел узнать, имеется ли перевод их сочинений. Он сдерживал дыхание, беспомощно перелистывая книги Била и Станислава Жюльена.
— Все это есть здесь. Сокрытое сокровище!
Потом он сосредоточился, чтобы в благоговении выслушать цитаты, наспех переведенные на урду. Впервые он слышал о трудах европейских ученых, которые с помощью этих и сотен других источников определили места священных событий буддизма. Потом ему была показана огромная карта с точками и черточками, нанесенными желтой краской. Коричневый палец следовал за карандашом хранителя от пункта к пункту. Тут был Капилавасту, там — Срединное Царство, здесь — Махабоди, буддийская Мекка, а там — Кусингара, овеянное скорбью место, где скончался святитель. Старик в молчании склонил голову над листами, а хранитель закурил вторую трубку. Ким заснул. Когда он проснулся, беседа, которая все еще продолжалась, стала более доступной для его понимания.
— Вот так и случилось, о источник мудрости, что я решил пойти по святым местам, где ступала его нога: на место рождения, вплоть до Капилы, потом в Маха-Бодхи, которое теперь называется Будх-Гая, в Монастырь, в Олений парк, на место его смерти. — Лама понизил голос. — И я пришел сюда один. Пять, семь, восемнадцать, сорок лет я думал, что Древний Закон исполняется плохо, ибо, как тебе известно, к нему примешались дьявольщина, колдовство и идолопоклонство. В точности, как давеча сказал ребенок там, на улице. Да, именно бут-параст, как выразился ребенок.
— Так бывает со всеми вероучениями.
— Ты думаешь? Я читал наши монастырские книги, но в них высохла сердцевина, и новый ритуал, которым мы, последователи преобразованного Закона, стеснили себя, также не имеет цены в этих старых глазах. Даже последователи Всесовершенного беспрерывно борются друг с другом. Все это — иллюзия. Да, майя, иллюзия. Но я жажду иного, — морщинистое желтое лицо приблизилось к хранителю на расстояние трех дюймов, и длинный ноготь указательного пальца стукнул по столу. — Ваши ученые при помощи этих книг следовали по благословенным стопам во всех их странствиях, но есть вещи, которые они не смогли открыть. Я ничего не знаю, ничего я не знаю, но стремлюсь освободиться от Колеса Всего Сущего, ступив на широкий и открытый путь, — он улыбнулся с простодушнейшим торжеством. — Как паломник по святым местам я уже теперь приобретаю заслугу. Но дело в большем. Послушай истинный рассказ. Когда наш милостивый владыка, будучи еще юношей, стал искать себе супругу, люди во дворце отца его говорили, что он еще слишком юн для брака. Ты знаешь об этом?
Хранитель кивнул, спрашивая себя, что последует дальше.
— Тогда устроили тройное состязание в силе со всеми желающими. И при испытании луком наш владыка, переломив тот, который подали сначала, велел подать такой лук, на котором никто не мог натянуть тетиву. Ты знаешь об этом?
— Обо всем этом написано. Я читал.
— И, перелетев все прочие отметки, стрела унеслась далеко-далеко и скрылась из виду. В конце концов она упала, и там, где она коснулась земли, забил ключ, который потом превратился в реку, и, благодаря милосердию нашего владыки и заслугам, которые он приобрел до своего освобождения, свойство реки таково, что она смывает всякий налет и пятно греха с того, кто искупается в ней.
— Так написано, — печально промолвил хранитель. Лама глубоко вздохнул.
— Где эта Река? Источник мудрости, где упала стрела?
— Увы, брат мой, не знаю, — ответил хранитель.
— Нет, быть может, ты позабыл? Это — единственное, о чем ты не сказал мне. Должен же ты знать. Слушай, я старый человек. Я прошу тебя, склонив голову к твоим ногам. О источник мудрости! Мы знаем, что он натянул тетиву! Мы знаем, что стрела упала! Мы знаем, что ключ забил из-под земли. Так где же Река? Сон повелел мне найти ее. Поэтому я пришел. Я здесь. Но где же Река?
— Знай я, ты думаешь, я не стал бы громко кричать об этом?
— Через нее можно достигнуть освобождения от Колеса Всего Сущего, — продолжал лама, не слушая. — Река Стрелы! Подумай же! Какой-нибудь ручеек, быть может иссякший во время засухи?.. Но святой человек никогда не стал бы так обманывать старика.
— Не знаю, не знаю.
Лама опять придвинул свое испещренное тысячью морщин лицо на расстояние руки от лица англичанина.
— Я вижу, что ты не знаешь. Ты не следуешь Закону, и это скрыто от тебя...
— Да, скрыто... скрыто.
— Мы связаны — ты и я, брат мой. — Но я, — он встал, и полы его мягкого, плотного халата разлетелись в стороны, — я хочу освободить себя. Пойдем вместе!
— Я связан, — промолвил хранитель. — Но куда идешь ты?
— Сначала в Каши[6]. Куда же еще? Там я встречусь с человеком чистой веры, обитающим в одном из джайнских храмов этого города. Он тоже тайный искатель, и, быть может, я узнаю от него что-нибудь. Быть может, он пойдет со мной в Будх-Гаю. Оттуда на северо-запад, в Капилавасту, и там я буду искать Реку. Нет, я буду искать всюду, куда бы ни шел, ибо место, где упала стрела, неведомо.
— А как ты пойдешь? До Дели далеко, до Бенареса еще дальше.
— По дорогам и на поездах. Спустившись с Гор, я от Пантханкота приехал сюда на поезде. Он идет быстро. Я сначала удивлялся, видя, как по бокам дороги высокие столбы тянут и тянут за собой нити, — он показал жестами, как наклоняются и кружатся телеграфные столбы, мелькающие мимо поезда, — но потом у меня затекли ноги и мне захотелось идти пешком, как я привык.
— А ты хорошо знаешь, куда идти? — спросил хранитель.
— О, что касается этого, только расспроси и заплати деньги, — и назначенные лица отправят тебя в назначенное место. Это я знал еще у себя в монастыре из верных источников, — гордо промолвил лама.
— А когда ты тронешься в путь? — Хранитель посмеивался над этим смешением древнего благочестия и современного прогресса, которые так свойственны Индии наших дней.
— Как можно скорее. Я пойду по местам, где протекала жизнь Владыки, пока не дойду до Реки Стрелы. К тому же имеется бумага, где написаны часы отхода поездов, идущих на юг.
— А как насчет пищи? — Ламы, как правило, носят при себе добрый запас денег, но хранитель хотел знать об этом точнее.
— Во время путешествия я беру с собой чашу учителя для сбора подаяния. Да, как ходил он, так пойду и я, отказавшись от сытой монастырской жизни. Когда я покидал Горы, со мной был чела[7], который просил милостыню за меня, как того требует устав, но мы задержались в Кулу, он заболел лихорадкой и умер. Теперь у меня нет челы и я сам возьму чашу для сбора подаяний и этим дам возможность милосердным людям приобрести заслугу, — он храбро кивнул головой. Монастырские ученые не просят милостыни, но лама был необыкновенно одушевлен своей идеей.
— Да будет так, — улыбнулся хранитель. — А теперь позволь и мне приобрести заслугу. Мы оба мастера — и ты, и я. Вот новая записная книжка на белой английской бумаге, вот отточенные карандаши — два и три, толстые и тонкие, все они хороши для писца. Теперь одолжи мне твои очки.
Хранитель посмотрел через них. Они были сильно поцарапаны, но почти соответствовали его собственным очкам, которые он вложил ламе в руку со словами: — Надень-ка эти.
— Перышко! Прямо перышко на лице! — Старик в восторге обернулся, морща нос. — Я почти их не чувствую. И как ясно вижу!
— Они из билаура — хрусталя, и их нельзя поцарапать. Да помогут они тебе найти твою Реку, ибо они — твои.
— Я возьму их: и карандаши, и белую записную книжку, — сказал лама, — в знак дружбы между жрецом и жрецом, а теперь, — он порылся у себя за кушаком, отстегнул ажурный железный пенал и положил его на стол хранителя, — вот тебе мой пенал на память обо мне. Он старый, такой же старый, как и я.
Это был пенал старинной китайской работы из железа, плавленого забытым в наши дни способом, и коллекционерское сердце хранителя дрогнуло. Никакие уговоры не могли заставить ламу взять подарок обратно.
— Когда я вернусь, отыскав Реку, я принесу тебе рисованное изображение Падмы Самтхоры, подобное тем, которые я рисовал на шелку в монастыре. Да, и еще изображение Колеса Жизни, — он тихо рассмеялся, — ибо оба мы мастера — и ты, и я.
Хранителю хотелось удержать его. Мало теперь осталось на свете людей, владеющих этой тайной, умеющих рисовать кисточкой для письма канонические буддийские картины, которые, если можно так выразиться, наполовину написаны, наполовину нарисованы. Но лама вышел большими шагами с высоко поднятой головой и, ненадолго остановившись перед большой статуей Бодисатвы, изображенного в момент созерцания, протиснулся между турникетами.
Ким как тень шел следом за ним. Подслушанный разговор чрезвычайно его заинтересовал. Этот человек был для него чем-то совершенно новым, и он намеревался продолжать исследование: именно так он стал бы рассматривать новое здание или какое-нибудь необычное празднество в городе Лахоре. Лама был его находкой, и он собирался овладеть ею. Недаром мать Кима была ирландка!
Старик, остановившись у Зам-Замы, оглядывался кругом, пока глаза его не остановились на Киме. Паломническое вдохновение остыло в нем на некоторое время, и он чувствовал себя старым, одиноким и очень голодным.
— Не сиди под этой пушкой, — высокомерно произнес полицейский.
— Ху! Сова, — отпарировал Ким за ламу. — Сиди сам под пушкой, если тебе нравится. А ну-ка, скажи: когда ты украл туфли у молочницы, Данну?
Это было совершенно необоснованное, внезапно возникшее обвинение, но оно заставило умолкнуть Данну, знавшего, что пронзительный вопль Кима способен, если нужно, привлечь полчища скверных базарных мальчишек.
— Кому же ты поклонялся там, внутри? — ласково спросил Ким, садясь на корточки в тени подле ламы.
— Я никому не поклонялся, дитя. Я склонился перед Всесовершенным Законом.
Ким принял без смущения этого нового бога. Он уже знал целые десятки богов.
— А что ты собираешься делать?
— Просить милостыню. Я вспомнил сейчас, что давно уже ничего не ел и не пил. Как принято просить милостыню в этом городе? Молча, как у нас в Тибете, или вслух?
— Кто просит молча, подыхает молча, — процитировал Ким местную поговорку. Лама встал было, но опять опустился, вздыхая о своем ученике, умершем в далеком Кулу. Ким наблюдал за ним, склонив голову набок, внимательный и заинтересованный.
— Дай мне чашку. Я знаю жителей этого города — всех, подающих милостыню. Давай чашку, и я принесу ее полной. — Детски простодушно лама протянул ему чашку. — Отдыхай! Я людей знаю.
Он побежал к открытой лавке кунджри — женщины низкой касты, торгующей овощами. Лавка была поблизости от трамвайного круга на Моти-Базаре. Торговка издавна знала Кима.
— Ого, или ты стал йоги, что ходишь с чашкой для сбора подаяний? — воскликнула она.
— Нет, — гордо ответил Ким. — В городе появился новый жрец. Такого человека я еще не видывал.
— Старый жрец, что юный тигр, — сердито произнесла женщина. — Надоели мне новые жрецы! Они, как мухи, садятся на наши товары. Разве отец моего сына — источник милостыни, чтобы подавать всякому, кто попросит?
— Нет, — сказал Ким, — твой муж скорей яги[8], чем йоги[9], но это — новый жрец. Сахиб в Доме Чудес говорил с ним, как с братом. О мать моя, наполни мне эту чашку! Он ждет.
— Хороша чашка! Целая корзина величиной с коровье брюхо! Ты вежлив, как священный бык Шивы. Нынче утром он уже успел стащить большую часть лука из корзинки. А тебе я должна наполнить твою чашку. Вот он опять идет сюда.
Огромный мышиной масти брахманский бык этого квартала пробирался через многоцветную толпу с украденным пизангом, свисающим у него изо рта. Прекрасно осведомленный о своих привилегиях священного животного, он направился прямо к лавке, наклонил голову и, громко пыхтя, стал осматривать ряды корзин, выбирая пищу. Маленькая твердая пятка Кима взлетела вверх и ударила его по влажному сизому носу. Бык негодующе фыркнул и удалился по трамвайному пути; горб его дрожал от ярости.
— Вот видишь! Я сберег твоего товара на сумму втрое большую, чем будет стоить содержимое чашки. Ну, мать, немножко риса и поверх его сушеной рыбы, а также немножко овощной кари.
Из глубины лавки, где лежал мужчина, послышалось ворчание.
— Он прогнал быка, — вполголоса промолвила женщина. — Подавать бедным хорошо, — она взяла чашку и вернула ее наполненной горячим рисом.
— Мой йоги не корова, — важно сказал Ким, пальцами выкапывая ямку на вершине горки. — Я думаю, что немножко кари, жареная лепешка и кусок сухого варенья доставят ему удовольствие.
— Эта ямка величиной с твою голову, — с раздражением сказала женщина. Тем не менее она положила в нее хорошей, дымящейся овощной кари, пришлепнула ее сухой лепешкой, на лепешку положила кусок очищенного масла, а сбоку — кислого тамариндового варенья. Ким любовно глядел на свою ношу.
— Вот и ладно. Когда я буду на базаре, бык не посмеет подходить к этому дому. Он — дерзкий нищий.
— А ты? — рассмеялась женщина. — Но ты не должен дурно говорить о быках. Не ты ли сказал мне, что наступит день, когда Красный Бык придет с поля, чтобы помочь тебе? Теперь держи чашку прямо и попроси святого человека благословить меня. И еще: не знает ли он какого-нибудь лекарства от болезни глаз для моей дочери? Попроси его об этом, о Дружок Всего Мира.
Но Ким ускакал раньше, чем она успела окончить фразу. Он несся, увертываясь от бродячих собак и голодных приятелей.
— Вот как просим милостыню мы, знающие, как надо это делать, — гордо заявил он ламе, в удивлении глянувшему на содержимое чашки. — Теперь ешь, и я поем вместе с тобой. Эй, бхишти! — он окликнул водоноса, поливавшего кротоны у Музея. — Дай сюда воды. Нам, мужчинам, хочется пить.
— Нам, мужчинам! — рассмеялся бхишти. — Хватит ли на такую парочку одного кожаного мешка? Ну, пейте во имя Милосердного.
Он пустил тонкую струю на руки Кима, который пил, как туземцы, но лама счел нужным вытащить чашку из своих неисчислимых сборок и пить по уставу.
— Парадези[10], — объяснил Ким, после того как старик произнес что-то на незнакомом языке — очевидно, благословение.
Очень довольные, они вместе принялись за еду и очистили всю чашку для сбора подаяний. Потом лама, понюхав табаку из внушительной деревянной табакерки, начал перебирать четки и, в то время как тень от Зам-Замы все удлинялась, заснул легким старческим сном.
Ким побрел к ближайшей торговке табаком, бойкой молодой мусульманке, и выпросил у нее скверную сигару, какие сбывают студентам пенджабского университета, подражающим английским обычаям. Он закурил, уселся под дулом пушки и, опустив подбородок на колени, стал размышлять. Размышления его кончились тем, что он сорвался с места и бесшумно помчался к дровяному складу Нила-Рама.
Лама проснулся в тот час, когда в городе уже началась вечерняя жизнь, зажглись фонари и одетые в белое клерки и низшие служащие стали выходить из государственных учреждений. Ошеломленный, он огляделся кругом, но поблизости не было никого, кроме мальчика-индуса в грязной чалме и платье бланжевого цвета. Лама внезапно опустил голову на колени и застонал.
— Что это ты? — произнес мальчик, становясь перед ним. — Тебя ограбили?
— Мой новый чела[11] сбежал от меня, и я не знаю, где он.
— А кто он такой был, твой ученик?
— Это был мальчик, явившийся ко мне на место умершего в награду за ту заслугу, которую я приобрел, когда вон там поклонился Закону, — он указал на Музей. — Он пришел ко мне вывести меня на дорогу, которую я потерял. Он повел меня в Дом Чудес и словами своими побудил меня осмелиться и заговорить с Хранителем священных изображений, так что я получил утешение и ободрение. А когда я ослабел от голода, он просил милостыню за меня, как это делает чела для своего учителя. Неожиданно он был мне послан, и так же неожиданно ушел. Я хотел учить его Закону по дороге в Бенарес.
Кима удивила эта речь, ибо он подслушал беседу в Музее и знал, что старик говорит правду, а туземцы редко позволяют себе это по отношению к незнакомцам.
— Но я вижу теперь, что он был послан недаром. Поэтому знаю, что найду Реку, которую ищу.
— Реку Стрелы? — спросил Ким с улыбкой превосходства.
— Неужто это новый посланец? — воскликнул лама. — Я никому не говорил о своих исканиях, кроме жреца священных изображений. Кто ты такой?
— Твой чела, — просто ответил Ким, сидя на корточках. — В жизни не видел я никого, похожего на тебя. Я пойду с тобой в Бенарес. И еще я думаю, что если такой старый человек, как ты, говорит правду первому встречному, значит он сильно нуждается в ученике.
— Но Река, Река Стрелы?
— О, о ней я услышал, когда ты разговаривал с англичанином. Я лежал у двери.
Лама вздохнул.
— Я думал, что ты — дарованный мне проводник. Такие вещи случаются иногда, но я недостоин их. Так, значит, ты не знаешь, где Река?
— Ну, нет, — Ким в смущении рассмеялся. — Я иду искать Быка, Красного Быка на зеленом поле, который поможет мне.
Если у кого-нибудь из его приятелей был план, Ким, по-мальчишески, сейчас же выдумывал свой собственный и, тоже по-мальчишески, действительно думал иногда минут по двадцать об отцовских пророчествах.
— В чем поможет, дитя? — спросил лама.
— Бог знает, но так говорил мне отец. Я слышал, как ты рассказывал в Доме Чудес обо всех этих незнакомых и странных местах в Горах, а уж если такой старый человек, столь привыкший говорить правду, хочет искать какую-то реку, я подумал, что и мне нужно отправиться в путь. Если нам суждено найти их, мы их найдем, ты — свою реку, а я — моего Быка и мощные столпы и еще что-то, о чем я позабыл.
— Не столпы, а Колесо, от которого я освобожусь, — сказал лама.
— Это одно и то же. Может, они сделают меня царем, — промолвил Ким, безмятежно готовый принять все на свете.
— По дороге я научу тебя другим, лучшим желаниям, — наставительно сказал лама. — Идем в Бенарес.
— Только не ночью. Теперь воры разгуливают. Подожди до утра.
— Но тут негде спать. — Старик привык к порядку в своем монастыре и, хотя по уставу всегда спал на земле, все же предпочитал соблюдать приличия.
— Мы найдем хорошее помещение в Кашмирском караван-сарае, — сказал Ким, смеясь над его замешательством. — У меня есть там приятель. Пойдем!
Душные, людные базары сверкали огнями, когда путники пробирались через толпу, в которой смешались все племена Северной Индии, и лама двигался, словно во сне. Он впервые попал в большой промышленный город, и набитый людьми трамвай с непрестанно лязгающими буферами испугал его.
То подталкиваемый, то влекомый вперед, он подошел к высоким воротам Кашмирского караван-сарая, обширного квадратного двора, расположенного против вокзала и окруженного сводчатыми аркадами, где приставали верблюжьи и конские караваны на обратном пути из Центральной Азии. Тут встречались северяне всех племен. Они ухаживали за привязанными лошадьми и заставляли верблюдов опускаться на колени, грузили и разгружали тюки и узлы, при помощи скрипучих лебедок черпали из колодца воду для ужина, бросали охапки травы ржущим дикоглазым жеребцам, пинали ногой угрюмых караванных собак, расплачивались с погонщиками верблюдов, нанимали новых конюхов, ругались, кричали, спорили и торговались на битком набитом дворе. Аркады, на которые вели три-четыре каменных ступеньки, казались тихой пристанью вокруг этого бушующего моря. Большая часть их была сдана внаем купцам, подобно тому как мы сдаем арки виадуков. Промежутки между столбами были забраны кирпичом или досками, образуя комнаты, доступ в которые преграждался тяжелыми деревянными дверьми со сложными висячими замками туземного образца. Запертые двери указывали на то, что владелец комнаты в отсутствии, и дерзкие, иногда очень дерзкие надписи мелом или краской сообщали, куда он уехал. Например: «Лутфулла уехал в Курдистан». А внизу неуклюжие стихи: «О Аллах, позволивший вшам поселиться в халате кабульца, зачем позволил ты вше — Лутфулле жить так долго?»
Ким, охраняя ламу от возбужденных людей и возбужденных животных, прокрался вдоль аркад на дальний, ближайший к вокзалу, конец двора, где останавливался торговец лошадьми Махбуб Али, когда он приезжал из той таинственной страны, что лежит за Северными Перевалами.
Ким за свою короткую жизнь, особенно в период между десятым и тринадцатым годом, имел много дел с Махбубом, и рослый дородный афганец с крашеной в красную краску бородой (он был немолод и не хотел, чтобы видели его седину) знал цену мальчику, как источнику всяких сведений. Случалось, он поручал Киму следить за каким-нибудь человеком, не имевшим никакого отношения к лошадям: ходить за ним следом весь день и докладывать обо всех лицах, с которыми он разговаривал. Вечером Ким давал отчет, а Махбуб слушал, не отвечая ни словом, ни движением. Ким знал, что тут замешаны какие-то интриги, но самое главное в них заключалось в том, чтобы ни слова не говорить об этом никому, кроме Махбуба, который угощал его роскошными обедами, прямо с жару принесенными из съестной лавочки, расположенной у входа в караван-сарай, а один раз даже выдал ему восемь ан деньгами.
— Он здесь, — произнес Ким, шлепая по носу норовистого верблюда. — Эй, Махбуб Али! — Он остановился у темной арки и скользнул за спину ошеломленного ламы.
Барышник лежал на паре шелковых ковровых седельных сумок, распустив широкий вышитый бухарский кушак, и лениво покуривал огромную серебряную хукку. Он чуть-чуть обернулся на окрик, но, увидев высокую безмолвную фигуру, рассмеялся.
— Аллах! Это лама! Красный лама! От Лахора до Перевалов далеко. Что ты здесь делаешь? — Лама машинально протянул чашку для сбора подаяний.
— Господне проклятие на всех неверных! — произнес Махбуб. — Я не подаю вшивому тибетцу; ступай и проси у моих балти, которые остались там, при верблюдах. Может, они и оценят твои благословения. Эй, конюхи, тут ваш земляк пришел. Узнайте, не голоден ли он.
Бритый, согбенный балти, состоявший при лошадях и считавшийся чем-то вроде буддиста низшего разряда, склонился перед духовным лицом и низким гортанным голосом пригласил святого человека присесть у костра, разведенного конюхами.
— Ступай! — сказал Ким, слегка подтолкнув ламу, и тот зашагал прочь, оставив Кима у входа на аркаду.
— Ступай! — произнес Махбуб Али, снова принимаясь за свою хукку. — Беги прочь, маленький индус. Господне проклятие на всех неверных! Проси у тех моих слуг, которые одной с тобой веры.
— Махараджа, — провизжал Ким индуистское обращение, от души забавляясь создавшимся положением. — Отец мой умер... мать моя умерла... желудок мой пуст.
— Попроси у моих слуг, которые при лошадях, говорю тебе. Среди моей челяди, наверное, найдутся индусы.
— О Махбуб Али, разве я индус? — воскликнул Ким по-английски. Купец не выразил удивления, но взглянул на мальчика из-под косматых бровей.
— Дружок Всего Мира, — произнес он, — что это значит?
— Ничего. Я теперь ученик этого святого, и мы вместе будем совершать паломничество... В Бенарес, как говорит он. Он совсем сумасшедший, а мне надоел Лахор. Мне хочется новой воды и нового воздуха.
— Но на кого ты работаешь? Зачем пришел ко мне? — в жестком голосе звучала подозрительность.
— К кому же мне еще идти? Денег у меня нет. Нехорошо быть без денег. Ты продашь офицерам много лошадей. Эти твои новые лошади очень хороши: я их видел. Дай мне рупию, Махбуб Али, а когда я разбогатею, я дам тебе вексель и заплачу.
— Хм, — произнес Махбуб Али, быстро соображая. — Ты до сих пор ни разу не солгал мне. Позови этого ламу, а сам отойди в сторону, в тень.
— О, показания наши совпадут, — смеясь промолвил Ким.
— Мы идем в Бенарес, — ответил лама, разобравшись, наконец, в потоке вопросов, заданных ему Махбубом Али. — Мальчик и я. Я иду искать некую Реку.
— Может, и так, а мальчик?
— Он мой ученик. Я думаю, он был послан, чтобы указать мне путь к этой Реке. Я сидел под пушкой, когда он внезапно появился. Такое случалось со счастливцами, которым было даровано руководство. Но я припоминаю теперь: он сказал, что принадлежит к этому миру, — он индус.
— А как его имя?
— Я об этом не спрашивал. Разве он не ученик мой?
— Его родина... племя... деревня? Кто он: мусульманин, сикх, индус, джайн? Низкой касты или высокой?
— К чему мне спрашивать? На Срединном Пути нет ни высоких, ни низких. Если он мой чела, возьмет ли кто-нибудь его от меня? Сможет ли взять? Ибо, знаешь ли, без него я не найду моей Реки, — он торжественно покачал головой.
— Никто его у тебя не возьмет. Ступай, посиди с моими балти, — сказал Махбуб Али, и лама удалился, успокоенный обещаниями.
— Ну, разве он не сумасшедший? — промолвил Ким, снова выступая вперед, в полосу света. — Зачем мне лгать тебе, хаджи?
Махбуб в молчании курил хукку. Затем он начал почти шепотом:
— Амбала находится на пути к Бенаресу, и если вы оба действительно направляетесь туда...
— Ну! Ну! Говорю тебе, он не умеет лгать, как умеем мы с тобой.
— И если ты в Амбале передашь от меня одно сообщение, я дам тебе денег. Оно касается лошади — белого жеребца, которого я продал одному офицеру, когда в прошлый раз возвращался с Перевалов. Но тогда — стань поближе и протяни руки, как будто просишь милостыню! — родословная белого жеребца была не вполне установлена, и этот офицер, он теперь в Амбале, велел мне выяснить ее. (Тут Махбуб описал экстерьер лошади и наружность офицера.) Вот что нужно передать этому офицеру: «Родословная белого жеребца вполне установлена». Так он узнает, что ты пришел от меня. Тогда он скажет: «Какие у тебя доказательства?» А ты ответишь: «Махбуб Али дал мне доказательства».
— И все это ради белого жеребца? — хихикнув, промолвил Ким, и глаза его загорелись.
— Эту родословную я тебе сейчас передам... на свой лад, и вдобавок выбраню тебя хорошенько. — Позади Кима промелькнула чья-то тень; прошел жующий верблюд. Махбуб Али возвысил голос. — Аллах! Или ты единственный нищий в городе? Твоя мать умерла. Твой отец умер. У всех вас одно и то же. Ну, ладно, — он повернулся как бы затем, чтобы пошарить по полу позади себя, и швырнул мальчику кусок мягкой, жирной мусульманской лепешки. — Ступай, переночуй с моими конюхами — и ты, и твой лама. Завтра я, может быть, найду для тебя работу.
Ким ускользнул и, вонзив в лепешку зубы, нашел в ней, как он и ожидал, комочек папиросной бумаги, завернутый в клеенку, и три рупии серебром — необычайная щедрость. Он улыбнулся и сунул в свой кожаный гайтан деньги и бумажку. Лама, отменно накормленный махбубовыми балти, уже спал в углу одной из конюшен. Ким, смеясь, улегся с ним рядом. Он знал, что оказал услугу Махбубу Али, и ни на минуту не поверил басням о родословной жеребца.
Но Ким не подозревал, что Махбуб Али, известный как один из крупнейших пенджабских торговцев лошадьми, богатый и предприимчивый купец, чьи караваны проникали в самые глухие углы далеких стран, был записан в одной из секретных книг Индийского Разведывательного Управления под шифром С.25.1.Б. Два-три раза в год С.25-й посылал в Управление небольшой доклад, довольно дерзко написанный, но чрезвычайно интересный и обычно (содержание его подтверждалось донесениями Р.17-го и М.4-го) вполне достоверный. Это были сведения о всяких захолустных горных княжествах, путешественниках неанглийской национальности, а также о торговле оружием — одним словом, они являлись небольшой частью огромной массы «полученной информации», на основе которой действует индийское правительство. Однако недавно пятеро владетельных князей-союзников, которым вовсе не следовало вступать между собой в союз, были оповещены одной доброжелательной Северной Державой о том, что различные новости просачиваются из их областей в Британскую Индию. Тогда премьер-министры этих князей сильно встревожились и повели себя согласно своему восточному обычаю. В числе прочих они заподозрили дерзкого краснобородого барышника, чьи караваны по брюхо в снегу пробирались по их землям. Наконец, караван Махбуба выследили и во время спуска с гор дважды обстреляли; причем люди Махбуба приписали нападение трем неизвестным негодяям, которые, возможно, были наняты для этой цели. Поэтому Махбуб воздержался от пребывания в Пешаваре, вредном для здоровья, и, не останавливаясь, прошел до Лахора, где, зная своих соплеменников, ожидал развития любопытных событий.
При Махбубе Али было нечто такое, что ему не хотелось носить на себе хотя бы на час дольше, чем это было необходимо, а именно комочек тщательно и многократно сложенной бумаги, обернутой в клеенку, — неподписанное, лишенное адреса сообщение с пятью микроскопическими дырочками, проколотыми булавкой на одном из углов, — сообщение, самым скандальным образом выдававшее с головой пятерых князей-союзников, дружественную Северную Державу, одного пешаварского банкира-индуса, бельгийскую фирму, производящую оружие, и крупного полунезависимого мусульманского правителя одного южного княжества. Это сообщение было доставлено Р.17-м, и Махбуб, получив его за Дорским Перевалом, вез бумажку дальше вместо P.17-го, который по независящим от него причинам не мог покинуть своего наблюдательного поста. Динамит казался чем-то невинным и безвредным в сравнении с этим донесением С.25-го, и даже уроженец Востока с восточным представлением о ценности времени понимал: чем скорей оно попадет в надлежащие руки, тем лучше. У Махбуба не было особенного желания умереть насильственной смертью, ибо там, за Границей, у него висели на руках две-три незавершенные родовые распри, а по их окончании он намеревался начать мирную жизнь более или менее добродетельного гражданина. Со времени своего приезда два дня назад он не выходил за ворота караван-сарая, но совершенно открыто рассылал телеграммы: в Бомбей, где у него лежали деньги в банке, в Дели, где его младший компаньон и сородич продавал лошадей агенту одного раджпутанского княжества, и в Амбалу, откуда некий англичанин настойчиво требовал родословную какого-то белого жеребца... Базарный писец, знавший английский язык, составлял отличные телеграммы, вроде следующей: «Крейтону. Банк Лоурела. Амбала. Конь арабской породы, как уже сообщалось. Сожалею задержке родословной, которую высылаю». И позже по тому же адресу: «Весьма прискорбная задержка. Родословную перешлю». Своему младшему компаньону в Дели он телеграфировал: «Лутфулле. Перевел телеграфом две тысячи рупий ваш счет банк Лачман-Нарайна». Все это были обычные при ведении торговых дел телеграммы, но каждая из них вновь и вновь обсуждалась заинтересованными сторонами прежде чем попадала на вокзал, куда их носил глуповатый балти, позволявший всем желающим прочитывать их по дороге.
Когда, по образному выражению Махбуба, он замутил воды слежки палкой предосторожности, Ким внезапно предстал перед ним, словно небесный посланец, и, будучи столь же решительным, сколь неразборчивым в средствах, Махбуб Али, привыкший пользоваться всякой случайностью, тотчас же привлек его к делу.
Бродячий лама и мальчик-слуга низкой касты, правда, могли привлечь к себе внимание, но в Индии, стране паломников, никто их ни в чем бы не заподозрил и, главное, не пожелал бы ограбить. Он снова велел подать горячий уголек для хукки и принялся обдумывать создавшееся положение. Если случится самое худшее и мальчик попадет в беду, бумага все равно никого не выдаст. А сам он на досуге поедет в Амбалу и, немного рискуя возбудить новое подозрение, устно передаст свое донесение кому следует.
Донесение P.17-го было главным во всем деле; пропади оно, вышла бы большая неприятность. Но бог велик, и Махбуб Али чувствовал, что в настоящий момент сделал все, что мог. Ким был единственным в мире существом, никогда ему не солгавшим. Это следовало бы расценивать как роковой недостаток Кима, не знай Махбуб, что другим людям Ким, в своих интересах или ради махбубовых выгод, был способен лгать, как истый уроженец Востока.
Тогда Махбуб направился через весь караван-сарай к Вратам Гарпий, женщин, подводящих себе глаза и ловящих чужестранцев, и не без труда вызвал ту самую девушку, которая, как он имел основание думать, была близкой приятельницей безбородого кашмирского пандита, подстерегавшего простодушного балти с телеграммами. Это был чрезвычайно неразумный поступок, ибо он и она, вопреки закону пророка, стали пить душистую настойку; Махбуб вдребезги напился, врата его уст открылись, и он в опьянении стал преследовать Цветок Услады, пока не свалился, как сноп, посреди подушек; и тут Цветок Услады вместе с безбородым кашмирским пандитом самым тщательным образом обыскали его с головы до ног.
Около этого времени Ким услышал тихое шарканье шагов в опустевшей комнате Махбуба. Барышник странным образом оставил дверь незапертой, а люди его праздновали возвращение в Индию, угощаясь целой бараньей тушей от махбубовых щедрот. Лощеный молодой джентльмен, уроженец Дели, со связкой ключей, которую Цветок сняла с пояса бесчувственного торговца, обыскал каждый отдельный ящик, тюк, циновку и седельную сумку из имущества Махбуба еще тщательнее, чем Цветок и пандит обыскали их владельца.
— Я думаю, — с досадой говорила Цветок часом позже, опираясь округлым локтем на храпевшую тушу Махбуба, — что он просто-напросто афганский барышник, свинья, у которого на уме только кони да женщины. Возможно, конечно, что он и отослал это, если было что отсылать.
— Нет, вещь, относящаяся к Пяти князьям, должна была бы лежать у самого его черного сердца, — сказал пандит. — А там ничего не было?
Делиец, войдя, засмеялся и оправил свою чалму. — Я обыскивал подошвы его туфель, пока Цветок обыскивала его одежду. Это не тот человек, это другой. Я не многое пропускаю при осмотре.
— Они не говорили, что это непременно тот самый человек, — озабоченно промолвил пандит. — Они говорили: узнайте, не тот ли это человек, ибо наши Советы встревожены.
— Северные области кишат барышниками, как старый халат вшами. Там торгуют и Сикандар-Хан, и Нур-Али-Бег, и Фарух-Шах, — все вожди кафилов, — сказала Цветок.
— Они пока не приехали, — молвил пандит. — Тебе еще придется их завлечь.
— Тьфу! — с глубоким отвращением произнесла Цветок, снимая голову Махбуба со своих колен. — Не даром достаются мне деньги! Фарух-Шах — настоящий медведь. Али-Бег — наемный убийца, а старик Сикандар-Хан... ох! Ну, ступайте! Я теперь спать буду. Эта свинья не шевельнется до самой зари.
Когда Махбуб проснулся, Цветок стала строго внушать ему, как грешно напиваться. Азиат, перехитрив врага, и глазом не моргнет, но Махбуб Али едва удержался от этого, когда, откашлявшись, затянул на себе кушак и, пошатываясь, вышел наружу под предрассветные звезды.
— Что за ребячья проделка, — сказал он себе. — Как будто каждая пешаварская девчонка уже на это не шла! Но сделано это было неплохо. Господь знает, сколько еще встретится на пути людей, получивших приказ пощупать меня... пожалуй, даже при помощи ножа. Выходит, что мальчишке нужно отправляться в Амбалу... и — по железной дороге, ведь письмо срочное. А я останусь здесь, буду ухаживать за Цветком и пьянствовать, как полицейский-афганец.
Он остановился у каморки, которая была рядом с его собственной. Люди его спали мертвым сном. Среди них не оказалось ни Кима, ни ламы.
— Вставай! — он дернул одного из спящих. — Куда ушли те, что лежали здесь вчера вечером, — лама и мальчик? Не пропало ли что-нибудь?
— Нет, — буркнул человек, — полоумный старик встал после вторых петухов, говоря, что пойдет в Бенарес, и мальчик увел его.
— Проклятье Аллаха на всех неверных, — в сердцах произнес Махбуб и, ворча себе в бороду, полез в свою каморку.
Но ламу разбудил Ким — Ким, который, приложив глаз к дырке от выпавшего сучка, образовавшейся в деревянной перегородке, видел, как делиец обыскивал ящики. Это был не простой вор, раз он перебирал письма, счета и седла, не грабитель, если просовывал нож под подошвы Махбубовых туфель и так тщательно ощупывал швы седельных сумок. Ким хотел было поднять тревогу, испустив протяжный крик ч-о-о-р! ч-о-о-р![12], который по ночам поднимает на ноги весь караван-сарай, но, присмотревшись внимательней, прикрыл рукой гайтан и сделал соответствующие выводы.
— Должно быть, дело идет о родословной этой вымышленной лошади, — сказал он себе, — о той штуке, что я везу в Амбалу. Лучше нам теперь же убираться отсюда. Те, что щупают сумки ножами, могут и животы ножами пощупать. Наверное за этим скрывается женщина. Эй! Эй! — шепнул он спавшему некрепким сном ламе. — Пойдем. Пора... пора ехать в Бенарес.
Лама послушно встал, и они, как тени, выскользнули из караван-сарая.
ГЛАВА II
Кто цепи гордости порвет, Кто зверя и людей поймет, Души всего Востока тот Коснется здесь, в Камакуре. Будда в КамакуреОни вошли в похожий на крепость вокзал, темный на исходе ночи; электрические фонари горели только на товарном дворе, где производятся работы по крупным хлебным перевозкам Северной Индии.
— Это работа дьяволов! — произнес лама и отпрянул назад, ошеломленный глубоким гулким мраком, мерцанием рельсов между бетонными платформами и переплетом ферм над головой. Он стоял в гигантском каменном зале, пол которого, казалось, был вымощен трупами, закутанными в саваны; это были пассажиры третьего класса, взявшие билеты вечером и теперь спавшие в залах ожидания. Уроженцам Востока все часы в сутках кажутся одинаковыми, и пассажирское движение регулируется в соответствии с этим.
— Сюда-то и приходят огненные повозки. За этой дыркой, — Ким показал на билетную кассу, — стоит человек, который даст тебе бумажку, чтобы доехать до Амбалы.
— Но мы едем в Бенарес, — нетерпеливо возразил лама.
— Все равно. Пускай хоть в Бенарес. Скорей — она подходит!
— Возьми этот кошелек.
Лама, менее привыкший к поездам, чем он утверждал, вздрогнул, когда поезд, отходивший в 3.25 утра на юг, с грохотом подошел к вокзалу. Спящие проснулись, и вокзал огласился шумом и криками, возгласами продавцов воды и сластей, окриками туземных полицейских и пронзительным визгом женщин, собиравших свои корзинки, семьи и мужей.
— Это — поезд, только поезд. Сюда он не дойдет. Подожди.
Изумленный необычайным простодушием ламы (который отдал ему кошелек, полный рупий), Ким попросил билет до Амбалы и уплатил за него. Заспанный кассир, ворча, выкинул билет до ближайшей станции, расположенной на расстоянии шести миль от Лахора.
— Нет, — возразил с усмешкой Ким, рассмотрев билет, — с деревенскими эта штука, пожалуй, пройдет, но я живу в Лахоре. Ловко придумал, бабу. Теперь давай билет до Амбалы.
Бабу, нахмурившись, выдал нужный билет.
— Теперь другой, до Амритсара, — сказал Ким, не собиравшийся мотать деньги Махбуба Али на такое безрассудство, как плата за проезд до Амбалы. — Стоит столько-то. Сдачи столько-то. Я знаю все, что касается поездов... Ни один йоги так не нуждался в челе, как ты, — весело заявил он сбитому с толку ламе. — Не будь меня, они вышвырнули бы тебя в Миян-Мире. Проходи сюда! Пойдем! — он вернул деньги, оставив себе в качестве комиссионных — неизменных азиатских комиссионных — только по одной ане с каждой рупии, заплаченной за билет в Амбалу.
Лама топтался у открытой двери переполненного вагона третьего класса.
— Не лучше ли пойти пешком? — нерешительно промолвил он. Дородный ремесленник-сикх высунул наружу бородатое лицо.
— Боится он, что ли? Не бойся! Помню, я сам раньше боялся поезда. Входи! Эту штуку устроило правительство.
— Я не боюсь, — сказал лама. — А у вас найдется место для двоих?
— Тут и для мыши места не хватит, — взвизгнула жена зажиточного земледельца-джата индуистского вероисповедания из богатого Джаландхарского округа.
В наших ночных поездах меньше порядка, чем в дневных, где очень строго соблюдаются правила, требующие, чтобы мужчины и женщины сидели в разных вагонах.
— О, мать моего сына, мы можем потесниться, — промолвил ее муж, человек в синей чалме. — Возьми ребенка. Это, видишь ли, святой человек.
— Я уж и так семью семьдесят свертков на руках держу! Может, пригласишь его сесть ко мне на колени, бесстыдник? От мужчин только этого и дождешься! — она огляделась кругом, ожидая сочувствия. Проститутка из Амритсара, сидевшая у окна, фыркнула из-под головного покрывала.
— Входи! Входи! — крикнул жирный ростовщик-индус с обернутой в ткань счетной книгой под мышкой и добавил с елейной улыбкой: — Надо быть добрым к беднякам.
— Ну да, за семь процентов в месяц под залог не рожденного теленка, — промолвил молодой солдат-догра, ехавший на юг, в отпуск. Все рассмеялись.
— Он пойдет до Бенареса? — спросил лама.
— Конечно. Иначе к чему нам ехать в нем? Входи, а то останемся, — кричал Ким.
— Глядите! — взвизгнула амритсарская девица. — Он никогда не ездил в поезде. О, глядите!
— Ну, лезь, — промолвил земледелец, протягивая большую смуглую руку и втаскивая ламу. — Вот и ладно, отец.
— Но... но... я сяду на полу. Сидеть на лавке противно уставу, — говорил лама. — К тому же у меня от этого затекают ноги.
— Я говорю, — начал ростовщик, поджимая губы, — что нет ни одного праведного закона, которого мы не нарушили бы из-за этих поездов. К примеру, вот мы сидим здесь с людьми всех каст и племен.
— Да, и с самыми непристойными бесстыдницами, — промолвила его жена, хмурясь на амритсарскую девицу, строившую глазки молодому сипаю.
— Я говорил, лучше бы нам ехать по тракту, в повозке, — сказал муж, — тогда бы мы и денег немного сберегли.
— Ну да, чтобы за дорогу истратить на пищу вдвое больше того, что удалось бы сберечь. Об этом говорено и переговорено десять тысяч раз.
— Еще бы, десятью тысячами языков, — проворчал он.
— Уж если нам, бедным женщинам, и поговорить нельзя, так пусть нам помогут боги! Ох! Он, кажется, из тех, что не должны смотреть на женщину и отвечать ей. — Лама, связанный своим уставом, не обращал на нее ни малейшего внимания. — А ученик тоже из таких?
— Нет, мать, — выпалил Ким, — если женщина красива, а главное — милосердна к голодному.
— Ответ нищего, — со смехом сказал сикх. — Сама виновата, сестра!
Ким умоляюще сложил руки.
— Куда ты едешь? — спросила женщина, протягивая ему половину лепешки, вынутой из засаленного свертка.
— До самого Бенареса.
— Вы, должно быть, скоморохи? — предположил молодой солдат. — Не покажете ли нам какие-нибудь фокусы, чтобы скоротать время? Почему этот желтый человек не отвечает?
— Потому, что он святой, — свысока произнес Ким, — и думает о вещах, которые для тебя сокрыты.
— Это возможно. Мы, лудхиянские сикхи, — он раскатисто проговорил эти слова, — не забиваем себе головы богословием. Мы сражаемся.
— Сын брата моей сестры служит наиком[13] в этом полку, — спокойно промолвил ремесленник-сикх. — В этом полку есть роты из догр. — Солдат воззрился на него, ибо догры другой касты, чем сикхи, а ростовщик захихикал.
— Для меня все одинаковы, — сказала девица из Амритсара.
— Этому можно поверить, — язвительно фыркнула жена земледельца.
— Да нет же, но все, что служат сиркару с оружием в руках, составляют братство, если можно так выразиться. Братство касты — это одно, но кроме этого, — она робко огляделась кругом, — есть узы палтана — полка, не правда ли?
— У меня брат в джатском полку, — сказал земледелец. — Догры — хорошие люди.
— По крайней мере, сикхи твои держались такого мнения, — проговорил солдат, хмурясь на сидевшего в углу безмолвного старика. — Именно так думали твои сикхи, когда две наши роты пришли им на помощь в Пирзаи-Котале; восемь афридийских знамен торчали тогда на гребне. С тех пор еще и трех месяцев не прошло.
Он рассказал о военных действиях на границе, во время которых догрские роты лудхиянских сикхов хорошо себя показали.
Амритсарская девица улыбнулась; она понимала, что рассказчик стремится вызвать ее одобрение.
— Увы! — произнесла жена земледельца, когда солдат кончил. — Значит, деревни их были сожжены и маленькие дети остались без крова?
— Они уродовали наших убитых. После того как мы, солдаты сикхского полка, проучили их, они заплатили большую дань. Вот как все это было... Это что? Не Амритсар ли?
— Да, и здесь прокалывают наши билеты, — сказал ростовщик, шаря у себя за кушаком.
Фонари бледнели при свете зари, когда контролер-метис начал обход. На Востоке, где люди засовывают свои билеты во всякие необычные места, проверка билетов тянется долго. Ким показал свой билет, и ему велели выходить.
— Но я еду в Амбалу, — заспорил он, — я еду с этим святым человеком.
— Можешь ехать хоть в джаханнам, мне-то что? Этот билет только до Амритсара. Пошел вон!
Ким разразился потоком слез, уверяя, что лама ему отец и мать, что он, Ким, опора его преклонных лет и что лама умрет без его помощи. Весь вагон упрашивал контролера смилостивиться (особенное красноречие проявил ростовщик), но контролер вытащил Кима на платформу. Лама моргал глазами: он не в силах был понять, что происходит, а Ким еще громче рыдал за окном вагона.
— Я очень беден. Отец мой умер, мать умерла. О милостивцы, если я здесь останусь, кто будет ухаживать за этим стариком?
— Что... что это такое? — повторял лама. — Он должен ехать в Бенарес. Он должен ехать со мною вместе. Он мой чела. Если нужно уплатить деньги...
— О, замолчи! — прошептал Ким. — Разве мы раджи, чтобы швыряться добрым серебром, когда люди вокруг так добры.
Амритсарская девица вышла, захватив свои свертки, и Ким устремил на нее внимательный взор. Он знал, что подобные женщины обычно щедры.
— Билет, маленький билетик до Амбалы, о Разбивающая Сердца! — Она рассмеялась. — Неужели и ты не милосердна?
— Святой человек пришел с Севера?
— Он пришел издалека, с самого далекого Севера, с Гор, — воскликнул Ким.
— Теперь на Севере снег лежит в горах между соснами. Мать моя была родом из Кулу. Возьми себе билет. Попроси его благословить меня.
— Десять тысяч благословений, — завизжал Ким. — О святой человек! Женщина подала нам милостыню, женщина с золотым сердцем, так что я смогу ехать вместе с тобой. Побегу за билетом.
Девица взглянула на ламу, который машинально вышел на платформу вслед за Кимом. Он наклонил голову, чтобы не смотреть на нее, и забормотал что-то по-тибетски, когда она уходила с толпой.
— Легко добывают, легко и тратят, — ядовито проговорила жена земледельца.
— Она приобрела заслугу, — возразил лама. — Наверное, это была монахиня.
— В одном Амритсаре тысяч десять таких монахинь. Иди обратно, старик, не то поезд уйдет без тебя, — прокричал ростовщик.
— Хватило не только на билет, но и на чуточку пищи, — сообщил Ким, прыгая на свое место. — Теперь ешь, святой человек. Гляди! День наступает.
Золотые, розовые, шафранные, алые курились утренние туманы над плоскими зелеными равнинами. Весь богатый Пенджаб открывался в блеске яркого солнца. Лама слегка отклонялся назад при виде мелькающих телеграфных столбов.
— Велика скорость этого поезда, — сказал ростовщик с покровительственной усмешкой. — Мы отъехали от Лахора дальше, чем ты успел бы пройти за два дня. Вечером приедем в Амбалу.
— Но оттуда еще далеко до Бенареса, — устало молвил лама, жуя предложенные Кимом лепешки. Все пассажиры развязали свои узлы и принялись за утреннюю еду. Потом ростовщик, земледелец и солдат набили себе трубки и наполнили вагон удушливым, крепким дымом; они сплевывали и кашляли с наслаждением. Сикх и жена земледельца жевали пан, лама нюхал табак и перебирал четки, а Ким, скрестив ноги, улыбался, радуясь приятному ощущению в полном желудке.
— Какие у вас в Бенаресе реки? — неожиданно спросил лама, обращаясь ко всему вагону вообще.
— У нас есть Ганга, — ответил ростовщик, когда тихое хихиканье умолкло.
— А еще какие?
— Какие же еще, кроме Ганги?
— Нет, я имел в виду некую Реку Исцеления.
— Это и есть Ганга. Кто искупается в ней, очистится и пойдет к богам. Я трижды совершал паломничество на Гангу, — он гордо оглянулся кругом.
— Ты в этом нуждался, — сухо сказал молодой сипай, и смех путешественников обратился на ростовщика.
— Очиститься... чтобы вернуться к богам, — пробормотал лама, — и вновь вращаться в круговороте жизни, будучи по-прежнему привязанным к Колесу! — Он с раздражением покачал головой. — Но, может быть, здесь ошибка. Кто же вначале сотворил Гангу?
— Боги. Какую из известных нам вер исповедуешь ты? — спросил ростовщик, сбитый с толку.
— Я следую Закону, Всесовершенному Закону. Так, значит, боги сотворили Гангу? Что это были за боги?
Весь вагон в изумлении смотрел на него. Никто не понимал, как это можно не знать о Ганге.
— Какому... какому богу ты поклоняешься? — спросил, наконец, ростовщик.
— Слушайте! — произнес лама, перекладывая четки из одной руки в другую. — Слушайте, ибо я буду говорить о нем! О народ Хинда, слушай!
Он начал рассказывать историю владыки Будды на языке урду, но, увлеченный своими мыслями, перешел на тибетский и стал приводить монотонные тексты из одной китайской книги о жизни Будды. Мягкие, веротерпимые люди благоговейно смотрели на него. Вся Индия кишит святыми, бормочущими проповеди на незнакомых языках; фанатиками, потрясенными и снедаемыми огнем религиозного рвения; мечтателями, болтунами и ясновидцами. Так было от начала времен и так будет до конца.
— Хм! — произнес солдат из полка лудхиянских сикхов. — В Пирзан-Котале рядом с нами стоял мусульманский полк и в нем служил какой-то ихний жрец, — помнится, он был наиком, — так вот, когда на него накатывало, он пророчествовал. Но бог хранит всех безумных. Начальство многое спускало этому человеку.
Лама, вспомнив, что он находится в чужой стране, опять перешел на урду.
— Послушайте рассказ о Стреле, которую владыка наш выпустил из лука, — сказал он. Это гораздо больше отвечало вкусам присутствующих, и они с любопытством выслушали его рассказ.
— А теперь, о народ Хинда, я иду искать эту Реку. Не можете ли вы указать мне путь, ибо все мы, и мужчины, и женщины, живем во зле?
— Ганга, только Ганга смывает грехи, — пронеслось по всему вагону.
— Однако у нас в Джаландхаре тоже добрые боги, уж это так, — сказала жена земледельца, выглядывая из окна. — Смотрите, как они благословили хлеба.
— Обойти все реки в Пенджабе — немалое дело, — промолвил ее муж. — С меня хватит и той речки, которая покрывает мое поле хорошим илом, и я благодарю Бхумию, бога усадьбы, — он дернул узловатым бронзовым плечом.
— Ты думаешь, наш владыка заходил так далеко на север? — сказал лама, обращаясь к Киму.
— Возможно, — успокоительно ответил Ким, выплевывая красный сок пана на пол.
— Последним из великих людей, — авторитетно произнес сикх, — был Сикандар Джалкарн[14]. Он вымостил улицы Джаландхара и построил большой водоем около Амбалы. Мостовая держится до сего дня, и водоем тоже уцелел. Я никогда не слыхал о твоем боге.
— Отрасти волосы и говори на пенджаби, — шутливо обратился молодой солдат к Киму, цитируя северную поговорку. — Этого достаточно чтобы стать сикхом. — Но он сказал это не очень громко.
Лама вздохнул и погрузился в созерцание. Он казался темной бесформенной массой. Когда среди общего говора наступали паузы, слышалось низкое монотонное гудение: «Ом мани падме хум! Ом мани падме хум!» — и стук деревянных четок.
— Это утомляет меня, — сказал он, наконец. — Быстрота и стук утомляют меня. Кроме того, мой чела, не пропустили ли мы нашу Реку?
— Успокойся, успокойся, — говорил Ким. — Разве Река не вблизи Бенареса? А мы еще далеко от этого места.
— Но если наш владыка был на Севере, так, может, это одна из тех речек, через которые мы переезжали?
— Не знаю.
— Но ты был послан мне, — был ты мне послан или нет? — за те заслуги, которые я приобрел там, в Сач-Зене. Ты пришел из-за пушки, двуликий... и в двух одеждах.
— Молчи. Здесь нельзя говорить об этих вещах, — зашептал Ким. — Один я был там. Подумай — и ты вспомнишь. Только мальчик... мальчик-индус... у большой зеленой пушки.
— Но разве там не было англичанина с белой бородой, святого человека среди священных изображений, который сам укрепил мою веру в Реку Стрелы?
— Он... мы... пошли в Аджаиб-Гхар, в Лахоре, чтобы там помолиться богам, — объяснил Ким окружающим, которые, не стесняясь, прислушивались к ним. — И сахиб из Дома Чудес говорил с ним, — да, это истинная правда, — как с братом. Он очень святой человек, родом издалека, из-за Гор. Отдохни! В положенное время мы приедем в Амбалу.
— Но Река... Река моего исцеления?
— И тогда, если хочешь, мы пешком пойдем искать эту Реку. Так, чтобы ничего не пропустить, ни одного самого маленького ручейка на полях.
— Но у тебя свое собственное искание? — Лама, очень довольный, что так ясно все помнит, сел прямо.
— Да, — подтвердил Ким, ободряя его. Мальчик был совершенно счастлив тем, что куда-то едет, жует пан и видит новых людей в большом благожелательном мире.
— Это был Бык, Красный Бык, который придет, чтобы помочь тебе и увести тебя... куда? Я позабыл. Красный Бык на зеленом поле, не так ли?
— Нет, он никуда меня не уведет, — сказал Ким. — Это я просто сказку тебе рассказал.
— Что такое? — жена земледельца наклонилась вперед, и браслеты на руках ее звякнули. — Или вы оба видите сны? Красный Бык на зеленом поле, который уведет тебя на небо... так, что ли? Это было видение? Кто-нибудь это предсказал? В нашей деревне, за городом Джаландхаром, есть красный бык, и он пасется, где хочет, на самых зеленых наших полях!
— Подай только бабе старухину сказку, а птице-ткачу листок и нитку — и они наплетут всяких чудес, — сказал сикх. — Всех святых людей посещают видения, а ученики, следуя святым, тоже выучиваются этому.
— Ведь это был Красный Бык на зеленом поле? — повторил лама. — Возможно, что в какой-нибудь из прежних жизней своих ты приобрел заслугу, и Бык придет, чтобы вознаградить тебя.
— Нет, нет... это мне просто сказку рассказали... наверное, в шутку. Но я буду искать Быка вокруг Амбалы, а ты поищешь свою Реку и отдохнешь от стука поезда.
— Возможно, Бык знает, что он послан указать путь нам обоим, — с детской надеждой промолвил лама. Потом он обратился к присутствующим, указывая на Кима: — Он только вчера был послан мне. Я думаю, что он не от мира сего.
— Видала я много нищих и святых, но такого йоги с таким учеником еще не видывала, — сказала женщина.
Муж ее легонько тронул пальцем свой лоб и улыбнулся. Но, когда лама принялся за еду, все они стали предлагать ему лучшее, что у них было.
В конце концов усталые, сонные и запыленные, они прибыли на вокзал города Амбалы.
— Мы приехали сюда по делам одной тяжбы, — сказала жена земледельца Киму. — Мы остановимся у младшего брата двоюродной сестры моего мужа. Во дворе найдется место для тебя и твоего йоги. А что, он... он благословит меня?
— О, святой человек! Женщина с золотым сердцем хочет дать нам приют на ночь. Эта южная страна — страна милосердия. Вспомни, как нам помогали с самого утра. — Лама, благословляя женщину, наклонил голову.
— Пускать в дом младшего брата моей двоюродной сестры всяких бродяг... — начал муж, вскидывая на плечо тяжелую бамбуковую дубинку.
— Младший брат твоей двоюродной сестры до сих пор должен двоюродному брату моего отца часть денег, истраченных на свадьбу дочери, — резко сказала женщина. — Пусть он спишет с этого долга стоимость их пропитания. Йоги, наверно, будет просить милостыню.
— Еще бы, я прошу милостыню вместо него, — подтвердил Ким, стремившийся прежде всего найти ночлег для ламы, с тем чтобы самому отыскать англичанина Махбуба Али и отделаться от родословной белого жеребца.
— А теперь, — сказал он, когда лама устроился во внутреннем дворе зажиточного индуистского дома, позади военного поселка, — я ненадолго уйду, чтобы... чтобы... купить на базаре еды. Не выходи наружу, покуда я не вернусь.
— Ты вернешься? Ты обязательно вернешься? — старик схватил его за руку. — И ты вернешься в том же самом образе? Разве сейчас уже поздно идти искать Реку?
— Слишком поздно и слишком темно. Успокойся, подумай, как далеко ты уже отъехал — на целых сто миль от Лахора.
— Да, а от моего монастыря еще дальше. Увы! Мир велик и страшен.
Ким выскользнул и удалился. Никогда еще столь незаметная фигурка не носила на своей шее свою судьбу и судьбу десятков тысяч других людей. Указания Махбуба Али почти не оставляли сомнений в том, где именно находится дом англичанина; какой-то грум, отвозивший хозяйский шарабан из клуба домой, дал Киму дополнительные сведения. Оставалось только разыскать самого этого человека, и Ким, проскользнув через садовую изгородь, спрятался в пушистой траве близ веранды. Дом сверкал огнями, и слуги двигались в нем среди накрытых столов, уставленных цветами, хрусталем и серебром.
Вскоре из дома вышел англичанин, одетый в черный костюм и белую рубашку. Он напевал какой-то мотив. Было слишком темно, чтобы рассмотреть его лицо, и Ким, по обычаю нищих, решил испробовать старинную уловку.
— Покровитель бедных! — Человек обернулся на голос. — Махбуб Али говорит...
— Ха! Что говорит Махбуб Али? — он даже не взглянул на говорившего, и Киму стало ясно, что он знает, о чем идет речь.
— Родословная белого жеребца вполне установлена.
— Чем это доказано? — англичанин перешел к шпалерам из роз, окаймлявшим аллею.
— Махбуб Али дал мне вот это доказательство, — Ким швырнул в воздух комочек бумаги, и он упал на дорожку рядом с человеком, который наступил на него ногой, увидев, что из-за угла выходит садовник. Когда слуга ушел, он поднял комочек, бросил на землю рупию — Ким услышал звон металла — и зашагал к дому, ни разу не оглянувшись. Ким быстро поднял монету; впрочем, несмотря на условия своего воспитания, он был истым ирландцем и считал серебро наименее важным элементом всякой игры. Чего он всегда хотел, так это наглядно узнавать, к каким результатам приводит его деятельность; поэтому, вместо того чтобы ускользнуть прочь, он лег на траву и, как червь, пополз к дому.
Он увидел — индийские бунгало открыты со всех сторон, — что англичанин, вернувшись в расположенную за углом веранды заваленную бумагами и портфелями туалетную комнату, служившую также кабинетом, сел читать послание Махбуба Али. Лицо его, ярко освещенное керосиновой лампой, изменилось и потемнело, и Ким, подобно всем нищим привыкший следить за выражением лиц, отметил это.
— Уил! Уил, милый! — прозвучал женский голос. — Иди в гостиную. Они вот-вот приедут.
— Уил! — снова прозвучал голос пять минут спустя. — Он приехал. Я слышу, как солдаты едут по аллее.
Человек выскочил наружу без шляпы, а в это время у веранды остановилось большое ландо, вслед за которым ехали четыре туземных кавалериста, и из него вышел высокий черноволосый человек, прямой как стрела. Впереди шел молодой любезно улыбавшийся офицер. Ким лежал на животе, почти касаясь высоких колес. Хозяин и черный незнакомец обменялись двумя фразами.
— Конечно, сэр, — быстро проговорил молодой офицер. — Все обязаны ждать, если дело касается лошади.
— Мы задержимся не больше, чем на двадцать минут, — сказал знакомый Кима. — А вы будьте за хозяина, занимайте гостей и все такое.
— Велите одному из солдат подождать, — сказал высокий человек, и оба они прошли в туалетную комнату, а ландо покатило прочь. Ким видел, как головы их склонились над посланием Махбуба Али, и слышал их голоса: один голос был тихий и почтительный, а другой решительный и резкий.
— Дело идет не о неделях, а о днях, чуть ли не о часах, — произнес старший. — Я давно уже ожидал этого, но вот эта штука, — он хлопнул по записке Махбуба Али, — решает дело. Кажется, у вас сегодня обедает Гроган?
— Да, сэр, и Маклин тоже.
— Отлично. Я сам поговорю с ними. Дело, конечно, будет доложено Совету, но здесь случай такого рода, что мы имеем право действовать немедленно. Предупредите Пиндскую и Пешаварскую бригады. Это внесет путаницу в расписание летних смен, но тут уже ничего не поделаешь. Вот что получается, если их сразу же не проучить хорошенько. Восьми тысяч, пожалуй, хватит.
— Как насчет артиллерии, сэр?
— Я посоветуюсь с Маклином.
— Так, значит, война?
— Нет, карательная экспедиция. Когда чувствуешь себя связанным действиями своего предшественника...
— Но, быть может, С.25-й солгал?
— Он подтверждает донесение другого лица. В сущности, они уже шесть месяцев назад показали свои когти. Но Девениш утверждал, что имеются шансы на мир. Конечно, они воспользовались этим, чтобы пополнить свои силы. Немедленно отправьте эти телеграммы... новый шифр, не старый — мой и Уортонов. Не думаю, что нам нужно заставлять дам ожидать нас дольше. Все остальное мы обсудим за послеобеденными сигарами. Я не сомневался, что так и будет. Карательная экспедиция — не война.
Когда кавалерист отъехал, Ким пробрался к задней половине дома, где он, основываясь на своем лахорском опыте, ожидал получить пищу и... информацию. Кухня кишела возбужденными поварятами, один из которых толкнул его.
— Ай, — взвизгнул Ким, притворяясь плачущим, — я только пришел помыть тарелки, чтобы меня за это накормили.
— Вся Амбала сюда устремилась за этим же. Убирайся отсюда! Они сейчас суп кушают. Ты думаешь, что нам, слугам Крейтона-сахиба, нужна чужая помощь при большом обеде?
— А это очень большой обед? — спросил Ким, косясь на блюда.
— Еще бы. А главный гость не кто иной, как сам джанги-лат-сахиб[15].
— Хо! — издал Ким гортанный возглас изумления. Он узнал все, что хотел, и, когда поваренок отвернулся, ушел прочь.
— И вся эта суматоха, — сказал он себе, по своему обыкновению думая на хиндустани, — происходит из-за родословной какой-то лошади. Махбубу Али надо бы поучиться лгать у меня. Всякий раз, как я передавал поручения, они касались женщин. Теперь — мужчин. Тем лучше. Высокий человек сказал, что они пошлют большую армию наказывать кого-то... где-то там... Вести пойдут в Пинди и Пешавар. И пушки будут. Надо мне было подползти поближе. Новости важные!
Вернувшись, он увидел, что младший брат двоюродной сестры земледельца во всех подробностях обсуждает семейную тяжбу вместе с земледельцем, его женой и несколькими приятелями, а лама дремлет. После ужина кто-то передал ему хукку, и Ким чувствовал себя почти мужчиной, посасывая гладкую кокосовую скорлупу; он высунул ноги наружу, под свет луны, то и дело щелкал языком и вставлял в разговор свои замечания. Хозяева были с ним чрезвычайно любезны, ибо жена земледельца рассказала им, что ему привиделся Красный Бык и что он, по всей вероятности, явился из другого мира. Кроме того, лама служил предметом великого и благоговейного любопытства. Позже зашел домашний жрец, старый веротерпимый сарсатский брахман, и, само собой разумеется, завел богословский диспут с целью произвести впечатление на все семейство. Конечно, в вопросах веры все держали сторону жреца, но лама был гостем и новым человеком. Его мягкая доброта, внушающие почтение китайские цитаты, звучавшие как заклинания, приводили собравшихся в полный восторг, и в этой благожелательной атмосфере он, расцветший как лотос Бодисатвы, стал рассказывать о своей жизни в великих Сачзенских горах, жизни, которую вел до того момента, когда, по его собственным словам, «встал, чтобы искать просветления».
Затем выяснилось, что в дни его мирской, суетной жизни он был мастером по составлению гороскопов, и домашний жрец попросил его описать свой метод. Каждый из них называл планеты именами, которые другой понять не мог, и показывал пальцем вверх на крупные, плывущие во мраке звезды. Хозяйские дети без помехи дергали его четки, и лама, совершенно позабыв об уставе, запрещающем смотреть на женщин, рассказывал о вечных снегах, об оползнях, заваленных проходах, отдаленных скалах, где люди находят сапфиры и бирюзу, и о той чудесной пересекающей горы дороге, которая в конце концов доходит до самого Великого Китая.
— Какого ты о нем мнения? — спросил тихонько земледелец, отводя в сторону жреца.
— Святой человек, поистине святой человек. Боги его — не боги, но стопы его стоят на Пути, — ответил тот. — А его способы составления гороскопов, хотя это и не твоего ума дело, мудры и точны.
— Скажи мне, — лениво промолвил Ким, — найду ли я своего Красного Быка на зеленом поле, как мне было обещано?
— Что ты знаешь о часе своего рождения? — спросил жрец, раздуваясь от важности.
— Я родился между первыми и вторыми петухами, в первую ночь мая.
— Какого года?
— Не знаю, но в час, когда я впервые вскрикнул, в Сринагаре, что находится в Кашмире, началось великое землетрясение. — Об этом Ким слышал от своей воспитательницы, а она, в свою очередь, от Кимбола О'Хары. Землетрясение ощущалось в Северной Индии и в Пенджабе, от него долгое время вели счет годам.
— Ай! — заволновалась одна из женщин. Это обстоятельство, казалось ей, подтверждало сверхъестественное происхождение Кима. — Кажется, дочь такого-то родилась в тот же день.
— И мать ее родила своему мужу четырех сыновей за четыре года — все прелестные мальчики! — воскликнула жена земледельца, сидевшая в тени, поодаль.
— Ни один человек, владеющий этой наукой, — сказал домашний жрец, — не забыл, в каких Домах пребывали планеты той ночью. — Он начал что-то чертить на пыльной земле двора. — Ты имеешь право не меньше, чем на половину Дома Быка. Что именно тебе пророчили?
— Наступит день, — начал Ким в восторге от произведенного впечатления, — и я буду возвеличен Красным Быком на зеленом поле, но сначала придут двое людей, которые все подготовят.
— Да, так всегда бывает в начале видения. Густая тьма медленно проясняется, и вот входит некто с метлой, чтобы приготовить место. Затем начинается видение. Ты говоришь, два человека? Да, да. Солнце, покинув Дом Быка, входит в Дом Близнецов. Отсюда двое людей из пророчества. Теперь поразмыслим... Принеси мне прутик, малыш.
Сдвинув брови, он чертил, стирал и вновь чертил в пыли таинственные знаки, к изумлению всех, кроме ламы, который, обладая тонким чувством такта, не позволял себе вмешиваться. Через полчаса жрец с ворчаньем отбросил прутик. — Хм! Вот что говорят звезды: через три дня придут два человека, чтобы все подготовить. За ними последует Бык, но знак над ним — знак войны и вооруженных людей.
— В нашем вагоне, когда мы ехали из Лахора, действительно был солдат из полка лудхиянских сикхов, — простодушно промолвила жена земледельца.
— Нет! Вооруженные люди; много сотен. Какая у тебя связь с войной? — спросил жрец у Кима. — Твой знак — красный и гневный знак войны, которая вот-вот должна начаться.
— Нет, нет, — серьезно возразил лама, — мы ищем мира и нашу Реку, — и только.
Ким улыбнулся, вспомнив о подслушанном им разговоре в туалетной комнате. Звезды действительно ему покровительствовали. Жрец стер ногой грубый гороскоп.
— Больше этого я увидеть не могу. Через три дня к тебе придет Бык, мальчик мой.
— А моя Река? Река? — умолял лама. — Я надеюсь, что Бык обоих нас поведет к Реке.
— Увы, что касается этой чудодейственной Реки, брат мой, — ответил жрец, — такие вещи встречаются не часто.
Наутро, хотя их и убеждали остаться, лама настоял на том, чтобы уйти. Киму дали большой узел с хорошей пищей и чуть ли не три аны медью на путевые расходы, и все, произнося множество напутственных благословений, смотрели, как оба путника уходят на юг в предрассветных сумерках.
— Жаль, что эти люди и подобные им не могут освободиться от Колеса Всего Сущего, — сказал лама.
— Ну, нет, кабы только одни злые люди остались на земле, кто давал бы нам кров и пищу, — заметил Ким, весело ступая со своей ношей на спине.
— Вон там ручеек. Давай посмотрим, — сказал лама и, сойдя с белой дороги, пошел по полю, где наткнулся на целый выводок бродячих собак.
ГЛАВА III
Горячим ветром с тех времен, Как Девадатта дал Закон, Душ восходящих слабый стон Доносится в Камакуру. Будда в КамакуреСзади них сердитый крестьянин размахивал бамбуковым шестом. Это был зеленщик из касты арайнов, который выращивал овощи и цветы для города Амбалы, и Ким хорошо знал эту породу людей.
— Такой человек, — сказал лама, не обращая внимания на собак, — невежлив с незнакомцами, невоздержан на язык и немилосерден. Его поведение да послужит тебе предупреждением, ученик мой.
— Хо, бессовестные нищие! — орал крестьянин. — Ступайте прочь! Убирайтесь!
— Мы уходим, — ответил лама со спокойным достоинством, — мы уходим с этих неблагословенных полей.
— А, — произнес Ким, глубоко вздыхая, — если следующий урожай твой погибнет, пеняй на свой собственный язык.
Человек в смущении шаркал туфлями по земле.
— Вся округа кишит нищими, — начал он, как бы извиняясь.
— А почему ты решил, что мы будем просить у тебя милостыню, мали? — кольнул его Ким, употребив обращение, которое меньше всего нравится базарным зеленщикам. — Мы хотели только взглянуть вон на ту речку, за полем.
— Ну и речка! — фыркнул человек. — Из какого же вы города явились, если не умеете распознать прорытого канала? Он тянется прямо, как стрела, и я плачу за воду столько, словно это не вода, а расплавленное серебро. Там, дальше, рукав реки. Но если вам хочется пить, я могу вам дать воды... и молока тоже.
— Нет, мы пойдем к реке, — сказал лама, шагая дальше.
— Молока и пищи, — пробормотал человек, глядя на странную высокую фигуру. — Мне не хочется навлечь беду на себя или свой урожай. Но в теперешнее тяжелое время столько нищих таскается...
— Заметь себе это, — обратился лама к Киму, — алый туман гнева побудил его произнести грубые речи. Но едва туман спал с его глаз, он стал учтивым и доброжелательным. Да будут благословенны его поля. Остерегайся слишком поспешно судить о людях, о земледелец!
— Я встречал святых, которые прокляли бы все твое добро, начиная от камней на очаге до самого хлева, — сказал Ким пристыженному человеку. — Ну, разве он не мудр и не свят? Я его ученик.
Высокомерно задрав нос, он с величайшей важностью шагал через узкие межи.
— Нет гордости, — начал лама после некоторой паузы, — нет гордости у тех, что идут по Срединному Пути.
— Но ты сказал, что он низкой касты и неучтив.
— О низкой касте я не говорил, ибо как может быть то, чего на самом деле нет? Впоследствии он искупил свою неучтивость, и я позабыл об оскорблении. Кроме того, он, так же как и мы, привязан к Колесу Всего Сущего, но он не идет по пути освобождения. — Лама остановился у ручейка, текущего среди полей, и стал рассматривать выбитый копытами берег.
— Ну, а как же ты узнаешь свою Реку? — спросил Ким, садясь на корточки в тени высокого сахарного тростника.
— Когда я найду ее, мне обязательно будет даровано просветление. Но я чувствую, что здесь не то место. О малейшая из текучих вод, если бы только ты могла мне сказать, где течет моя Река! Но будь благословенна за то, что ты помогаешь полям растить хлеба!
— Стой! Стой! — Ким подскочил и оттащил его назад. Желтая с коричневым полоска выскользнула из-под красноватых шуршащих стеблей на берег, протянула шею к воде, попила и затихла — то была большая кобра с неподвижными глазами без век.
— Палки нет, палки нет, — твердил Ким. — Сейчас отыщу и перебью ей хребет.
— Зачем? Она, подобно нам, находится в кругу Колеса; это — жизнь, восходящая или нисходящая, очень далекая от освобождения. Великое зло сотворила, должно быть, душа, воплотившаяся в такую форму.
— Я ненавижу всех змей, — сказал Ким. Никакое туземное воспитание не может искоренить ужас белого человека перед Змеей.
— Пусть отживет свою жизнь. — Свернувшаяся кольцом змея зашипела и раздула шею. — Да ускорится твое освобождение, брат, — безмятежно продолжал лама. — Не знаешь ли ты случайно о моей Реке?
— В жизни не видывал такого человека, как ты, — прошептал ошеломленный Ким. — Неужели даже змеи понимают твою речь?
— Кто знает? — Лама прошел на расстоянии фута от поднятой головы кобры. Голова опустилась на пыльные кольца. — Пойдем! — позвал он через плечо.
— Ну нет! — сказал Ким. — Я обойду кругом.
— Пойдем! Она не укусит.
Ким на минуту заколебался. Лама подкрепил свое приказание какими-то монотонными китайскими текстами, которые Ким принял за заклинания. Повинуясь, он перепрыгнул через ручеек, а змея так и не шевельнулась.
— В жизни я не видывал такого человека, — Ким вытер пот со лба. — А куда мы теперь пойдем?
— Это тебе надо решать. Я старик, чужеземец, далеко ушедший от своей родины. Если бы вагон не наполнял мне голову грохотом дьявольских барабанов, я в нем поехал бы теперь в Бенарес... Но, поступая так, мы, пожалуй, пропустим Реку. Давай поищем другую речку.
Целый день бродили они по тем местам, где усердно возделываемая почва дает по три, даже по четыре урожая в год; бродили по плантациям сахарного тростника, табака, длинной белой редиски и нольколя, сворачивая в сторону всякий раз, когда вдали сверкала вода; в полдень поднимали на ноги деревенских собак и сонные деревни, причем лама с невозмутимым простодушием отвечал на вопросы, сыпавшиеся градом.
Они ищут Реку — Реку чудодейственного исцеления. Не знает ли кто-нибудь о такой Реке? Бывало, что люди смеялись над ним, но чаще слушали рассказ до конца, приглашали путников присесть в тени, выпить молока, поесть. Женщины повсюду были добры к ним, а маленькие дети, подобно всем детям в мире, то робки, то дерзки. Вечер застал их на отдыхе под главным деревом поселка, где дома были с земляными стенами и земляными крышами. Они беседовали со старшиной, когда скот возвращался с пастбища, а женщины готовили ужин. Они вышли за пределы огородов, опоясывающих голодную Амбалу, и находились теперь среди хлебов, зеленеющих на протяжении многих миль.
Старшина, белобородый и приветливый старик, привык принимать незнакомцев. Он вытащил наружу веревочную постель для ламы, поставил перед ним горячую пищу, набил ему трубку и, когда вечернее моление в деревенском храме окончилось, послал за местным жрецом.
Ким рассказывал старшим из детей о величине и красоте Лахора, о путешествии по железной дороге и о городской жизни, а мужчины беседовали так же медлительно, как скот их жевал жвачку.
— Не могу я этого взять в толк, — сказал наконец старшина жрецу. — А ты как понимаешь его речи?
Лама, закончив свой рассказ, сидел, перебирая четки.
— Он искатель, — ответил жрец, — страна полным-полна такими людьми. Вспомни того, который приходил в прошлом месяце, — факира с черепахой.
— Да, но тот человек — дело другое. Ему сам Кришна явился в видении и обещал ему рай без предварительного сожжения на погребальном костре, если он пойдет в Праяг. Этот человек не ищет ни одного из тех богов, которые известны мне.
— Успокойся, — он стар, пришел издалека, и он полоумный! — ответил гладко выбритый жрец. — Слушай, — он обернулся к ламе, — в трех косах[16] к западу отсюда пролегает большая дорога в Калькутту!
— Но мне нужно в Бенарес... в Бенарес.
— И в Бенарес тоже. Она пересекает все реки по эту сторону Хинда. Теперь вот что я скажу тебе, святой человек: отдохни здесь до завтрашнего дня. Потом ступай по этой дороге — он имел в виду Великий Колесный Путь — и проверяй все реки, которые она пересекает, ибо, как я понимаю, твоя Река одинаково священна на всем своем протяжении, а не в одной какой-нибудь заводи или другом каком-нибудь месте. И тогда, если богам твоим будет угодно, ты наверняка достигнешь своего освобождения.
— Хорошо сказано, — предложение произвело сильное впечатление на ламу. — Мы начнем завтра же, и да снизойдет на тебя благословение за то, что ты указал моим старым ногам такую близкую дорогу. — За этой фразой последовало низкое певучее бормотанье на китайском языке. Даже жрец был потрясен, а старшина испугался, не заклинание ли это, притом враждебное. Но никто, взглянув на простодушное, оживленное лицо ламы, не мог бы долго подозревать его в чем-либо.
— Ты видишь моего челу? — сказал лама, погружая пальцы в табакерку, и со значительным видом взял понюшку. Он считал своим долгом отплатить любезностью за любезность.
— Вижу и слышу, — старшина скосил глаза в ту сторону, где Ким болтал с девочкой в голубом платье, которая подкладывала в огонь трещавший терновник.
— Он тоже ищет. Не Реку, а Быка. Да, Красный Бык на зеленом поле придет в некий день и возвеличит его. Я думаю, что он не совсем от мира сего. Он был послан мне неожиданно, чтобы помочь в этом искании, и зовут его Другом Всего Мира. — Жрец улыбнулся.
— Эй, Друг Всего Мира, поди сюда, — крикнул он в сторону резко пахнущих клубов дыма, — кто ты такой?
— Ученик этого святого, — ответил Ким.
— Он говорит, что ты бут[17].
— Разве буты могут есть? — сказал лама. — Некий астролог из города, название которого я позабыл...
— Это просто-напросто город Амбала, где мы провели прошлую ночь, — шепнул Ким жрецу.
— Да, так значит Амбала? Он составил гороскоп и заявил, что желание моего челы исполнится через два дня. Но как он толковал звезды, Друг Всего Мира?
Ким откашлялся и обвел глазами деревенских старцев.
— Моя звезда предвещает войну, — торжественно ответил он. Кто-то засмеялся над оборванной фигуркой, важно развалившейся на кирпичной площадке под большим деревом. Но там, где туземец, присмирев, приник бы к земле, белая кровь Кима заставила его вскочить на ноги. — Да, войну, — подтвердил он.
— Это верное предсказание, — загремел чей-то густой голос, — на Границе, как мне известно, война никогда не кончается.
Это был старик, который в дни Восстания служил правительству, будучи туземным офицером только что сформированного кавалерийского полка. Правительство отдало ему хороший земельный участок в этой деревне и, хотя требования его сыновей, ныне тоже успевших стать седобородыми офицерами, почти разорили его, он все еще считался важным лицом. Английские чиновники, вплоть до помощников комиссаров, сворачивали с прямой дороги в сторону, чтобы нанести ему визит, и в этих случаях он надевал военную форму прежних дней и стоял прямо, как шомпол.
— Но это будет большая война — война восьми тысяч, — пронзительный голос Кима, удивляя его самого, перелетал через быстро собиравшуюся толпу.
— Красные мундиры или наши полки? — старик говорил серьезно, словно расспрашивал равного себе. Тон его заставил толпу проникнуться уважением к Киму.
— Красные мундиры, — наудачу ответил Ким. — Красные мундиры и пушки.
— Но... но астролог ни слова об этом не говорил, — воскликнул лама, усиленно нюхая табак от волнения.
— А я знаю. Весть дошла до меня, ученика этого святого человека. Начнется война — война восьми тысяч красных мундиров. Их поведут из Пинди и Пешавара. Это наверное.
— Мальчик слыхал базарные толки, — промолвил жрец.
— Но он у меня был все время под боком, — сказал лама. — Как мог он узнать? Я же не знал!
— Из него выйдет хороший фокусник, когда старик помрет, — пробормотал жрец старшине. — Что это за невидаль такая?
— Знак! Дай мне знак! — внезапно загремел старый военный. — Если бы надвигалась война, мои сыновья сообщили бы мне о ней!
— Когда все будет готово, твоим сыновьям скажут об этом, не сомневайся. Но от твоих сыновей до человека, в руках которого эти дела, — неблизкий путь. — Ким увлекся игрой, ибо она напоминала ему о его опыте по передаче писем, когда он, бывало, ради нескольких пайс притворялся, что знает больше, чем знал на самом деле. Но теперь он играл ради более высокой цели — только ради возбуждения игрока и ощущения своей власти. Он вздохнул и продолжал: — Сам дай мне знак, старик. Разве подчиненные могут приказать восьми тысячам красных мундиров выступить в поход... да еще с пушками?
— Нет, — и опять старик сказал это так, словно Ким был ему ровней.
— Ты знаешь того, кто отдает приказы?
— Я видел его.
— И мог бы узнать его?
— Я знал его с тех пор, как он был офицером в топхана[18].
— Высокий человек. Высокий человек с черными волосами, а ходит он так, — Ким прошел несколько шагов связанной, деревянной походкой.
— Да. Но это всякий мог видеть, — толпа слушала разговор, затаив дыхание.
— Это верно, — сказал Ким, — но я больше скажу. Теперь гляди. Сначала большой человек ходит вот так. Потом он думает так. — Ким провел указательным пальцем по лбу, а потом вниз, до угла челюсти. — Потом вот так крутит себе пальцы. Потом сует свою шляпу под левую мышку. — Ким, копируя эти движения, стоял как аист.
Старик, оцепеневший от изумления, глубоко вздохнул, а по толпе пробежала дрожь.
— Так... так... так... Но что он делает, когда собирается отдавать приказ?
— Он трет себе затылок, вот так. Потом упирается пальцем в стол и чуть-чуть посапывает носом. Потом говорит: «Пошлите такой-то и такой-то полк. Вызовите такие-то пушки». — Старик встал навытяжку и отдал честь.
— Ибо, — Ким стал переводить на местное наречие приказы, услышанные им из туалетной комнаты в Амбале, — ибо, говорит он, мы давно обязаны были это сделать. Это не война, это карательная экспедиция. Чхх!
— Довольно! Я верю. Таким я видел его во время сражений. Видел и слышал. Это он!
— Я не видел сражений, — Ким перешел на вдохновенное бормотанье бродячих гадателей. — Я видел это во мраке. Сначала пришел человек, чтобы все разъяснить. Потом приехали всадники. Потом пришел он и стал в кругу света. Остальное было, как я уже сказал. Ну, старик, правду я говорил?
— Это он. Без всякого сомнения, он.
Толпа испустила долгий, трепетный вздох, глядя то на старика, который продолжал внимательно слушать, то на оборванного Кима, стоявшего на фоне пурпурной зари.
— Не говорил ли я, не говорил ли, что он из другого мира? — гордо воскликнул лама. — Он — Друг Всего Мира. Он — Друг Звезд.
— Ну, нас-то это не касается, — громко заявил какой-то человек. — Эй ты, юный предсказатель, если дар твой всегда при тебе, так вот у меня есть корова, пестрая с красными пятнами. Может, она сестра твоего быка, почем я знаю...
— А мне-то что? — сказал Ким, — моим звездам нет дела до твоей скотины.
— Нет, но она сильно занемогла, — вмешалась одна женщина. — Мой муж — настоящий буйвол, не худо бы ему получше выбирать слова. Скажи мне, поправится она или нет?
Будь Ким обыкновенным мальчиком, он стал бы продолжать игру, но нельзя в течение тринадцати лет жить в Лахоре, знать всех факиров у Таксалийских ворот и не понимать человеческой природы.
Жрец с некоторой горечью искоса поглядел на него и улыбнулся сухой, враждебной улыбкой.
— Разве в деревне нет духовного лица? А мне казалось, я только что видел великого жреца, — воскликнул Ким.
— Да, но... — начала женщина.
— Но вы с мужем надеялись, что корову вылечат за горсточку благодарностей, — удар попал в цель: супруги слыли самой скупой парой в деревне. — Нехорошо обманывать храмы. Подари своему жрецу молодого теленка и, если только боги не разгневались окончательно, она будет давать молоко через месяц.
— Ты отлично научился просить милостыню, — одобрительно промурлыкал жрец. — За сорок лет не достичь большего. Надо думать, старик разбогател благодаря тебе.
— Немного муки, немного масла, горсточка кардамона, — ответил Ким, покрасневший от похвалы, но по-прежнему осторожный, — разве через это разбогатеешь? И ты видишь, что он полоумный. Но мне это на пользу, по крайней мере я изучаю Путь.
Он знал, о чем говорят между собой факиры у Таксалийских ворот, и даже подражал интонациям их бессовестных учеников.
— А что, он и вправду ищет, о чем говорит, или это просто предлог для прикрытия других целей? Может, он ищет сокровища?
— Он — сумасшедший, настоящий сумасшедший. Вот и все.
Тут старый военный, прихрамывая, выступил вперед и спросил, не пожелает ли Ким воспользоваться его гостеприимством на эту ночь. Жрец посоветовал мальчику согласиться, но настоял на том, что честь принимать у себя ламу принадлежит храму, на что лама простодушно улыбнулся. Ким перевел глаза с одного на другого и сделал надлежащие выводы.
— Где деньги? — шепнул он, отводя ламу в неосвещенное место.
— У меня на груди. Где им еще быть?
— Дай их мне. Дай потихоньку и поскорей.
— Но зачем? Ведь тут не нужно покупать билетов.
— Я твой чела или нет? Разве я не оберегаю тебя и не помогаю тебе на дорогах? Дай мне деньги, и на рассвете я верну их. Он просунул руку за кушак ламы и вынул кошелек.
— Пусть так... пусть так, — старик кивнул головой. — Этот мир велик и страшен. Не знал я, что в нем живет столько людей.
Наутро жрец казался очень сердитым, а лама был вполне доволен. Ким же провел интереснейший вечер со стариком, который вытащил свою кавалерийскую саблю и, раскачивая ее на худых коленях, рассказывал всякие истории о Восстании и молодых капитанах, вот уже тридцать лет покоившихся в могилах, покуда Ким не уснул.
— В этой местности, должно быть, очень хороший воздух, — говорил лама. — Я по-стариковски сплю очень чутко, но прошлую ночь спал как убитый долго еще после рассвета. Я и сейчас какой-то заспанный.
— Выпей глоток горячего молока, — сказал Ким, частенько дававший лекарства такого рода знакомым курильщикам опиума. — Пора нам снова в путь.
— В тот длинный путь, что пересекает все реки Хинда, — весело сказал лама. — Пойдем. Но как думаешь, чела, чем нам отблагодарить этих людей, и особенно жреца, за их великую доброту? Правда, они бут-парасты, но в других жизнях, быть может, достигнут просветления. Не пожертвовать ли рупию на храм? Фигура, которая там стоит, всего только камень, покрытый красной краской, но мы всегда должны выражать признательность человеческому сердцу, если оно проявляет доброту.
— Святой человек, ты когда-нибудь совершал путь в одиночку? — Ким бросил на него зоркий взгляд, как у тех индийских ворон, что суетились на полях.
— Конечно, дитя, от Кулу до Патханкота, от Кулу, где умер мой первый чела. Когда люди делали нам добро, мы их отдаривали, и повсюду в Горах все были благожелательны к нам.
— В Хинде — дело другое, — сухо проговорил Ким. — Боги их многоруки и лукавы. Оставь их в покое.
— Я провожу тебя немного, Друг Всего Мира, тебя и твоего желтолицего. — Старый военный трясся на худом кривоногом пони по деревенской улице, окутанной утренним сумраком. — Прошлая ночь подарила много воспоминаний моему старому сердцу, и это было благословением для меня. Действительно, пахнет войной. Я чувствую ее запах. Смотри! Я взял с собой меч.
Длинноногий, он сидел на низенькой лошаденке, положив руку на рукоятку большого меча, висевшего сбоку, и свирепо глядел куда-то поверх плоской равнины на север.
— Скажи мне еще раз, каким он явился тебе в видении? Полезай сюда, садись позади меня. Лошадь может везти двоих.
— Я ученик этого святого, — сказал Ким, когда они проехали деревенскую околицу. Крестьяне, казалось, были огорчены тем, что расстались с ними, но жрец попрощался с ними холодно и сдержанно. Он зря потратил опиум на человека, при котором не было денег.
— Хорошо сказано. Я не слишком привык к святым, но почитать старших всегда хорошо. В теперешнее время почтения не встретишь... Даже когда комиссар-сахиб приезжает посетить меня. Но зачем же тому, чья звезда приведет его к войне, следовать за святым человеком?
— Но он действительно святой человек, — серьезно сказал Ким. — Святой и в правдивости своей, и в речах, и в поступках. Он не похож на других. В жизни я не видел такого человека. Мы не гадатели, не фокусники и не нищие.
— Ты-то нет, это я вижу. Но того я не знаю. Однако шагает он хорошо.
Ранняя утренняя свежесть бодрила ламу, и он шел легко, широкими верблюжьими шагами. Он глубоко погрузился в созерцание и машинально постукивал четками.
Они двигались по изборожденной колеями, истоптанной дороге, извивавшейся по равнине между большими темно-зелеными манговыми рощами. На востоке тянулась призрачная цепь увенчанных снегами Гималаев. Вся Индия работала на полях под скрип колодезных колес, крики пахарей, шагающих позади волов, и карканье ворон. Даже пони оживился под влиянием обстановки и чуть не затрусил, когда Ким положил руку на стременной ремень.
— Я жалею, что не пожертвовал рупии на храм, — промолвил лама, добравшись до восемьдесят первого — и последнего — шарика своих четок.
Старый военный проворчал что-то себе в бороду, и лама тут только заметил его присутствие.
— Так ты тоже ищешь Реку? — спросил он, обернувшись.
— Теперь настали другие времена, — прозвучал ответ. — На что нужна река, кроме как на то, чтобы черпать из нее воду перед закатом солнца? Я еду показать тебе ближний путь к Великой Дороге.
— Это любезность, которую следует запомнить, о доброжелательный человек! Но к чему этот меч?
Старый военный казался пристыженным, как ребенок, пойманный за игрой в переодеванье.
— Меч, — повторил он, трогая оружие. — О, это просто моя причуда, стариковская причуда! Правда, полиция приказала, чтобы по всему Хинду ни один человек не смел носить оружие, но, — внезапно развеселившись, он хлопнул ладонью по рукоятке меча, — все констабили в округе мои знакомцы.
— Это нехорошая причуда, — проговорил лама. — Какая польза убивать людей?
— Очень маленькая, насколько мне известно, но если бы злых людей время от времени не убивали, безоружным мечтателям плохо пришлось бы в этом мире. Я знаю, что говорю, ибо видел, как вся область к югу от Дели была залита кровью.
— Что же это было за безумие?
— Одни боги знают — боги, пославшие его на горе всем. Безумие овладело войсками, и они восстали против своих начальников. Это было первое из зол и поправимое, если бы только люди сумели держать себя в руках. Но они принялись убивать жен и детей сахибов. Тогда из-за моря прибыли сахибы и призвали их к строжайшему ответу.
— Слух об этом, кажется, дошел до меня однажды, много лет тому назад. Помнится, этот год прозвали Черным Годом.
— Какую же ты вел жизнь, если не знаешь о Черном Годе? Нечего сказать, слух! Вся земля знала об этом и сотрясалась.
— Наша земля сотрясалась лишь раз — в тот день, когда Всесовершенный достиг просветления.
— Хм! Я видел, как сотрясался Дели, а Дели — центр Вселенной.
— Так, значит, они напали на женщин и детей? Это было злое дело, за совершение которого нельзя избегнуть кары.
— Многие стремились к этому, но с очень малым успехом. Я служил тогда в кавалерийском полку. Он взбунтовался. Из шестисот восьмидесяти сабель остались верны своим кормильцам, как думаешь, сколько? — Три. Одним из троих был я.
— Тем больше твоя заслуга.
— Заслуга! В те дни мы не считали это заслугой. Все мои родные, друзья, братья отступились от меня. Они говорили: «Время англичан прошло. Пусть каждый сам для себя отвоюет небольшой кусок земли». Я толковал с людьми из Собранна, Чилианвалы, Мудки и Фирозшаха. Я говорил: «Потерпите немного, и ветер переменится. Нет благословения таким делам». В те дни я проехал верхом семьдесят миль с английской мем-сахиб и ее младенцем в тороках. (Эх! Вот был конь, достойный мужчины!) Я довез их благополучно и вернулся к своему начальнику — единственному из наших пяти офицеров, который не был убит. «Дайте мне дело, — сказал я, — ибо я отщепенец среди своего рода, и сабля моя мокра от крови моего двоюродного брата». А он сказал: «Будь спокоен. Впереди еще много дел. Когда это безумие кончится, будет тебе награда».
— Да, когда безумие кончается, обязательно следует награда, не так ли? — пробормотал лама как бы про себя.
— В те дни не вешали медалей на всех, кому случайно довелось услышать пушечный выстрел. Нет! Я участвовал в девятнадцати регулярных сражениях, в сорока шести кавалерийских схватках, а мелких стычек и не счесть. Девять ран я ношу на себе, медаль, четыре пряжки и орденскую медаль, ибо начальники мои, которые теперь вышли в генералы, вспомнили обо мне, когда исполнилось пятьдесят лет царствования Кайсар-э-Хинд, и вся страна ликовала. Они сказали: «Дайте ему орден Британской Индии». Теперь я ношу его на шее. Я владею моим джагиром[19]; государство пожаловало его мне, это — подарок мне и моим потомкам. Люди старых времен — ныне они комиссары — навещают меня... Они едут верхом между хлебами, высоко сидя на конях, так что вся деревня видит их; мы вспоминаем о прежних схватках и обо всех погибших.
— А потом? — промолвил лама.
— О, потом они уезжают, но не раньше, чем их увидит вся деревня.
— А что ты будешь делать потом?
— Потом я умру.
— А потом?
— Это пусть решают боги. Я никогда не надоедал им молитвами, не думаю, чтобы они стали надоедать мне. Слушай, я за долгую свою жизнь заметил, что тех, кто вечно пристает к всевышним с жалобами и просьбами, с ревом и плачем, боги спешно призывают к себе, подобно тому, как наш полковник вызывал к себе невоздержанных на язык деревенских парней, которые слишком много болтали. Нет, я никогда не надоедал богам. Они это помнят и уготовят мне спокойное местечко, где я уберу подальше свою пику и буду поджидать своих сыновей; их у меня целых трое... все рисалдар-майоры... служат в полках.
— И они тоже, привязанные к Колесу, будут переходить от жизни к жизни, от отчаяния к отчаянию, — тихо промолвил лама, — горячие, беспокойные, требовательные.
— Да, — засмеялся старый военный. — Трое рисалдаров в трех полках. Они, пожалуй, охотники до азартных игр, но ведь и я такой же. Им надо хороших коней, а теперь уж не приходится уводить коней так, как в прежние дни уводили женщин. Ну что ж, мое поместье может оплатить все это. Ты что думаешь? Ведь это — хорошо орошенный клочок земли, но мои люди надувают меня. Я не умею просить иначе, как с помощью острия пики. Уф! Я сержусь и проклинаю их, а они притворно каются, но я знаю, что у меня за спиной они зовут меня беззубой старой обезьяной.
— Разве ты никогда не желал чего-нибудь другого?
— Еще бы, конечно, тысячу раз! Вновь иметь прямую спину, плотно прилегающее колено, быструю руку и острый глаз, и все то лучшее, что есть в мужчине. О былые дни, прекрасные дни моей силы!
— Эта сила есть слабость.
— Так оно действительно и вышло, но пятьдесят лет тому назад я доказал бы противное, — возразил старый воин, вонзая острый край стремени в худой бок пони.
— Но я знаю Реку Великого Исцеления.
— Я столько выпил воды из Ганги, что со мной чуть водянка не сделалась. Все, что она мне дала, — это расстройство желудка, а силы никакой.
— Это не Ганга. Река, которую я знаю, смывает все грехи. Кто причалит к ее дальнему берегу, тому обеспечено освобождение. Я не знаю твоей жизни, но лицо твое — лицо почтенного и учтивого человека. Ты держался своего пути, соблюдая верность в то время, когда это было трудным делом, в тот Черный Год, о котором я сейчас припоминаю другие рассказы. А теперь вступи на Срединный Путь, который есть путь к освобождению. Прислушайся к Всесовершенному Закону и не гонись за мечтами.
— Так говори же, старик, — военный улыбнулся, слегка поклонившись. — Все мы в нашем возрасте становимся болтунами.
Лама уселся под манговым деревом, тень от листвы которого клетчатой тканью падала на его лицо; военный, выпрямившись, сидел верхом на пони, а Ким, убедившись, что поблизости нет змей, улегся между развилинами скрюченных корней.
Насекомые усыпляюще жужжали под горячими лучами солнца, ворковали голуби, сонно гудели колодезные колеса над полями. Лама начал говорить медленно и выразительно. Спустя десять минут старый воин слез с пони, чтобы лучше слышать, как он объяснил, и уселся на землю, обмотав повод вокруг запястья. Голос ламы срывался, паузы между периодами удлинялись. Ким был занят наблюдением за серой белкой. Когда маленький сердитый комочек меха, плотно прижавшийся к ветке, исчез, и проповедник и слушатель крепко спали. Резко очерченная голова старого воина покоилась у него на руке, голова ламы, запрокинутая назад, опиралась о древесный ствол и на фоне его казалась вырезанной из желтой слоновой кости. Какой-то голый ребенок приковылял к ним и, во внезапном порыве почтения, торжественно поклонился ламе, — но ребенок был такой низенький и толстый, что он свалился набок, и Ким расхохотался при виде его раскоряченных пухлых ножек. Ребенок, испуганный и возмущенный, громко разревелся.
— Хай! Хай! — вскричал военный, вскакивая на ноги. — Что такое? Какой приказ?.. Да это... ребенок? А мне приснилось, что пробили тревогу. Маленький... маленький... не плачь. Неужели я спал? Поистине, это неучтиво.
— Страшно! Боюсь! — ревел ребенок.
— Чего бояться? Двух стариков и мальчика? Какой же из тебя выйдет солдат, маленький принц?
Лама тоже проснулся, но, не обращая внимания на ребенка, стучал четками.
— Что это такое? — произнес ребенок, не докончив вопля. — Я никогда не видал таких штучек. Отдай их мне.
— Ага, — улыбаясь, проговорил лама и, свернув четки петлей, поволок их по траве.
Вот кардамона целая горсть, Вот масла кусок большой. Вот и пшено, и перец, и рис — Поужинать нам с тобой.Ребенок взвизгнул от восторга и схватил темные блестящие шарики.
— Охо! — проговорил старый военный. — Где же ты выучился этой песенке, презирающий мир?
— Я слышал ее в Пантханкоте, сидя на чьем-то пороге, — стыдливо ответил лама. — Хорошо быть добрым к детям.
— Помнится, до того как сон одолел нас, ты сказал мне, что брак и деторождение затемняют истинный свет, что они — камни преткновения на Пути. А разве в твоей стране дети с неба падают? Разве петь им песенки не противоречит Пути?
— Нет человека вполне совершенного, — серьезно ответил лама, поднимая четки. — Теперь беги к своей матери, малыш.
— Вы только послушайте его! — обратился военный к Киму. — Ему стыдно, что он позабавил ребенка. В тебе пропадает хороший отец семейства, брат мой. Эй, дитя! — он бросил ребенку пайсу. — Сласти всегда сладки. — И когда малыш умчался прочь, залитый солнечным светом, он сказал: «Они растут и становятся мужчинами. Святой человек, я сожалею, что заснул в середине твоей проповеди. Прости меня».
— Оба мы старики, — проговорил лама. — Вина моя. Я слушал твои речи о мире и его безумии, и одна вина повлекла за собой другую.
— Вы только послушайте его! Какой будет ущерб твоим богам, если ты поиграешь с ребенком? А песенка была отлично спета. Едемте дальше, и я спою тебе старую песню о Никал-Сейне у врат Дели.
Они выбрались из-под сумрака манговой рощи, и высокий пронзительный голос старика зазвенел над полями; в чередованиях протяжных воплей развертывалась история Никал-Сейна[20], песня эта поется в Пенджабе и ныне. Ким был в восторге, а лама слушал с глубоким интересом.
— «Ахи! Никал-Сейн погиб, он погиб у врат Дели! Пики Севера, мстите за Никал-Сейна». — Дрожащим голосом он пропел песню до конца, плашмя хлопая саблей по крупу пони, чтобы подчеркнуть трели.
— А теперь мы дошли до Большой Дороги, — сказал он, выслушав похвалы Кима, ибо лама хранил выразительное молчание. — Давно уже я не ездил этим путем, но речи твоего мальчика взбодрили меня. Видишь, святой человек, вот он, Великий Путь, хребет всего Хинда. Почти на всем его протяжении, так же, как и здесь, растут четыре ряда деревьев. По среднему проезду — он весь вымощен — повозки движутся быстро. Когда еще не было железных дорог, сахибы сотнями ездили здесь туда и обратно. Теперь тут встречаются почти одни крестьянские телеги. Слева и справа дорога попроще, для возов, — тут возят зерно, хлопок, дрова, корм для скота, известь и кожи. Человек едет здесь без опаски, ибо через каждые несколько косов имеется полицейский участок. Полицейские все воры и вымогатели (я сам охотно обошел бы их дозором с кавалерией — с отрядом молодых новобранцев под командой строгого начальника), но они, по крайней мере, не допускают соперников. Тут проходят люди всех родов и всех каст. Гляди! Брахманы и чамары, банкиры и медники, цирюльники и банья, паломники и горшечники — весь мир приходит и уходит. Для меня это как бы река, из которой меня вытащили, как бревно после паводка.
В самом деле, Великий Колесный Путь представляет собой замечательное зрелище. Он идет прямо, неся на себе густую подвижную индийскую толпу на протяжении полутора тысяч миль. Река жизни, не имеющая себе равных во всем мире. Путники смотрели вдаль на ее обнесенную зелеными арками, усеянную пятнами тени перспективу, на эту белую широкую полосу, испещренную медленно движущимися людьми, и на двухкомнатный дом полицейского участка, стоявший напротив.
— Кто это, вопреки закону, носит оружие? — смеясь, окликнул их полицейский, заметив меч у военного. — Разве полиции не хватает, чтобы искоренять преступников?
— Я из-за полиции-то и купил его! — прозвучал ответ. — Все ли благополучно в Хинде?
— Все благополучно, рисалдар-сахиб.
— Я, видишь ли, вроде старой черепахи, которая высовывает голову на берег, а потом втягивает ее обратно. Да, это путь Хиндустана. Все люди проходят этой дорогой...
— Сын свиньи, разве немощеная сторона дороги для того сделана, чтобы ты себе спину на ней чесал? Отец всех дочерей позора и муж десяти тысяч развратниц, твоя мать предавалась дьяволу и этому выучилась у матери своей; тетки твои в семи поколениях все были безносые!... А сестра твоя... Чья совиная глупость велела тебе ставить свои повозки поперек дороги? Колесо сломалось? Вот проломлю тебе голову, тогда и ставь их рядышком — на досуге!
Голос и пронзительный свист хлыста доносились из-за столба пыли в пятидесяти ярдах отсюда, где сломалась какая-то повозка.
Тонкая, высокая катхиаварская кобыла с пылающими глазами и ноздрями, фыркая и дрожа, вылетела из толпы, и всадник направил ее поперек дороги в погоню за вопящим человеком. Всадник был высок и седобород; он сидел на почти обезумевшей лошади, словно составляя с ней одно целое, и привычно хлестал на скаку свою жертву. Лицо старика засияло гордостью.
— Сын мой! — отрывисто произнес он и, натянув поводья, постарался надлежащим образом изогнуть шею своего пони.
— Как смеют меня избивать в присутствии полиции? — кричал возчик. — Правосудие! Я требую правосудия...
— Как смеет преграждать мне путь визгливая обезьяна, которая опрокидывает десять тысяч мешков под носом у молодой лошади?.. Так можно кобылу испортить.
— Он прав. Он прав. Но она отлично слушается седока, — сказал старик.
Возчик укрылся под колесами своей повозки и оттуда угрожал разного рода местью.
— Крепкие парни твои сыновья, — заметил полицейский, безмятежно ковыряя в зубах.
Всадник в последний раз изо всех сил ударил хлыстом и подъехал легким галопом.
— Отец! — Он остановился в десяти ярдах и спешился. Старик в одно мгновение соскочил со своего пони, и они обнялись, как это в обычае на Востоке между отцом и сыном.
ГЛАВА IV
Фортуна отнюдь не дама; Нет бабы распутней и злей. Хитра, коварна, упряма, — Попробуй справиться с ней! Ты к ней, а она к другому; Кивнешь — норовит убежать; Стань к ней спиной — полетит за тобой! Позовешь — удирает опять! Щедрость! Щедрость! Фортуна! Даришь ты или нет, — Стоит забыть Фортуну, — Мчится Фортуна мне вслед! Волшебные шапочкиПотом они, понизив голос, стали разговаривать между собой. Ким улегся отдохнуть под деревом, но лама нетерпеливо потянул его за локоть.
— Пойдем дальше. Моя Река не здесь.
— Хай май! Неужели мы мало прошли? Не убежит наша Река, потерпи немного, он нам подаст что-нибудь.
— А это — Друг Звезд, — неожиданно проговорил старый солдат. — Он передал мне вчера эти новости. Ему было видение, что тот человек самолично отдавал приказ начать войну.
— Хм! — произнес его сын глубоким грудным голосом. — Он наслушался базарных толков и пересказывает их.
Отец рассмеялся.
— Но он, по крайней мере, не помчался ко мне за новым боевым конем и бог знает, за каким количеством рупий. А что, полки твоих братьев тоже получили приказ?
— Не знаю. Я взял отпуск и спешно поехал к тебе на случай...
— На случай, если они раньше тебя примчатся выпрашивать деньги! О, все вы игроки и моты! Но ты еще ни разу не участвовал в конной атаке. Тут, и правда, хороший конь понадобится. И еще хороший слуга и хороший пони для похода. Подумаем, подумаем... — он забарабанил пальцами по луке седла.
— Здесь не место производить расчеты, отец. Едем к тебе.
— По крайней мере, дай денег мальчику; у меня нет при себе ни одной пайсы, а он принес благоприятные вести. Хо! Друг Всего Мира, война начинается, как ты и предсказывал.
— Да, война; я знаю, — спокойно подтвердил Ким.
— Что? — произнес лама, перебирая четки; ему не терпелось продолжать путь.
— Мой учитель не тревожит звезд за плату. Мы принесли вести, будь свидетель, мы принесли вести, а теперь уходим. — Ким слегка согнул ладонь, прижав ее к боку.
Сын старика, ворча что-то насчет нищих и фокусников, подбросил вверх серебряную монету, сверкнувшую на солнце. Это была монета в четыре аны, и на эти деньги можно было хорошо питаться в течение нескольких дней. Лама, заметив блеск металла, забормотал монотонное благословение.
— Иди своим путем, Друг Всего Мира, — прогремел старый воин, погоняя своего костлявого пони. — Единственный раз в жизни встретил я настоящего пророка, который не служил в армии...
Отец с сыном свернули в сторону; старик сидел так же прямо, как и сын.
Полицейский-пенджабец в желтых полотняных шароварах, тяжело ступая, направился к путникам через дорогу. Он видел, как мелькнула монета.
— Стой! — выразительно крикнул он по-английски. — Или вы не знаете, что с тех, кто выходит на тракт с этого проселка, полагается взимать налог по две аны с головы; всего четыре аны? Это приказ сиркара, и деньги идут на посадку деревьев и украшение дорог.
— И в брюхо полицейским, — отрезал Ким, отскакивая в сторону. — Подумай чуточку, человек с глиняной головой. Неужто ты полагаешь, что мы, как твой тесть-лягушка, выскочили из ближайшей лужи? Ты слышал когда-нибудь, как звали твоего брата?
— А кто он такой был? Оставь мальчика в покое, — в восторге крикнул старший полицейский, усаживаясь на веранде покурить трубку.
— Он снял ярлык с бутылки билайти-пани[21] и, повесив ее на какой-то мост, целый месяц собирал налог с прохожих, говоря, что на это есть приказ сиркара. Потом приехал один англичанин и проломил ему голову. Нет, брат, я городская ворона, а не деревенская.
Полицейский, пристыженный, удалился, а Ким улюлюкал ему вслед.
— Был ли на свете такой ученик, как я? — весело крикнул он ламе. — Тебе через десять миль от Лахора успели бы обглодать все кости, не оберегай я тебя.
— Я все думаю, кто ты такой; иной раз кажется — добрый дух, иной раз — злой бесенок, — сказал лама, тихо улыбаясь.
— Я твой чела, — Ким зашагал рядом с ним походкой, которая свойственна всем идущим в далекий путь бродягам мира и описать которую невозможно.
— Ну, пойдем, — пробормотал лама, и они в молчании шли милю за милей под бряканье его четок. Лама, как всегда, погрузился в размышления, но глаза Кима были широко открыты. Он думал, насколько эта широкая, улыбающаяся река жизни лучше тесных, людных лахорских улиц. На каждом шагу тут встречались новые люди и новые впечатления — касты, с которыми он был знаком, и касты, совершенно ему неизвестные.
Они встретили толпу длинноволосых, остро пахнущих санси, несущих на спине корзины, полные ящериц и другой нечистой пищи. За ними, принюхиваясь к их пяткам, шли тощие собаки, как бы крадучись, а все другие касты далеко обходили их, ибо прикосновение к санси влечет за собой тяжкое осквернение. За ними в густой тени широкими, негибкими шагами, напоминающими о недавно снятых ножных кандалах, шагал человек, только что выпущенный из тюрьмы; большой живот его и лоснящаяся кожа доказывали, что правительство кормит заключенных лучше, чем может прокормить себя большинство честных людей. Ким хорошо знал эту походку и мимоходом посмеялся над этим человеком. Потом мимо них прошествовал акали — взлохмаченный сикхский подвижник с диким взглядом, в синей клетчатой одежде, отличающей его единоверцев, в синем высоком коническом тюрбане с блестящими дисками из полированной стали; он возвращался из одного независимого сикхского княжества, где пел о древней славе халсы окончившим колледжи князькам в высоких сапогах и белых бриджах из бумажной материи. Ким не решился дразнить этого человека, ибо нрав у акали вспыльчив, а рука быстра. Время от времени им встречались или их обгоняли ярко одетые толпы — жители целой деревни, идущие на местную ярмарку; женщины с младенцами на бедрах шагали сзади мужчин, мальчики постарше скакали на палках из сахарного тростника, тащили грубые медные модели паровозов ценой в полпенни или пускали зайчиков в глаза старшим при помощи дешевых крошечных зеркал. С первого взгляда можно было узнать, кто что купил, а если возникало сомнение, достаточно было посмотреть на женщин, которые, приложив одну смуглую руку к другой, сравнивали свои новые браслеты из тусклого стекла, привозимые с северо-запада. Веселая толпа шла медленно, люди окликали друг друга, останавливались поторговаться с продавцами сластей или помолиться у придорожных храмиков, индуистских и мусульманских, почитаемых низшими слоями верующих той и другой религии с одинаковой похвальной веротерпимостью. Длинная голубая вереница людей, волнистая как спина торопливой гусеницы, извивалась среди трепещущих облаков пыли и быстро шла мимо, громко кудахтая. То была группа чангар — женщин, взявших на себя заботу обо всех насыпях северных железных дорог, — плоскостопное, полногрудое, ширококостное, одетое в голубые юбки племя носильщиц, занимающихся земляными работами; они спешили на север, узнав по слухам, что там есть работа, и не задерживались по дороге. Эти женщины — из той касты, где с мужчинами не считаются, и шли они, расставив локти, играя бедрами и высоко подняв головы, как это делают женщины, привыкшие носить тяжелый груз. Немного погодя на Великий Колесный Путь вступила свадебная процессия, сопровождаемая музыкой, криками, запахами ноготков и жасмина, еще более резкими, чем запах пыли. Носилки невесты — красное, усеянное блестками пятно — качаясь, маячили сквозь дымку, а обвитый гирляндами пони жениха отступал в сторону, норовя ухватить пучок сена с проезжающего мимо воза. Ким внес свою долю в фейерверк добрых пожеланий и грубых шуток и пожелал новобрачным родить сто сыновей и ни одной дочери, как говорится в пословице. Было еще интереснее, еще больше хотелось кричать, когда появлялся бродячий фокусник с полудрессированными обезьянами или слабым, задыхающимся медведем, или женщиной, которая, привязав к ногам козлиные рога, плясала на канате; лошади тогда пугались, а женщины испускали пронзительные, протяжные крики изумления.
Лама не поднимал глаз. Он не замечал ни ростовщика на вислозадом пони, спешащего на сбор своих грабительских процентов, ни крикливой низкоголосой кучки туземных солдат-отпускников, по привычке шагающих в военном строю; ребята были в восторге, что отделались, наконец, от своих штанов и обмоток, и отпускали самые оскорбительные замечания в адрес самых почтенных из встречных женщин. Он не заметил даже продавца гангской воды, а ведь Ким ожидал, что он купит хотя бы одну бутылку этой драгоценной жидкости. Он упорно смотрел в землю и так же упорно шагал час за часом, и душа его пребывала где-то далеко. Но Ким был на седьмом небе от радости. В этом месте Великий Колесный Путь проходит по насыпи, построенной для защиты от зимних наводнений, грозящих со стороны горных отрогов; здесь они двигались над равниной по своего рода величественному коридору, и можно было видеть всю Индию, расстилавшуюся слева и справа. Хорошо было смотреть на ползущие по проселкам возы зерна и хлопка, каждый из которых тащило несколько волов; скрип колес доносился издали, за целую милю, они приближались, и вот, наконец, под крики, визг и ругань поднимались по крутому наклону и въезжали на главный мощеный проезд, где возчики поносили друг друга. Так же интересно было смотреть на людей — красные, синие, розовые, белые, желтые кучки пешеходов, которые сворачивали в сторону к своим деревням и, разделившись на маленькие группы, по два, по три человека, шли дальше по плоской равнине. Ким с интересом наблюдал все это, хотя и не мог бы выразить своих чувств словами, поэтому он довольствовался тем, что покупал себе очищенный сахарный тростник и энергично выплевывал сердцевину на дорогу. Лама время от времени брал понюшку табаку, и в конце концов молчание стало тягостно Киму.
— Хорошая это страна — страна юга! — промолвил он. — Воздух хороший, вода хорошая. А?
— И все они привязаны к Колесу, — откликнулся лама, — и остаются привязанными поколение за поколением. Никому из этих людей не был указан Путь. — Он встряхнулся и возвратился в этот мир.
— Ну, мы прошли утомительный путь, — сказал Ким. — Наверное, скоро дойдем до какого-нибудь парао[22]. Давай остановимся там? Смотри, солнце садится.
— Кто даст нам приют вечером?
— Все равно. В этой стране добрых людей много. Кроме того, — тут он понизил голос до шепота, — у нас есть деньги.
Толпа густела по мере того, как они приближались к месту отдыха, отмечавшему конец дневного пути. Ряд ларьков, торгующих самой простой пищей и табаком, куча дров, полицейский участок, колодец, кормушка для лошадей, несколько деревьев и под ними истоптанная земля, усеянная черной золой от горевших здесь некогда костров, — вот все отличительные признаки парао на Великом Колесном Пути, если не считать голодных нищих и столь же голодных ворон.
В этот час солнце пронизывало нижние ветви манговых деревьев широкими золотыми спицами: маленькие длиннохвостые попугаи и голуби сотнями возвращались домой; «семь сестер» — болтливые птички с серыми спинками, щебеча о дневных приключениях, прыгали попарно или по трое, чуть ли не под ногами у пешеходов, а возня и суматоха в ветвях говорили о том, что летучие мыши готовы вылететь на ночной дозор. Свет быстро стянулся в одно место, на одно мгновение окрасив лица, тележные колеса и воловьи рога кроваво-красной краской. Потом наступила ночь. Она охладила воздух, покрыла лицо земли низкой, ровной дымкой, похожей на голубую газовую вуаль, и принесла едкий, крепкий запах дыма и скота и аромат пшеничных лепешек, пекущихся в золе. Вечерний патруль торопливо вышел из полицейского участка, сопровождаемый важным покашливанием и повторяющимися приказаниями; тлеющий уголек ярко рдел в чашечке хукки, которую курил возчик, расположившийся на краю дороги, а глаза Кима машинально следили за последним отблеском солнца на медных щипцах.
Жизнь на парао была очень похожа на жизнь Кашмирского караван-сарая в меньшем масштабе. Ким окунулся в радостную азиатскую суету, среди которой, если иметь терпение, можно получить все, что нужно нетребовательному человеку.
Ким был скромен в своих потребностях, а поскольку лама не соблюдал кастовых запретов, они могли бы взять готовую пищу из ближнего ларька; но Ким хотел развести огонь и позволил себе роскошь купить охапку сухого навоза. Люди бродили взад и вперед вокруг маленьких костров, громко просили масла, или зерна, или сладостей, или табаку, толкались в очереди у колодца, а из недвижно стоявших закрытых повозок доносились, примешиваясь к мужским голосам, высокие взвизгивания и хихиканье женщин, чьи лица посторонним видеть нельзя.
В наши дни образованные туземцы придерживаются того взгляда, что когда их женщины путешествуют, — а они много разъезжают по гостям — лучше всего быстро перевозить их по железной дороге, в хорошо закрытых купе, и этот обычай все более распространяется. Но всегда находятся старозаветные люди, соблюдающие обычаи праотцев, и, что еще важнее, всегда находятся старухи, более консервативные, чем мужчины, жаждущие к концу своих дней странствовать по святым местам. Увядшие и непривлекательные, они иногда решаются приподнимать покрывало. После длительного заточения, во время которого они принимали деловое участие во множестве событий внешнего мира, они наслаждаются суетой и движением на большой дороге, сборищами у храмов и беспредельной возможностью поболтать с другими подобными им почтенными вдовами. Долготерпеливое семейство частенько радуется тому, что бойкая и острая на язык, властная пожилая матрона странствует по Индии с такой благой целью; ведь паломничество, несомненно, угодно богам. Поэтому во всей Индии, и в самых глухих и в самых людных местах, можно встретить кучку поседевших служителей, словно бы охраняющих почтенную пожилую даму, более или менее закутанную и спрятанную в запряженной волами повозке. Это — благоразумные, осмотрительные люди и, когда приближается европеец или туземец высокой касты, они окружают вверенную им особу сетью показных предосторожностей. Но против случайных встреч, обычных во время паломничества, никто не возражает. В конце концов старой даме не чуждо ничто человеческое и она живет, чтобы наблюдать жизнь.
Ким заметил только что прибывший на парао ярко украшенный ратх — семейный экипаж, запряженный волами, с вышитым балдахином, увенчанным двумя куполами и похожим на двугорбого верблюда. Восемь человек конвоировали эту повозку, и двое из них были вооружены заржавленными саблями — верный признак, что они сопровождали знатную особу, ибо простой народ не носит оружия. Все более и более громкое кудахтанье — смесь жалоб, приказаний, шуток и того, что европейцам показалось бы непристойной бранью, — слышалось из-за занавесок. Женщина, сидевшая за ними, очевидно, привыкла повелевать.
Ким критически оглядел конвой. Он состоял наполовину из тонконогих седобородых уриев с юга, наполовину — из северных горцев в одеждах из грубошерстной ткани и в войлочных шапках. Такой неоднородный состав конвоя мог бы многое объяснить Киму, даже если бы он не подслушал непрестанных препирательств между обеими партиями. Почтенная старуха ехала в гости на юг, вероятно, к богатым родственникам, а всего вернее — к зятю, который в знак уважения выслал ей навстречу свою охрану. Горцы, видимо, были ее единоплеменниками — уроженцами Кулу или Кангры. Ясное дело, она не везла с собой дочери-невесты, ибо в таком случае занавески были бы крепко завязаны и стражи никого не подпускали бы к повозке.
«Веселая, бойкая баба», — думал Ким, балансируя с лепешкой сухого навоза в одной руке, вареной пищей — в другой и плечом подталкивая ламу вперед. Из этой встречи, пожалуй, можно извлечь пользу. Лама ему не поможет, но, как добросовестный чела, Ким был готов просить милостыню за двоих.
Он развел костер как можно ближе к повозке, ожидая, что один из стражей прикажет ему убраться. Лама, усталый, опустился на землю, подобно тому, как опускается отяжелевшая и наевшаяся плодов летучая мышь, и принялся за свои четки.
— Отойди подальше, нищий! — крикнул на ломаном хиндустани один из горцев.
— Ха! Да это какой-то пахари[23], — уронил Ким через плечо. — С каких это пор горные ослы завладели всем Индостаном?
Ответом послужил стремительный и блестящий очерк родословной Кима за три поколения.
— A! — никогда голос Кима не был таким елейным. Он ломал лепешку сухого навоза на мелкие куски. — На моей родине мы назвали бы это началом любовного объяснения.
Резкое, пискливое кудахтанье за занавесками побудило горца к новому взрыву негодования.
— Не так плохо, не так плохо, — хладнокровно промолвил Ким, — но берегись, брат, не то мы, я повторяю, — мы, проклянем тебя раз-другой в наказание. А наши проклятия обычно попадают в точку.
Урии расхохотались; горец угрожающе скакнул вперед; лама внезапно поднял голову, и пламя разведенного Кимом костра ярко осветило его огромную, похожую на берет шапку.
— Что такое? — спросил он. Человек остановился как вкопанный.
— Я... я... спасся от великого греха, — запинаясь проговорил он.
— Чужеземец нашел-таки себе жреца, — прошептал один из уриев.
— Хай! Почему этого нищего парнишку еще не отстегали как следует? — крикнула старуха.
Горец отошел к повозке и начал что-то шептать перед занавесками. Наступила мертвая тишина, потом послышалось бормотанье.
— Дела идут хорошо, — решил Ким, притворяясь, что ничего не слышит и не видит.
— Когда... когда... он покушает, — подобострастно обратился горец к Киму, — просят... чтобы святой человек оказал честь побеседовать с особой, которая желает поговорить с ним.
— Когда он покушает, он ляжет спать, — высокомерно произнес Ким. Он еще не мог догадаться, как повернется игра, но твердо решил извлечь из нее пользу. — Теперь я пойду добывать ему пищу. — Последняя фраза, сказанная громким голосом, завершилась вздохом притворного утомления.
— Я... я сам и прочие мои земляки позаботимся о нем... если это дозволяется.
— Дозволяется, — проговорил Ким еще более высокомерно. — Святой человек, эти люди принесут нам пищу.
— Хорошая страна. Вся южная земля хороша... великий и страшный мир, — дремотно бормотал лама.
— Пусть спит, — сказал Ким, — но позаботьтесь, чтобы его хорошо накормили, когда он проснется. Он очень святой человек. — Один из уриев опять сказал что-то презрительным тоном. — Он не факир. Он не деревенский нищий, — строго продолжал Ким, обращаясь к звездам. — Он святейший из святых людей. Он выше всех каст. Я его чела.
— Поди сюда! — послышался ровный тонкий голос, и Ким подошел, зная, что невидимые ему глаза впились в него. Костлявый коричневый палец, отягченный перстнями, лежал на краю повозки, и вот какой произошел разговор.
— Что это за человек?
— Величайший святой. Он идет издалека. Он идет из Тибета.
— Из какого именно места в Тибете?
— Из-за снегов... из очень отдаленного места. Он знает звезды, он составляет гороскопы, предсказывает судьбу. Но он делает это не для денег. Он делает это по доброте и великому милосердию. Я его ученик. Меня зовут Другом Звезд.
— Ты не горец.
— Спроси его. Он расскажет тебе, что я был послан звездами указать ему путь к цели его паломничества.
— Хмф! Слушай, щенок, я старая женщина и не совсем дура! Лам я знаю и почитаю, но ты такой же истинный чела, как этот мой палец — дышло от этой повозки. Ты индус без касты, дерзкий и наглый нищий и, наверное, только из корысти присоседился к этому святому человеку.
— А разве мы не из корысти делаем всякую работу? — Ким быстро переменил тон в соответствии с изменившимся тоном старухи. — Я слышал, — эту тетиву он натянул наудачу, — я слышал...
— Что ты слышал? — подхватила она, стуча пальцем по дереву.
— Я не совсем твердо помню это... просто базарные сплетни, наверное вранье, но что даже раджи... мелкие горные раджи...
— Но у них, тем не менее, хорошая раджпутская кровь.
— Несомненно, они хорошей крови. Но даже они продают самых красивых своих женщин из корысти. Они продают их на юг, аудхским заминдарам и тому подобным людям.
Ничто так упорно не отрицают мелкие горные раджи, как именно это обвинение, но именно этому беспрекословно верит базарная толпа, толкуя о тайной торговле рабами в Индии. Сдержанным негодующим шепотом почтенная дама разъяснила Киму, какой он лукавый лжец. Намекни об этом Ким в те дни, когда она была девушкой, и в тот же вечер ее слон затоптал бы его до смерти. Это было истинной правдой.
— Ахай! Я всего только нищий парнишка, как изволила сказать Око Красоты, — завопил он в притворном ужасе.
— Око Красоты, скажешь тоже! Кто я такая, что ты смеешь приставать ко мне с нищенской лестью? — И все же давно позабытое обращение заставило ее рассмеяться. — Так можно было сказать сорок лет назад, и не без основания. Даже тридцать лет назад. Но вот что выходит, когда шляешься по всему Хинду! Вдова владетельного князя обречена встречаться с подонками и терпеть насмешки нищих.
— Великая владельная княгиня, — быстро подхватил Ким, заметив, что она дрожит от возмущения. — Я именно тот, каким считает меня великая владетельная княгиня, но, тем не менее, мой учитель святой. Он еще не слыхал приказа великой владетельной княгини.
— Приказа? Мне приказывать святому человеку, учителю Закона... прийти и говорить с женщиной? Никогда!
— Смилуйся над моей глупостью. Я думал, что было отдано приказание.
— Нет, не приказание. То была просьба. Ясно тебе теперь? — Серебряная монета звякнула о край повозки. Ким взял ее и низко поклонился. Старуха понимала, что его нужно умаслить, ведь он был глазами и ушами ламы.
— Я только ученик святого человека. Быть может, он придет после того, как поест.
— О скверный и бесстыдный мошенник! — унизанный драгоценными камнями палец неодобрительно погрозил ему, но он слышал, что старуха тихо смеялась.
— А в чем дело? — сказал он, переходя на свой самый ласковый и доверительный тон; перед этим тоном — Ким знал это — могли устоять лишь немногие. — Или... или твоей семье не хватает сына? Говори откровенно, ибо мы, жрецы... — эти слова он полностью заимствовал у одного факира Таксалийских ворот.
— Мы, жрецы! Ты еще не дорос до того, чтобы... — она оборвала шутку новым взрывом смеха. — Ведь мы, о жрец, мы женщины, не всегда думаем только о сыновьях. Кроме того, дочь моя уже родила мальчика.
— Две стрелы в колчане лучше, чем одна, а три еще лучше, — Ким, проговорив пословицу, задумчиво кашлянул и скромно потупил глаза долу.
— Истинно, истинно так. Но, может быть, это еще придет. Конечно, эти южные брахманы никуда не годятся. Я посылала им подарки, и деньги, и опять подарки, а они пророчествовали.
— А! — протянул Ким с невыразимым презрением, — они пророчествовали! Даже настоящий жрец не сумел бы столь выразительно произнести эти слова.
— Но не раньше, чем я вспомнила о своих родных богах, были услышаны мои молитвы. Я выбрала благоприятный час и... быть может, твой святой слышал о настоятеле монастыря Ланг-Чо. Я обратилась к нему с этим делом и, представь себе, через должный срок все вышло так, как я того желала. Тогда брахман, живущий в доме отца сына моей дочери, сказал, что это случилось по его молитвам, но он немного ошибается и я разъясню ему это, когда мы достигнем цели нашего путешествия. Поэтому я потом отправлюсь в Будх-Гаю, чтобы совершить шраддху за отца моих детей.
— Туда же идем и мы.
— Вдвойне приятно, — защебетала старая дама. — Родится второй сын!
— О Друг Всего Мира! — Лама проснулся и беспомощно, как ребенок, испуганный тем, что очутился не на своей постели, позвал Кима.
— Иду! Иду, святой человек! — Ким бросился к костру, где застал ламу, уже окруженного блюдами с пищей. Горцы явно преклонялись перед ним, а южане выглядели уныло.
— Ступайте прочь! Убирайтесь! — крикнул Ким. — Неужели нам придется есть на людях, как собакам? — Они в молчании поели, слегка отвернувшись друг от друга, и Ким закончил ужин сигареткой туземного изготовления.
— Не повторял ли я сто раз, что юг — хорошая страна? — Тут остановилась одна женщина — добродетельная и высокорожденная вдова горного раджи. По ее словам, она совершает паломничество в Будх-Гаю. Она послала нам эти блюда и просит тебя поговорить с ней, когда ты как следует отдохнешь.
— А это тоже твоя работа? — Лама глубоко погрузил пальцы в табакерку.
— Кто кроме меня оберегал тебя с тех самых пор, как началось наше чудесное путешествие? — глаза у Кима так и бегали; он выпустил скверный дым через ноздри и вытянулся на пыльной земле. — Или я не заботился о твоих удобствах, святой человек?
— Вот тебе мое благословение, — лама торжественно наклонил голову. — Много я знал людей за свою столь долгую жизнь и немало учеников. Но ни к кому из людей, если только ты рожден женщиной, так не тянулось мое сердце, как к тебе, — заботливому, умному и учтивому, хотя, порой, маленькому дьяволенку.
— А я никогда не видел такого жреца, как ты, — Ким внимательно рассматривал доброе желтое лицо — морщинку за морщинкой. — Мы меньше трех дней назад вместе отправились в путь, но как будто сто лет прошло.
— Быть может, в одной из прежних жизней мне было позволено оказать тебе какую-нибудь услугу. Быть может, — он улыбнулся, — я выпустил тебя из ловушки или, поймав тебя на удочку, в дни, когда сам еще не обрел просветления, выбросил обратно в реку.
— Возможно, — спокойно согласился Ким. Он много раз слышал такие рассуждения от людей, которых англичане сочли бы не одаренными сильным воображением. — Теперь, что касается женщины в повозке, я думаю, что ей требуется второй сын для ее дочери.
— Это не имеет отношения к Пути, — вздохнул лама, — но ведь она родом с Гор. О Горы и горные снега!
Он встал и направился к повозке. Ким дал бы уши себе отрезать, лишь бы пойти вместе с ним, но лама не пригласил его, а те несколько слов, которые ему удалось уловить, были произнесены на незнакомом ему языке, ибо разговор шел на каком-то горном наречии. Женщина, видимо, задавала вопросы, над которыми лама думал, прежде чем ответить. Время от времени слышались певучие модуляции китайских наречий. Странную картину наблюдал Ким из-под полуопущенных век. Лама стоял выпрямившись во весь рост, причем в свете костров, горевших на парао, желтая одежда его казалась изрезанной черными полосами глубоких складок, подобно тому, как узловатый древесный ствол на закате кажется изрезанным тенями, и обращался с речью к расшитому мишурой и лакированному ратху, пылающему в этом неверном свете, как многоцветное драгоценное украшение. Узоры на вышитых золотом занавесках текли вверх и вниз, расплывались и изменялись по мере того, как ткани качались и трепетали на ночном ветру, и когда беседа приняла более серьезный характер, унизанный драгоценностями указательный палец рассыпал искорки света между вышивками. За повозкой стояла стена смутного мрака, испещренная огоньками и кишевшая неясными очертаниями, лицами и тенями. Голоса раннего вечера слились в один мягкий гул, и самым низким звуком его было неторопливое чавканье быков, жующих резаную солому, самым высоким — треньканье ситара какой-то бенгальской танцовщицы. Большинство мужчин уже поужинало и усердно потягивало свои булькающие, хрюкающие хукки, которые, когда они разгорятся, издают звуки, похожие на кваканье лягушки-быка.
Лама, наконец, вернулся. За ним шел горец с одеялом из бумажной ткани, подбитым ватой, которое он заботливо разостлал у костра.
— Она заслуживает десяти тысяч внуков, — подумал Ким. — Тем не менее, не будь меня, ему не удалось бы получить такие подарки.
— Добродетельная женщина... и мудрая, — лама стал укладываться, и все члены его, сустав за суставом, становились вялыми, как у утомленного верблюда. — Мир полон милосердия к тем, кто следует по Пути. — Он накинул большую часть одеяла на Кима.
— А что она сказала? — Ким завернулся в свою часть одеяла.
— Она задала мне множество вопросов и предложила решить множество задач; большей частью это — пустые сказки, которые она слышала от монахов, поклоняющихся дьяволам, но лживо заявляющих, что они идут по Пути. На иное я ответил, иное назвал пустяками. Многие носят Одеяние, но немногие следуют по Пути.
— Истинно. Это истинно, — Ким сказал это участливым примирительным тоном человека, который хочет вызвать собеседника на откровенность.
— Но сама она рассуждает в высшей степени здраво. Она очень хочет, чтобы мы вместе с ней отправились в Будх-Гаю; как я понял, нам с ней по пути, ибо нам в течение многих дней придется идти на юг той же дорогой.
— И что?
— Потерпи немного. На это я сказал, что мое Искание важнее всего. Она слышала много небылиц, но великой истины о моей Реке никогда не слыхала... Вот каковы духовные лица, живущие в Гималайских отрогах. Она знала настоятеля Ланг-Чо, но не знала ни о моей Реке, ни сказания о Стреле.
— Ну?
— Поэтому я говорил ей об Искании, и о Пути, и о прочих полезных для души предметах. Она же хотела только, чтобы я сопровождал ее и вымолил ей второго внука.
— Аха! «Мы, женщины, только и думаем, что о детях», — сонно проговорил Ким.
— Однако, раз уж наши дороги на время сошлись, я не думаю, что мы хоть сколько-нибудь уклонимся от Искания, если будем сопровождать ее, хотя бы только до... я забыл название города.
— Эй! — Ким повернулся и громким шепотом окликнул одного из уриев, сидевшего в нескольких ярдах от них. — Где живет ваш хозяин?
— Немного дальше Сахаранпура, среди фруктовых садов, — урия назвал деревню.
— Вот это самое место и есть, — сказал лама. — До этой деревни мы можем идти с нею.
— Мухи слетаются на падаль, — безучастно промолвил урия.
— Больной корове — ворону, больному человеку — брахмана. — Ким тихо произнес поговорку, не обращаясь ни к кому в особенности, но глядя вверх на укутанные тенью верхушки деревьев.
Урия буркнул что-то и замолчал.
— Так, значит, мы пойдем с нею, святой человек?
— А разве этому что-нибудь препятствует? Ведь я смогу отходить в сторону и проверять все реки, которые будут пересекать дорогу. Она желает, чтобы я сопровождал ее. Она очень желает этого.
Ким приглушил взрыв смеха, уткнувшись в одеяло. Он думал, что как только властная пожилая дама преодолеет свойственный ей почтительный страх перед всяким ламой, ее любопытно будет послушать.
Он уже почти заснул, как вдруг лама произнес поговорку: — Мужья болтливых женщин получат великую награду в будущей жизни. — Потом Ким услышал, как он одну за другой взял три понюшки табаку и, продолжая смеяться, задремал.
Рассвет яркий, как алмазы, разбудил и людей, и волов, и ворон.
Ким сел, зевнул, встряхнулся и затрепетал от восторга. Вот что значит видеть мир по-настоящему; вот жизнь, которая ему по душе: суета и крики, звон застегивающихся поясов и удары бичей по волам, скрип колес, разжиганье костров и приготовление пищи, новые картины всюду, куда ни бросишь радостный взгляд. Утренний туман уплывал, свертываясь серебряными завитками, попугаи крикливыми зелеными стаями мчались к далекой реке, заработали все колодезные колеса. Индия пробудилась, и Ким был в ней самым бодрствующим, самым оживленным из всех. Он чистил себе зубы, жуя прутик, заменявший ему зубную щетку, ибо с готовностью перенимал все обычаи этой страны, которую знал и любил. Не нужно было заботиться о пище, не нужно было тратить ни одной каури в ларьках, осаждаемых толпой. Он был учеником святого, которого завербовала старуха, наделенная железной волей. Все будет им приготовлено, и, когда их почтительно пригласят, они сядут и примутся за еду. Что касается прочего, то хозяйка их будет заботиться о том, чтобы их путешествие было приятным. Он придирчиво осмотрел волов, которые подошли, сопя и фыркая под ярмом. Если волы пойдут слишком быстро, что маловероятно, хорошо будет сидеть верхом на дышле, а лама усядется рядом с возчиком. Конвойные, очевидно, пойдут пешком. А старуха тоже, наверно, будет много болтать и, судя по тому, что Ким успел услышать, речь ее будет не лишена соли. Она и теперь уже начала отдавать приказания, наставлять, высказывать недовольство и, надо сознаться, справедливо ругать своих слуг за медлительность.
— Дайте ей ее трубку. Во имя богов, дайте ей трубку и заткните ее зловещий рот, — выкрикнул один из уриев, увязывая свою постель в бесформенные узлы. — Что она, что попугаи. Те и другие визжат по утрам.
— Передние волы! Хай! Гляди на передних волов! — Волы, зацепившись рогами за ось воза с зерном, пятились назад и вертелись. — Сын совы, куда лезешь? — эти слова были обращены к ухмылявшемуся возчику.
— Ай! Ай! Там внутри сидит правительница Дели, и она едет вымаливать сына, — отпарировал возчик с высокого воза. — Дорогу делийской правительнице и ее первому министру, серой обезьяне, которая карабкается по своему собственному мечу!
Сзади наехал другой воз, нагруженный кожей для кожевенной мастерской на юге, и возчик его добавил несколько комплиментов по адресу волов, запряженных в ратх, которые все пятились и пятились назад.
Из-за колеблющихся занавесок вырвался залп ругательств. Всего несколько фраз, но по характеру, по язвительности и колкой меткости они превосходили все, что даже Киму когда-либо доводилось слышать. Он увидел, как голый по пояс возчик съежился от изумления, благоговейно поклонился в сторону голоса и, соскочив с дышла, принялся помогать стражам вытаскивать их вулкан на главный проезд. Тут голос откровенно разъяснил ему, какую жену взял он замуж и что она делает в его отсутствие.
— О, шабаш! — пробормотал Ким, не удержавшись, а возчик ускользнул.
— Каково, а? Стыд и позор, что бедной женщине невозможно поехать помолиться своим богам без того, чтобы ее не толкали и не оскорбляли все отбросы Индостана, что она должна глотать гали[24], как люди проглатывают гхи. Но язык у меня еще двигается. Скажешь кое-когда словечко-другое, вот и поможет. Однако мне еще до сих пор не дали табаку! Кто тот одноглазый бесчестный сын позора, который еще не набил мне трубки?
Один из горцев поспешно сунул ей трубку, и струи густого дыма, просочившиеся из-за занавесок по всем четырем углам, послужили доказательством того, что мир восстановлен.
Если Ким уже вчера шагал с гордым видом, как подобает ученику святого, то сегодня он шествовал в десять раз более горделиво, — ведь он участвовал в почти царском шествии и занимал всеми признанное место под покровительством почтенной дамы, умеющей с достоинством общаться с людьми и одаренной беспредельной находчивостью. Стражи, повязав головы, как принято в этих местах, рассыпались по обе стороны повозки и, волоча ноги, поднимали огромное облако пыли.
Лама с Кимом шли в сторонке. Ким жевал стебель сахарного тростника и не уступал дороги ни одному человеку рангом ниже жреца. Старуха трещала, как веялка для очистки риса. Она заставляла своих стражей сообщать ей все, что делается на дороге, и, едва они отъехали от парао, откинула занавески и выглянула наружу, закрыв лицо вуалью на одну треть. Люди ее не смотрели ей прямо в лицо, когда она к ним обращалась, и таким образом приличия более или менее соблюдались.
Темноволосый, желтолицый англичанин, окружной полицейский инспектор, в безупречном мундире трусил мимо на утомленном коне и, видя по свите, какое положение в обществе занимает путешественница, решил поддразнить ее.
— Эй, матушка, — крикнул он, — разве в зенанах так водится? А вдруг проедет англичанин и увидит, что у тебя нет носа?
— Что? — взвизгнула она в ответ. — У твоей родной матери не было носа? Зачем же кричать об этом на большой дороге?
Отпор был меткий. Англичанин поднял руку жестом человека, которого коснулась рапира противника при фехтовании. Она смеясь, кивала головой.
— Ну, разве такое лицо может совратить добродетель с пути истинного? — она совсем откинула покрывало и уставилась на англичанина.
Лицо ее отнюдь не было красивым, но англичанин, подобрав поводья, назвал его Луной Рая и Совратителем Целомудрия и другими фантастическими прозвищами, которые заставили ее согнуться от смеха.
— Вот так наткхат[25], — говорила она. — Все полицейские чины наткхаты, а полисвалы хуже всех. Хай, сын мой, не может быть, чтобы ты всему этому научился с тех пор, как приехал из Билайта[26]. Кто тебя кормил грудью?
— Одна пахарин родом с гор, из Далхузи, мать моя. Держи свою красоту в тени, о Подательница Наслаждений, — и он уехал.
— Такие вот люди, — произнесла она важным, наставительным тоном, набивая себе рот паном, — такие люди способны следить за тем, как вершится правосудие. Они знают страну и ее обычаи. А остальные, без году неделю в Индии, вскормленные грудью белой женщины и учившиеся нашим языкам по книгам, — хуже чумы. Они обижают правителей. — Тут, обращаясь ко всем, она рассказала длинную-длинную историю об одном невежественном молодом полицейском чиновнике, который при разборе пустячного дела причинил неприятности какому-то мелкому гималайскому радже, ее родственнику в девятом колене, и при этом ввернула цитату из книги отнюдь не благочестивой.
Потом настроение ее изменилось, и она велела одному из стражей спросить, не пожелает ли лама пойти рядом с повозкой и побеседовать о вере. Тогда Ким отстал и, окутанный пылью, опять принялся за сахарный тростник. С час или больше широкополая шапка ламы маячила впереди, как луна в дымке, и Ким слышал только, что старуха плачет. Один из уриев почти извинялся за свою вчерашнюю грубость, говоря, что никогда не видел своей хозяйки в таком кротком настроении, как сейчас, а это он приписывал присутствию чужеземного жреца. Он лично верил в брахманов, хотя, как и все туземцы, отлично знал, как они жадны и пронырливы. Но если брахманы раздражали вымогательствами мать жены его господина и, когда она гнала их прочь, злились так, что проклинали весь конвой (это и послужило истинной причиной того, что в прошлую ночь пристяжной вол захромал, а дышло сломалось), он готов был принять жреца любого толка, будь он родом из Индии или из чужих стран. С этим Ким согласился, глубокомысленно кивая головой, и предложил урии учесть в придачу, что лама денег не берет, а стоимость пищи его и Кима вернется сторицей, ибо отныне каравану будет сопутствовать счастье. Он рассказал также несколько историй из лахорской жизни и спел одну или две песни, заставившие конвойных громко хохотать. В качестве горожанина, отлично знакомого с новейшими песнями, сочиненными самыми модными композиторами (в большинстве случаев — женщинами), Ким имел явное преимущество перед уроженцами какой-то деревушки за Сахаранпуром, живущей своими фруктовыми садами, но заметить это преимущество он предоставил им самим.
В полдень путники свернули в сторону, чтобы подкрепиться; обед был вкусный, обильный, красиво поданный на тарелках из чистых листьев, в приличной обстановке, вдалеке от пыльной дороги. Объедки они, соблюдая обычай, отдали каким-то нищим и долго отдыхали, куря с наслаждением. Старуха укрылась за занавесками, но, не стесняясь, вмешивалась в разговор, а слуги спорили с ней и противоречили ей, как это делают слуги по всему Востоку. Она сравнивала прохладу и сосны в горах Кангры и Кулу с пылью и манговыми деревьями юга. Рассказала предание о древних местных богах, почитаемых на границе территории ее мужа, крепко выругала табак, который сейчас курила, опорочила всех брахманов и откровенно обсуждала возможности рождения многочисленных внуков.
ГЛАВА V
Вот я вернулся к своим опять, Прощен, накормлен, любим опять, Родными признан родным опять. Их кровь зовет мою кровь. Избран телец пожирней для меня, Но слаще вкус желудей для меня... И свиньи лучше людей для меня И к стаду иду я вновь. Блудный сынЛенивая процессия снова тронулась в путь, вытянувшись гуськом и волоча ноги; старуха спала, покуда не добрались до следующей остановки. Переход был очень коротким, до заката оставался еще час, так что Ким решил поразвлечься.
— Почему бы не сесть и не отдохнуть? — промолвил один из стражей. — Только дьяволы и англичане бродят туда и сюда без всякого смысла.
— Никогда не дружи с дьяволом, с обезьяной и с мальчишкой. Никто не знает, что им взбредет в голову, — сказал его товарищ.
Ким сердито повернулся к ним спиной — он не желал слушать старой сказки о том, как дьявол стал играть с мальчиками и потом раскаялся в этом, — и лениво свернул в поле.
Лама зашагал вслед за ним. Весь этот день всякий раз, как дорога пересекала какую-нибудь речку, они сворачивали в сторону взглянуть на нее, но лама ни разу не заметил каких-либо признаков своей Реки. Удовольствие говорить о серьезных предметах и знать, что женщина хорошего рода почитает его и уважает как своего духовника, незаметно отвлекли его мысли от Искания. К тому же он был готов потратить долгие безмятежные годы на поиски, ибо ему ничуть не было свойственно нетерпение белых людей, но зато он имел великую веру.
— Куда идешь? — крикнул он Киму вслед.
— Никуда. Переход был маленький, а все здесь, — Ким широко развел руками, — ново для меня.
— Она, конечно, мудрая и рассудительная женщина. Но трудно предаваться размышлениям, когда...
— Все женщины таковы, — Ким высказал это тоном царя Соломона.
— Перед нашим монастырем, — забормотал лама, свертывая петлей сильно потертые четки, — была широкая каменная площадка. И на ней остались следы моих шагов, так часто я ходил по ней взад и вперед вот с этими четками.
Он застучал шариками и начал бормотать священную формулу «Ом мани падме хум», радуясь прохладе, покою и отсутствию пыли.
Ким, глядя на равнину, лениво переводил глаза с одного предмета на другой. Он шел без определенной цели, если не считать того, что решил обследовать стоявшие невдалеке хижины, показавшиеся ему необычными.
Они вышли на обширное пастбище, коричневое и пурпурное в закатном свете; в центре его стояла густая рощица манговых деревьев. Ким удивился, что не построили храма в таком подходящем месте. В этом отношении мальчик был наблюдателен, как заправский жрец. Вдали по равнине шли рядом четыре человека, казавшиеся очень маленькими на таком расстоянии. Ким стал внимательно рассматривать их, приложив ладони ко лбу, и заметил блеск меди.
— Солдаты! Белые солдаты! — проговорил он. — Давай поглядим.
— Когда мы с тобой идем вдвоем, нам всегда попадаются солдаты. Но белых солдат я еще не видывал.
— Они никого не обижают, если только не пьяны. Стань за дерево.
Они стали за толстыми стволами в прохладной тени манговой рощи. Две фигурки остановились, другие две нерешительно двинулись дальше. То были солдаты из какого-то вышедшего в поход полка, по обыкновению высланные вперед наметить место для лагеря. Они несли пятифутовые шесты с развевающимися флагами и окликали друг друга, рассыпаясь по плоской местности. Наконец, тяжело ступая, они вошли в манговую рощицу.
— Вот тут или поблизости... офицерские палатки под деревья, я так думаю, а мы, все прочие, разместимся снаружи. Наметили они там место для обоза или нет?
Они крикнули что-то вдаль своим товарищам, и громкий ответ долетел до них тихим и неясным.
— Ну, значит, втыкай флаг сюда, — сказал один из солдат.
— К чему эти приготовления? — проговорил лама, оцепеневший от изумления. — Великий и страшный мир! Что такое нарисовано на этом знамени?
Один из солдат воткнул шест в нескольких футах от них, недовольно проворчал что-то, вытащил его, посоветовался с товарищем, который оглядывал тенистые зеленые стены, и поставил шест на прежнее место.
Ким глядел во все глаза, прерывистое дыхание со свистом вырывалось сквозь его стиснутые зубы. Солдаты вышли из рощи на солнце.
— О святой человек, — задыхаясь проговорил мальчик, — мой гороскоп!... который был начерчен в пыли жрецом из Амбалы! Вспомни, что он говорил. Сначала придут два фарраша, чтобы все подготовить... в темном месте, как это всегда бывает в начале видения.
— Но это не видение, — промолвил лама. — Это иллюзия мира, не больше.
— А после них придет Бык, Красный Бык на зеленом поле. Гляди! Вот он!
Он показал на флаг, хлопающий на вечернем ветерке не далее, чем в десяти шагах от них. Это был обыкновенный флажок, которым отмечали место для лагеря, но полк, щепетильно соблюдавший традиции, снабдил его своей полковой эмблемой — красным быком, красующимся на знамени Меверикцев, большим красным быком на фоне зеленого цвета, национального цвета Ирландии.
— Теперь вижу и вспоминаю, — промолвил лама. — Конечно, это твой Бык. И, конечно, оба эти человека пришли для того, чтобы все приготовить.
— Это солдаты... Белые солдаты. Что тогда говорил жрец? «Знак Быка — есть знак войны и вооруженных людей». Святой человек, все это касается моего Искания.
— Верно. Это верно, — лама пристально смотрел на эмблему, которая в сумерках пылала, как рубин. — Жрец из Амбалы говорил, что твой знак — знак войны.
— Что же теперь делать?
— Ждать. Будем ждать.
— А вот и мгла отступила, — сказал Ким. Ничего не было удивительного в том, что заходящее солнце пронзило последними своими лучами рощу и, разлившись между стволами деревьев, осветило ее на несколько минут пыльным золотым светом, но Киму это казалось подтверждением пророчеств амбалского брахмана.
— Чу! Слышишь! — произнес лама. — Бьют в барабан... далеко.
Сначала бой барабана, растворявшийся в тихом воздухе, был слаб, как стук в висках. Потом звуки стали громче.
— А! Музыка! — объяснил Ким. Ему звуки полкового оркестра были знакомы, но ламу они изумляли.
По дальнему краю равнины поползла густая пыльная колонна. Потом ветер донес песню:
Хотим мы рассказать вам Про славные дела: Как Малиганская гвардия До Порта Слайго шла.Тут вступили пронзительные флейты:
С ружьем на плече Мы идем, мы идем в поход. Прощай, Феникс-Парк. К Дублинской бухте, вперед! Барабанов и труб Сладостный звук зовет. С Малиганской гвардией мы уходим.Оркестр Меверикцев играл, сопровождая полк, направлявшийся к лагерю, солдаты шли в поход с обозом. Извивающаяся колонна выступила на равнину — обоз тащился сзади — разделилась надвое, рассыпалась муравьями и...
— Да это колдовство! — воскликнул лама. Долина покрылась точками палаток, которые, казалось, появлялись из повозок уже совсем растянутыми. Другая людская лавина наводнила рощу и бесшумно поставила огромную палатку; еще восемь или девять человек выросли у нее сбоку, вытащили кастрюли, сковородки и свертки, которыми овладела толпа слуг-туземцев; и вот, не успели наши путники оглянуться, как манговая роща превратилась в благоустроенный городок.
— Пойдем, — проговорил лама, отступая в испуге, когда засверкали огни и белые офицеры, бряцая саблями, стали входить в палатку офицерского собрания.
— Встань в тени! Дальше круга, освещенного костром, ничего не видно, — сказал Ким, не спуская глаз с флажка. Ему никогда не случалось видеть, как полк хорошо обученных солдат привычно разбивает лагерь в тридцать минут.
— Смотри! Смотри! Смотри! — зашептал лама. — Вот идет жрец.
Это был Бенет, полковой капеллан англиканского вероисповедания. Он шел, прихрамывая, в пыльном черном костюме. Кто-то из его паствы отпустил несколько грубых замечаний насчет того, что капеллану не хватает энергии, и, дабы пристыдить его, Бенет весь этот день шел с солдатами, не отступая от них ни на шаг. По черному костюму, золотому кресту на часовой цепочке, гладко выбритому лицу и черной мягкой широкополой шляпе его во всей Индии признали бы за священнослужителя. Он тяжело опустился на складной стул у входа в палатку офицерского собрания и стянул с себя сапоги. Три-четыре офицера собрались вокруг него. Они хохотали и подсмеивались над его подвигом.
— Речи белых людей совершенно лишены достоинства, — заметил лама, судивший об этих речах по их тону. — Но я рассмотрел лицо этого жреца и думаю, что он человек ученый. Может быть, он поймет наш язык? Хотелось бы поговорить с ним о моем Искании.
— Не заговаривай с белым человеком, пока он не наестся, — сказал Ким, повторяя известную поговорку. — Теперь они примутся за еду, и, я думаю, просить у них милостыню бесполезно. Давай вернемся на место отдыха. Поужинаем, потом придем сюда опять. Конечно, это был Красный Бык — мой Красный Бык.
Когда слуги старухи поставили перед ними пищу, оба они выглядели рассеянными, поэтому никто не решился нарушить их раздумье, ибо надоедать гостям — значит навлекать на себя несчастье.
— А теперь, — молвил Ким, ковыряя в зубах, — мы опять пойдем туда. Но тебе, святой человек, придется немножко отстать, потому что ноги твои тяжелее моих, а мне очень хочется получше рассмотреть Красного Быка.
— Но как можешь ты понять их речь? Иди потише. На дороге темно, — в тревоге ответил лама. Ким оставил вопрос без ответа.
— Я заметил место невдалеке от деревьев, — сказал он, — где ты можешь посидеть, покуда я не позову. Нет, — перебил он ламу, который пытался возражать, — вспомни, что это мое Искание. Искание Красного Быка. Звездный знак был не для тебя. Я кое-что знаю об обычаях белых солдат, и мне всегда хочется видеть новое.
— Чего ты только не знаешь об этом мире! — лама послушно уселся в небольшой ямке, в сотне ярдов от манговой рощицы, которая казалась черной на фоне усыпанного звездами неба.
— Оставайся тут, пока я не позову. — Ким упорхнул во тьму. Он знал, что вокруг лагеря, по всей вероятности, будут расставлены часовые, и улыбнулся, услышав топот тяжелых сапог. Мальчик, способный лунной ночью прятаться на лахорских крышах, умеющий использовать всякое пятнышко тьмы, всякий неосвещенный уголок, чтобы обмануть своего преследователя, вряд ли попадет в руки даже целому отряду хорошо обученных солдат. Он нарочно проскользнул между двумя часовыми, а потом, то мчась по весь дух, то останавливаясь, то сгибаясь и припадая к земле, пробрался-таки к освещенной палатке офицерского собрания, где, притаившись за стволом мангового дерева, стал ждать, чтобы чье-нибудь случайно сказанное слово навело его на верную мысль.
Теперь на уме у него было одно — получить дальнейшие сведения о Красном Быке. Ему казалось — а невежество Кима было так же своеобразно и неожиданно, как и его обширный опыт, — что эти люди, эти девятьсот настоящих дьяволов из отцовского пророчества, возможно, они будут молиться своему Быку после наступления темноты, как молятся индусы священной корове. Такое моление, конечно, вполне законно и логично, а, следовательно, падре с золотым крестом — самый подходящий человек для консультации по этому вопросу. С другой стороны, вспоминая о постнолицых пасторах, которых он избегал в Лахоре, Ким опасался, как бы и этот священник не стал приставать к нему с расспросами и заставлять его учиться. Но разве в Амбале не было доказано, что знак его в высших небесах предвещает войну и вооруженных людей? Разве не был он Другом Звезд точно так же, как и Другом Всего Мира? Разве не был он до самых зубов набит страшными тайнами? Наконец, точнее прежде всего, ибо именно в этом направлении быстро текли мысли — это приключение было чудесной забавой, восхитительным продолжением былых его скачек по крышам домов, а также исполнением возвышенного пророчества. Он полз на животе ко входу в офицерскую палатку, положив руку на амулет, висевший у него на шее.
Предположения его оправдались. Сахибы молились своему богу: на середине стола стояло единственное украшение, которое брали в поход, — золотой бык, отлитый из вещей, находившихся некогда в Пекинском Летнем дворце и похищенных оттуда, — бык из червонного золота с опущенной головой, топчущий зеленое поле, по-ирландски зеленого оттенка. Сахибы поднимали стаканы, обращаясь в его сторону, и громко, беспорядочно кричали.
Надо сказать, что достопочтенный Артур Бенет имел обыкновение покидать офицерское собрание после этого тоста. Он порядочно устал после похода, и потому движения его были более резкими, чем обычно. Ким, слегка подняв голову, все еще не сводил глаз со своего тотема, стоящего на столе, как вдруг капеллан наступил ему на правую лопатку. Ким, выскользнув из-под кожаного сапога, покатился в сторону, отчего капеллан грохнулся на землю, но, будучи человеком решительным, схватил мальчика за горло, так что чуть не задушил его. Тогда Ким в отчаянии ударил его в живот. Мистер Бенет охнул и скорчился, но, не выпуская своей жертвы, молча потащил Кима в свою палатку. Меверикцы славились как заядлые шутники, и англичанин решил, что лучше помолчать, пока дело полностью не разъяснится.
— Как, да это мальчик! — проговорил он, поставив пленника под фонарь, висевший на шесте палатки, и, сурово встряхнув Кима, крикнул:
— Ты что тут делал? Ты вор. Чор? Малум? — он очень плохо знал хиндустани, а взъерошенный и негодующий Ким решил не отрицать возведенного на него обвинения. Отдышавшись, он принялся сочинять вполне правдоподобную историю о своих родственных отношениях с одним из поварят офицерского собрания и в то же время не спускал острых глаз с левого бока капеллана. Случай представился. Ким нырнул к выходу, но длинная рука рванулась вперед и вцепилась ему в шею, захватив шнурок от амулета и сжав ладонью самый амулет.
— Отдайте мне его! О, отдайте! Он не потерялся? Отдайте мне бумаги, — эти слова были сказаны по-английски, с жестким, режущим ухо акцентом, свойственным людям, получившим туземное воспитание, и капеллан подскочил от удивления.
— Ладанка, — сказал он, разжимая руку. — Нет, какой-то языческий талисман. Почему... почему ты говоришь по-английски? Когда мальчики воруют — их бьют. Ты знаешь это?
— Я не... я не воровал. — Ким в отчаянии приплясывал, как фокстерьер под поднятой палкой. — О, отдайте его мне! Это мой талисман! Не крадите его у меня!
Капеллан, не обращая на него внимания, подошел к выходу из палатки и громко крикнул. На крик появился довольно толстый, гладко выбритый человек.
— Мне нужно с вами посоветоваться, отец Виктор, — сказал Бенет. — Я нашел этого мальчика снаружи, за палаткой офицерского собрания. Я, конечно, отпустил бы его, предварительно наказав, и я уверен, что он вор. Но он, кажется, говорит по-английски и как будто дорожит талисманом, который висит у него на шее. Я подумал, не поможете ли вы мне. — Бенет считал, что между ним и католическим священником — капелланом ирландской части полка — лежит непроходимая пропасть, но достойно внимания, что всякий раз, как англиканской церкви предстояло решать задачу, имеющую отношение к человеку, она охотно звала на помощь римско-католическую. Степень отвращения, которое Бенет по долгу службы питал к римско-католической церкви и ее деятельности, могла сравниться только со степенью его личного уважения к отцу Виктору.
— Вор, говорящий по-английски? Посмотрим-ка его талисман. Нет, Бенет, это не ладанка, — он вытянул руку вперед.
— Но имеем ли мы право открыть это? Хорошая взбучка...
— Я не крал, — протестовал Ким. — Вы сами всего меня исколотили. Отдайте же мне мой талисман и я уйду.
— Не торопись; сначала посмотрим, — сказал отец Виктор, не спеша развертывая пергамент с надписью ne varietur, свидетельство об увольнении бедного Кимбола О'Хары и метрику Кима. На этой последней О'Хара множество раз нацарапал слова «Позаботьтесь о мальчике. Пожалуйста, позаботьтесь о мальчике!» и подписал полностью свое имя и свой полковой номер в смутной уверенности, что этим он сделает чудеса для своего сына.
— Да сгинут силы тьмы! — произнес отец Виктор, отдавая все бумаги мистеру Бенету. — Ты знаешь, что это за бумаги?
— Да, — сказал Ким, — они мои, и я хочу уйти.
— Я не совсем понимаю, — проговорил мистер Бенет. — Он, наверное, принес их с какой-нибудь целью. Возможно, что это просто уловка нищего.
— Но я никогда не видел нищего, который так спешил бы уйти от своих благодетелей. Тут кроется какая-то забавная тайна. Вы верите в провидение, Бенет?
— Надеюсь.
— Ну, а я верю в чудеса, и в общем это одно и то же. Силы тьмы! Кимбол О'Хара! И его сын! Однако этот мальчик туземец, а я сам венчал Кимбола с Эни Шот. Как давно ты получил эти бумаги, мальчик?
— Когда я был еще совсем малышом.
Отец Виктор быстро шагнул вперед и распахнул одежду на груди Кима.
— Видите, Бенет, он не очень черный. Как тебя зовут?
— Ким.
— Или Кимбол?
— Может быть. Вы отпустите меня?
— А еще как?
— Еще меня зовут Ким Ралани-ка. То есть Ким из Ралани.
— Что такое «Ралани»?
— Иралани — это был полк... полк моего отца.
— Ах, понимаю, ирландский.
— Да. Так мне говорил отец. Мой отец, он прожил.
— Где проживал?
— Прожил. То есть умер, конечно, сдох.
— Какое грубое выражение!
Бенет перебил его:
— Возможно, что я был несправедлив к мальчику. Он, конечно, белый, но, видимо, совсем беспризорный. Должно быть, я ушиб его. Думаю, какой-нибудь крепкий напиток...
— Так дайте ему стакан хереса и уложите его на походную кровать.
— Ну, Ким, — продолжал отец Виктор, — никто не собирается тебя обижать. Выпей это и расскажи нам о себе. Но только правду, если ничего не имеешь против.
Ким слегка кашлянул, отставляя пустой стакан, и начал обдумывать положение. Осторожность и фантазия — вот что казалось ему необходимым в данном случае. Мальчиков, слоняющихся по лагерям, обычно выгоняют, предварительно отхлестав. Но его не высекли. Очевидно, амулет сыграл свою роль; вот и выходило, что амбалский гороскоп и немногие запомнившиеся ему слова из отцовских бессвязных речей самым чудесным образом совпадали между собой. Иначе это не произвело бы столь сильного впечатления на толстого падре и худой не дал бы Киму стакан горячего желтого вина.
— Мой отец умер в городе Лахоре, когда я был еще совсем маленький. А женщина — она держала лавку кабари около того места, где стоят извозчичьи повозки... — Ким начал свой рассказ наудачу, не вполне уверенный, насколько ему выгодно говорить правду.
— Это твоя мать?
— Нет, — он с отвращением отмахнулся. — Мать умерла, когда я родился. Мой отец получил эти бумаги из Джаду-Гхара, — так это называется? (Бенет кивнул) — потому что он был на хорошем счету. Так это называется? (Бенет опять кивнул.) Мой отец сказал мне это. Он говорил, а также брахман, который два дня назад чертил на пыли в Амбале, говорил, что я найду Красного Быка на зеленом поле и этот Бык поможет мне.
— Феноменальный лгунишка, — пробормотал Бенет.
— Да сгинут силы тьмы, что за страна! — прошептал отец Виктор. — Дальше, Ким.
— Я не крал. Кроме того, я ученик святого человека. Он сидит снаружи. Мы видели двух человек с флагами, они пришли приготовить место. Так всегда бывает во сне или в случае... Да... пророчества. Поэтому я понял, что все сбудется. Я увидел Красного Быка на зеленом поле, а мой отец говорил: «Девятьсот пакка дьяволов и полковник верхом на коне будут заботиться о тебе, когда ты найдешь Красного Быка». Когда я увидел Быка, я не знал, что делать, поэтому я ушел и вернулся, когда стемнело. Я хотел опять увидеть Быка и опять увидел Быка, и сахибы молились ему. Я думаю, что Бык поможет мне. Святой человек тоже так говорил. Он сидит снаружи. Вы не обидите его, если я ему сейчас крикну? Он очень святой. Он может подтвердить все, что я сказал, и он знает, что я не вор.
— «Офицеры молятся быку!» Как это понимать, скажите пожалуйста? — ужаснулся Бенет. — «Ученик святого человека!» Сумасшедший он, что ли, этот малыш?
— Это сын О'Хары, без всякого сомнения. Сын О'Хары в союзе со всеми силами тьмы. Все это очень похоже на поведение его отца, когда он был пьян. Пожалуй, нам следует пригласить сюда святого человека. Возможно, что он что-нибудь знает.
— Он ничего не знает, — сказал Ким. — Я покажу его вам, если вы пойдете со мной. Он мой учитель. А потом мы уйдем.
— Силы тьмы! — все, что смог сказать отец Виктор, а Бенет вышел, крепко держа Кима за плечо. Они нашли ламу на том месте, где его оставил Ким.
— Мое Искание подошло к концу, — крикнул ему Ким на местном наречии. — Я нашел Быка, но неизвестно, что будет дальше. Тебя они не обидят. Пойдем в палатку толстого жреца вместе с этим худым человеком и посмотрим, что из этого получится. Все это ново для меня, а они не умеют говорить на хинди. Они просто-напросто ослы нечищеные.
— А раз так, нехорошо смеяться над их невежеством, — ответил лама. — Я рад, что ты доволен, чела.
Исполненный достоинства и ни о чем не подозревающий, он зашагал к маленькой палатке, приветствовал духовенство как духовное лицо и сел у открытой жаровни с углем. При свете фонаря, отраженном желтой подкладкой палатки, лицо ламы казалось отлитым из червонного золота.
Бенет смотрел на него со слепым равнодушием человека, чья религия валит в одну кучу девять десятых человечества, наделяя их общей кличкой «язычники».
— Чем же кончилось твое Искание? Какой дар принес тебе Красный Бык? — обратился лама к Киму.
— Он говорит: «Что вы собираетесь делать?» — Бенет в смущении уставился на отца Виктора, а Ким, в своих интересах, взял на себя роль переводчика.
— Я не понимаю, какое отношение имеет этот факир к мальчику, который либо обманут им, либо его сообщник, — начал Бенет. — Мы не можем допустить, чтобы английский мальчик... Если он сын масона, то чем скорей он попадет в масонский сиротский приют, тем лучше.
— А! Вы считаете так потому, что вы секретарь полковой ложи, — сказал отец Виктор, — но нам, пожалуй, следует сообщить старику о том, как мы собираемся поступить. Он не похож на мошенника.
— Мой опыт говорит, что восточную душу понять невозможно. Ну, Кимбол, я хочу, чтобы ты передал этому человеку все, что я скажу... слово в слово.
Ким, уловив смысл дальнейшей краткой речи Бенета, начал так:
— Святой человек, тощий дурак, похожий на верблюда, говорит, что я сын сахиба.
— Как так?
— О, это верно. Я знал с самого своего рождения, а он смог узнать, только прочитав амулет, снятый с моей шеи, и все бумаги. Но он считает, что если кто сахиб, тот всегда будет сахибом, и оба они собираются либо оставить меня в этом полку, либо послать в мадрасу[27]. Это и раньше бывало. Мне всегда удавалось этого избежать. Жирный дурак хочет сделать по-своему, а похожий на верблюда — по-своему. Но все это пустяки. Я, пожалуй, проведу здесь одну ночь и, может быть, следующую. Это и раньше бывало. А потом убегу и вернусь к тебе.
— Но скажи им, что ты мой чела. Скажи им, как ты пришел ко мне, когда я был слаб и беспомощен. Скажи им о нашем Искании, и они, наверное, тотчас же тебя отпустят.
— Я уже говорил им. Они смеются и толкуют о полиции.
— Что он говорит? — спросил мистер Бенет.
— О! Он говорит только, что если вы меня не отпустите, это повредит ему в его делах... в его срочных личных делах. — Это выражение было позаимствовано у какого-то евразия, служившего в Ведомстве Каналов, с которым Ким однажды разговаривал, но тут оно только вызвало улыбку, сильно разозлившую мальчика. — А если бы вы знали, какие у него дела, вы не стали бы так чертовски мешать ему.
— Что же это за дела? — не без интереса спросил отец Виктор, глядя на лицо ламы.
— В этой стране есть Река, которую он очень хочет найти, очень хочет. Она потекла от Стрелы, которую... — Ким нетерпеливо топнул ногой, стараясь переводить в уме с местного наречия на английский язык, который ему трудно давался. — О, ее создал наш владыка Будда, знаете ли, и если вы в ней вымоетесь, с вас смоются все ваши грехи и вы станете белыми, как хлопок. (Ким в свое время слыхал миссионерские проповеди.) Я его ученик, и мы непременно должны найти эту Реку. Это так важно для нас.
— Расскажи еще раз, — сказал Бенет. Ким рассказал еще раз с добавлениями.
— Но это грубое богохульство! — воскликнул представитель англиканской церкви.
— Ну! Ну! — сочувственно произнес отец Виктор. — Я бы многое дал, чтобы уметь говорить на местном наречии. Река, смывающая грехи! А как давно вы оба ее ищете?
— О, много дней. А теперь мы хотим уйти, чтобы опять искать ее. Здесь ее, видите ли, нет.
— Понимаю, — серьезно произнес отец Виктор. — Но он не должен бродить в обществе этого старика. Не будь ты, Ким, сыном солдата, тогда было бы другое дело. Скажи ему, что полк позаботится о тебе и сделает из тебя такого же хорошего человека, как твой... да, хорошего человека, насколько это возможно. Скажи ему, что если он верит в чудеса, он должен будет поверить этому...
— Нет никакой нужды играть на его легковерии, — перебил его Бенет.
— Я этого и не делаю. Он и сам, наверное, считает, что появление мальчика здесь, в его родном полку, — и во время поисков Красного Быка, — похоже на чудо. Подумайте, Бенет, сколько шансов было против того, чтобы это случилось. Из всех мальчиков Индии именно этот встречается с нами, именно с нашим полком, а не с каким-либо другим из всех, что вышли в поход. Это было предначертано свыше. Да, скажите ему, что это кисмат. Кисмат, малум?[28]
Он обращался к ламе с тем же успехом, как если бы речь шла о Месопотамии.
— Они говорят, — сказал Ким, и глаза старика засияли, — они говорят, что предсказания моего гороскопа теперь исполнились и что раз я вернулся к этим людям и их Красному Быку, — хотя ты знаешь, что я пришел сюда только из любопытства, — то я обязательно должен поступить в мадрасу, чтобы меня превратили в сахиба. Ну, я притворюсь, что согласен, ведь в худшем случае мне придется съесть несколько обедов вдали от тебя. Потом я удеру и догоню тебя по дороге в Сахаранпур. Поэтому ты, святой человек, оставайся с женщиной из Кулу... ни в коем случае не отходи далеко от ее повозки, покуда я не вернусь. Нет сомнения, что знак мой — знак войны и вооруженных людей. Ты видел, что они дали мне вина и посадили меня на ложе почета! Должно быть, отец мой был важным человеком! Поэтому если они дадут мне почетное положение — хорошо. Если нет — тоже хорошо. Так или иначе, но, когда мне все это надоест, я убегу к тебе. А ты оставайся с раджпуткой, иначе я потеряю твои следы... О да, — произнес мальчик по-английски, — я передал ему все, что вы мне велели сказать.
— Не понимаю, чего нам еще дожидаться, — промолвил Бенет, шаря в кармане брюк, — подробности мы можем узнать после... Я дам ему ру...
— Дайте ему время опомниться. Быть может, он привязан к мальчику, — перебил отец Виктор капеллана.
Лама вынул четки и надвинул широчайшие поля своей шапки на глаза.
— Чего ему еще нужно?
— Он говорит, — Ким поднял руку, — он говорит: помолчите! Он сам хочет потолковать со мной. Видите ли, вы ведь не понимаете ни одного словечка из того, что он говорит, и я думаю, что если вы не перестанете болтать, он, чего доброго, пошлет вам ужасные проклятия. Когда он вот так держит четки, это значит, он хочет, чтобы его оставили в покое.
Оба англичанина остолбенели, но в глазах Бенета можно было прочитать, что Киму придется плохо, когда он попадет в лапы религии.
— Сахиб и сын сахиба... — страдание звучало в хриплом голосе ламы. — Но ни один белый человек не знает страны и обычаев страны так, как их знаешь ты. Как возможно, что все это правда?
— Не все ли равно, святой человек! Вспомни, ведь это только на одну-две ночи. Вспомни, как быстро я умею меняться. Все будет так, как было в тот день, когда я впервые говорил с тобой под большой пушкой Зам-Замой...
— В образе мальчика, одетого как белые люди, когда я впервые пришел в Дом Чудес. А во второй раз ты обернулся индусом. В кого воплотишься ты в третий раз? — Он невесело засмеялся. — Ax, чела, ты причинил зло старику, ибо сердце мое потянулось, к тебе.
— А мое к тебе. Но как мог я знать, что Красный Бык приведет меня к этому!
Лама снова прикрыл лицо шапкой и нервно застучал четками. Ким присел на корточки рядом с ним и ухватился рукой за одну из складок его одежды.
— Итак, установлено, что мальчик сахиб? — продолжал лама глухо. — Такой же сахиб, как тот, кто хранит священные изображения в Доме Чудес? — Лама видел мало белых людей. Казалось он повторял урок. — Если так, ему не следует поступать иначе, чем поступают сахибы. Он должен вернуться к своим сородичам.
— На один день и ночь и еще на день, — убеждал его Ким.
— Нет, это тебе не удастся! — отец Виктор заметил, что Ким подвигается к выходу, и здоровенной ногой преградил ему путь.
— Я не понимаю обычаев белых людей. Жрец священных изображений в лахорском Доме Чудес был учтивее этого тощего жреца. Мальчика у меня отнимут, ученика моего сделают сахибом. Горе мне, как найду я свою Реку?! А у них есть ученики? Спроси.
— Он говорит, он очень огорчен тем, что теперь уже никогда не найдет своей Реки. Он говорит: почему у вас нет учеников и почему вы не перестаете надоедать ему? Он хочет отмыться от своих грехов.
Ни Бенет, ни отец Виктор не нашли подходящего ответа. Расстроенный огорчением ламы, Ким сказал по-английски:
— Я думаю, что если вы меня теперь отпустите, мы тихонько уйдем и ничего не украдем. Мы будем искать эту Реку, как искали ее перед тем, как меня поймали. Лучше бы мне не появляться здесь и не видеть этого Красного Быка. Не хочу я этого.
— Ты сделал самое лучшее, что мог сделать для себя, молодой человек, — промолвил Бенет.
— Господи боже мой, прямо не знаю, чем его утешить, — заговорил отец Виктор, внимательно глядя на ламу. — Он не должен уводить с собой мальчика, и все же он — хороший человек. Я уверен, что он хороший человек. Бенет, если вы дадите ему эту рупию, он проклянет вас всего, с головы до ног!
Они молчали... три... пять полных минут. Потом лама поднял голову и стал смотреть куда-то поверх их, в пространство и пустоту.
— И это я, идущий по Пути, — сказал он с горечью. — Грех мой и возмездие мне. Я заставил себя поверить, — ибо вижу теперь, то был просто самообман, — что ты был послан мне в моем Искании. Поэтому сердце мое потянулось к тебе за твое милосердие и твою учтивость и мудрость твоих малых лет. Но те, что следуют по Пути, не должны допускать в себе огонь какого-либо желания или привязанности, ибо все это иллюзии. Как сказано... — Он процитировал древний китайский текст, добавил к нему второй и подкрепил их третьим. — Я свернул с Пути в сторону, мой чела. Ты в этом не виновен. Я наслаждался лицезрением жизни, лицезрением новых людей на дорогах и тем, как радовался ты, видя все это. Мне было приятно с тобой, мне, который должен был думать о своем Искании, только об Искании. Теперь я огорчен, что тебя отбирают у меня и что Река моя далеко. Это потому, что я нарушил закон.
— Да сгинут силы тьмы! — произнес отец Виктор. Умудренный опытом на исповеди, он по каждой фразе догадывался о страдании ламы.
— Я вижу теперь, что в знаке Красного Быка было указание не только тебе, но и мне. Всякое желание окрашено красным цветом, но всякое желание — зло. Я совершу покаяние и один найду мою Реку.
— Во всяком случае вернись к женщине из Кулу, — сказал Ким, — не то заблудишься на дорогах. Она будет тебя кормить, пока я не прибегу к тебе.
Лама помахал рукой, давая понять, что он вынес окончательное решение.
— Ну, — обратился он к Киму, и голос его изменился, — а что они сделают с тобой? Быть может, приобретая заслугу, я, по крайней мере, смогу искупить зло, совершенное в прошлом.
— Они хотят сделать меня сахибом... думаю, что это им не удастся. Послезавтра я вернусь. Не горюй!
— Каким сахибом? Таким, как этот или тот человек? — Он показал на отца Виктора. — Таким, каких я видел сегодня вечером, таким, как люди, носящие мечи и тяжело ступающие?
— Может быть.
— Это нехорошо. Эти люди повинуются желанию и приходят к пустоте. Ты не должен стать таким, как они.
— Жрец из Амбалы говорил, что звезда моя означает войну, — перебил его Ким. — Я спрошу этих дураков... Впрочем, право, не стоит. Нынче же ночью я убегу, ведь все, что я хотел, — это видеть новое.
Ким задал отцу Виктору два или три вопроса по-английски и перевел ламе ответы. Затем сказал:
— Он говорит: вы отнимаете его у меня, а сами не можете сказать, кем вы его сделаете. Он говорит: скажите мне это раньше, чем я уйду, ибо воспитать ребенка дело немалое.
— Тебя отправят в школу. А там видно будет. Кимбол, я полагаю, тебе хочется стать солдатом?
— Гора-лог[29]! Не-ет! Не-ет! — Ким яростно затряс головой.
Ничто не привлекало его в муштре и дисциплине. — Я не хочу быть солдатом.
— Ты будешь тем, кем тебе прикажут быть, — сказал Бенет, — и ты должен чувствовать благодарность за то, что мы собираемся тебе помочь.
Ким сострадательно улыбнулся. Если эти люди воображают, что он будет делать то, что ему не нравится, тем лучше.
Снова наступило продолжительное молчание. Бенет начал ерзать от нетерпения и предложил позвать часового, чтобы удалить «факира».
— А что, у сахибов учат даром или за деньги? Спроси их, — сказал лама, и Ким перевел его слова.
— Они говорят, что учителю платят деньги, но эти деньги даст полк... К чему спрашивать? Ведь это только на одну ночь.
— А... чем больше заплачено, тем ученье лучше? — Лама отверг планы Кима, рассчитанные на скорый побег. — Платить за ученье не грешно. Помогая невежде достичь мудрости, приобретешь заслугу. — Четки бешено стучали: казалось, он щелкал на счетах. Потом лама обернулся к своим обидчикам. — Спроси: за какие деньги преподают они мудрое и надлежащее учение? И в каком городе преподается это учение?
— Ну, — начал отец Виктор по-английски, когда Ким перевел ему вопрос, — это зависит от обстоятельств. Полк будет платить за тебя в течение всего того времени, что ты пробудешь в Военном сиротском приюте, тебя могут также принять в Пенджабский масонский сиротский приют (впрочем, ни ты, ни он этого все равно не поймете). Но, конечно, лучшее воспитание, какое мальчик может получить в Индии, он получит в школе св. Ксаверия in Partibus, в Лакхнау. — Перевод этой речи занял довольно много времени, а Бенет стремился поскорее покончить с делом и торопил Кима.
— Он хочет знать, сколько это стоит, — безучастно произнес Ким.
— Двести или триста рупий в год. — Отец Виктор давно уже перестал удивляться. Бенет, ничего не понимая, изнывал от нетерпения.
— Он говорит: напишите на бумаге это название и количество денег и отдайте ему, и он говорит, что внизу вы должны подписать свое имя, потому что когда-нибудь он напишет вам письмо. Он говорит, что вы хороший человек. Он говорит, что другой человек глуп. Он уходит. Лама внезапно встал.
— Я продолжаю мое Искание, — воскликнул он и вышел из палатки.
— Он наткнется на часовых, — вскричал отец Виктор, вскочив с места, когда лама торжественно удалился, — но мне нельзя оставить мальчика. — Ким сделал быстрое движение, чтобы побежать вслед за ламой, но сдержался. Оклика часового не послышалось. Лама исчез.
Ким спокойно уселся на складную кровать капеллана. Лама обещал, что останется с женщиной-раджпуткой из Кулу, все же остальное, в сущности, не имело значения. Ему было приятно, что оба падре так волновались. Они долго разговаривали вполголоса, и отец Виктор убеждал мистера Бенета принять какой-то план действий, к которому тот относился недоверчиво. Все это было ново и увлекательно, но Киму хотелось спать. Англичане позвали в палатку офицеров, — один из них, несомненно, был тем полковником, о котором пророчествовал отец Кима, — и те засыпали мальчика вопросами, главным образом насчет женщины, которая его воспитывала, и Ким на все вопросы отвечал правдиво. Они, видимо, не считали эту женщину хорошей воспитательницей.
В конце концов, это было самое необычное из его приключений. Рано или поздно он, если захочет, убежит в великую, серую, бесформенную Индию, подальше от палаток пасторов и полковников. А пока, если сахибам хочется, чтобы на них производили впечатление, он по мере сил постарается это сделать. Ведь он тоже белый человек.
После длительных переговоров, понять которые он не мог, его передали сержанту со строгим наказом не дать ему убежать. Полк пойдет в Амбалу, а Кима, частично на средства ложи, частично на деньги, собранные по подписке, отошлют в какое-то место, именуемое Санавар.
— Чудеса, превышающие любую фантазию, полковник, — сказал отец Виктор, проговорив десять минут без передышки. — Буддийский друг его улепетнул, узнав предварительно мой адрес и фамилию. Не могу понять, действительно ли он собирается платить за обучение мальчика или готовит какую-то колдовскую операцию в своих собственных интересах. — Он обратился к Киму: — А все-таки ты научишься быть благодарным своему другу — Красному Быку. В Санаваре из тебя сделают человека, хотя бы ценой того, что обратят тебя в лютеранство.
— Непременно обратят... всенепременно, — промолвил Бенет.
— Но вы не пойдете в Санавар, — сказал Ким.
— Но мы в Санавар пойдем, паренек. Так приказал главнокомандующий, а он поважнее сына О'Хары.
— Вы не пойдете в Санавар. Вы пойдете на войну.
Вся палатка разразилась хохотом.
— Когда ты чуточку получше узнаешь свой родной полк, ты не станешь путать военных маневров с войной, Ким. Надеемся, что когда-нибудь мы и пойдем на войну.
— О, я все это знаю, — Ким опять пустил стрелу наудачу. Если они и не шли на войну, они все же не знали того, что знал он из разговора на веранде в Амбале.
— Я знаю, сейчас вы не на войне, но я говорю вам, что, как только вы придете в Амбалу, вас пошлют на войну... на новую войну. Это война восьми тысяч человек, и пушки там будут.
— Вот это ясно сказано. Значит, кроме прочих талантов, ты обладаешь даром пророчества? Уведите его, сержант. Возьмите для него платье у барабанщиков и смотрите, чтобы он не проскользнул у вас между пальцами. Кто говорил, что века чудес миновали? Ну, я, пожалуй, пойду спать. Слабый мой ум не выдержит этого.
Час спустя Ким сидел в дальнем конце лагеря, безмолвный, как не прирученный зверь, вымытый с головы до ног и наряженный в отвратительный шерстяной костюм, который царапал ему руки и ноги.
— Удивительный птенчик, — проговорил сержант. — Является под опекой желтомордого козлоногого брахманского жреца, болтает бог весть что о красном быке, а на шее у него документы из ложи его отца. Козел-брахман испаряется без объяснений, а мальчишка сидит, скрестив ноги, на капеллановой койке и предсказывает кровопролитную войну всем людям вообще. Больно дика эта Индия для богобоязненного человека. Привяжу-ка я его за ногу к шесту палатки, а то как бы он не удрал через крышу. Что ты там болтал насчет войны?
— Восемь тысяч человек и еще пушки, — сказал Ким. — Очень скоро. Вот увидите.
— Утешил, бесенок. Ложись-ка между барабанщиками и бай-бай. Эти два парня рядом с тобой будут охранять твой сон.
ГЛАВА VI
Друзей я помню старых, По голубым морям Мы плавали и опермент Сбывали дикарям. Миль тысяч десять к югу И тридцать лет назад. Им чужд был знатный Вальдес, Но я им был свой брат. Песня Диего ВальдесаРано утром белые палатки исчезли, а Меверикцы проселком направились в Амбалу. Им не пришлось идти мимо вчерашнего места отдыха. Ким, который плелся рядом с обозной телегой, сопровождаемый замечаниями бойких солдатских жен, чувствовал себя не так уверенно, как накануне. Он заметил, что за ним зорко следили отец Виктор, с одной стороны, и мистер Бенет — с другой.
Незадолго до полудня колонна остановилась. Подъехал ординарец верхом на верблюде и передал полковнику письмо. Полковник прочел его и сказал что-то одному из майоров. Ким, находившийся в арьергарде, за полмили услышал докатившиеся до него сквозь густую завесу пыли хриплые и радостные крики. Кто-то хлопнул его по спине, крича:
— Скажи нам, как ты мог узнать об этом, сатанинский детеныш? Отец, дорогой, постарайтесь заставить его признаться.
Подъехал пони, и Кима подняли на седло к священнику.
— Ну, сын мой, твое вчерашнее предсказание сбылось. Нам приказано завтра же выступить из Амбалы на фронт.
— Что это такое? — спросил Ким, ибо слова «фронт» и «выступать» были ему непонятны.
— Мы идем на войну, как ты выразился.
— Конечно, вы идете на войну. Я так и говорил вчера вечером.
— Да, говорил, но, силы тьмы, как ты об этом узнал?
Ким сверкнул глазами. Он сжал зубы, кивнул головой, давая понять, что знает нечто, о чем говорить нельзя. Капеллан ехал, окутанный пылью, а рядовые, сержанты и младшие офицеры кивали друг другу, указывая на мальчика.
Полковник, ехавший впереди колонны, с любопытством уставился на него.
— Должно быть, он слышал базарные толки, — промолвил он, — но даже в этом случае... — он справился по бумаге, которую держал в руках. — Черт возьми, ведь все было решено только двое суток назад.
— Что, в Индии много таких, как ты? — спросил отец Виктор. — Или ты нечто вроде lusus naturae?
— А теперь, когда я вам сказал, — промолвил мальчик, — вы меня отпустите к моему старику. Боюсь, что он умрет, если не останется с женщиной из Кулу.
— Насколько я мог заметить, он не хуже тебя может позаботиться о себе. Нет. Ты принес нам счастье, и мы сделаем из тебя человека. Я подвезу тебя к обозной телеге, а вечером ты придешь ко мне.
Весь остаток дня Ким служил объектом особого внимания со стороны нескольких сотен белых людей. История его появления в лагере, сведения о его происхождении, а также его предсказания передавались из уст в уста. Дородная белая женщина, восседавшая на груде подушек и тюфяков, таинственно спросила его, как он полагает, вернется с войны ее муж или нет. Ким с важным видом погрузился в размышления, потом изрек, что муж вернется, и женщина дала ему поесть. Большая процессия с оркестром, который временами принимался играть, говорливая толпа, готовая смеяться по самому пустячному поводу, — все это во многом напоминало празднества в Лахоре. Пока что никакой тяжелой работы не предвиделось, и Ким решил почтить своим присутствием это зрелище. Вечером навстречу им вышли военные оркестры, которые с музыкой проводили Меверикцев в лагерь, расположенный близ амбалского вокзала. Ночь была полна интересных событий. Солдаты других полков пришли в гости к Меверикцам. Меверикцы, в свою очередь, тоже ушли в гости. Пикеты их полка помчались вернуть назад ушедших, встретили пикеты других полков, занятые тем же, и через некоторое время рожки бешено затрубили, сзывая новые пикеты и офицеров для прекращения беспорядка. Меверикцы славились живостью своего характера. Но на следующее утро они ввалились на платформу в отличном виде и полном порядке, а Ким, оставленный в тылу вместе с больными, женщинами и мальчиками, в волнении орал прощальные напутствия вслед отходившим поездам. Поначалу жизнь сахиба показалась Киму занимательной, но он по-прежнему вел себя с большой осторожностью.
Потом его отправили под охраной мальчика-барабанщика в опустевшие выбеленные известкой казармы, где пол был усеян веревками, бумажками и всяким мусором, а потолок отражал звуки его одиноких шагов. Он свернулся по-туземному на полосатой койке и заснул. Какой-то сердитый человек приковылял на веранду, разбудил его и отрекомендовался школьным учителем. Киму того было довольно, и он ушел в себя. Он только-только умел разбирать по складам различные объявления, вывешенные английской полицией в Лахоре, и то потому лишь, что они стесняли его свободу. Среди многочисленных посетителей его былой воспитательницы был один чудаковатый немец, писавший декорации для странствующей группы актеров-парсов. Он рассказывал Киму, что в сорок восьмом году «стоял на баррикадах» и поэтому — так, по крайней мере, понял Ким — будет учить мальчика писать в обмен на питание. Ученье сопровождалось побоями, и Ким, научившись писать отдельные буквы, сохранил о них неважное мнение.
— Я ничего не знаю. Уходите прочь! — сказал Ким, чуя недоброе. Но тут человек схватил его за ухо, потащил в дальний флигель, где около десяти барабанщиков сидели за партами, и велел ему сидеть смирно, если он больше ничего не умеет делать. Это Киму отлично удалось. Человек не менее получаса рассказывал что-то, чертя белые линии на черной доске, а Ким продолжал свой прерванный сон. Ему совершенно все это не нравилось, ибо тут была та самая школа и дисциплина, избегать которых он старался в течение двух третей своей короткой жизни. Но вдруг его осенила блистательная идея, и он удивился, как не подумал об этом раньше.
Человек отпустил учеников, и Ким первым выскочил через веранду на солнце.
— Эй вы! Стойте! Остановитесь! — раздался вслед ему тонкий голос. — Я должен смотреть за тобой. Мне приказано не выпускать тебя из вида. Куда ты пошел?
Это был барабанщик, который все утро торчал рядом с ним, — толстый веснушчатый мальчишка лет четырнадцати, и Ким возненавидел его от подошв сапог до ленточек на шапке.
— На базар. Купить сластей. Для тебя, — сказал Ким, подумав.
— Нет, базар вне дозволенных границ. Если мы туда пойдем, взбучку получим. Ступай назад!
— А как далеко нам можно отойти? — Ким не понимал, что такое «дозволенные границы», но решил быть вежливым... пока.
— Как далеко? Ты хочешь сказать, до какого места? Мы можем отойти не дальше, чем до того дерева на дороге.
— Так я пойду туда.
— Ладно. А я не пойду. Слишком жарко. Я и отсюда могу за тобой следить. Убежать тебе не удастся. Они тебя всегда узнают по платью. Ты одет в полковую форму. Любой пикет в Амбале притащит тебя назад раньше, чем ты успеешь выбежать отсюда.
Это не произвело на Кима особого впечатления, но он понимал, что одежда будет стеснять его, если он попытается убежать. Он поплелся к дереву, стоявшему на повороте малолюдной дороги, и принялся глазеть на прохожих-туземцев. В большинстве своем это были слуги при казармах, члены самых низких каст. Ким окликнул метельщика, который незамедлительно ответил ему бессмысленной бранью, полагая, что европейский мальчик не поймет его. Тихий, быстрый ответ вывел его из заблуждения. Ким вложил в эти слова всю свою скованную душу, обрадовавшись долгожданному случаю выругать кого-нибудь на самом знакомом ему языке.
— А теперь ступай к ближайшему базарному писцу и вели ему прийти сюда. Мне нужно написать письмо.
— Но... но какой же ты сын белого человека, если тебе нужен базарный писец? Разве в казармах нет школьного учителя?
— Есть. Такими, как он, весь ад набит. Делай, что тебе говорят, ты... ты... од! Твоя мать венчалась под корзинкой! Поклонник Лал-Бега (Ким знал, как зовут бога метельщиков), беги по моему делу, не то я с тобой поговорю. Метельщик поторопился уйти.
— У казармы под деревом стоит белый мальчик, только он не совсем белый мальчик, — заикаясь сообщил он первому базарному писцу, который попался ему на глаза. — Ты ему нужен.
— А он заплатит? — спросил щеголеватый писец, подбирая свой письменный столик, перья и сургуч, одно за другим по порядку.
— Не знаю. Он не похож на других мальчишек. Поди посмотри. Стоит того.
Ким приплясывал от нетерпения, когда худощавый молодой каятх появился на горизонте. Как только он подошел так близко, что мог расслышать Кима, тот начал многословно ругать его.
— Сначала заплати, — сказал писец, — от скверных слов цена повысилась. Но кто ты такой? Одет так, а говоришь по-другому.
— Аха! Все это будет объяснено в письме, которое ты напишешь. Ты о такой истории и не слыхивал. Мне спешить некуда. Мне и другой писец напишет. Город Амбала кишит ими не меньше, чем Лахор.
— Четыре аны, — произнес писец, усаживаясь на землю и расстилая коврик в тени опустевшего казарменного флигеля.
Ким машинально сел на корточки рядом с ним, как умеют сидеть только туземцы, и это несмотря на отвратительные, тесно облегающие штаны! Писец искоса взглянул на него.
— Такую цену спрашивай с сахибов, — сказал Ким, — а мне скажи настоящую.
— Полторы аны. Почем я знаю, что ты не убежишь, когда я напишу письмо?
— Я не имею права уйти дальше этого дерева, да и о марке нужно подумать.
— С марок я комиссионных не беру. Но спрашиваю еще раз: из каких ты будешь, белый мальчик?
— Все это будет сказано в письме, а пишу я его Махбубу Али, торговцу лошадьми, в Кашмирский караван-сарай в Лахоре. Он мой друг.
— Одно чудо за другим — пробормотал писец, окуная в чернильницу заостренную камышовую палочку. — Писать на хинди?
— Конечно. Значит, Махбубу Али. Начинай! «Я ехал со стариком в поезде до Амбалы. В Амбале я передал сообщение о родословной гнедой кобылы». — После того, что Ким видел из сада, он отнюдь не хотел писать о белых жеребцах.
— Чуть-чуть помедленнее. А какое отношение имеет гнедая кобыла... Неужто это тот самый Махбуб Али — крупный торговец?
— Кому же еще быть? Я у него служил. Набери еще чернил. Дальше. «Как было приказано, так я и сделал. Потом мы пешком пошли в Бенарес, но на третий день я наткнулся на один полк». Написал?
— Да, палтан, — пробормотал писец, обратившись в слух.
«Я пошел в их лагерь, и меня поймали, и благодаря известному тебе талисману, который у меня на шее, узнали, что я сын какого-то человека из этого полка, как и было сказано в пророчестве о Красном Быке, про которого, как тебе известно, у нас на базаре говорили все». — Ким переждал минутку, чтобы стрела эта хорошенько вонзилась в сердце писца, откашлялся и продолжал: «Какой-то жрец одел меня и дал мне новое имя. Один из жрецов был дурак. Одежда очень тяжелая, но я — сахиб, и на сердце у меня тяжело. Они послали меня в школу и бьют меня. Здешний воздух и вода мне не нравятся. Так приезжай же, Махбуб Али, помоги мне или пошли денег, а то мне нечем заплатить писцу, который пишет это письмо».
— «Который пишет это письмо!» Я сам виноват, что меня надули. Ты хитер, как Хусайн-Бакс, который подделывал гербовые марки в Накхлао. Вот так история. Неужто все это правда?
— Махбубу Али врать невыгодно. Лучше помочь его друзьям, одолжив им марку. Когда деньги придут, я заплачу тебе.
Писец недоверчиво проворчал что-то, вынул из письменного столика марку, запечатал письмо, передал его Киму и удалился. В Амбале одно имя Махбуба Али могло творить чудеса.
— Вот как можно угодить богам, — заорал ему вслед Ким.
— Заплати мне вдвое, когда придут деньги, — крикнул писец, оглянувшись.
— О чем это ты болтал с чернокожим? — спросил барабанщик, когда Ким вернулся на веранду. — Я за тобой следил.
— Так просто, разговаривал с ним.
— Ты знаешь язык чернокожих, а?
— Не-ет! Не-ет! Я только чуть-чуть умею говорить по-ихнему. А что мы теперь будем делать?
— Через минуту затрубят к обеду. Господи! Лучше бы отправиться на фронт вместе с полком. Противно сидеть тут в школе без дела. Тебе это тоже не по нутру?
— О, да!
— Я бы удрал, знай я только, куда идти, но солдаты говорят, что в этой проклятой Индии всюду будешь вроде арестанта. Невозможно дезертировать без того, чтобы тебя сейчас же не поймали. Надоело мне это до черта!
— А ты был... в Англии?
— Да я только в прошлый набор приехал сюда с матерью. Еще бы не быть в Англии! Ну, и мало же ты знаешь, глупыш этакий. Ты, должно быть, в трущобе вырос, а?
— О-о, д-а-а! Расскажи мне что-нибудь про Англию. Мой отец приехал оттуда.
Хотя Ким и не сознавался в этом, он, конечно, не верил ни одному слову из того, что рассказывал барабанщик о Ливерпульской окраине, которая и была для него всей Англией. Так прошло время до обеда, чрезвычайно невкусного, который был подан мальчикам и нескольким небоеспособным солдатам в углу одного из казарменных помещений. Не пошли нынче Ким письма Махбубу Али, он чувствовал бы себя почти подавленным. К равнодушию туземной толпы он привык, но одиночество среди белых угнетало его. Он даже почувствовал благодарность, когда после полудня какой-то рослый солдат отвел его к отцу Виктору, который жил в другом флигеле, по ту сторону пыльного плац-парада. Священник читал английское письмо, написанное красными чернилами. Он взглянул на Кима с еще большим любопытством, чем раньше.
— Ну, как тебе здесь нравится, сын мой? Не особенно, а? Дикому Зверьку тут должно быть тяжко... очень тяжко. А теперь слушай. Я получил изумительное послание от твоего друга.
— Где он? Хорошо ли ему? О-а! Если он может писать мне письма, все в порядке.
— Значит, ты его любишь?
— Конечно, люблю. Он любил меня.
— Должно быть, это так, судя по письму. Ведь он не умеет писать по-английски, нет?
— О-а, нет. По-моему, не умеет, но, конечно, он нашел писца, который отлично умеет писать по-английски, и тот написал. Надеюсь, вы понимаете.
— Понятно. Тебе что-нибудь известно о его денежных делах?
Ким мимикой выразил отрицание.
— Откуда мне знать?
— Об этом-то я и спрашивал. Теперь слушай, если только ты способен в этом разобраться. Начало мы пропустим... Послано с Джагадхирской дороги... «Сидя на краю дороги в глубоком созерцании, уповаю, что Ваша честь изволит одобрить настоящее мое мероприятие, и прошу Вашу честь осуществить его ради всемогущего бога. Образование есть величайшее из благ, если оно наилучшего сорта. Иначе оно ни на что не нужно». — Признаюсь, на этот раз старик попал в точку! — «Если Ваша честь соизволит дать моему мальчику наилучшее образование Ксаверия»[30] «согласно нашим переговорам, происходившим в вашей палатке 15-го сего месяца» (образец канцелярского стиля!), «то всемогущий бог благословит потомство Вашей чести до третьего и четвертого колена, и» — теперь слушай! — «не извольте сомневаться, что покорный слуга Вашей чести будет вносить надлежащее вознаграждение путем ежегодной хунди по триста рупий в год за дорогостоящее образование в школе св. Ксаверия, в Лакхнау, и предоставьте небольшой срок для пересылки вышеупомянутой хунди в любую часть Индии, куда Ваша честь прикажет ее адресовать. Слуга Вашей чести в настоящее время не имеет места преклонить голову, но едет в Бенарес поездом, по причине угнетения со стороны старухи, которая слишком много болтает, и нежелания обитать в Сахаранпуре в качестве домочадца». Что все это значит?
— Я думаю, она просила его стать ее пуро — домашним жрецом в Сахаранпуре. А он не захотел из-за свой Реки. Она и вправду много болтала.
— Значит, тебе ясно, да? А я прямо ошарашен. «Итак, отправляюсь в Бенарес, где найду адрес и перешлю рупии для мальчика, который мне дорог как зеница ока, и ради всемогущего бога осуществите сие образование — и Ваш проситель почтет своим долгом отныне усердно молиться за Вас. Писал Собрао Сатаи, не принятый в Аллахабадский университет, для его преподобия Тешу-ламы, жреца в Сач-Зене, ищущего Реку. Адрес: храм Тиртханкары в Бенаресе. P. S. Прошу заметить, что мальчик мне дорог как зеница ока и рупии будут посылаться путем хунди по три сотни в год. Ради всемогущего бога». Ну что это такое — дикое сумасшествие или деловое предложение? Я тебя спрашиваю, потому что сам я совершенно сбит с толку.
— Если он говорит, что будет давать мне по триста рупий в год, значит будет давать их.
— А ты как на это смотришь?
— Конечно! Раз он так говорит!
Священник свистнул, потом обратился к Киму как к равному:
— Я не верю этому; впрочем, посмотрим. Сегодня ты должен был отправиться в Санаварский военный сиротский приют, чтобы жить там на средства полка, пока не станешь взрослым и не поступишь в армию. Тебя собирались принять в лоно англиканской церкви. Все это устроил Бенет. С другой стороны, если ты поступишь в школу св. Ксаверия, ты получишь лучшее образование и... и сможешь принять истинную религию. Видишь, какая возникла дилемма?
Ким ничего не видел, но перед глазами у него стоял лама: старик едет на юг, в поезде, и некому просить за него милостыню.
— В данном случае я, подобно большинству людей, склонен повременить. Если твой друг пришлет из Бенареса деньги, — да сгинут силы тьмы, откуда возьмет уличный нищий триста рупий?! — ты поедешь в Лакхнау и я сам оплачу твой проезд, ибо если я собираюсь обратить тебя в католичество, а я собираюсь, я не имею права тратить средства, собранные по подписке. Если он денег не пришлет, ты отправишься в военный приют за счет полка. Я предоставлю ему трехдневный срок, хотя и не верю ему ни капельки. Однако, если он впоследствии перестанет вносить деньги... впрочем, об этом теперь говорить не стоит. В этом мире мы можем сделать только один шаг, благодарение богу. Бенета послали на фронт, а меня оставили в тылу. Пусть не думает, что ему во всем так повезет.
— О, да, — неопределенно проговорил Ким.
Священник наклонился вперед.
— Я отдал бы свое месячное жалование, чтобы узнать, что делается в твоей круглой головке.
— Ничего в ней не делается, — сказал Ким, почесывая голову... Он думал: а вдруг Махбуб Али пошлет ему целую рупию? Тогда он сможет заплатить писцу и будет посылать ламе письма в Бенарес. Быть может, Махбуб Али навестит его, когда в следующий раз приедет на юг с лошадьми? Должен же он знать, что письмо, переданное Кимом офицеру в Амбале, вызвало ту великую войну, о которой так возбужденно говорили солдаты и мальчики за обеденным столом в казарме. Но если Махбуб Али ничего не знает, сообщать ему об этом очень небезопасно. Махбуб Али был жесток к мальчикам, которые слишком много знали или воображали, что знают.
— Ну, пока я не получу дальнейших вестей, — прервал его размышления голос отца Виктора, — можешь играть и бегать с другими мальчиками. Они тебя кое-чему научат, но не думаю, чтобы это тебе понравилось.
Томительный день дотащился, наконец, до вечера. Когда Ким отправился спать, его научили, как надо складывать одежду и натягивать на колодку сапоги, а другие мальчики подняли его на смех. На заре его разбудил звук рожка. После завтрака школьный учитель поймал его, швырнул ему под нос страницу с какими-то дурацкими буквами, назвал их бессмысленными именами и отколотил его ни за что, ни про что. Ким стал обдумывать, как бы отравить его опиумом, добытым у одного из казарменных метельщиков, но, поразмыслив, понял, что такая проделка опасна, ибо все ели на людях, за одним столом, что было особенно противно Киму, который, принимая пищу, предпочитал поворачиваться ко всем спиной. Тогда он сделал попытку убежать в деревню, где жрец напоил ламу сонным зельем и где жил старый военный. Но зоркие часовые, стоявшие у всех выходов, вернули назад одетую в красное фигурку. Штаны и куртка одинаково стесняли и тело, и душу, поэтому Ким отказался от своих намерений и по-восточному положился на время и случай. Трое мучительных суток провел он в больших гулких белых помещениях казармы. Во вторую половину дня он ходил гулять под конвоем мальчишки-барабанщика, и все, что он слышал от своего спутника, сводилось к тем немногим никчемным словам, которые, видимо, представляли две трети всего запаса ругательств белого человека. Ким давным-давно уже знал и презирал их. За молчание и недостаток интереса к его словам барабанщик мстил ему побоями, что было вполне естественно. Он не интересовался базарами, расположенными в пределах лагеря. Он всех туземцев называл «чернокожими», а слуги и метельщики в лицо ругали его самым ужасным образом, и он, обманутый их почтительным видом, не понимал этого. Кима это несколько вознаграждало за побои.
Наутро четвертого дня рука правосудия покарала барабанщика. Они вместе направились к Амбалскому скаковому полю. Но барабанщик вернулся один, в слезах, и рассказал, что юный О'Хара, которому он ничего особенного не сделал, окликнул краснобородого чернокожего, ехавшего верхом; что чернокожий тут же очень больно стегнул его арапником, а юного О'Хару посадил к себе в седло и ускакал галопом. Вести об этом дошли до отца Виктора, и отвислая нижняя губа его опустилась еще ниже. Его уж и так немало изумило пришедшее из бенаресского храма Тиртханкары письмо со вложенным в него чеком на триста рупий от туземного банка и необычайной молитвой, обращенной ко «всемогущему богу». Лама, наверное, расстроился бы еще больше священника, знай он, как базарный писец перевел выражение «приобрести заслугу».
— Да сгинут силы тьмы! — отец Виктор рассматривал чек. — А теперь он удрал с каким-то другим из своих неуловимых приятелей. Не знаю уж, что для меня спокойнее, — получить его обратно или потерять окончательно. Он выше моего понимания. Но откуда, черт подери, может уличный нищий доставать деньги на воспитание белых ребят?
В трех милях оттуда, на Амбалском скаковом поле, Махбуб Али ехал верхом на сером кабульском жеребце, держа Кима перед собой, и говорил:
— Но, Дружок Всего Мира, надо подумать о моей чести и репутации. Все офицеры сахибы во всех полках и вся Амбала знают Махбуба Али. Люди видели, как я подхватил тебя и стегнул мальчишку. И теперь мы видны издалека на этой равнине. Как могу я увезти тебя, как мне объяснить твое исчезновение, если я спущу тебя на землю и дам тебе удрать в хлеба? Ведь за это меня посадят в тюрьму. Имей терпение. Родился сахибом, век будешь сахибом. А когда станешь мужчиной, кто знает, быть может, ты будешь благодарен Махбубу Али.
— Отвези меня подальше от их часовых куда-нибудь, где я смогу снять с себя это красное платье. Дай мне денег, и я поеду в Бенарес к своему ламе. Я не хочу быть сахибом, вспомни, что я передал то послание.
Жеребец сделал отчаянный скачок. Махбуб Али опрометчиво вонзил ему в бока острые края стремени. (Он был не из тех щеголеватых современных барышников, которые носят английские сапоги со шпорами.) Ким понял, что Махбуб выдал себя, и сделал соответствующие выводы.
— Пустяковое дело. Тебе оно было поручено потому, что ты мог исполнить его по пути в Бенарес. И я и сахиб уже забыли об этом. Я посылаю столько писем и сообщений людям, которые наводят справки о лошадях, что все они перепутались у меня в голове. Кажется, дело касалось какой-то гнедой кобылы, чью родословную хотел получить Питерс-сахиб?
Ким сейчас же заметил ловушку. Подтверди он, что дело касалось «гнедой кобылы», Махбуб понял бы, по его готовности принять поправку, что мальчик о чем-то подозревает. Поэтому Ким возразил:
— Гнедая кобыла? Нет. Я не путаю своих поручений. Это было насчет белого жеребца.
— Да, правильно. Белый арабский жеребец. Но ты писал мне о гнедой кобыле.
— Кто будет говорить правду писцу? — ответил Ким, чувствуя, как руки Махбуба прижались к его сердцу.
— Эй, Махбуб! Эй, старый плут, стойте! — послышался голос. Какой-то англичанин верхом на маленьком пони, обученном для игры в поло, подъехал рысью. — Я гнался за вами чуть ли не от самого города. Кабулец у вас резвый. Продадите, а?
— Скоро мне сюда приведут молодого конька. Небо создало его для тонкой и трудной игры в поло. Ему нет равного. Он...
— Играет в поло и прислуживает за столом. Да. Знаем мы все это. Черт возьми, что у вас такое в седле?
— Мальчик, — серьезно ответил Махбуб. — Его поколотил другой мальчик. Отец его был когда-то белым солдатом, участвовал в большой войне. Мальчик рос в городе Лахоре. Он играл с моими лошадьми, когда был еще совсем маленьким. А теперь его, кажется, хотят сделать солдатом. На днях его поймал полк, в котором служил его отец; этот полк пошел на войну на прошлой неделе. Но не думаю, чтобы ему хотелось быть солдатом. Я взял его покататься. Скажи, где твои казармы, и я ссажу тебя около них.
— Отпусти меня. Я и один найду казармы.
— А если ты удерешь, кто скажет, что не я в этом виноват?
— Он прибежит назад к обеду. Куда он может убежать? — сказал англичанин.
— Он родился в этой стране. У него есть друзья. Он бродит, где хочет. Он чабук савар[31]. Стоит ему только переодеться, и он в мгновение ока превратится в мальчишку-индуса низкой касты.
— Как бы не так! — англичанин критически оглядел мальчика, а Махбуб повернул к казармам.
Ким заскрипел зубами. Махбуб, очевидно, смеялся над ним, как вероломный афганец, ибо он продолжал:
— Его отправят в школу, наденут ему на ноги тяжелые сапоги и запеленают его в эти одежды. Тогда он забудет все, что знает. Ну, в какой из казарм ты живешь?
Ким показал пальцем, — говорить он не мог, — на флигель отца Виктора, белевший поблизости.
— Может статься, из него выйдет хороший солдат, — задумчиво промолвил Махбуб. — Во всяком случае, хороший ординарец. Как-то раз я послал его из Лахора передать одно сообщение. Насчет родословной белого жеребца.
Это было смертельное оскорбление, нанесенное после еще более смертельной обиды, и сахиб, которому Ким так ловко передал письмо, повлекшее за собой войну, все это слышал! Ким представил себе Махбуба горящим в огне за предательство, но для себя он предвидел только длинную вереницу казарм, школ и опять казарм. Он с мольбой взглянул на точеное лицо офицера. Но по лицу этому никак нельзя было догадаться, узнал англичанин мальчика или нет. Однако даже в такой ситуации Киму и в голову не пришло отдаться на милость белого человека или выдать афганца. А Махбуб пристально смотрел на англичанина, который столь же пристально рассматривал дрожащего, онемевшего Кима.
— Мой конь хорошо выезжен, — сказал барышник. — Иной, пожалуй, лягнул бы, сахиб.
— А, — произнес, наконец, англичанин, почесывая ручкой хлыста загривок пони. — А кто хочет сделать мальчика солдатом?
— Он говорит, что полк, который нашел его, и в особенности падре-сахиб этого полка.
— Вон этот падре! — проговорил Ким, увидев отца Виктора, с непокрытой головой спускавшегося к ним с веранды.
— Да сгинут силы тьмы! О'Хара, сколько же у тебя приятелей в Азии? — воскликнул он, обращаясь к Киму, который соскользнул на землю и, растерянный, стоял перед ним.
— Доброе утро, падре, — весело промолвил полковник. — Я слышал о вас много хорошего. Давно уже собирался заехать к вам. Я — Крейтон.
— Из Ведомства Этнологической Разведки? — спросил отец Виктор. Полковник кивнул. — Признаюсь, очень рад в таком случае познакомиться с вами и считаю своим долгом поблагодарить вас за то, что вы вернули мальчика обратно.
— Не стоит благодарности, падре. К тому же мальчик вовсе не собирался удирать. Вы не знакомы с почтенным Махбубом Али? — Барышник с бесстрастным видом сидел на коне, припекаемый солнцем. — Познакомитесь, когда с месяц проживете на станции. Он поставляет нам всех наших кляч. А мальчик этот заслуживает внимания. Можете вы рассказать мне о нем что-нибудь?
— Рассказать о нем? Еще бы! — фыркнул отец Виктор. — Вы единственный человек, способный помочь мне в моих затруднениях. Рассказать вам! Силы тьмы, да я чуть не лопнул от желания рассказать о нем человеку, который кое-что понимает в туземцах!
Из-за угла вышел конюх. Полковник Крейтон, возвысив голос, стал говорить на урду:
— Ну, ладно. Махбуб Али, хватит плести мне всякие небылицы об этом пони. Даю за него триста пятьдесят рупий и ни одной пайсы больше.
— Сахиб немного разгорячен и сердит после езды верхом, — промолвил барышник, подмигивая как завзятый шутник. — Потому он лучше оценит достоинства моего коня. Я подожду, пока он не кончит беседовать с падре. Я буду ждать под тем деревом.
— Да ну вас! — расхохотался полковник. — Вот что получается, когда бросишь хоть один взгляд на одну из махбубовых лошадей. Он настоящая старая пиявка, падре. Жди, если у тебя так много свободного времени, Махбуб. Теперь я к вашим услугам, падре. Где же мальчик? А, он ушел беседовать с Махбубом. Чудной парнишка. Будьте добры, прикажите поставить мою кобылу под навес. — Он опустился в кресло, откуда хорошо были видны Ким и Махбуб Али, совещавшиеся под деревом. Падре пошел в дом за сигарами.
Крейтон слышал, как Ким говорил с горечью: — Верьте брахману больше, чем змее, а змее больше, чем шлюхе, а шлюхе больше, чем афганцу: вот что, Махбуб Али.
— Это все равно, — большая красная борода торжественно развевалась. — Детям не следует видеть ковра на станке, пока узор не обозначится вполне. Поверь мне, Дружок Всего Мира, я оказываю тебе большую услугу. Солдата из тебя не сделают.
«Ишь, хитрый старый грешник, — подумал Крейтон. — Но он недалек от истины. Мальчика нужно использовать, если он в самом деле таков, каким его описывают».
— Простите, я сию минуту вернусь, — крикнул из дома падре. — Вот только найду оправдательные документы по этому делу.
— Если благодаря мне этот храбрый и мудрый полковник-сахиб окажет тебе покровительство и ты добьешься почестей, как отблагодаришь ты Махбуба Али, когда станешь мужчиной?
— Нет, нет; я умолял тебя помочь мне снова вернуться на Дорогу, где я был бы в безопасности. А ты меня продал англичанам. Сколько дадут они тебе за мою кровь?
«Забавный чертенок!» — полковник откусил кончик сигары и вежливо обернулся к отцу Виктору.
— Какими это письмами размахивает толстый жрец перед полковником? Стань сзади за жеребцом, как будто рассматриваешь уздечку, — сказал Махбуб Али.
— Это письмо от моего ламы, которое он послал с Джагадхирской дороги; он пишет, что будет платить триста рупий в год за мое обучение.
— Охо! Вот он какой, красношапочник-то! А в какой школе?
— Бог знает. Должно быть, в Накхлао.
— Да. Там есть большая школа для сыновей сахибов и полусахибов. Я ее видел, когда продавал там лошадей. Так значит, лама тоже любил Друга Всего Мира?
— Да. И он не лгал и не возвращал меня обратно в плен.
— Неудивительно, что падре не знает, как распутать нити. Как быстро он болтает с полковником-сахибом, — рассмеялся Махбуб Али. — Клянусь Аллахом! — Острые глаза мгновенно обежали веранду. — Твой лама прислал что-то вроде чека. Я пользовался такими хунди при ведении мелких дел. Полковник-сахиб рассматривает его.
— Какое мне дело до всего этого? — устало проговорил Ким. — Ты уедешь, а меня водворят в эти пустые комнаты, где нет подходящего места для того, чтобы поговорить, и где ребята колотят меня.
— Не думаю. Имей терпение, дитя. Не все патханы вероломны, если только речь идет не о конском мясе.
Прошло пять... десять... пятнадцать минут. Отец Виктор оживленно говорил или задавал вопросы, на которые отвечал полковник.
— Ну, теперь я рассказал вам все, что знаю о мальчике, от начала и до конца, и мне стало легче. Слыхали что-нибудь подобное?
— Во всяком случае, старик прислал деньги. Чеки Гобинда Сахаи принимают к оплате вплоть до самого Китая, — сказал полковник. — Чем лучше узнаешь туземцев, тем труднее догадаться, что они сделают и чего не сделают.
— Утешительно слышать это от главы Этнологической Разведки. Что за мешанина: красные быки, реки исцеления (бедный язычник, помоги ему бог!), чеки и масонские свидетельства. А вы, случайно, не масон?
— Конечно, масон, клянусь Юпитером, я только сейчас вспомнил об этом... И это лишнее основание, — рассеянно промолвил полковник.
— Очень рад, что вы видите во всем этом нечто основательное. Как я уже говорил, подобная смесь разнообразных обстоятельств выше моего понимания. А как он пророчествовал в присутствии нашего полковника, сидя на моей кровати! Рубашонка его была разорвана, и виднелась белая кожа. А предсказание-то исполнилось. Но у св. Ксаверия ему всю эту дурь выбьют из головы, а?
— Побрызгайте на него святой водой, — рассмеялся полковник.
— Признаюсь, не худо бы и побрызгать иногда. Но, надеюсь, его воспитают добрым католиком. Одно меня смущает: как быть, если этот старый нищий...
— Лама, лама, дорогой мой. Некоторые из них считаются джентльменами у себя на родине.
— Пусть так. Но как быть, если лама на будущий год не внесет денег? Под влиянием момента он способен выдумывать деловые проекты, но когда-нибудь он умрет. К тому же брать деньги с язычника, чтобы дать ребенку христианское воспитание...
— Но он ясно выразил свое желание. Как только он узнал, что мальчик белый, он начал вести себя соответственно. Охотно отдал бы я свое месячное жалованье, чтобы услышать, как он объясняет все это в Тиртханкарском храме, в Бенаресе. Слушайте, падре, я не хочу утверждать, что хорошо знаю туземцев, но если он заявил, что будет платить, значит будет... живой или мертвый. Я хочу сказать, что наследники его примут долг на себя. Советую вам послать мальчика в Лакхнау. Если же ваш англиканский капеллан решит, что вы опередили его...
— Тем хуже для Бенета! Его отправили на фронт вместо меня. Даути написал медицинское свидетельство, что я не годен. Этого Даути я отлучу от церкви, если только он вернется живым! А Бенет пусть удовольствуется...
— ...Славой, предоставив вам религию. Именно так! Собственно говоря, я не думаю, что Бенет будет недоволен. Свалите вину на меня. Я — э... определенно рекомендую послать мальчика в школу св. Ксаверия. Ехать он сможет по пропуску, как солдатский сын, сирота, так что проезд его по железной дороге ничего не будет стоить. Одеть его вы можете на деньги, собранные по подписке. Ложа будет избавлена от расходов на его воспитание и очень этому обрадуется. Все это очень легко устроить. Мне придется съездить в Лакхнау на будущей неделе. В дороге я присмотрю за мальчиком... отдам его на попечение своих слуг и так далее.
— Вы добрый человек.
— Ничуть. Не надо заблуждаться. Лама прислал нам деньги с определенной целью. Нам неловко возвращать их ему. Придется сделать так, как он просит. Ну, решено, а? В следующий вторник, скажем, вы приведете его к ночному поезду, отходящему на юг. Осталось всего три дня. За три дня он особых бед не натворит.
— У меня на душе полегчало, но эта штука? — падре помахал чеком. — Я не знаю ни Гобинда Сахаи, ни его банка, который, может статься, всего-навсего дыра в стенке.
— Не пришлось вам быть младшим офицером, обремененным долгами! Если хотите, я получу по чеку деньги и пришлю вам расписку по всей форме.
— Но вы так заняты! Это значит просить...
— Мне это не доставит никаких хлопот, уверяю вас. Видите ли, меня как этнолога очень интересует все это дело. Мне хотелось бы использовать данный материал в одной работе, которую я теперь выполняю для правительства. Превращение полкового значка — вашего красного быка — в своего рода фетиш, которому поклоняется этот мальчик, представляет большой интерес.
— Не знаю, как мне вас благодарить.
— Вот что вы можете сделать. Мы, этнологи, как галки завидуем открытиям своих коллег. Они никому не интересны, кроме нас самих, конечно, но вы знаете, что такое библиофилы... Так вот, никому не говорите ни слова — ни прямо, ни косвенно, относительно азиатских черт характера этого мальчика — ни о его приключениях, ни о пророчестве и так далее. Впоследствии я, так или иначе, получу нужные сведения от самого парнишки и... вы понимаете?
— Понимаю. Вы состряпаете из этого замечательную статью. Никому слова не скажу, покуда не увижу ее напечатанной.
— Благодарю вас. Сердце этнолога тронуто. Ну, мне пора домой, завтракать. Господи! Старый Махбуб все еще здесь? — Он возвысил голос, и лошадник выступил из-под тени дерева. — Ну, что еще?
— Насчет молодого коня... — начал Махбуб. — Я говорю, что когда жеребенок — прирожденный игрок в поло и сам без выучки гонится за шаром, когда такой жеребенок знает игру, словно по откровению, тогда, говорю я, худо портить этого жеребенка, запрягая его в тяжелую повозку, сахиб.
— И я так говорю, Махбуб. Жеребенка будут готовить только для поло. (Эти люди думают только о лошадях, падре.) Я завтра увижусь с вами, Махбуб, если у вас есть что-нибудь подходящее для продажи.
Торговец откланялся, взмахнув правой рукой по обычаю заправских ездоков.
— Потерпи немного, Друг Всего Мира, — шепнул он отчаявшемуся Киму. — Судьба твоя устроена. Вскоре ты поедешь в Накхлао, и вот тебе кое-что — заплатить писцу. Думаю, что еще не раз увижу тебя, — и он ускакал по дороге.
— Слушай, — сказал с веранды полковник на местном наречии. — Через три дня ты поедешь со мной в Лакхнау. Увидишь и услышишь там много нового. Поэтому три дня посиди смирно и не удирай. В Лакхнау ты поступишь в школу.
— А я увижусь там с моим святым человеком? — захныкал Ким.
— Во всяком случае, Лакхнау ближе к Бенаресу, чем Амбала. Возможно, что я возьму тебя под свое покровительство. Махбуб Али об этом знает, и он рассердится, если ты теперь вернешься на Дорогу. Запомни — мне многое рассказали, о чем я не забуду.
— Я подожду, — сказал Ким, — но ребята будут колотить меня...
Тут рожок заиграл на обед.
ГЛАВА VII
К чему чреватых солнц висят ряды? На небе бой, как на земле, идет: Средь глупых лун звезда не чтит звезды. Скользни меж них, — бесшумен твой приход. Их страхи, ссоры, битвы примечай, — Грехом Адама связан невзначай. — Черти свой гороскоп и узнавай Звезду, что рок твой чинит или рвет! Сэр Джон КристиПосле обеда краснолицый учитель сообщил Киму, что его «исключили из полковых ведомостей», чего Ким не понял, а потом велел ему идти играть. Тогда он побежал на базар и отыскал молодого писца, которому остался должен за марку.
— Теперь я тебе заплачу по-царски, — сказал Ким, — и мне нужно написать еще письмо.
— Махбуб Али в Амбале, — развязно сказал писец. — Профессия превратила его в настоящую контору по сбору неточной информации.
— Нет, не Махбубу, а одному жрецу. Бери перо и пиши побыстрее. «Тешу-ламе, святому человеку из Бхотияла, ищущему некую Реку, проживающему теперь в храме Тиртханкары в Бенаресе». Окуни перо в чернила! «Через три дня я должен буду уехать в Накхлао, в Накхласскую школу. Школа называется Ксаверий. Я не знаю, где эта школа, но она в Накхлао».
— А я знаю Накхлао, — перебил его писец, — и школу знаю.
— Так напиши ему, где она находится, и я прибавлю тебе пол-аны.
Тростниковое перо усердно царапало по бумаге.
— Он не ошибется. — Писец поднял голову. — Кто это смотрит на нас с той стороны улицы?
Ким тотчас взглянул и увидел полковника Крейтона, одетого в теннисный костюм из фланели.
— О, это какой-то сахиб, знакомый толстого жреца в казармах. Он зовет меня.
— Ты что делаешь? — спросил полковник, когда Ким подбежал к нему.
— Я... я не собираюсь удирать. Я послал письмо моему святому в Бенарес.
— Мне это не пришло в голову. А ты писал, что я беру тебя с собой в Лакхнау?
— Нет, не писал. Прочтите письмо, если не верите.
— А почему же ты не упомянул моего имени, когда писал этому святому? — полковник как-то странно усмехнулся. Ким собрал всю свою храбрость.
— Мне говорили однажды, что не следует писать о людях, замешанных в каких-либо делах, потому что, когда называешь имена, многие хорошие планы разрушаются.
— Тебя хорошо учили, — сказал полковник, и Ким покраснел. — Я забыл свой портсигар на веранде у падре. Принеси его мне домой сегодня вечером.
— А где ваш дом? — спросил Ким. Его быстрый ум подсказал ему, что его подвергают какому-то испытанию, и он насторожился.
— Спроси кого хочешь на большом базаре. — Полковник ушел.
— Он забыл свой портсигар, — сказал Ким, вернувшись. — Мне придется отнести его сахибу нынче вечером. Письмо мое кончено. Только напиши три раза: «Приди ко мне! Приди ко мне! Приди ко мне!» Теперь я заплачу за марку и отнесу письмо на почту. — Он встал, собираясь уходить, но, подумав, спросил: — Кто этот сахиб с сердитым лицом, который потерял портсигар?
— О, это просто Крейтон-сахиб, очень странный сахиб, — полковник-сахиб без полка.
— А что он делает?
— Бог знает. Он постоянно покупает лошадей, на которых не умеет ездить верхом, и расспрашивает о всяких божьих созданиях, как, например, о растениях и камнях, а также об обычаях народа. Купцы зовут его отцом дураков, потому что его так легко надуть при продаже лошади. Махбуб Али говорит, что он самый сумасшедший из всех сахибов.
— О! — произнес Ким и удалился. Его воспитание дало ему кое-какое знание человеческого характера, и он рассудил, что дуракам не сообщают сведений, которые влекут за собой вызов на фронт восьми тысяч человек да еще пушек. Главнокомандующий всеми индийскими войсками не будет говорить с дураками так, как он говорил, когда Ким подслушивал тот разговор. Будь полковник дураком, никогда бы так не менялся тон Махбуба Али всякий раз, когда он упоминал имя полковника. Следовательно, — тут Ким даже подпрыгнул — здесь кроется какая-то тайна, и Махбуб Али, возможно, так же шпионит для полковника, как Ким шпионил для Махбуба. И, подобно барышнику, полковник явно уважает людей, которые не слишком выставляют напоказ свой ум.
Он был рад, что не выдал себя, — не сказал, что знает, где находится дом полковника, и когда, вернувшись в казармы, узнал, что никакого портсигара там не было оставлено, просиял от удовольствия. Вот это человек в его вкусе: лукавый, себе на уме, ведущий тайную игру. Ну, если он дурак, то таким дураком Ким тоже способен быть.
Он ничем не выдал своих мыслей, когда отец Виктор три долгих утра подряд рассказывал ему о какой-то совершенно новой группе богов и божков, — главным образом о богине по имени Мери, которая, как догадывался Ким, была то же самое, что Биби Мириам из теологии Махбуба Али. Он не выказывал никаких чувств, когда после лекции отец Виктор таскал его из лавки в лавку покупать различные предметы обмундирования, не жаловался, когда завистливые ребята-барабанщики колотили его за то, что он должен был уехать в лучшую школу, но с интересом ждал дальнейшего развития событий. Добродушный отец Виктор отвел его на вокзал, посадил в пустое купе второго класса, соседнее с купе первого класса, оставленным для полковника Крейтона, и с искренним чувством распрощался с ним.
— В школе св. Ксаверия из тебя сделают человека, О'Хара, белого человека и, будем надеяться, хорошего человека. Там все известно о твоем происхождении, а полковник позаботится, чтобы ты не потерялся и не заблудился по дороге. Я дал тебе некоторое понятие о религиозных догмах — по крайней мере, попытался дать, — и запомни, что когда тебя спросят о твоем вероисповедании, ты должен сказать, что ты католик. Скажи лучше, что принадлежишь к римско-католической церкви, хотя это выражение мне не нравится.
Ким закурил скверную сигарету, — он позаботился о том, чтобы купить себе целый запас сигарет на базаре, — улегся и стал думать. Это одинокое путешествие очень отличалось от недавней веселой поездки в третьем классе вместе с ламой.
«Сахибам путешествие дает мало радости, — раздумывал он. — Хай май! Я прыгаю с места на место, как мяч, который подбрасывают. Это моя кисмат. Ни один человек не может избежать своей кисмат. Но мне придется молиться Биби Мириам, и я — сахиб, — он уныло взглянул на свои сапоги. — Нет. Я — Ким. Вот великий мир, а я только Ким. Кто такой Ким?» — Он принялся анализировать себя, чего раньше никогда не делал, покуда голова у него не закружилась. Он был ничтожен во всем этом шумном водовороте Индии и ехал на юг, не зная, как повернется его судьба.
Вскоре полковник послал за ним и обратился к нему с длинной речью. Насколько Киму удалось понять, смысл ее сводился к тому, что он должен прилежно учиться, а впоследствии поступить на государственную службу в Индии в качестве землемера. Если он будет вести себя очень хорошо и выдержит экзамены, он в семнадцать лет будет зарабатывать тридцать рупий в месяц, и полковник Крейтон постарается найти для него подходящее место.
Ким с самого начала притворился, что понимает не больше одного слова из трех. Тогда полковник понял свою ошибку, перешел на урду, которым владел свободно, употребляя образные выражения, и Ким почувствовал удовлетворение. Человек, который так превосходно знает местный язык, так мягко и бесшумно двигается, чьи глаза так отличаются от тупых, тусклых глаз прочих сахибов, не может быть дураком.
— Да, и ты должен научиться видеть дороги, и горы, и реки, и хранить эти рисунки в своей памяти, пока не наступит удобное время перенести их на бумагу. Быть может, однажды, когда ты будешь землемером и мы будем работать вместе, я скажу тебе: «Проберись за те горы и посмотри, что лежит за ними». А кто-нибудь скажет: «В тех горах живут злые люди, и они убьют землемера, если он будет с виду похож на сахиба». Что тогда?
Ким задумался: «Не опасно ли ходить в той же масти, что и полковник?»
— Я передал бы вам слова того человека.
— Но если бы я ответил: «Я дам тебе сто рупий за сообщение о том, что находится по ту сторону гор, — за рисунок какой-нибудь речки и кое-какие сведения о том, что говорят люди в деревнях»?
— Почем я знаю? Я еще мальчик. Подождите, пока я стану мужчиной. — Но, заметив, что полковник нахмурился, он продолжал: — Думаю, впрочем, что я через несколько дней заработал бы эти сто рупий.
— Каким путем?
Ким решительно покачал головой.
— Если я скажу, каким образом я их заработаю, другой человек может подслушать это и опередить меня. Нехорошо отдавать знание даром.
— Скажи теперь, — полковник вынул рупию. Кимова рука потянулась было к ней и вдруг опустилась.
— Нет, сахиб, нет. Я знаю, сколько будет заплачено за ответ, но не знаю, почему задан вопрос.
— Так возьми ее в подарок, — сказал Крейтон, бросая ему монету. — Нюх у тебя хороший. Не допускай, чтобы его притупили у св. Ксаверия. Там многие мальчики презирают черных людей.
— Их матери были базарными женщинами, — сказал Ким. Он хорошо знал, что нет ненависти, равной той, которую питает метис к своему единоутробному брату.
— Правильно, ты сахиб и сын сахиба. Поэтому никогда не позволяй себе презирать черных людей. Я знаю юношей, только что поступивших на государственную службу и притворявшихся, что они не понимают языка и обычаев черных людей. Им снизили жалованье за такое невежество. Нет греха большего, чем невежество. Запомни это.
Несколько раз в течение этой поездки на юг, тянувшейся целых двадцать четыре часа, посылал полковник за Кимом и всякий раз подробно развивал эту последнюю мысль.
«Значит, все мы — звенья одной цепи, — сказал себе, наконец, Ким, — полковник, Махбуб Али и я, когда стану землемером. Вероятно, я буду служить ему, как служил Махбубу Али. Прекрасно, если это позволит мне вернуться на Дорогу. Одежда моя не становится удобней от того, что ее носишь долго».
Когда они вышли на битком набитый Лакхнауский вокзал, ламы там не оказалось. Ким не выдал своего разочарования. Полковник погрузил его вместе с его опрятным, аккуратно уложенным имуществом в тхика-гари и одного отправил в школу св. Ксаверия.
— Я не прощаюсь, потому что мы опять встретимся, — крикнул он. — И много раз, если только в тебе действительно есть хорошие задатки. Но ты еще не подвергался испытанию.
— Даже в тот вечер, когда я принес тебе, — Ким, как ни странно, осмелился сказать «тум» — местоимение, допустимое только при обращении к равному, — родословную белого жеребца?
— Многое достигается забвением, братец, — сказал полковник, взглянув на него так, что взгляд этот пронзил Кима насквозь, когда он влезал в экипаж.
Минут пять он приходил в себя. Потом с видом знатока вдохнул новый воздух.
— Богатый город, — промолвил он, — богаче Лахора. Должно быть, базары тут очень хороши. Извозчик, покатай-ка меня по здешним базарам.
— Мне приказано отвезти тебя в школу, — извозчик обратился к нему на «ты», что по отношению к белому человеку считается дерзостью. Ким очень недвусмысленно (отличное знание местного языка) разъяснил ему его ошибку, влез на козлы и, когда между ними установилось полное взаимопонимание, катался часа два, оценивая, сравнивая и наслаждаясь.
Нет города, — если не считать Бомбея, короля городов, — равного Лакхнау по красоте и богатству архитектуры, обозреваешь ли его с моста, перекинутого через реку, или смотришь с верхушки Имамбары вниз, на золоченые зонтики Чхаттар-Манзилаи деревья, в которых тонет город. Правители украсили его фантастическими зданиями, одарили своими щедротами, битком набили наемниками и залили кровью. Он — обитель праздности, интриг и роскоши, и жители его утверждают, что только в нем да еще в Дели говорят на чистейшем урду.
— Хороший город... красивый город. — Извозчику, уроженцу Лакхнау, приятно было слушать такие комплименты, и он рассказал Киму много удивительных вещей, тогда как английский гид говорил бы только о Восстании.
— Ну, а теперь поедем в школу, — сказал, наконец, Ким. Низкие белые здания большой школы св. Ксаверия in Partibus стоят среди обширной усадьбы по ту сторону реки Гумти на некотором расстоянии от города.
— Что за люди там внутри? — спросил Ким.
— Молодые сахибы, сплошь дьяволята, но, говоря по правде (ведь я многих из них вожу на вокзал и обратно), не видал я среди них ни одного такого истинного дьявола, как ты — молодой сахиб, которого я везу сейчас.
Само собой разумеется, Ким не упустил случая позабавиться разговором с несколькими легкомысленными дамами (ведь его никогда не учили презирать их), глядевшими из окон верхних этажей на какой-то улице, и в обмене любезностями постоял за себя. Он собирался было дать отпор последней из дерзостей извозчика, как вдруг взгляд его — а уже смеркалось — упал на человека, сидевшего у одного из белых оштукатуренных столбов под воротами, прорезанными в длинной стене.
— Стой! — крикнул он. — Стой здесь! Я не сразу поеду в школу.
— А кто мне заплатит за то, что я возил тебя взад и вперед? — с раздражением спросил извозчик. — Сумасшедший он, что ли, этот мальчишка? В прошлый раз это была танцовщица. Теперь жрец.
Ким опрометью соскочил на землю и уже гладил пыльные ноги под грязным желтым халатом.
— Я ждал здесь полтора дня, — прозвучал ровный голос ламы. — Нет, со мною был ученик. Тот, кто в храме Тиртханкары был моим другом, дал мне в дорогу проводника. Я уехал из Бенареса поездом, когда мне передали твое письмо. Да, я хорошо питаюсь. Я не нуждаюсь ни в чем.
— Но почему не остался ты с женщиной из Кулу, о святой человек? Как ты попал в Бенарес? Тяжко было у меня на сердце с тех пор, как мы расстались.
— Женщина утомила меня непрестанной болтовней и требованиями талисманов для детей. Я расстался с этими людьми, позволив ей приобрести заслугу подарками. Но все же она женщина щедрая, и я дал обещание вернуться в ее дом, если в этом будет необходимость. Затем, поняв, что я одинок в этом великом и страшном мире, я уехал на поезде в Бенарес, где познакомился с неким человеком, обитающим в храме Тиртханкары; он такой же искатель, как я.
— А твоя Река? — сказал Ким. — Я и забыл о твоей Реке.
— Так скоро, мой чела? Я никогда не забываю о ней, но, покинув тебя, я счел за лучшее отправиться в этот храм за советом, ибо, видишь ли, Индия очень велика и возможно, что некоторые мудрые люди, жившие раньше нас, — их было два-три человека — оставили указания насчет местоположения нашей Реки. В храме Тиртханкары этот предмет вызывает разногласия: одни говорят одно, другие — другое. Люди там учтивы.
— Так. Но что ты делаешь теперь?
— Я приобретаю заслугу тем, что помогаю тебе, мой чела, достигнуть мудрости. Жрец тех людей, которые служат Красному Быку, писал мне, что с тобою поступят так, как я желал. Я послал деньги, которых хватит на год, а потом, как видишь, пришел сюда, чтобы посмотреть, как ты войдешь во Врата Учения. Полтора дня я ждал, — не потому, что меня влекла привязанность, — это не согласно с Путем, — но, как говорили в храме Тиртханкары, потому, что, заплатив деньги за обучение, я вправе был проследить за тем, как совершится это дело. Они вполне разрешили мои сомнения. Я боялся, что, быть может, пришел сюда потому, что, совращаемый алым туманом привязанности, хотел видеть тебя. Но это не так... Кроме того, меня смущает один сон.
— Но, святой человек, ты, наверное, не забыл Дороги и всего, что случилось на ней. Наверное, ты пришел сюда отчасти и потому, что хотел меня видеть?
— Лошади озябли, их давным-давно кормить пора, — заныл извозчик.
— Иди ты в джаханнам и сиди там со своей опозоренной теткой, — огрызнулся Ким через плечо. — Я совсем один в этой стране; я не знаю, куда я иду и что будет со мной. Я вложил сердце в письмо, которое я послал тебе; и если не считать Махбуба Али, а он патхан, у меня нет друга, кроме тебя, святой человек. Не уходи от меня совсем.
— Я размышлял и об этом, — ответил лама дрожащим голосом. — Очевидно, что время от времени я буду приобретать заслугу, — если только не найду своей Реки, — удостоверяясь в том, что ты идешь по пути мудрости. Не знаю, чему тебя будут учить, но жрец писал мне, что во всей Индии ни один сын сахиба не будет обучен лучше, чем ты. Поэтому ты станешь таким сахибом, как тот, который дал мне эти очки, — лама старательно протер их, — в Доме Чудес, в Лахоре. Вот моя надежда, ибо он был источник мудрости, он мудрее многих монастырских настоятелей... Однако ты, быть может, забудешь меня и наши встречи.
— Если я ел твой хлеб, — со страстью воскликнул Ким, — как могу я когда-нибудь забыть тебя?
— Нет, нет, — старик отстранил от себя мальчика, — я должен вернуться в Бенарес. Время от времени (ведь я теперь знаю обычаи здешних писцов) — я буду посылать тебе письма и приходить сюда, чтобы увидеться с тобой.
— Но куда я буду посылать письма? — простонал Ким, цепляясь за халат ламы и совершенно забыв, что он сахиб.
— В храм Тиртханкары, в Бенарес. Это — место, где я буду жить, пока не найду моей Реки. Не плачь, ибо, видишь ли, всякое желание — иллюзия и снова привязывает тебя к Колесу... Войди во Врата Учения! Дай мне увидеть, как ты входишь... Ты любишь меня? Тогда иди, не то сердце мое разорвется... Я вернусь. Я непременно вернусь.
Лама следил глазами за тхика-гари вплоть до того, как она, громыхая, въехала во двор, потом зашагал прочь, посапывая носом на каждом широком своем шагу. «Врата Учения» с шумом захлопнулись.
Мальчик, рожденный и воспитанный в Индии, ни по характеру своему, ни по привычкам не похож на мальчика других стран, и учителя воспитывают его такими способами, каких английский учитель не одобрил бы. Поэтому вряд ли вас заинтересует жизнь Кима — воспитанника школы св. Ксаверия, окруженного двумя или тремя сотнями скороспелых юнцов, в большинстве своем никогда не видевших моря. Он получал обычные наказания за то, что убегал за пределы школьной усадьбы, когда в городе свирепствовала эпидемия холеры. Тогда он еще не научился хорошо писать по-английски и вынужден был обращаться к базарному писцу. Само собой разумеется, его карали за куренье и изощренную ругань, какой стены св. Ксаверия не слыхивали. Он научился мыться с левитской тщательностью местного уроженца, который в душе считает англичанина довольно нечистоплотным. Он проделывал обычные штуки с терпеливыми кули, качавшими панкхи в дортуарах, где мальчики возились жаркими ночами и до рассвета рассказывали друг другу разные истории, и он спокойно сравнивал себя со своими самоуверенными товарищами.
Все это были сыновья мелких чиновников из железнодорожного, телеграфного и канального ведомств, сыновья унтер-офицеров, отставных или возглавляющих армию какого-нибудь вассального раджи; сыновья капитанов индийского флота, государственных пенсионеров, плантаторов, провинциальных купцов и миссионеров. Немногие из них были отпрысками старинных евразийских семейств, крепко укоренившихся в Дхарамтоле, — Перейры, де-Сузы и де-Сильвы. Родители имели полную возможность послать своих сыновей учиться в Англию, но любили школу, в которой учились сами, и под сенью св. Ксаверия одно желтолицее поколение сменялось другим. Отчие дома воспитанников были рассыпаны по всей стране: начиная от Хауры, где живут железнодорожники, и до опустевших военных поселков, как, например, Монгхир и Чанар; начиная от захолустных чайных плантаций в стране Шилонга, Аудхских и Дикханских деревень, где отцы их были крупными землевладельцами, миссионерских станций в неделе пути от ближайшей железнодорожной линии, морских портов, лежащих на тысячу миль к югу и обращенных лицом к дерзкому индийскому прибою, до хинных плантаций на самом крайнем юге. От одного рассказа об их приключениях (которые в этой среде не считались приключениями), пережитых на пути в школу и обратно, домой, у западного мальчика волосы встали бы дыбом. Они привыкли в одиночку пробираться сотни миль по джунглям, где их всегда ожидала приятная неожиданность натолкнуться на тигра, но у них было так же мало возможностей выкупаться августовским днем в проливе Ла-Манш, как у их братьев на другом конце мира — лежать смирно, когда леопард нюхает их паланкин. Среди них были пятнадцатилетние мальчики, которые провели полтора дня на островке посреди разлившейся реки и, словно имея на то право, управляли табором обезумевших паломников, возвращавшихся домой из какого-то храма; были юноши, которые как-то раз, когда дожди размыли колесный путь, ведущий в поместье их отца, во имя св. Франциска Ксаверия реквизировали случайно попавшегося им слона одного раджи и чуть не погубили огромное животное в зыбучих песках. Среди них был мальчик, — который рассказывал, — причем никто не сомневался в правдивости его слов, — что он стрелял из ружья с веранды, помогая своему отцу отразить нападение аков в те дни, когда эти разбойники осмеливались врываться на уединенные плантации.
И каждая история рассказывалась ровным, бесстрастным голосом, характерным для уроженцев Индии, при этом с примесью своеобразных выражений, бессознательно перенятых от кормилиц-туземок, и оборотов речи, по которым можно было угадать, что они тут же мысленно переводились с местного наречия. Ким наблюдал, слушал и одобрял. Эти беседы не были похожи на нудные, немногословные разговоры барабанщиков. Здесь говорили о жизни, которую он знал и отчасти понимал. Атмосфера эта благоприятствовала ему, и он быстро рос. Когда погода стала теплее, ему дали белую форменную одежду, и он наслаждался, упражняя обострившийся ум исполнением заданий, которые ему давали. Его способность все схватывать на лету могла бы привести в восхищение английского преподавателя, но школе св. Ксаверия хорошо были знакомы как ранний взлет умов, развившихся под влиянием солнца и окружающей обстановки, так и упадок умственной деятельности, наступающий в двадцать два-двадцать три года.
Тем не менее он всегда старался держаться скромно. Когда в жаркие ночи рассказывались разные истории, Ким не стремился сорвать банк своими воспоминаниями, ибо школа св. Ксаверия презирает мальчиков, которые «совсем отуземились». Никогда не следует забывать, что ты сахиб и впоследствии, когда выдержишь экзамены, будешь управлять туземцами. Ким принял это во внимание, ибо начал понимать, что последует за экзаменами.
Потом наступили каникулы, тянувшиеся от августа до конца октября, — продолжительность их обусловливалась периодами жары и дождей. Киму сообщили, что он поедет на север, на какую-то горную станцию за Амбалой, где отец Виктор устроит его.
— Казарменная школа? — спросил Ким, который задавал много вопросов, но думал еще больше.
— Да, должно быть, — ответил учитель. — Не вредно вам будет пожить подальше от всяких проказ. До Дели вы можете доехать с молодым де-Кастро.
Ким со всех сторон обдумал это. Он усердно работал, именно так, как учил его работать полковник. Каникулы должны принадлежать ему — это он понял из разговоров с товарищами, а после св. Ксаверия в казарменной школе будет мученье. Кроме того (и это была волшебная сила, стоящая всего остального!), он теперь умел писать. За три месяца он узнал, как при помощи пол-аны и небольшого запаса знаний люди могут говорить друг с другом без посредника. От ламы он не получил ни слова, но Дорога-то ведь оставалась. Ким жаждал вновь почувствовать ласку мягкой грязи, хлюпающей между пальцами ног, и у него текли слюнки при мысли о баранине, тушеной с коровьим маслом и капустой, о рисе, обсыпанном резко пахнущим кардамоном, о подкрашенном шафраном рисе с чесноком и луком и о запретных жирных базарных сластях. В казарменной школе его будут кормить сыроватой говядиной на тарелке, а курить ему придется тайком. Но ведь он сахиб и учится в школе св. Ксаверия, а эта свинья Махбуб Али... Нет, он не станет искать гостеприимства Махбуба Али... И все же... Он обдумывал все это, лежа один в дортуаре, и пришел к выводу, что был несправедлив к Махбубу.
Школа опустела, почти все учителя разъехались, железнодорожный пропуск полковника Крейтона лежал у Кима в руке, и он гордился тем, что не истратил на роскошную жизнь деньги полковника Крейтона и Махбуба. Он все еще владел двумя рупиями и семью анами. Его новый чемодан из воловьей кожи, помеченный буквами «К. О. X.», и сверток с постельными принадлежностями лежали в пустом дортуаре.
— Сахибы всегда прикованы к своему багажу, — сказал Ким, кивая на вещи. — Вы останетесь здесь.
Греховно улыбаясь, он вышел наружу под теплый дождь и отыскал некий дом, наружный вид которого отметил раньше...
— Аре! Или ты не знаешь, что мы за женщины, мы, живущие в этом квартале? О стыд!
— Вчера я родился, что ли? — Ким по туземному сел на корточки среди подушек в одной из комнат верхнего этажа. — Немного краски и три ярда ткани, чтобы помочь мне устроить одну штуку. Разве это большая просьба?
— Кто она? Ты сахиб. Значит, еще не дорос, чтобы заниматься такими проказами.
— О, она? Она дочь одного учителя полковой школы в военном поселке. Он два раза бил меня за то, что я в этом платье перелез через их стену. А теперь я хочу пойти туда в одежде мальчика-садовника. Старики очень ревнивы.
— Это верно. Не шевелись, пока я мажу тебе лицо соком.
— Не слишком черни, найкан. Мне не хочется показаться ей каким-нибудь хабаши[32].
— О, любовь не обращает внимания на такие вещи. А сколько ей лет?
— Лет двенадцать, я думаю, — ответил бессовестный Ким, — и грудь помажь. Возможно, отец ее сорвет с меня одежду, и если я окажусь пегим... — он расхохотался.
Девушка усердно работала, макая тряпичный жгут в блюдечко с коричневой краской, которая держится дольше, чем сок грецкого ореха.
— А теперь пошли купить мне материи для чалмы. Горе мне, голова моя не выбрита! А он, может, сорвет с меня чалму.
— Я не цирюльник, но постараюсь. Ты родился, чтобы разбивать сердца! И все это переодеванье ради одного вечера? Имей в виду, что краска не смывается. — Она тряслась от хохота так, что браслеты на руках и ногах ее звенели. — Но кто мне заплатит за это? Сама Ханифа не дала бы тебе лучшей краски.
— Уповай на богов, сестра моя, — важно произнес Ким, морща лицо, когда краска высохла. — К тому же, разве тебе приходилось когда-нибудь так раскрашивать сахиба?
— В самом деле, не приходилось. Но шутка не деньги.
— Она много дороже денег.
— Дитя, ты, бесспорно, самый бесстыдный сын шайтана, которого я когда-либо знала, если такими проделками отнимаешь время у бедной девушки, а потом говоришь: «Разве шутки тебе не достаточно?» Далеко ты пойдешь в этом мире. — Она шутливо поклонилась ему, как кланяются танцовщицы.
— Все равно. Поторопись и побрей мне голову. — Ким переминался с ноги на ногу, глаза его горели весельем при мысли о чудесных днях впереди. Он дал девушке четыре аны и сбежал с лестницы как настоящий мальчик-индус низкой касты. Следующий визит его был в харчевню, где он, не жалея средств, устроил себе роскошный и жирный пир.
На платформе Лакхнауского вокзала он видел, как молодой де-Кастро, весь покрытый лишаями, вошел в купе второго класса. Ким снизошел до третьего класса, где стал душой общества. Он объяснил пассажирам, что он помощник фокусника, который покинул его, больного лихорадкой, и что он догонит своего хозяина в Амбале. По мере того как в вагоне менялись пассажиры, он варьировал свой рассказ, украшая его ростками расцветающей фантазии, тем более пышной, что он так долго лишен был возможности говорить с туземцами. В ту ночь во всей Индии не было существа счастливее Кима. В Амбале он вышел и, хлюпая по мокрым полям, побрел на восток к деревне, где жил старый военный.
Около этого времени полковник Крейтон, находившийся в Симле, получил из Лакхнау телеграмму, извещавшую его, что молодой О'Хара исчез. Махбуб Али был в городе, где продавал лошадей, и как-то раз утром полковник рассказал ему всю историю, когда они вместе скакали вокруг Анандельского скакового поля.
— О, это пустяки, — промолвил барышник, — люди подобны лошадям. Они иногда нуждаются в соли, и если в кормушках соли нет, они слизывают ее с земли. Он на некоторое время вернулся на Дорогу. Мадраса ему надоела. Я знал, что так будет. В другой раз я сам возьму его с собой на Дорогу. Не надо беспокоиться, Крейтон-сахиб. Он подобен пони, которого готовили для поло, а тот вырвался и убежал учиться игре в одиночку.
— Так вы думаете, он не умер?
— Лихорадка может убить его. Ничто другое мальчишке не грозит. Обезьяна с деревьев не падает.
На другое утро на том же поле Махбуб подъехал на жеребце к полковнику.
— Все вышло так, как я думал, — сказал барышник. — Во всяком случае, он проходил через Амбалу, а там, узнав на базаре, что я здесь, написал мне письмо.
— Читай, — произнес полковник со вздохом облегчения. Нелепо, что человек его общественного положения мог интересоваться маленьким туземным бродягой, но полковник помнил о беседе в поезде и не раз в продолжение немногих минувших месяцев ловил себя на размышлениях об этом странном, молчаливом, умеющем владеть собой мальчике. Конечно, его побег был верхом дерзости, но доказывал, что у него достаточно находчивости и мужества.
Глаза Махбуба сверкали, когда он остановился на самой середине небольшой узкой лощины, куда никто не мог приблизиться незамеченным.
«Друг Звезд, он же и Друг Всего Мира»...
— Что такое?
— Так прозвали его в Лахоре. «Друг Всего Мира позволяет себе отправиться в свои родные места. Он вернется в назначенный день. Пусть перешлют чемодан и сверток с постелью, а если была вина, пусть рука дружбы отведет в сторону бич бедствия»... Тут есть еще кое-что, но...
— Ничего, читай.
— «Некоторые вещи неизвестны тем, которые едят вилками. Лучше есть обеими руками некоторое время. Скажи слова увещевания тем, кто не понимает этого, так, чтобы возвращение оказалось благополучным!» Ну, выражения эти, конечно, работа писца, но заметь, как умно сумел мальчик объяснить все дело, так что никто ничего не поймет, кроме тех, которые знают, о чем идет речь!
— Так значит рука дружбы стремится отвратить бич бедствия? — рассмеялся полковник.
— Заметь, как мальчик умен. Он вернулся на Дорогу, как я говорил. Однако еще не зная, какое у тебя ремесло...
— В этом я не вполне уверен, — пробормотал полковник.
— Он обращается ко мне, чтобы помирить нас обоих. Ну, разве он не умен? Он говорит, что вернется. Он только совершенствует свои знания. Подумай, сахиб! Он три месяца провел в школе. А он не привык к таким удилам. Что касается меня, я радуюсь: пони учится игре.
— Да, но в другой раз он не должен бродить в одиночку.
— Почему? Он бродил в одиночку, прежде чем попал под покровительство полковника-сахиба. Когда он войдет в Большую Игру, ему придется бродить одному — одному и с опасностью для жизни. Тогда, если он плюнет или чихнет, или сядет не так, как люди, за которыми он следит, его могут убить. Зачем же ему мешать теперь? Вспомни, что говорят персы: шакала, что бродит в пустынях Мазандерана, поймают одни лишь собаки Мазандерана.
— Верно. Это верно, Махбуб Али. И если он не попадет в беду, я ничего лучшего не желаю. Но с его стороны это большая дерзость.
— Он даже не пишет мне, куда идет, — сказал Махбуб. — Он не дурак. В свое время он найдет меня. Пора целителю жемчугов взять его в свои руки. Он зреет слишком скоро для сахиба.
Месяцем позже это предсказание исполнилось буквально. Махбуб уехал в Амбалу за новой партией лошадей, и Ким встретил его на Калкской дороге, в сумерках, ехавшего верхом в одиночестве, попросил у него милостыню, был обруган и ответил по-английски. Поблизости не было никого, кто мог бы услышать изумленное восклицание Махбуба.
— Охо! Да где же ты был?
— Там и здесь, здесь и там.
— Стань под дерево на сухое место и рассказывай.
— Некоторое время я жил у одного старика недалеко от Амбалы, потом в одной знакомой семье в Амбале. С одним человеком из этой семьи я поехал на юг, в Дели. Вот чудесный город! Потом я правил волом одного тели[33], который ехал на север, но тут я услышал, что в Патияле большой праздник; туда я и отправился с одним пиротехником. Вот был великий праздник! (Ким погладил себя по животу.) Я видел раджей, видел слонов в золотых и серебряных попонах: все фейерверки зажгли сразу, так что одиннадцать человек убило и моего пиротехника тоже, а меня взрывом ударило о палатку, но я не ушибся. Потом я вернулся на железную дорогу с одним всадником-сикхом, которому служил конюхом за хлеб. И вот я здесь.
— Шабаш! — произнес Махбуб Али.
— Но что говорит полковник-сахиб? Я не хочу быть избитым.
— Рука дружбы отвратила бич бедствия, но в другой раз ты пойдешь на Дорогу уже вместе со мной. А так поступать еще рано.
— Для меня достаточно поздно. В мадрасе я выучился немного читать и писать по-английски. Скоро я буду настоящим сахибом.
— Слушайте вы его! — расхохотался Махбуб, глядя на мокрую фигурку, плясавшую на сырой земле под дождем. — Салам, сахиб, — и он насмешливо поклонился. — Ну как, надоела тебе Дорога или хочешь пойти со мной в Амбалу и совершить обратный путь с лошадьми?
— Я пойду с тобой, Махбуб Али.
ГЛАВА VIII
Жизнь меня кормит, растит земля, Славлю обеих их. Но выше Аллах, создавший два Разных лика моих. Обойдусь без рубашек, слуг, Хлеба, трубки, родных, Лишь бы мне не лишиться двух Разных ликов моих. Двуликий человек— В таком случае, бога ради, смени синюю на красную, — сказал Махбуб, намекая на индуистскую окраску кимовой чалмы, непристойную с его точки зрения. Ким отпарировал старинной поговоркой:
— Я сменю и веру, и постель, но оплатишь это ты.
Торговец расхохотался так, что чуть не свалился с лошади. Переодевание было совершено в лавке, на окраине города, и Ким, если не внутренне, то наружно превратился в мусульманина.
Махбуб нанял комнату против вокзала, послал за самым лучшим обедом, сластями из миндальной массы (они называются балушаи) и мелко нарезанным лакхнауским табаком.
— Это лучше пищи, которую я ел у сикха, — сказал Ким, и, усмехаясь, присел на корточки, — а в моей мадрасе нам, конечно, не давали таких кушаний.
— Я хочу послушать об этой самой мадрасе. — Махбуб набил себе живот большими катышками из приправленной пряностями баранины, поджаренными в сале с капустой и золотисто-коричневым луком. — Но сперва расскажи мне подробно и правдиво о том, как ты убежал. Ибо, о Друг Всего Мира, — он распустил кушак, грозивший лопнуть, — не думаю, чтобы сахибы и сыны сахибов часто убегали оттуда.
— А как им бежать? Они не знают страны. Все это были пустяки, — сказал Ким и начал рассказывать. Когда он дошел до переодеванья и беседы с базарной девушкой, серьезность Махбуба Али растаяла, он принялся громко хохотать, хлопая себя рукой по бедру.
— Шабаш! Шабаш! Ну, малыш, здорово! Что скажет на это целитель бирюзы? А теперь рассказывай дальше, ничего не упуская.
И Ким стал обстоятельно рассказывать о своих похождениях, кашляя, когда крепкий табак попадал ему в легкие.
— Я говорил, — проворчал себе под нос Махбуб Али, — я говорил, что пони вырвался поиграть в поле. Плод уже созрел, остается только выучиться определять расстояния, узнать меру своих шагов, уметь обращаться с мерными рейками и компасами. Теперь слушай. Я отвел хлыст полковника от тебя, а это немалая услуга.
— Верно! — Ким безмятежно выпускал дым изо рта. — Все это верно.
— Но не следует думать, что хорошо так бегать взад и вперед.
— Это мои каникулы, хаджи. Много недель я был рабом. Так почему бы мне и не удрать, если школа закрылась? К тому же прими во внимание, что, живя у своих друзей или зарабатывая свой хлеб, как это было, когда я служил у сикха, я избавил полковника-сахиба от больших расходов.
Губы Махбуба скривились под хорошо подстриженными мусульманскими усами.
— Что такое несколько рупий, — патхан небрежно махнул разжатой ладонью, — для полковника-сахиба? Он тратил их с определенной целью, а вовсе не из любви к тебе.
— Об этом, — медленно произнес Ким, — я знал давным-давно.
— Кто сказал тебе?
— Сам полковник-сахиб. Не во многих словах, но достаточно понятно для тех, у кого голова не глиняная. Да, он сказал мне это в поезде, когда мы ехали в Лакхнау.
— Пусть так. Тогда я больше скажу тебе, Друг Всего Мира, хотя, говоря об этом, я рискую головой.
— Твоя голова была в моей власти, — сказал Ким с глубоким удовлетворением, — еще в Амбале, когда меня побил мальчишка-барабанщик и ты посадил меня к себе на коня.
— Говори яснее. Пусть весь мир лжет, кроме тебя и меня. Ибо твоя жизнь также в моей власти. Вздумай я здесь только пальцем шевельнуть...
— И это известно мне, — сказал Ким, поправляя горящий уголек в наполненной табаком чашечке хукки. — В этом крепкая связь между нами. По правде говоря, твоя власть больше моей, ибо кто станет искать мальчика, забитого до смерти или брошенного в придорожный колодец! С другой стороны, множество людей и здесь, и в Симле, и за Горами спросят: «Что случилось с Махбубом Али?» если его найдут мертвым среди его коней. Полковник-сахиб тоже обязательно будет наводить справки. Но опять-таки, — Ким сделал лукавую гримасу, — он не станет дознаваться слишком долго, не то люди скажут: «Какое полковнику-сахибу дело до этого барышника?» Но я, останься я в живых...
— Но ты обязательно умер бы...
— Возможно, но, повторяю, останься я в живых, один я знал бы, что кто-то пришел ночью, быть может под видом обыкновенного вора, в каморку Махбуба Али в караван-сарае и там убил его, до или после того, как тщательно обшарил его седельные сумы и заглянул в подошвы его туфель. Можно ли сообщить такую новость полковнику или он скажет мне (я не забыл, как он послал меня за портсигаром, которого нигде не оставлял): «Что мне за дело до Махбуба Али?».
Густое облако дыма поднялось вверх. Наступило продолжительное молчание; потом Махбуб Али заговорил с восхищением:
— И с такими мыслями в голове ты ложишься спать и встаешь среди всех этих сахибовских сынков в мадрасе и кротко обучаешься у своих учителей?
— На то есть приказ, — мягко ответил Ким. — Кто я такой, чтобы оспаривать приказ?
— Ты настоящий сын Иблиса, — промолвил Махбуб Али. — Но что это за история с вором и обыском?
— Я был ее свидетелем, — сказал Ким, — в ту ночь, когда мы с моим ламой лежали рядом с твоей каморкой в Кашмирском караван-сарае. Дверь была не заперта, что, как мне кажется, у тебя не в обычае, Махбуб. Вошел человек, уверенный, что ты вернешься не скоро. Я приложил глаз к дырке от сучка в доске. Он, казалось, искал что-то, не циновку, не стремена, не уздечку, не медную посуду, а что-то маленькое и хорошо припрятанное. Иначе к чему бы ему поддевать лезвием ножа подошвы твоих туфель?
— Ха! — Махбуб Али улыбнулся мягкой улыбкой. — И видя все это, какую же сказку сочинил ты себе, Источник Правды?
— Никакой. Я положил руку на амулет, который всегда висит у меня на груди, и, вспомнив о родословной одного белого жеребца, которую извлек из куска мусульманской лепешки, ушел в Амбалу, понимая, что мне дали важное поручение. В тот час, пожелай я только, не уцелеть бы твоей голове. Стоило мне сказать тому человеку: «Вот у меня бумага насчет какой-то лошади, я не могу прочесть ее!» и тогда? — Ким исподлобья взглянул на Махбуба.
— После этого ты успел бы только два раза выпить воды, ну, может быть, три раза. Не думаю, чтобы больше трех, — просто ответил Махбуб.
— Верно. Я немного подумал и об этом, но больше всего я думал о том, что люблю тебя, Махбуб. Потом я, как ты знаешь, отправился в Амбалу, но (и этого ты не знаешь) я лежал, спрятавшись в садовой траве, чтобы посмотреть, как поступит полковник, прочитав родословную белого жеребца.
— Что же он сделал? — спросил Махбуб Али, ибо Ким умолк.
— А ты передаешь новости по любви или продаешь их? — спросил Ким.
— Я продаю и... покупаю. — Махбуб вынул из-за кушака монету в четыре аны и протянул ее.
— Восемь! — сказал Ким, машинально подчиняясь инстинкту восточного корыстолюбия. Махбуб рассмеялся и спрятал монету.
— Уж очень просто торговать на этом рынке, Друг Всего Мира. Скажи мне по любви. Жизнь каждого из нас в руках другого.
— Хорошо. Я видел, как джанги-лат-сахиб приехал на большой обед. Я видел его в кабинете Крейтона-сахиба. Я видел, как оба читали родословную белого жеребца. Слышал даже, как отдали приказ начать великую войну.
— Ха! — Махбуб кивнул головой, и в глубине его глаз зажегся огонек. — Игра сыграна хорошо. Та война теперь кончилась, и мы надеемся, что зло увяло раньше, чем успело расцвести, — благодаря мне и... тебе. А что ты делал потом?
— Я, так сказать, превратил эти новости в крючок, на который ловил себе пищу и почет среди жителей той деревни, где жрец опоил моего ламу. Но я отобрал у старика кошелек, и брахман ничего не нашел. Поэтому наутро он был очень сердит. Хо! Хо! Еще раз я использовал эти новости, когда попал в руки белого полка, у которого есть Бык.
— Это было глупо, — Махбуб нахмурился. — Новости не для того, чтобы швыряться ими, как навозом, но для того, чтобы пользоваться ими бережливо, как бхангом.
— Теперь я это понял, да и пользы это не принесло мне никакой. Но все это было очень давно. — Он махнул тонкой коричневой рукой, как бы отметая от себя воспоминания, — а с тех пор, особенно по ночам, лежа в мадрасе, под панкхой, я многое передумал.
— Можно ли спросить, к чему пришел в своих думах небеснорожденный? — с изысканным сарказмом промолвил Махбуб, поглаживая красную бороду.
— Можно, — ответил Ким ему в тон. — В Накхлао говорят, что сахиб не должен признаваться черному человеку в своих ошибках.
Махбуб быстро сунул руку за пазуху, ибо назвать патхана «черным человеком» (кала адми) — значит кровно оскорбить его. Потом он опомнился и рассмеялся.
— Говори, сахиб, твой черный человек слушает.
— Но, — сказал Ким, — я не сахиб и признаю, что сделал ошибку, когда в тот день, в Амбале, проклял тебя, Махбуб Али, решив, что патхан меня предал. Я был глуп, но ведь тогда меня только что поймали и мне хотелось убить этого мальчишку-барабанщика низкой касты. А теперь, хаджи, я говорю, что ты хорошо сделал, и вижу перед собой открытую дорогу к хорошей службе. Я останусь в мадрасе, пока не выучусь.
— Хорошо сказано. В этой Игре особенно важно выучиться определять расстояния, знать числа и уметь обращаться с компасами. В Горах один человек ждет тебя, чтобы показать тебе все это.
— Я буду учиться у них с одним условием, чтобы время мое оставалось в полном моем распоряжении, когда мадраса закрыта. Попроси об этом полковника.
— Но почему не попросить полковника на языке сахиба?
— Полковник — слуга правительства. Его посылают туда и сюда, и он должен заботиться о своем собственном повышении. (Видишь, как много я уже узнал в Накхлао.) Кроме того, полковника я знаю всего три месяца, а с неким Махбубом Али знаком шесть лет. Так вот! В мадрасу я пойду. В мадрасе я буду учиться. В мадрасе стану сахибом, но, когда мадраса закрыта, — я должен быть свободным и бродить среди своих людей. Иначе я умру.
— А кто твои люди, Друг Всего Мира?
— Вся эта великая и прекрасная страна, — сказал Ким, обводя рукой маленькую глинобитную комнату, где масляная лампа в нише тускло горела в табачном дыму. — Кроме того, мне хотелось бы снова увидеться с моим ламой. И, помимо всего, мне нужны деньги.
— Они нужны всем, — сердито произнес Махбуб. — Я дам тебе восемь ан, ибо из-под конских копыт не вылетают кучи денег и тебе их должно хватить на много дней. Что касается прочего, я очень доволен, и больше нам говорить не о чем. Учись поскорее, и через три года, а может и раньше, ты будешь помощником... даже мне.
— Разве до сих пор я был помехой? — спросил Ким, по-мальчишески хихикнув.
— Не перечь, — проворчал Махбуб. — Ты — мой новый конюх. Ступай ночевать к моим людям. Они где-то у северного конца станции вместе с лошадьми.
— Они пинками будут гнать меня до южного конца станции, если я приду без твоего удостоверения.
Махбуб пошарил у себя за кушаком и, помочив большой палец, мазнул им по плитке китайской туши и прижал его к лоскуту мягкой туземной бумаги. От Балха до Бомбея люди знают этот грубо очерченный отпечаток с диагональной полоской старого шрама.
— Покажи это моему старшему конюху — и хватит с него. Я приеду утром.
— По какой дороге? — спросил Ким.
— По дороге из города. Только одна и есть; а потом мы вернемся к Крейтону-сахибу. Я спас тебя от головомойки.
— Аллах! Что такое головомойка, когда голова плохо держится на плечах?
Ким тихо выскользнул наружу, в ночь, обошел дом с задней стороны, стараясь держаться поближе к стенам, и двинулся прочь от станции. Пройдя около мили, он сделал большой круг и, не спеша, зашагал обратно, ибо ему требовалось время, чтобы выдумать какую-нибудь историю на случай, если слуги Махбуба будут его расспрашивать.
Они расположились на пустыре, около железнодорожной линии, и, будучи туземцами, конечно, не удосужились выгрузить обе платформы, на которых кони Махбуба стояли вместе с партией лошадей местной породы, закупленных Бомбейской трамвайной компанией. Старший конюх, сутулый мусульманин чахоточного вида, тотчас же грозно окликнул Кима, но успокоился, увидев отпечаток пальца Махбуба.
— Хаджи, по милости своей, дал мне работу, — с раздражением сказал Ким. — Если ты сомневаешься, подожди до утра, когда он придет. А пока — место у огня!
За этим последовала обычная бесцельная болтовня, которой все туземцы низкой касты предаются по всякому поводу. Наконец, все умолкли, Ким улегся позади кучки спутников Махбуба, чуть ли не под колесами платформы, нагруженной лошадьми, и покрылся взятым у кого-то одеялом. Ночевка посреди обломков кирпича и щебня в сырую ночь, между скученными лошадьми и немытыми балти вряд ли понравилась бы многим белым мальчикам, но Ким был счастлив. Перемена места, работы и обстановки была нужна ему как воздух, а воспоминания об опрятных белых койках школы св. Ксаверия, стоявших рядами под панкхой, вызывали в нем такую же острую радость, как повторение таблицы умножения по-английски.
«Я очень старый, — думал он засыпая. — С каждым месяцем я старею на год. Я был очень юн и совсем глуп, когда вез послание Махбуба в Амбалу. И даже в то время, когда шел с белым полком, я был очень юн и не было у меня мудрости. Но теперь я каждый день что-нибудь узнаю, и через три года полковник возьмет меня из мадрасы и отпустит меня на Дорогу охотиться вместе с Махбубом за конскими родословными, а возможно, я пойду и сам по себе. Или, может быть, найду ламу и пойду вместе с ним. Да, это лучше всего. Опять быть челой и бродить с моим ламой, когда он вернется в Бенарес». — Мысли его текли все медленнее и бессвязнее. Он уже погружался в прекрасную страну снов, как вдруг ухо его различило среди монотонной болтовни вокруг костра чей-то тихий, но отчетливый шепот. Он доносился из-за обитой железом конской платформы.
— Так значит его здесь нет?
— Кутит в городе. Где ж ему еще быть? Кто ищет крысу в лягушечьем пруду? Уйдем отсюда. Его не найдешь.
— Нельзя допустить, чтобы он второй раз ушел за Перевалы, на это есть приказ.
— Подкупи какую-нибудь женщину отравить его. Это обойдется всего в несколько рупий, и свидетелей не будет.
— Если не считать женщины. Надо найти более верный способ; вспомни, сколько обещано за его голову.
— Да, но у полиции длинная рука, а мы далеко от Границы. Будь мы теперь в Пешаваре!
— Да... в Пешаваре. — В голосе другого человека звучала насмешка. — В Пешаваре, где множество его кровных родственников, множество всяких нор, трущоб и женщин, за юбки которых он будет прятаться. Что Пешавар, что джаханнам — нам подойдет и то и другое.
— Так что же делать?
— О дурак, ведь я сто раз тебе говорил: ждать, пока он не вернется и не ляжет спать, а потом — всего один меткий выстрел. Между нами и погоней будут стоять платформы. Нам останется только удрать через рельсы и затем пойти своей дорогой. Они не поймут, откуда стреляли. Подождем здесь хоть до рассвета. Какой ты факир, если не можешь чуточку посидеть без сна?
«Охо! — подумал Ким — не открывая зажмуренных глаз. — Опять Махбуб. Поистине, нехорошо продавать сахибам родословную белого жеребца! А может, Махбуб продавал и другие новости? Ну, Ким, что теперь делать? Я не знаю, где ночует Махбуб, и если он приедет сюда до зари, они застрелят его. Тебе это будет невыгодно, Ким... и полиции доносить не следует, потому что это невыгодно Махбубу, и... — он едва не рассмеялся вслух. — Из всех уроков в Накхлао не вспомню ни одного, который помог бы мне. Аллах! Ким здесь, а они там. Значит, прежде всего Ким должен проснуться и уйти так, чтобы они ничего не заподозрили. Человек просыпается от страшного сна... значит...
Он скинул одеяло с лица и внезапно поднялся, испуская страшный, дрожащий, бессмысленный вопль азиата, разбуженного кошмаром.
— Аа-ар-ар-ар! Я-ла-ла-ла-ла! Нарайн! Чурайль! Чурайль!
Чурайль — чрезвычайно зловещий призрак женщины, умершей родами. Призрак этот бродит по безлюдным дорогам, ступни у него вывернуты назад, и он терзает людей.
Все громче звучал дрожащий вой Кима. Наконец мальчик вскочил на ноги и, пошатываясь, сонно заковылял прочь, между тем как весь табор осыпал его проклятиями за то, что он разбудил спавших. Ярдах в двадцати выше он снова лег около рельсов и постарался, чтобы шептавшиеся люди слышали, как он стонет и охает. Спустя несколько минут он пополз к дороге и исчез в густом мраке.
Он быстро пробирался вперед, пока не дошел до сточной трубы, за которой улегся, выставив голову наружу, так что подбородок его приходился на одном уровне с ее покрышкой. Отсюда он мог незаметно следить за ночным движением.
Две или три повозки из предместья, дребезжа, проехали мимо; покашливая прошел полицейский да один или два торопливых пешехода, которые пели, чтобы отогнать злых духов. Затем послышался топот подкованных лошадиных копыт.
— А! Похоже, что это Махбуб, — подумал Ким, когда лошадь бросилась в сторону, завидев голову над покрышкой трубы. — Эй, Махбуб Али, — зашептал он, — берегись!
Всадник так резко затянул поводья, что лошадь чуть не встала на дыбы, и направил ее к трубе.
— Никогда больше, — заговорил Махбуб, — не возьму я подкованной лошади в ночную поездку. Она натыкается на все кости и гвозди в городе. — Спешившись, он поднял переднюю ногу лошади, и голова его очутилась на расстоянии фута от головы Кима. — Ниже держи голову, ниже, — пробормотал он. — Ночь полна глаз.
— Два человека ждут, чтобы ты подъехал к конским платформам. Они застрелят тебя, едва ты уляжешься, потому что голова твоя оценена. Я слышал это, когда спал около лошадей.
— Ты видел их?.. Стой смирно, отец дьяволов! — гаркнул он на лошадь.
— Нет.
— Один из них был одет факиром?
— Один сказал другому: «Какой же ты факир, если не можешь чуточку посидеть без сна?».
— Хорошо. Ступай теперь в табор и ложись. Этой ночью я не умру.
Махбуб повернул лошадь и исчез. Ким побежал назад по канаве и, когда приблизился к месту, где лег во второй раз, как ласка переполз через дорогу и снова завернулся в одеяло.
— По крайней мере, Махбуб все знает, — думал он с удовлетворением. — А говорил он так, словно ожидал этого. Не думаю, чтобы тем двоим пошло на пользу ночное бдение.
Час спустя, несмотря на твердое намерение не спать всю ночь, Ким заснул глубоким сном. Время от времени ночной поезд грохотал по рельсам в двадцати футах от него, но он, как и все восточные люди, относился равнодушно к шуму, и грохот никак не повлиял на его сновидения.
Но Махбуб не спал. Ему было чрезвычайно неприятно, что какие-то люди, не соплеменники его и не те, кому не по душе его случайные любовные приключения, покушаются на его жизнь. Первым и естественным побуждением его было пересечь железнодорожные пути ниже, вернуться назад и, зайдя в тыл своим «доброжелателям», попросту укокошить их. Но тут он с огорчением рассудил, что другое ведомство, не имеющее никакого отношения к полковнику Крейтону, пожалуй, потребует объяснений, дать которые будет трудно.
Он знал также, что к югу от Границы непременно поднимается никому не нужная кутерьма, когда находят одно-два мертвых тела. С тех пор как он отправил Кима в Амбалу с посланием, ему не приходилось испытывать подобных затруднений, и он надеялся, что подозрение снято с него окончательно. И тут его осенила блестящая мысль.
— Англичане всегда говорят правду, — сказал он себе, — поэтому мы, уроженцы этой страны, вечно остаемся в дураках. Клянусь Аллахом, не сказать ли мне правду англичанину? На что нужна государственная полиция, если у бедного кабульца хотят украсть его лошадей прямо с платформы? Тут не лучше, чем в Пешаваре! Придется подать жалобу на станции. Нет, лучше обратиться к какому-нибудь молодому сахибу из железнодорожников. Они усердны, и, когда они ловят воров, это им ставится в заслугу. Он привязал лошадь за станцией и вышел на платформу.
— Эй, Махбуб Али! — окликнул его молодой помощник окружного инспектора движения, собравшийся на обход линии, высокий, белобрысый юноша с лошадиным лицом, в грязновато-белом полотняном костюме. — Что вы тут делаете? Продаете кляч, а?
— Нет, я не о лошадях беспокоюсь. Я пошел поискать Лутфуллу. На линии у меня платформа с партией лошадей. Может ли кто-нибудь вывести их оттуда без ведома железной дороги?
— Не думаю, Махбуб. А если это случится, можете жаловаться на нас.
— Я видел, что между колесами одной из платформ чуть не всю ночь сидели два человека. Факиры не воруют лошадей, поэтому я перестал о них думать. Пойду отыщу Лутфуллу, моего компаньона.
— Да что вы? И это вас даже не обеспокоило? Ну, признаюсь, хорошо, что я вас встретил. А какой у них был вид?
— Это простые факиры. Если они и стащат что-нибудь с платформы, так зернышко какое-нибудь, не больше. Таких на линии много. Государству не придется платить возмещения. Я пришел искать своего компаньона, Лутфуллу...
— Бросьте вы своего компаньона. Где стоят платформы с вашими конями?
— Немного в стороне от того места, самого дальнего, где зажигают лампы для поездов.
— Сигнальная будка. Так.
— На ближайших к дороге рельсах, справа, — вон там, вверх по линии. А что касается Лутфуллы, высокий такой человек с перебитым носом, ходит с персидской борзой собакой...
Юноша быстро ушел будить одного молодого ревностного полицейского, ибо, как он говорил, железная дорога понесла много убытков от хищений на товарной станции. Махбуб Али усмехнулся в свою крашеную бороду.
— Они будут расхаживать в сапогах и шуметь, а потом дивиться, куда девались факиры. Очень умные ребята — и Бартон-сахиб, и Юнг-сахиб.
Он в бездействии постоял несколько минут, ожидая, что они в пылу усердия побегут по линии. Через станцию проскользнул порожний паровоз, и Махбуб заметил молодого Бартона в будке машиниста.
— Я был несправедлив к этому младенцу. Он не совсем дурак, — сказал себе Махбуб Али. — Ловить вора на огненной повозке — это что-то новое.
Когда Махбуб Али на рассвете приехал в свой лагерь, никто не счел нужным сообщить ему о ночных событиях. Никто, если не считать конюшонка, которого недавно повысили в разряд слуг великого человека и которого Махбуб позвал в свою крошечную палатку помочь в укладке.
— Мне все известно, — зашептал Ким, склонившись над седельными сумками. — Два сахиба подъехали на поезде. Я бегал туда и сюда в темноте по ту сторону платформ, а поезд медленно двигался взад и вперед. Они набросились на двух людей, сидевших под этой платформой... Хаджи, что мне делать с этой пачкой табаку? Завернуть ее в бумагу и положить под мешок с солью? Хорошо... и сбили их с ног. Но один человек ударил сахиба факирским козлиным рогом.[34] Показалась кровь. Тогда другой сахиб сначала оглушил своего противника, а потом ударил человека с рогом пистолетом, выпавшим из руки первого человека. Все они бесновались как безумные.
Махбуб улыбнулся с блаженным смирением.
— Нет, это не столько дивани[35], сколько низамат[36].
— Пистолет, говоришь? Добрых десять лет тюрьмы.
— Тогда оба присмирели, но, я думаю, они были полумертвыми, когда их втащили на поезд. Головы их качались вот так. И на путях много крови. Пойдем поглядим?
— Кровь я и раньше видывал. Тюрьма — верное место... И, конечно, они назовут себя вымышленными именами и, конечно, быстро их никому не сыскать. Это были мои недруги. Должно быть, твоя судьба и моя висят на одной нитке. Вот так рассказ для целителя жемчугов! Теперь управляйся с седельными сумами и кухонной посудой. Выгрузим лошадей и прочь, в Симлу.
Быстро для восточных людей — с длительными переговорами, руганью и пустой болтовней, беспорядочно, сто раз останавливаясь и возвращаясь за забытыми мелочами, кое-как тронулся растрепанный табор и вывел на Калкскую дорогу, в прохладу омытого дождем рассвета полудюжину окоченевших и беспокойных лошадей. Кима, с которым все желавшие выслужиться перед Махбубом Али обращались как с любимцем патхана, работать не заставляли. Они шли кратчайшими переходами и останавливаясь через каждые три-четыре часа у какого-нибудь придорожного навеса. По дороге в Калку ездит очень много сахибов, а каждый молодой сахиб, как говорил Махбуб Али, обязательно считает себя знатоком лошадей и, будь он по уши в долгу у ростовщика, не утерпит, чтобы не прицениться. Вот почему каждый сахиб, проезжая мимо в почтовой карете, останавливался и заводил разговор. Некоторые даже вылезали из экипажа и щупали лошадям ноги, задавая глупые вопросы, или, по незнанию местного языка, грубо оскорбляя невозмутимого торговца.
— Когда я впервые начал вести дела с сахибами, а это было в то время, когда полковник Соэди-сахиб был комендантом форта Абазаи и назло залил водой лагерь комиссара, — рассказывал Махбуб Киму, пока мальчик набивал ему трубку под деревом, — я не знал, какие они дураки, и это приводило меня в ярость. Так, например... — тут он повторил Киму выражение, которое один англичанин неумышленно употребил невпопад, и Ким скорчился от хохота. — Теперь, однако, я вижу, — он медленно выпустил дым изо рта, — что они такие же люди, как и все; кое в чем они мудры, а в остальном весьма неразумны. Глупо употреблять в обращении к незнакомцу не те слова, какие нужно. Ибо хотя в сердце, возможно, и нет желания оскорбить, но как может знать об этом незнакомец? Скорее всего, он кинжалом начнет доискиваться истины.
— Верно. Верные слова, — торжественно произнес Ким. — Так, например, невежды говорят о кошке, когда женщина рожает ребенка. Я слышал это.
— Значит, человеку в твоем положении особенно следует помнить об этом и там и там. Среди сахибов никогда не забывай, что ты сахиб, среди людей Хинда всегда помни, что ты... — он сделал паузу и умолк, загадочно улыбаясь.
— Кто же я? Мусульманин, индус, джайн или буддист? Это твердый орех, — не раскусишь.
— Ты, без сомнения, неверующий и потому будешь проклят. Так говорит мой закон или мне кажется, что он так говорит. Но, помимо этого, ты мой Дружок Всего Мира, и я люблю тебя. Так говорит мое сердце. Все эти веры — все равно что лошади. Мудрый человек знает, что лошадь — хорошая скотина, из каждой можно извлечь пользу. Что касается меня, то, хотя я хороший суннит и ненавижу людей из Тираха, я держусь того же мнения о всех верах. Ясное дело, что катхлаварская кобыла, оторванная от песков ее родины и приведенная в западный Бенгал, захромает: даже балхский жеребец (а нет лошадей лучше балхских, не будь у них только плечи такие широкие) никуда не будет годиться в великих северных пустынях рядом с верблюдами-снегоходами, которых я видел. Поэтому в сердце своем я говорю, что все веры подобны лошадям. Каждая годится для своей родины.
— Но мой лама говорит совсем другое!
— О, он старый мечтатель из Бхотияла. Сердце мое слегка гневается, Друг Всего Мира, что ты так высоко ценишь столь мало известного человека.
— Это верно, хаджи. Но я вижу его достоинства, и сердце мое тянется к нему.
— А его сердце — к тебе, как я слышал. Сердца, как лошади. Они приходят и уходят, повинуясь удилам и шпорам. Крикни Гуль-Шер-Хану, чтобы он покрепче забил прикол гнедого жеребца. Я не потерплю, чтобы лошади дрались на каждом привале, а мышастого и вороного нужно стреножить... Теперь слушай меня! Неужели для твоего сердечного спокойствия тебе нужно видеться с этим ламой?
— Это входит в мои условия, — сказал Ким. — Если я не буду видеться с ним и если его отнимут у меня, я уйду из накхлаоской мадрасы и... если уйду, кто сможет найти меня?
— Это правда. Никогда жеребенок не был так слабо привязан, как ты. — Махбуб кивнул головой.
— Не бойся, — Ким говорил так, словно он мог исчезнуть в ту же минуту. — Мой лама сказал, что придет повидаться со мной в мадрасу.
— Нищий с чашкой в присутствии этих молодых сахи...
— Не все! — фыркнув, перебил его Ким. — У многих из них глаза посинели, а ногти почернели от крови низких каст. Сыновья мехтарани, единоутробные братья бханги[37].
Не стоит приводить здесь всю генеалогию до конца. Но Ким выразил свое мнение о юных сахибах ясно и без горячности, не переставая жевать кусок сахарного тростника.
— Друг Всего Мира, — сказал Махбуб, подавая мальчику трубку для прочистки. — Я встречал множество мужчин, женщин, мальчиков и немало сахибов. Никогда в жизни не видывал я такого чертенка, как ты.
— Но почему же чертенок? Ведь я всегда говорю тебе правду.
— Может быть, именно поэтому, ибо мир полон опасности для честных людей. — Махбуб Али тяжело поднялся с земли, опоясался кушаком и пошел к лошадям.
— А, может, продать тебе правду?
В тоне Кима было нечто, заставившее Махбуба остановиться и обернуться.
— Что еще за новая чертовщина?
— Восемь ан, тогда скажу, — произнес с усмешкой Ким. — Это касается твоего спокойствия.
— О шайтан! — Махбуб отдал деньги.
— Помнишь ты о том дельце с ворами, в темноте, там, в Амбале?
— Раз они покушались на мою жизнь, значит я не совсем позабыл о них. А что?
— Помнишь Кашмирский караван-сарай?
— Я тебе сию минуту надеру уши, сахиб.
— Не стоит того... патхан. Но только второй факир, до потери сознания оглушенный сахибами, был тот самый человек, который приходил обыскивать твою каморку в Лахоре. Я видел его лицо, когда они тащили его на паровоз. Тот самый человек.
— Почему же ты не сказал этого раньше?
— О, он попадет в тюрьму и несколько лет будет не опасен. Не стоит сразу рассказывать больше, чем это необходимо. Кроме того, я тогда не нуждался в деньгах на сласти.
— Аллах карим! — воскликнул Махбуб Али. — А не продашь ли ты когда-нибудь мою голову за горсть сластей, если вдруг на тебя такой стих найдет!
Ким до самой своей смерти будет помнить это долгое, неторопливое путешествие из Амбалы в Симлу через Калку и близлежащие Пинджорские сады. Внезапный разлив реки Гхагар унес одну из лошадей (конечно, самую ценную) и чуть не потопил Кима между пляшущими камнями. На следующем этапе казенный слон обратил коней в паническое бегство, и, так как они хорошо откормились на подножном корму, потребовалось полтора дня, чтобы всех их собрать. Потом путники встретили Сикандар-Хана, спускавшегося на юг с несколькими норовистыми клячами, которых не удалось продать, — остатками его табуна. И Махбубу, чей ноготь на мизинце больше знал толк в лошадях, чем Сикандар-Хан вкупе со всей своей челядью, приспичило купить пару самых норовистых, а на это ушло восемь часов усердной дипломатии и целая гора табаку. Но все это было чистой радостью: извилистая дорога, которая поднималась, спускалась и скользила все выше и выше между горными отрогами; румянец зари на далеких снегах; ряды ветвистых кактусов на каменистых склонах; голоса тысячи ручьев; трескотня обезьян; вздымающиеся один над другим торжественные деодары с опущенными ветвями; вид на равнины, расстилавшиеся далеко внизу; непрестанное гудение рожков, в которые трубили возчики, и дикое бегство лошадей, когда из-за поворота показывалась тонга; остановки для молитвы (Махбуб ревностно исполнял обряд сухого омовения и орал молитвы, когда спешить было некуда); вечерняя беседа на стоянках, где верблюды и волы вместе торжественно жевали корм, а степенные возчики рассказывали дорожные новости. Все это побуждало сердце Кима петь в его груди.
— Но когда пение и пляски кончатся, — сказал Махбуб Али, — придет полковник-сахиб, и это будет не столь сладко.
— Прекрасная страна... прекраснейшая страна этот Хинд... а страна Пяти Рек прекраснее всех, — почти пел Ким. — В нее я вернусь, если Махбуб Али или полковник поднимут на меня руку или ногу. А уж если я сбегу, кто отыщет меня? Смотри, хаджи, вон тот город — это и есть Симла? Аллах, что за город!
— Брат моего отца, а он был стариком, когда в Пешаваре только что выкопали колодец Мекерсона-сахиба, помнил время, когда тут стояли всего два дома.
Он направил лошадей ниже главной дороги, в нижний базар Симлы, — тесный, как крольчатник, поднимающийся из долины вверх к городской ратуше под углом в сорок пять градусов. Человек, знающий здесь все ходы и выходы, может потягаться со всей полицией индийской летней столицы, так хитроумно соединяются тут веранда с верандой, переулок с переулком и нора с норой. Здесь живут те, что обслуживают веселый город, — джампаи и, по ночам таскающие на плечах носилки хорошеньких леди и до рассвета играющие в азартные игры, бакалейщики, продавцы масла, редкостей, топлива; жрецы, воры и государственные служащие-туземцы. Здесь куртизанки обсуждают вопросы, которые считаются глубочайшими тайнами Индийского Совета, и здесь собираются все помощники помощников агентов половины туземных княжеств. Здесь Махбуб Али снял комнату в доме мусульманина, торговца скотом; она запиралась гораздо крепче, чем его лахорская каморка, и, кроме того, оказалась обителью чудес, ибо в сумерках туда вошел юный конюх-мусульманин, а через час оттуда вышел мальчик-евразиец (краска лакхнаусской девушки была наилучшего сорта) в плохо сидящем готовом платье.
— Я говорил с Крейтоном-сахибом, — сообщил Махбуб Али, — и вторично рука дружбы отвела бич бедствия. Он говорит, что раз уж ты проболтался шестьдесят дней на Дороге, то посылать тебя в горную школу слишком поздно.
— Я говорил, что мои каникулы принадлежат мне. Я не желаю поступать во вторую школу. Это одно из моих условий.
— Полковник-сахиб еще не осведомлен об этом договоре. Ты будешь жить в доме Ларгана-сахиба, пока не наступит время возвратиться в Накхлао.
— Мне хотелось бы жить у тебя, Махбуб.
— Ты не понимаешь, какая это честь. Ларган-сахиб сам попросил привести тебя. Поднимись на гору и пройди по дороге до самой вершины, а там на некоторое время забудь, что когда-то встречался или говорил со мной, Махбубом Али, который продает лошадей Крейтону-сахибу, которого ты не знаешь. Запомни это приказание.
Ким кивнул головой.
— Ладно, — промолвил он, — а кто такой Ларган-сахиб? Нет, — он заметил острый, как меч, взгляд Махбуба. — Я, в самом деле, никогда не слыхал его имени. Или он случайно, — Ким понизил голос, — один из нас?
— Кого это «нас», сахиб? — спросил Махбуб Али тем тоном, каким он обращался к европейцам. — Я патхан, ты сахиб и сын сахиба. Ларган-сахиб держит лавку среди прочих европейских лавок. Вся Симла это знает. Спроси вон там... Друг Всего Мира, он тот человек, каждому взмаху ресниц которого надо повиноваться. Люди говорят, что он занимается колдовством, но тебя это не касается. Ступай на гору и спроси. Теперь начинается Большая Игра.
ГЛАВА IX
Сдокс — премудрого Елта сын, Что Воронов был вождем. Итсут-медведь взялся смотреть За ним, чтобы стал он врачом. Все быстрей, быстрей учился он, Начал все больше смелеть; Страшный танец Клу-Клуали плясал, И смеялся Итсут-медведь. Орегонская балладаКим с радостью принял новый поворот событий. Он опять на некоторое время будет сахибом. С этими мыслями, едва очутившись на широкой дороге под городской ратушей Симлы, он встретил существо, на которое можно было произвести впечатление. Мальчик лет десяти, индус, сидел на корточках под фонарным столбом.
— Где дом мистера Ларгана? — спросил Ким.
— Я не понимаю по-английски, — прозвучал ответ, и Ким перешел на местный язык.
— Сейчас покажу.
Они вместе шли вперед в таинственном сумраке, пронизанном шумами города, лежавшего у подножья горы, и дыханием прохладного ветра, веявшего над увенчанным деодарами Джеко, который, казалось, подпирал звездный купол. Огни освещенных домов были рассыпаны по всем склонам, образуя как бы второй небесный свод. Некоторые из них были неподвижны, другие светились из носилок, в которых беззаботные говорливые англичане отправлялись обедать.
— Здесь, — сказал проводник Кима и остановился на веранде, выходившей на главную дорогу. Двери перед ними не было, — только занавеска из унизанного бусами камыша, через щели которой проникал свет лампы, горевшей внутри.
— Он пришел, — сказал мальчик едва слышно и исчез. Ким догадался, что мальчику приказали подождать его и проводить, но, не подавая вида, раздвинул занавеску. За столом сидел чернобородый человек с зеленым козырьком над глазами; короткими белыми пальцами он, один за одним, брал пузырьки света с лежащего перед ним подноса и, мурлыкая что-то про себя, нанизывал их на блестящую шелковую нитку. Ким почувствовал, что за кругом света в комнате лежит множество вещей, пахнущих как храмы всего Востока. Едва ощутимый аромат мускуса, легкое благоухание сандалового дерева и тошнотворный запах жасминного масла наполнили его широкие ноздри.
— Я здесь, — вымолвил, наконец, Ким на местном языке. Запахи заставили его забыть, что он должен вести себя как сахиб.
— Семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят один, — считал себе под нос человек, так быстро нанизывая жемчужину за жемчужиной, что Ким едва успевал следить за его пальцами. Он приподнял зеленый козырек и целых полминуты пристально смотрел на Кима. Зрачки его то расширялись, то суживались до размеров булавочного острия, как бы повинуясь его воле. У Таксалийских ворот был факир, обладавший таким даром, и он зарабатывал на этом, особенно когда ругал глупых женщин. Ким с интересом уставился на незнакомца. Его малоуважаемый приятель-факир помимо этого мог еще поводить ушами, пожалуй, не хуже козы. Ким был разочарован, что незнакомец этого делать не умел.
— Не бойся, — внезапно произнес мистер Ларган.
— Чего мне бояться?
— Сегодня ты будешь ночевать здесь и останешься у меня, пока не настанет время возвращаться в Накхлао. Так приказано.
— Так приказано, — повторил Ким. — Но где же я буду спать?
— Здесь, в этой комнате. — Ларган-сахиб махнул рукой назад, в темноту.
— Пусть так, — спокойно промолвил Ким. — Сейчас ложиться?
Тот кивнул и поднял лампу над головой.
Когда свет озарил комнату, на фоне стены выступила целая коллекция тибетских масок для цама, висевших над халатами, расшитыми изображениями демонов и служащими для этих жутких представлений; тут были рогатые маски, грозные маски и маски, выражавшие бессмысленный ужас. Из одного угла японский воин в кольчуге и шлеме с перьями грозил Киму алебардой, а десяток копий, кханд и катаров отражали неверный свет. Но Ким не столько заинтересовался этими вещами — он видел маски для цама в Лахорском музее, — сколько мальчиком-индусом с мягкими глазами, который покинул его на пороге, а теперь с легкой улыбкой на ярко-красных губах сидел, скрестив ноги, под столом, где лежали жемчуга.
«Я думаю, что Ларган-сахиб хочет попугать меня», — подумал Ким. — И я уверен, что это дьявольское отродье под столом хочет видеть меня испуганным. Он сказал вслух:
— Это место похоже на Дом Чудес. Где моя постель?
Ларган-сахиб показал на туземное стеганое одеяло, лежавшее в углу под отвратительными масками, и, забрав лампу, ушел, погрузив комнату в полный мрак.
— Это был Ларган-сахиб? — спросил Ким, завертываясь в одеяло. Ответа не последовало. Однако он слышал дыхание мальчика-индуса и, ориентируясь на этот звук, пополз по полу и ударил кулаком в темноту, крича:
— Отвечай, дьявол! Разве можно так обманывать сахиба? — Ему показалось, что во мраке прозвучал тихий смех. Но мягкий телом товарищ его не мог смеяться, ибо он плакал. Тогда Ким возвысил голос и громко позвал:
— Ларган-сахиб! О, Ларган-сахиб! Разве слуге твоему приказано не говорить со мной?
— Приказано, — голос раздался позади него, и он встал.
— Очень хорошо. Но запомни, — пробормотал Ким, разыскав свое одеяло, — утром я тебя отколочу. Я не люблю индусов.
Ночь выдалась неспокойная, ибо в комнате все время слышались голоса и музыка. Ким два раза просыпался, слыша, что кто-то зовет его по имени. Во второй раз он пошел посмотреть, в чем дело, но закончилось тем, что он разбил себе нос о ящик, который, несомненно, говорил на человеческом языке, хотя тембр его голоса был совершенно не свойственен человеку. На ящике, видимо, была жестяная труба, и он соединялся проволокой с ящиком меньших размеров, стоявшим на полу: так, по крайней мере, понял Ким, на ощупь исследуя вещи. А голос, очень жесткий и жужжащий, выходил из трубы. Ким потер себе нос и, рассерженный, стал, по своему обыкновению, думать на хинди.
— Это годится для базарного нищего, но я сахиб и сын сахиба и, что вдвое важнее, ученик школы в Накхлао... Да (тут он перешел на английский), я ученик школы св. Ксаверия. К черту мистера Ларгана!... Это какая-то машина вроде швейной. Ну и наглость с его стороны!... Но мы в Лакхнау таких пустяков не пугаемся... Нет! — Потом снова стал думать на хинди. — Однако чего он добивается? Ведь он простой торговец... А я нахожусь в его лавке. Но Крейтон-сахиб — полковник... и я думаю, что Крейтон-сахиб приказал сделать так. Ну уж, и изобью же я этого индуса утром! Что такое?
Ящик с трубой высоким равнодушным голосом извергал поток самых отчаянных ругательств, которые Ким когда-либо слышал, и от этого у мальчика на мгновение встали дыбом короткие волосы на шее. Но вот скверная штука перестала ругаться, и Кима успокоило мягкое жужжание, похожее на жужжание швейной машины.
— Чуп![38] — крикнул он, но снова услышал смех позади себя, и это пробудило в нем решительность. — Чуп, или я тебе голову проломлю!
Ящик не послушался. Ким дернул за жестяную трубу, что-то щелкнуло и приподнялось; очевидно, он открыл крышку. Ну, если дьявол сидит там внутри, теперь ему конец... Он понюхал... пахло, как от швейных машин на базаре. Сейчас он задаст этому шайтану. Он снял с себя куртку и сунул ее в пасть ящика.
Что-то длинное и округлое опустилось под давлением, потом послышалось жужжанье, и голос умолк, как это и должно случиться, если запихнуть куртку на толстой подкладке в механизм дорогого фонографа и придавить восковой валик. Ким со спокойной душой заснул опять.
Утром, просыпаясь, он почувствовал, что Ларган смотрит на него сверху вниз.
— О-а! — сказал Ким, твердо решив вести себя сахибом. — Ночью какой-то ящик ругал меня. Поэтому я его остановил. Это был ваш ящик?
Человек протянул ему руку.
— Вашу руку, О'Хара, — сказал он. — Да, это был мой ящик. Я держу такие вещи потому, что они нравятся моим друзьям — раджам. Этот сломался, но он был дешевый. Да, мои приятели, владетельные князья, очень любят игрушки... и я тоже, временами.
Ким искоса взглянул на него. Ларган был сахиб, хотя бы потому, что одевался как сахиб. Но произношение его, когда он говорил на урду, и интонации, когда говорил по-английски, доказывали, что он кто угодно, но только не сахиб. Казалось, он понимал все, что приходило на ум Киму, раньше, чем мальчик успевал открыть рот, он не старался выражаться понятно, как это делали отец Виктор или лакхнауские учителя. Но что было всего приятней, он обращался с Кимом как с равным — таким же, как он, азиатом.
— К сожалению, вам нынче утром не придется побить моего парня. Он говорит, что прирежет вас или отравит. Он ревнует, поэтому я поставил его в угол и не буду разговаривать с ним сегодня. Он только что пытался убить меня. Придется вам помочь мне приготовить завтрак. Сейчас он слишком ревнует, чтобы ему можно было доверять.
Настоящий сахиб, приехавший из Англии, многословно и с жаром передал бы этот случай. Ларган-сахиб рассказал о нем так же просто, как Махбуб Али, бывало, рассказывал о своих похождениях на Севере.
Задняя веранда лавки опиралась на крутой склон горы и, смотря вниз, можно было заглядывать в печные трубы соседей, что для Симлы обычно. Лавка пленила Кима еще больше, чем завтрак в чисто персидском вкусе, который Ларган-сахиб состряпал собственными руками. Лахорский музей был обширнее, но здесь было больше чудес: ритуальные кинжалы и молитвенные цилиндры из Тибета; ожерелья из бирюзы и необточенного янтаря; браслеты из зеленого нефрита; причудливо упакованные курительные палочки в кувшинах с инкрустацией из неграненых гранатов; вчерашние дьявольские маски и стена, сплошь задрапированная ярко-синими, как хвост павлина, тканями; золоченые статуэтки Будды и переносные лакированные алтарики; русские самовары с бирюзой на крышках; хрупкие, как яичная скорлупа, фарфоровые сервизы в диковинных восьмиугольных камышовых футлярах; распятия из желтой слоновой кости — как ни странно, они, по словам Ларгана-сахиба, были вывезены из Японии; пыльные тюки ковров, отвратительно пахнущие, сложенные позади рваных и трухлявых ширм с узором в виде геометрических фигур; персидские кувшины для омовения рук после еды; курительницы из тусклой меди, некитайской и неперсидской работы, с орнаментом, изображающим фантастических чертей; потускневшие серебряные пояса, которые свертывались, как пояса из невыделанной кожи; головные шпильки из нефрита, слоновой кости и халцедона; оружие разного рода и вида и тысячи других редкостей были спрятаны в ящики, сложены в кучи или просто разбросаны по комнате, так что свободное пространство оставалось только вокруг колченогого, заменявшего прилавок стола, за которым работал Ларган-сахиб.
— Все это хлам, — сказал хозяин, наблюдая, как Ким обводит глазами комнату. — Я покупаю эти вещи потому, что они красивы, а иногда продаю их... если покупатель мне нравится. Работа моя на столе... часть ее.
Эта работа так и горела при утреннем свете — вспышки красного, синего, зеленого пламени, пронизанные кое-где лукавой голубовато-белой искоркой бриллианта. Ким широко раскрыл глаза.
— О, с этими камнями все в порядке! Они могут лежать на солнце. К тому же они дешевые. Но с больными камнями дело обстоит иначе! — Он снова наполнил тарелку Кима. — Никто, кроме меня, не может исцелить больную жемчужину и заставить бирюзу поголубеть заново. Опалы, — пожалуйста, — опалы всякий дурак может вылечить, а больную жемчужину — один я. Предположим, я умру! Тогда никого не останется... О, нет! Вы не годитесь для драгоценных камней. Хватит с вас, если вы научитесь немного разбираться в бирюзе... когда-нибудь.
Он прошел на конец веранды, чтобы снова налить воды из фильтра в тяжелый пористый глиняный кувшин.
— Хотите пить?
Ким кивнул. Ларган-сахиб, стоя в пятнадцати футах от стола, положил на кувшин руку. В следующее же мгновение кувшин очутился у локтя Кима, полный почти до краев, — только по складке на белой скатерти можно было догадаться о том, с какой стороны он скользнул на место.
— Ва! — произнес Ким в крайнем изумлении. — Это колдовство. — Улыбка Ларгана-сахиба говорила, что комплимент ему приятен.
— Бросьте его.
— Он разобьется.
— Бросьте, говорю вам.
Ким швырнул кувшин, куда попало. Он тут же разлетелся на куски, а вода потекла между плохо пригнанными досками пола.
— Я говорил, что он разобьется.
— Неважно. Смотрите на него. Смотрите на самый большой кусок.
В углублении черпака блестела капля воды, словно звезда на полу. Ким пристально смотрел; Ларган-сахиб мягко коснулся рукой его затылка и погладил его два раза, шепча:
— Смотрите! Он опять восстановится, кусок за куском. Сначала большой кусок срастется с двумя другими, лежащими справа и слева... справа и слева. Смотрите!
Ким даже ради спасения своей жизни не смог бы обернуться. Легкое прикосновение держало его словно в тисках, а кровь, приятно покалывая, струилась по телу. Там, где раньше лежали три куска, теперь был один, а над ним вздымалось туманное очертание всего сосуда. Пока сквозь него еще была видна веранда, но с каждым биением пульса его очертания становились определеннее и темнее. Но ведь кувшин... как медленно текут мысли! ...кувшин разбился на его глазах. Новая волна колючего пламени побежала по его шее, когда Ларган-сахиб шевельнул рукой.
— Смотрите! Он приобретает форму, — сказал Ларган-сахиб. До сих пор Ким думал на хинди, но тут дрожь пробежала по его телу, и с усилием окруженного акулами пловца, который старается насколько возможно выше высунуться из воды, сознание его вырвалось из поглощавшей его тьмы и нашло убежище... в таблице умножения на английском языке!
— Смотрите! Он приобретает форму! — шептал Ларган-сахиб.
— Кувшин разбился... да-а... разбился... не называть этого по-туземному, ни в коем случае, но разбился... на пятьдесят кусков, а дважды три шесть, а трижды три девять, а четырежды три двенадцать. — Ким отчаянно цеплялся за это повторение. Он протер глаза, и неясное очертание рассеялось как туман. — Вот разбитые черепки; вот пролитая вода, высыхающая на солнце, а внизу сквозь щели в полу веранды виднеется белая, изборожденная трещинами, стена дома... а трижды двенадцать тридцать шесть!
— Смотрите! Приобретает он форму? — спросил Ларган-сахиб.
— Но ведь он разбит... разбит... — задыхаясь, проговорил Ким.
Ларган-сахиб с полминуты тихо бормотал что-то. Ким отдернул голову.
— Декхо[39]! Он такой же разбитый, как и был.
— Такой же разбитый, как и был, — повторил Ларган-сахиб, внимательно следя глазами за Кимом, который растирал себе шею. — Но из многих вы первый, видевший все это именно так. — Он отер широкий лоб.
— Это тоже было колдовство? — подозрительно спросил Ким. Он перестал ощущать покалывание в венах и чувствовал себя необычайно бодрым.
— Нет, это не было колдовство. Это было сделано для того лишь, чтобы узнать, нет ли... в драгоценном камне трещины. Иногда очень хорошие камни разлетаются на куски, если человек, понимающий в этом деле, сожмет их в руке. Вот почему надо очень тщательно их рассмотреть, прежде чем вставлять в оправу. Скажите, вы видели очертание кувшина?
— Недолго. Он стал расти из пола, как цветок из земли.
— И что вы тогда сделали? Я хочу сказать, как именно вы думали тогда?
— О-а! Я знал, что он разбит и, должно быть, об этом думал... Ведь он действительно был разбит!
— Хм! А что, кто-нибудь прежде так колдовал с вами?
— Если бы это хоть раз случилось со мной, — сказал Ким, — неужели вы думаете, я допустил бы повторение? Я убежал бы.
— А теперь вам не страшно, а?
— Теперь нет.
Ларган-сахиб наблюдал за ним все внимательнее.
— Я спрошу Махбуба Али... Не теперь, когда-нибудь потом, — пробормотал он. — Я доволен вами... и недоволен. Вы первый из всех сумели спасти себя. Хотел бы я знать, каким образом... Но вы правы. Вам не следует говорить об этом... даже мне.
Он ушел в сумрачную мглу лавки и, мягко потирая руки, сел за стол. Тихое глухое всхлипывание послышалось из-за кипы ковров. Это плакал мальчик-индус, послушно стоявший лицом к стене; худенькие его плечи вздрагивали от обиды.
— А! Он ревнует; так ревнует! Пожалуй, он опять попытается отравить мой завтрак и вторично заставит меня стряпать.
— К а б х и... кабхи нахин[40], — послышался прерывающийся ответ.
— А другого мальчика он убьет?
— Кабхи... кабхи нахин!
— А как вы думаете, что он сделает? — внезапно обратился Ларган к Киму.
— О-а! Не знаю. Отпустите его, пожалуй. Почему он хотел отравить вас?
— Потому что он любит меня. Вообразите, что вы кого-нибудь любите, а потом явится кто-то другой, и человеку, которого вы любите, он понравится больше, чем вы; как бы вы тогда поступили?
Ким задумался. Ларган медленно повторил фразу на местном языке.
— Я не отравил бы этого человека, — задумчиво проговорил Ким, — но я избил бы того мальчика, если бы тот мальчик любил человека, которого люблю я. Но сначала я спросил бы у мальчика, правда ли это.
— А! Он думает, что меня все любят.
— Тогда он, по-моему, дурак.
— Слышишь? — обратился Ларган-сахиб к дрожавшим плечам. — Сын сахиба считает тебя дураком. Выходи, и когда в следующий раз твое сердце встревожится, не возись так открыто с белым мышьяком. Надо думать, что демон Дасим был сегодня владыкой нашей скатерти! Я мог бы заболеть, дитя, и тогда чужой человек пришел бы хранить драгоценности. Иди сюда!
Мальчик с припухшими от обильных слез глазами вылез из-за тюка и страстно бросился к ногам Ларгана-сахиба, так горячо предаваясь раскаянию, что это произвело впечатление даже на Кима.
— Я буду смотреть в чернильные лужи... Я преданно буду сторожить драгоценности! О, отец мой и мать моя, отошли его прочь! — Он указал на Кима, лягнув его голой пяткой.
— Не сейчас... не сейчас. Скоро он уйдет. Но теперь он в школе, в новой Мадрасе... а ты будешь его учителем. Поиграй с ним в Игру Драгоценностей. Я буду судьей.
Мальчик сейчас же осушил слезы и кинулся в глубину лавки, откуда вернулся с медным подносом.
— Дай мне! — сказал он Ларгану-сахибу. — Положи их своей рукой, не то он скажет, что я видел их раньше.
— Потише... потише... — ответил Ларган и, вынув из ящика стола полгорсти звякающих камешков, бросил их на поднос.
— Ну, — сказал мальчик, размахивая старой газетой, — смотри на них сколько хочешь, незнакомец. Считай, а если нужно, так и пощупай. С меня хватит и одного взгляда, — он гордо повернулся спиной.
— Но в чем состоит игра?
— Когда ты пересчитаешь их, пощупаешь и убедишься в том, что запомнил все, я накрою их этой бумагой, а ты должен будешь описать их Ларгану-сахибу. Свое описание я сделаю письменно.
— О-а! — В груди Кима пробудился инстинкт соревнования. Он нагнулся над подносом. На нем было только пятнадцать камней.
— Это легко, — промолвил он через минуту.
Мальчик закрыл бумагой мерцающие драгоценные камни и начал что-то царапать в туземной счетной книге.
— Под бумагой пять синих камней... один большой, один поменьше и три маленьких, — торопливо говорил Ким. — Четыре зеленых камня, один с дырочкой; один желтый камень, прозрачный, и один похожий на трубочный чубук. Два красных камня и... и... я насчитал пятнадцать, но два позабыл. Нет! Подождите. Один был из слоновой кости, маленький и коричневатый; и... и... сейчас...
— Раз... два... — Ларган-сахиб сосчитал до десяти. Ким покачал головой.
— Слушай теперь, что я разглядел! — воскликнул мальчик, трясясь от смеха. — Во-первых, там два сапфира с изъяном, один в две рати и один в четыре, насколько я могу судить. Сапфир в две рати обколот с краю. Одна туркестанская бирюза, простая, с черными жилками, и две с надписями — на одной имя бога золотом, а другая треснула поперек, потому что она вынута из старого перстня и надпись на ней я прочесть не могу. Значит, всего у нас пять синих камней. Четыре поврежденных изумруда, причем один просверлен в двух местах, а один слегка покрыт резьбой...
— Их вес? — бесстрастно спросил Ларган-сахиб.
— Три, пять, пять и четыре рати, насколько я могу судить. Кусок старого зеленоватого янтаря для трубок и граненый топаз из Европы. Бирманский рубин в две рати без порока и бледный рубин с пороком в две рати. Кусок слоновой кости, выточенный в виде крысы, сосущей яйцо, китайской работы и, наконец... а-ха! хрустальный шарик величиной с боб, прикрепленный к золотому листику.
Он кончил и захлопал в ладоши.
— Он — твой учитель, — промолвил Ларган-сахиб с улыбкой.
— Ха! Он знал, как называются камни, — сказал Ким краснея. — Попробуем снова! На обыкновенных вещах, которые мы оба знаем.
Они опять завалили поднос всякой всячиной, собранной в лавке и даже в кухне, и мальчик всякий раз выигрывал, к немалому удивлению Кима.
— Завяжи мне глаза... дай мне только разок пощупать вещи пальцами, и даже в этом случае я обыграю тебя, хотя глаза твои будут открыты, — вызывал его мальчик на бой. Мальчик оказался прав, и Ким в досаде топнул ногой.
— Будь это люди... или лошади... — промолвил он, — я мог бы себя показать. Но эта возня со щипчиками, ножами и ножницами слишком ничтожна.
— Сначала выучись, потом учи, — сказал Ларган-сахиб. — Ну что, учитель он твой или нет?
— Да. Но как этого добиться?
— Надо много раз проделывать эту работу, пока не научишься выполнять ее превосходно... ибо этому стоит научиться.
Мальчик-индус в полном восторге от своего превосходства даже похлопал Кима по спине.
— Не отчаивайся, — сказал он. — Я сам буду учить тебя.
— Я послежу за тем, чтобы тебя хорошо учили, — сказал Ларган-сахиб все еще на местном языке, — ибо, если не считать моего мальчика, — он глупо сделал, что купил так много белого мышьяка, когда мог бы попросить его у меня, и я дал бы, — если не считать моего мальчика, я давно уже не встречал человека, которого стоило бы обучать. Осталось десять дней до того срока, когда ты сможешь вернуться в Лакхнау, где ничему не учат... в сущности. Мне кажется, мы будем друзьями.
Эти десять дней доставили Киму столько радости, что он и не заметил, какими они были безумными. По утрам мальчики занимались Игрой в Драгоценности, — иногда для нее служили действительно драгоценные камни, иногда груды мячей и кинжалов, иногда фотографические карточки туземцев. В послеполуденные часы Ким с мальчиком-индусом безотлучно сидели в лавке, молча, за тюком с коврами или ширмой и наблюдали за многочисленными и странными посетителями мистера Ларгана. Мелкие раджи, окруженные кашляющей на веранде свитой, приезжали сюда покупать всякие редкости вроде фонографов и механических игрушек. Приходили дамы, которые искали ожерелья, и мужчины, которые, как казалось Киму, — впрочем, возможно, что воображение его было испорчено рано приобретенным опытом, — искали дам; туземцы из независимых и вассальных княжеских дворов заходили под предлогом починки сломанных ожерелий — сияющих рек, разлитых по столу, — но в действительности пытались занять денег для сердитых махарани и молодых раджей. Приходили бабу, с которыми Ларган-сахиб беседовал сурово и авторитетно, но, закончив беседу, всякий раз давал им деньги серебром и бумажками. Иногда в лавке собирались туземцы в длинных сюртуках и с театральными манерами, рассуждавшие на метафизические темы на английском и бенгали, к великому удовольствию мистера Ларгана. Он всегда интересовался религиями. К концу дня Киму и мальчику-индусу, чье имя менялось по прихоти Ларгана, приходилось давать подробный отчет обо всем, что они видели и слышали, высказывать догадки об истинной цели прихода каждого человека и свое мнение о характере посетителя, насколько можно было судить об этом по его лицу, речи и поведению. После обеда фантазия Ларган-сахиба была направлена на то, что можно назвать переодеванием, и к этой игре он проявлял такой интерес, что здесь было чему поучиться. Он великолепно умел гримировать и, мазнув кисточкой в одном месте или проведя черточку в другом, менял лица мальчиков до неузнаваемости.
Лавка была набита самыми разнообразными костюмами и чалмами, и Ким наряжался то юным мусульманином из хорошей семьи, то маслоделом, а один раз — этот вечер вышел очень веселым — сыном аудхского землевладельца в самой парадной из парадных одежд. Ларган-сахиб наметанным глазом сразу находил малейшую неточность в таком наряде и, лежа на старой, потертой койке из тикового дерева, по получасу объяснял, как говорят люди той или иной касты, как они ходят, кашляют, плюют или чихают, и, считая, что «как» имеет мало значения в этом мире, он объяснял также, «почему» они делают так, а не иначе. Мальчик-индус плохо играл в эту игру. Его ограниченный ум, острый как сосулька, когда дело касалось драгоценных камней, не мог заставить себя проникнуть в чужую душу, но в Киме пробуждался демон, и он пел от радости, когда, сменяя одежды, соответственно менял речь и манеры.
В порыве энтузиазма он как-то вечером вызвался показать Ларгану-сахибу, как ученики одной касты факиров, его старые лахорские знакомые, просят милостыню на дороге, и с какой речью он обратился бы к англичанину, к пенджабскому крестьянину, идущему на ярмарку, и к женщине без покрывала. Ларган-сахиб хохотал до упаду и попросил Кима еще полчаса неподвижно посидеть в задней комнате в том же виде — скрестив ноги, обсыпанным золой и с диким выражением во взгляде. К концу этого срока пришел неповоротливый тучный бабу. На его толстых, обтянутых чулками ногах колыхался жир, и Ким осыпал его градом уличных насмешек. Ларган-сахиб следил за бабу, а не за игрой, что раздосадовало Кима.
— Я полагаю, — с усилием проговорил бабу, закуривая сигарету, — я держусь того мнения, что это совершенно исключительное и мастерски сыгранное представление. Если бы вы не предуведомили меня заранее, я заключил бы, что... что... что вы водите меня за нос. Как скоро сможет он стать мало-мальски квалифицированным землемером? Ибо тогда я возьмусь обучать его.
— Этому он и должен научиться в Лакхнау.
— Тогда прикажите ему поторопиться. Спокойной ночи, Ларган. — Бабу выплыл вон, шагая, как увязающая в грязи корова.
Когда мальчики перечисляли приходивших в этот день посетителей, Ларган-сахиб спросил Кима, как он думает, что это за человек.
— Бог знает! — весело ответил Ким. — Тон его, пожалуй, мог бы ввести в заблуждение Махбуба Али, но целителя больных жемчужин он не обманул.
— Это верно. Бог-то знает, но я хочу знать, что думаете вы.
Ким искоса взглянул на собеседника, чьи глаза почему-то вынуждали говорить правду.
— Я... я думаю, что он захочет взять меня к себе, когда я кончу школу; но, — продолжал он доверительным тоном, когда Ларган-сахиб одобрительно кивнул, — я не понимаю, как может он носить разные одежды и говорить на разных языках.
— Ты многое поймешь впоследствии. Он пишет рассказы для одного полковника. Он пользуется почетом только в Симле, и следует отметить, что у него нет имени — только номер и буква; у нас это в обычае.
— А его голова тоже оценена... как Мах... как голова всех прочих?
— Пока нет, но если бы мальчик, который здесь сидит, встал и дошел — смотри, дверь открыта! — до одного дома с красной верандой, стоящего на Нижнем Базаре позади здания, в котором раньше был театр, и прошептал через ставни: «Те дурные вести в прошлом месяце сообщил Хари-Чандар-Мукарджи», этот мальчик унес бы с собой кушак, полный рупий.
— Сколько? — быстро спросил Ким.
— Пятьсот, тысячу — сколько бы он ни попросил.
— Хорошо. А как долго прожил бы этот мальчик, передав такую новость? — он весело улыбнулся прямо в бороду Ларгану-сахибу.
— А! Об этом надо хорошенько подумать. Может быть, если он очень умен, он прожил бы этот день, но не ночь. Ни в коем случае не ночь!
— Так какое же жалованье получает бабу, если голова его так дорого ценится?
— Восемьдесят, может быть сто, может быть полтораста рупий, но в этой работе жалованье — последнее дело. Время от времени господь создает людей — ты один из них, — которые жаждут бродить с опасностью для жизни и узнавать новости: сегодня — о каких-нибудь отдаленных предметах, завтра — о какой-нибудь неисследованной горе, а послезавтра — о здешних жителях, наделавших глупостей во вред государству. Таких людей очень мало, а из этих немногих не более десяти заслуживают высшей похвалы. К этому десятку я причисляю и бабу, что очень любопытно. Как велико и привлекательно должно быть дело, если оно может закалить даже сердце бенгальца!
— Верно. Но дни мои тянутся медленно. Я еще мальчик и только два месяца назад выучился писать на ангрези. Даже теперь я все еще плохо читаю. И пройдут еще годы, и годы, долгие годы, прежде чем я смогу стать хотя бы землемером.
— Потерпи немного, Друг Всего Мира. — Ким изумился такому обращению. — Хотелось бы мне быть в том возрасте, который так досаждает тебе. Я разными способами испытывал тебя. И это не будет забыто, когда я буду делать доклад полковнику-сахибу. — Потом, внезапно перейдя на английский, он сказал с тихим смехом: — Клянусь Юпитером! Я считаю, О'Хара, что вам многое дано, но вы не должны кичиться этим и должны держать язык за зубами. Вы должны вернуться в Лакхнау, быть паинькой и уткнуться в свои книжки, как говорят англичане, а на следующие каникулы вы, быть может, вернетесь ко мне, если захотите. — У Кима вытянулось лицо. — О, конечно, только если сами захотите. Я знаю, куда вас тянет.
Четыре дня спустя для Кима и его чемоданчика заказали место на заднем сиденье танги, отъезжавшей в Калку. Спутником его оказался китообразный бабу. Он обмотал голову шалью с бахромой и, поджав под себя жирную левую ногу в ажурном чулке, дрожал и ворчал на утреннем холоде.
«Возможно ли, чтобы этот человек был одним из наших?» — думал Ким, глядя на его спину, колыхавшуюся как желе, когда они тряслись по дороге, и это суждение навело его на самые приятные мечты. Ларган-сахиб подарил ему пять рупий — внушительная сумма — и уверил его, что окажет ему покровительство, когда Ким примется за дело. Не в пример Махбубу, Ларган-сахиб говорил совершенно определенно о награде, которая последует за послушанием, и Ким был доволен. Лишь бы только он, подобно бабу, удостоился чести иметь номер и букву и... чтобы за голову его назначили цену! Когда-нибудь он добьется всего этого и даже большего. Когда-нибудь он, возможно, будет таким же великим, как Махбуб Али! Половина Индии послужит крышей для его поисков; он будет ходить за влиятельными князьями и министрами, как в былые дни ходил для Махбуба по городу Лахору за вакилами и агентами юристов. А пока, в ближайшем будущем, его ожидает довольно приятная жизнь в школе св. Ксаверия. Там можно будет опекать новичков и слушать рассказы о приключениях во время каникул. Юный Мартин, сын чайного плантатора из Манипура, хвастался, что с ружьем пойдет сражаться против разбойников. Возможно, так оно и вышло, но уж, наверное, юного Мартина не отбрасывало взорвавшимся фейерверком на середину переднего двора в Патияльском дворце и, наверное, он не... Ким начал рассказывать себе свои приключения последних трех месяцев. Будь это позволено, он своими рассказами довел бы школу св. Ксаверия до столбняка — всех, даже старших учеников, которые уже бреются. Но, конечно, об этом не может быть и речи. В надлежащее время голова его будет оценена, в чем Ларган-сахиб уверил его. Если же он теперь позволит себе безрассудно болтать, то не только за голову его никогда не назначат цены, но полковник Крейтон прогонит его... Его отдадут во власть разгневанных Ларгана-сахиба и Махбуба Али... на тот короткий промежуток времени, который ему останется жить на свете.
— И, таким образом, я из-за рыбы потеряю Дели, — философски заключил он, вспомнив пословицу. Это заставило его забыть действительные свои приключения во время каникул (ведь всегда можно будет развлечься и воображаемыми) и, как говорил Ларган-сахиб, работать.
Из всех мальчиков, спешно возвращавшихся в школу св. Ксаверия со всех концов Индии, начиная от окруженного песками Сакхара и до утонувшего в пальмовых рощах Галла, ни один не был столь преисполнен добродетели, как Кимбол О'Хара, ехавший в Амбалу позади Хари-Чандара-Мукарджи, который в книгах некоей секции Ведомства Этнологической Разведки был записан под литерой Р.17.
И если Ким еще нуждался в подстегивании, то бабу об этом позаботился. После очень сытного обеда в Калке он буквально не закрывал рта. Ким едет в школу? Тогда он, бабу, окончивший Калькуттский университет со степенью магистра искусств, расскажет о преимуществах образования. Можно кое-чего достигнуть, прилежно изучая латинский язык и «Экскурсии» Вордсворта (Киму все это было совершенно непонятно); французский язык тоже важен для успеха, и лучше всего его можно изучить в Чагдарнагаре, что недалеко от Калькутты. Затем можно далеко пойти, если, как это делал сам бабу, обратить серьезное внимание на театральные пьесы «Лир» и «Юлий Цезарь» — обе очень интересуют экзаменаторов. В «Лире» меньше исторических реминисценций, чем в «Юлии Цезаре»; книжка стоит четыре аны, но подержанную можно купить за две аны на Боу-Базаре. Еще важнее, чем Вордсворт и маститые писатели Берк и Хейр, искусство и наука измерений. Юноша, сдавший экзамены по этим отраслям знаний, — по которым, кстати сказать, учебников нет, — сможет, просто прогулявшись по какой-нибудь стране с компасом и анероидом и поглядев на нее зоркими глазами, унести с собой изображение этой страны, которое можно продать за крупную сумму чеканной серебряной монетой. Но принимая во внимание, что в некоторых случаях носить с собой мерные цепи бывает нецелесообразно, не худо бы знать точную длину своего собственного шага, так, чтобы юноша, лишенный того, что Хари-Чандар называл «добавочными вспомогательными орудиями», все же умел измерять расстояния. Опыт Хари-Чандара доказал, что при подсчитывании многих тысяч шагов лучше всего пользоваться четками с восемьюдесятью одним или ста восемью шариками, ибо «последнее число делится и снова делится на многие кратные и некратные»; среди обилия английских фраз Ким уловил основную мысль разговора, и она сильно его заинтересовала. Это было обилие знаний, которое человек мог хранить в голове, а перед Кимом развернулся такой широкий мир, что было ясно: чем больше человек знает, тем лучше. Проговорив целых полтора часа, бабу заявил:
— Надеюсь когда-нибудь иметь удовольствие быть знакомым с вами официально. Ассистент, да простится мне это выражение, я дам вам ящичек для бетеля, весьма ценную вещь, стоившую мне две рупии всего четыре года назад.
Это был дешевый медный ящик сердцевидной формы с тремя отделениями для неизменного ореха арековой пальмы, извести и листьев пана, но теперь он был набит скляночками с таблетками.
— Эта награда за ваше поведение по отношению к тому святому человеку. Видите ли, вы так молоды, что считаете себя вечным и не заботитесь о вашем теле. Очень неприятно заболеть в разгаре работы. Я сам люблю лекарства, к тому же ими удобно лечить простонародье. Это хорошие лекарства из ведомственной аптеки — хинин и другие. Я дарю их вам в качестве сувенира. Теперь прощайте. У меня тут по дороге срочное личное дело.
Он ускользнул бесшумно, как кошка, на Амбалскую дорогу, окликнул проезжавшую повозку, сел в нее, и она, дребезжа, укатилась, а Ким, онемев, вертел в руках медный ящичек для бетеля.
История воспитания мальчика способна заинтересовать лишь немногих людей, если не считать его родителей, а Ким, как известно, был сирота. В книгах школы св. Ксаверия записано, что отчет об успехах Кима посылался в конце каждого триместра полковнику Крейтону и отцу Виктору, от которого регулярно поступали деньги на его воспитание. Далее, в тех же книгах говорится, что он проявлял большие способности к математике, а также к черчению карт и за успехи в этих занятиях получил награду («Жизнь лорда Лоренса» в кожаном переплете в двух томах — девять рупий восемь ан). В этом же триместре, в возрасте четырнадцати лет и десяти месяцев, Ким участвовал в футбольном состязании школы св. Ксаверия с Алигархским мусульманским колледжем. Примерно в это же время ему вторично прививали оспу (отсюда мы можем заключить, что в Лакхнау опять вспыхнула эпидемия оспы). Карандашные пометки на полях старого именного списка свидетельствуют о том, что его несколько раз карали за «беседы с неподходящими лицами», а однажды, кажется, сурово наказали за то, что он «отлучился на день в обществе уличного нищего». Это случилось, когда он перелез через ворота и на берегах Гумти целый день упрашивал ламу взять его с собой на Дорогу на следующие каникулы... хоть на месяц... хоть на недельку, а лама с бесстрастным лицом доказывал, что время еще не настало. «Киму надо стремиться, — говорил старик, когда они вместе угощались лепешками, — достигнуть всей мудрости сахибов, а там видно будет». Рука дружбы, очевидно, каким-то образом отвела бич бедствия, ибо шесть недель спустя Ким, имея от роду пятнадцать лет и восемь месяцев, сдал экзамен по элементарной топографической съемке «с большим успехом». Начиная с этого времени отчеты о нем молчат. Фамилия его не появилась в ежегодном списке лиц, поступивших на службу в Межевое ведомство Индии, хотя в списке окончивших школу против нее стоит помета «выбыл с назначением».
Несколько раз за эти три года лама возвращался в бенаресский храм Тиртханкары, слегка похудевший и, насколько это было возможно, еще чуть пожелтевший, но мягкий и бесхитростный, как всегда. Иногда он приходил с юга, с южной окраины Тутикорина, откуда чудесные огненные лодки плывут на Цейлон, туда, где живут жрецы, знающие язык пали; иногда — с сырого зеленого запада, из Бомбея, окруженного трубами хлопчатобумажных фабрик, а однажды — с севера; направляясь туда, он отмахал восемьсот миль, чтобы проговорить целый день с хранителем Священных Изображений в Доме Чудес. Он входил в свою прохладную келью, сложенную из резного мрамора, — жрецы храма хорошо относились к старику, — смывал с себя дорожную пыль, совершал молитву и, хорошо знакомый теперь с железнодорожными порядками, уезжал в вагоне третьего класса в Лакхнау. Следует отметить, что, возвращаясь оттуда, он (как об этом сообщал его друг-искатель главному жрецу), на некоторое время переставал горевать о потере своей Реки и рисовать диковинные изображения Колеса Жизни, но предпочитал говорить о красоте и мудрости некоего таинственного челы, которого никто из обитателей храма никогда не видел. Да, он всю Индию исходил по следам благословенных ног. (У хранителя до сих пор находится весьма подробный отчет о его странствиях и размышлениях.) В жизни ему осталось лишь одно — найти Реку Стрелы. Однако во сне ему было явлено, что это дело нельзя предпринимать с надеждой на успех, если искатель не будет иметь при себе челы, которому предназначено довести Искание до желанного конца, челы, достигшего глубин мудрости, такой же мудрости, какой одарены беловолосые хранители Священных Изображений. Так, например (тут вынималась табакерка, и любезные жрецы-джайны спешили умолкнуть)...
— Давным-давно, когда Девадатта был царем Бенареса, — все слушайте Джатаку! — царские охотники поймали слона и, прежде чем ему удалось от них вырваться, надели ему на ногу страшные железные кандалы. Ярость и ненависть овладели его сердцем, и он старался снять с себя кандалы и, носясь взад и вперед по лесам, просил своих братьев-слонов сдернуть их прочь. Один за другим слоны пробовали снять кандалы хоботами, но это не удавалось. Наконец, они заявили, что звериной силой кольца не снять. А в чаще леса лежал новорожденный, еще влажный от влаги рождения, слоненок этого стада, родившийся накануне. Мать его умерла. Скованный слон, забыв о собственных муках, сказал: «Если я не позабочусь об этом сосунке, он погибнет под нашими ногами». Итак, он встал над детенышем и ногами своими загородил его от беспорядочно движущегося стада. И он попросил молока у одной добродетельной слонихи, и слоненок стал расти, а скованный слон был ему наставником и защитником. Но слон — все слушайте Джатаку! — только в тридцать пять лет достигает полной силы, и в течение тридцати пяти сезонов дождей скованный слон заботился о младшем слоне, и все это время оковы въедались в его тело. Тогда однажды юный слон заметил железо, до половины вошедшее в тело, и, обратившись к старшему, спросил: «Что это такое?» — Это мое горе, — ответил тот, кто заботился о слоненке. Тогда молодой слон вытянул хобот и в мгновение ока сорвал кольцо, говоря: «Наступил долгожданный час». Итак, добродетельный слон, терпеливо ожидавший и совершавший добрые дела, в назначенный срок был избавлен от своих страданий тем самым слоненком, о котором он заботился, позабыв о себе, — все слушайте Джатаку! — ибо слон был Ананд а, а слоненок, сорвавший кольцо, не кто иной, как сам Владыка...
Потом лама добродушно качал головой и, неустанно постукивая четками, обращал внимание своих слушателей на то, насколько этот слоненок был неповинен в грехе гордости. Он был столь же смиренен, как некий чела, который, увидев учителя своего сидящим в пыли за Вратами Учености, перепрыгнул через ворота (ибо они были закрыты) и прижал учителя к своему сердцу на глазах у всего надменного города. Велика будет награда такого учителя и такого челы, когда наступит для них время вместе искать освобождения!
Так говорил лама, легко, как летучая мышь, перемещаясь по Индии. Некая старуха, острая на язык и обитающая в одном доме посреди фруктовых деревьев за Сахаранпуром, почитала его, как другая женщина почитала пророка, но покои его помещались отнюдь не на стене. Он сидел в одной из комнат на переднем дворе, над которой ворковали голуби, а хозяйка снимала с лица ненужное покрывало и болтала о духах и демонах Кулу, о нерожденных внуках и о дерзком на язык постреленке, который говорил с нею во время отдыха в пути. Однажды лама, свернув с Большого Колесного Пути ниже Амбалы, в одиночестве дошел до деревни, жрец которой некогда пытался одурманить его. Но доброе небо, охраняющее лам, в сумерках направило его по полям, погруженного в себя и ни о чем не подозревающего, к дверям рисалдара. Тут могло выйти серьезное недоразумение, ибо старый военный спросил, почему Друг Всего Мира проходил этой дорогой всего шесть дней назад.
— Этого не может быть, — сказал лама. — Он вернулся к своим сородичам.
— Он сидел в этом углу пять ночей назад и рассказывал сотни смешных историй, — стоял на своем хозяин. — Правда, исчез он внезапно, на рассвете, после дурацкой болтовни с моей внучкой. Он растет быстро, но он все тот же Друг Звезд, который сообщил мне истинное слово о войне. Разве вы разошлись?
— Да... и нет, — ответил лама. — Мы... мы не совсем разошлись, но нам не пришло еще время вместе выйти на Дорогу. Он постигает мудрость в другом месте. Мы должны ждать.
— Все равно. Но если это не тот мальчик, так почему же он постоянно говорит о тебе?
— А что он говорил? — спросил лама в волнении.
— Добрые слова, сотню тысяч добрых слов; говорил, что ты его отец и мать и тому подобное. Жаль, что он не поступил на королевскую службу. Он не знает страха.
Это известие удивило ламу, который в ту пору не знал, как свято соблюдал Ким договор, заключенный с Махбубом Али и поневоле подтвержденный полковником Крейтоном...
— Не надо запрещать молодому пони немного поиграть, — сказал барышник, когда полковник заметил, что нелепо шляться по Индии во время каникул. — Если ему не позволят уйти и бродить по своей воле, он не посмотрит на запрещение. И тогда кто поймает его? Полковник-сахиб, только раз в тысячу лет рождается конь, столь способный к игре, как этот ваш жеребенок. А нам люди нужны.
ГЛАВА Х
Подрос ваш сокол, сэр. Он не птенец, А хищник, и познал свободу прежде, Чем я его поймал. Будь он моим (Как эта вот охотничья перчатка), Пустил бы я его летать. Он крепок И закален: совсем он оперился... Ему верните небо, и тогда Его осилит кто? Стража ГауЛарган-сахиб не высказывался столь же решительно, но его мнение совпадало с мнением Махбуба, и это принесло пользу Киму. Он не стремился теперь уезжать из Лакхнау в туземном платье и, если удавалось письменно снестись с Махбубом, направлялся в его лагерь и переодевался на глазах у осторожного патхана. Если бы топографическая коробочка с красками, которой он в учебное время пользовался для раскрашивания карт, могла рассказать о его похождениях во время каникул, его наверняка исключили бы из школы. Однажды они вместе с Махбубом, сопровождая три платформы лошадей для конки, добрались до прекрасного города Бомбея, и Махбуб растаял от радости, когда Ким предложил ему переплыть Индийский океан на арабском судне, чтобы закупить коней на берегах Арабского залива, ибо, как он слышал от барышника Абдуррахмана, этих коней можно было продать дороже простых кабульских.
Ким вместе с этим большим купцом окунул пальцы в блюда, когда Махбуб и несколько его единоверцев были приглашены на большой обед в память о хадже. Они возвращались морем, через Карачи, и тут Ким, впервые испытавший морскую болезнь, сидел на носовом люке каботажного парохода, твердо уверенный, что его отравили. Замечательная коробочка с лекарствами, которую дал ему бабу, оказалась бесполезной, хотя Ким пополнил ее содержимое в Бомбее.
У Махбуба были дела в Кветте, и там Ким, по признанию Махбуба, окупил стоимость своего содержания, пожалуй даже с избытком, прослужив четыре необыкновенных дня поваренком в доме толстого интендантского чиновника, из чьей конторки он, улучив момент, извлек маленькую счетную книгу на веленевой бумаге (записи в ней на первый взгляд относились исключительно к продаже рогатого скота и верблюдов) и целую душную ночь напролет переписывал ее при лунном свете, лежа за каким-то строением во дворе. Потом он положил счетную книгу на место и, по приказанию Махбуба, ушел со службы, не попросив расчета, после чего с аккуратной копией за пазухой догнал барышника на дороге в шести милях от города.
— Этот военный — мелкая рыбешка, — объяснил Махбуб Али, — но со временем мы поймаем более крупную. Он лишь продает быков за две разные цены: одна цена для него, другая — для правительства, а я это не считаю грехом.
— Почему мне нельзя было просто унести книгу и на этом успокоиться?
— Тогда он перепугался бы и донес об этом своему начальству. А мы, возможно, потеряли бы след большой партии новых ружей, которые переправляются из Кветты на Север. Игра так велика, что одним взглядом можно окинуть только маленький ее участок.
— Охо! — проронил Ким и прикусил язык. Это случилось на каникулах, во время муссонов, после того как он получил награду за успехи в математике. Рождественские каникулы — если вычесть десять дней, потраченные на собственные развлечения, — он провел в доме Ларгана-сахиба, где большей частью сидел перед трещащими пылающими дровами, — в тот год дорога на Джеко была покрыта четырехфутовым слоем снега, — и, так как маленький индус уехал жениться, помогал Ларгану нанизывать жемчужины. Тот заставлял Кима учить на память целые главы из Корана и при этом читать их, в точности подражая интонациям и модуляциям голоса настоящего муллы. Кроме того, он сообщил Киму названия и свойства множества туземных лекарств, а также заклинания, которые следует читать, когда даешь эти лекарства больным. Вечерами он рисовал на пергаменте магические фигуры — изысканные пентаграммы, дополненные именами дьяволов — Марры и Авана, спутника царей, — которые он причудливым почерком писал по углам. Ларган давал Киму и более полезные советы — насчет ухода за своим собственным телом, лечения приступов лихорадки и простых лечебных средств, применяющихся в Дороге. За неделю до того срока, когда Киму предстояло уехать, полковник Крейтон — и это было нехорошо с его стороны — прислал мальчику экзаменационный лист с вопросами, которые касались исключительно топографических реек, землемерных цепей, их звеньев и углов.
Следующие каникулы он провел с Махбубом и тут, кстати сказать, чуть не умер от жажды, тащась на верблюде к таинственному городу Биканиру по пескам, где колодцы имеют четыреста футов глубины и сплошь завалены верблюжьими костями. По мнению Кима, путешествие это было не из приятных; вопреки предварительной договоренности, полковник велел ему снять план этого дикого, окруженного стенами города, и, так как мусульманским конюхам и чистильщикам трубок нельзя таскать землемерных цепей вокруг столицы независимого туземного государства, Ким был вынужден измерять все расстояния при помощи четок с шариками. Он пользовался компасом по мере возможности — главным образом в сумерки, когда верблюды были уже накормлены, — и с помощью своей топографической коробочки, в которой лежали шесть плиток с красками и три кисточки, ему удалось начертить план, не слишком отличающийся от плана города Джайсалмера. Махбуб много смеялся и посоветовал ему заодно уж сделать письменный доклад, и Ким принялся писать на последних страницах большой счетной книги, лежавшей под отворотом любимого седла Махбуба.
— В доклад надо включить все то, что ты видел, с чем соприкасался, о чем размышлял. Пиши так, как будто сам джангилат-сахиб пришел неожиданно с большой армией, намереваясь начать войну.
— А как велика эта армия?
— О, пол-лакха человек.
— Чепуха! Вспомни, как мало колодцев в песках и как они плохи. Сюда не доберется и тысяча человек, которых мучит жажда.
— Вот и напиши об этом, а также обо всех старых брешах в стенах... о том, где можно нарубить дров... о нраве и характере владетельного князя. Я останусь здесь, покуда все мои лошади не будут распроданы. Я найму комнату у ворот, и ты будешь моим счетоводом. Замок на двери хороший.
Доклад, написанный размашистым почерком, по которому безошибочно можно было узнать каллиграфический стиль школы св. Ксаверия, с картой, намазанной краплаком, коричневой и желтой красками, был в сохранности еще несколько лет тому назад (какой-то небрежный клерк подшил его к черновым заметкам о второй Сеистанской съемке Е.23-го), но теперь его написанные карандашом строки, вероятно, почти невозможно прочесть. Ким, потея, перевел его Махбубу при свете масляной лампы на второй день их обратного путешествия. Патхан встал и нагнулся над своими разноцветными седельными сумами.
— Я знал, что ты заслужишь одеяние почета, и потому приготовил его, — сказал он с улыбкой. — Будь я эмиром Афганистана (а мы, возможно, увидим его когда-нибудь), я наполнил бы уста твои золотом. — Он торжественно положил одежду к ногам Кима. Тут были составные части чалмы: расшитая золотом пешаварская шапочка конической формы и большой шарф с широкой золотой бахромой на концах; вышитая делийская безрукавка, широкая и развевающаяся, — надевалась она на молочно-белую рубашку и застегивалась на правом боку; зеленые шаровары с поясным шнурком из крученого шелка и, в довершение всего, благоухающие и с задорно загнутыми носками туфли из русской кожи.
— Обновы надо впервые надевать в пятницу утром, ибо это приносит счастье, — торжественно промолвил Махбуб. — Но нам не следует забывать о злых людях, живущих на этом свете. Да!
Поверх всей этой роскоши, от которой у восхищенного Кима захватило дух, он положил украшенный перламутром, никелевый автоматический револьвер калибра 450.
— Я подумывал, не купить ли револьвер меньшего калибра, но рассудил, что этот заряжается казенными патронами. А их всегда можно достать, особенно по ту сторону Границы. Встань и дай мне взглянуть на тебя! — Он хлопнул Кима по плечу.
— Да не узнаешь ты никогда усталости, патхан! О сердца, обреченные на погибель! О глаза, искоса глядящие из-под ресниц!
Ким повернулся, вытянул носки, выпрямился и невольно коснулся усов, которые едва пробивались. Потом он склонился к ногам Махбуба, чтобы должным образом выразить свою признательность, погладив их легким движением рук; сердце его было переполнено благодарностью, и это мешало ему говорить. Махбуб предупредил его намерение и обнял юношу.
— Сын мой, — сказал он, — к чему нам слова? Но разве этот маленький пистолет не прелесть? Все шесть патронов вылетают после одного нажима. Носить его надо не за пазухой, а у голого тела, которое, так сказать, смазывает его. Никогда не клади его в другое место и, бог даст, ты когда-нибудь убьешь из него человека.
— Хай май! — уныло произнес Ким. — Если сахиб убьет человека, его повесят в тюрьме.
— Верно, но переступи Границу и увидишь, что по ту сторону люди мудрее. Отложи его, но сперва заряди. На что нужен незаряженный пистолет?
— Когда я поеду в Мадрасу, мне придется вернуть тебе его. Там не разрешают носить пистолеты. Ты сбережешь его для меня?
— Сын, мне надоела эта Мадраса, где отнимают у человека лучшие годы, чтобы учить его тому, чему можно научиться только в Дороге. Безумию сахибов нет предела. Но ничего! Быть может, твой письменный доклад избавит тебя от дальнейшего рабства, а бог — он знает, что нам нужно все больше и больше людей для Игры.
Они двигались, завязав рты для защиты от песчаного ветра, по соленой пустыне к Джодхпуру, где Махбуб Али и его красивый племянник Хабибулла усердно занимались торговыми делами; а потом Ким, одетый в европейское платье, из которого он уже вырос, с грустью уехал в вагоне второго класса в школу св. Ксаверия.
Три недели спустя полковник Крейтон, прицениваясь к тибетским ритуальным кинжалам в лавке Ларгана, столкнулся лицом к лицу с откровенно взбунтовавшимся Махбубом Али. Ларган-сахиб играл роль резервного подкрепления.
— Пони выучен... готов... взнуздан и выезжен, сахиб! Отныне он изо дня в день будет забывать свои навыки, если его будут занимать всякой чепухой. Уроните повод на его спину и пустите его, — говорил барышник. — Он нам нужен.
— Но он так молод, Махбуб, — кажется, ему не больше шестнадцати, ведь так?
— Когда мне было пятнадцать лет, я убил человека и зачал человека, сахиб.
— Ах вы, нераскаянный, старый язычник! — Крейтон обернулся к Ларгану. Черная борода кивком подтвердила согласие с мудростью краснобородого афганца.
— Я мог использовать его давным-давно, — сказал Ларган. — Чем моложе, тем лучше. Вот почему я всегда приставляю ребенка сторожить действительно ценные мои камни. Вы послали его ко мне на испытание. И я всячески испытывал его. Он — единственный мальчик, которого я не мог заставить увидеть некоторые вещи.
— В хрустале... в чернильной луже? — спросил Махбуб.
— Нет, — когда я накладывал на него руку, как я уже говорил вам. Этого никогда не случалось раньше. Это значит, что он достаточно силен (хоть вы и считаете все это пустяками, полковник Крейтон), чтобы заставить любого человека беспрекословно ему повиноваться. Это было три года назад. С тех пор я научил его очень многому, полковник Крейтон. Я полагаю, что теперь вы попусту тратите время.
— Хм! Может быть, вы и правы. Но, как вам известно, в области разведки для него пока нет подходящей работы.
— Выпустите его... Отпустите его, — перебил его Махбуб. — Кто может требовать, чтобы жеребенок с самого начала носил тяжелые вьюки? Дайте ему побегать с караванами, как бегают наши белые верблюжата... на счастье. Я бы и сам его взял, но...
— Есть небольшое дело, где он мог бы оказаться чрезвычайно полезным... на Юге, — промолвил Ларган как-то особенно вкрадчиво и опустил тяжелые синеватые веки.
— Этим занимается Е.23-й, — быстро сказал Крейтон. — Туда ему ехать нельзя. Кроме того, он не говорит по-турецки.
— Опишите ему только вид и запах нужных нам писем, и он доставит их, — настаивал Ларган.
— Нет. На эту работу годится только взрослый мужчина, — сказал Крейтон.
Это щекотливое дело касалось недозволенной и полной раздражения переписки между лицом, считающим себя высшим авторитетом во всех вопросах мусульманской веры во всем мире, и молодым членом одного княжеского дома, который был взят на заметку за похищение женщин с британской территории. Мусульманское духовное лицо выражалось патетически и слишком дерзко, молодой принц просто дулся за то, что привилегии его урезали, но ему не следовало продолжать переписку, способную в один прекрасный день скомпрометировать его. Одно письмо и в самом деле удалось добыть, но человек, перехвативший его, был потом найден мертвым — лежащим у дороги в одежде арабского купца, как, по долгу службы, донес Е.23-й, взявший на себя ведение этого дела.
Эти факты и некоторые другие, не подлежащие разглашению, заставили обоих, Махбуба и Крейтона, покачать головой.
— Позвольте ему уйти с красным ламой, — сказал барышник с видимым усилием. — Он любит старика. По крайней мере, он научится считать свои шаги при помощи четок.
— Я вел кое-какие дела с этим стариком... письменно, — сказал полковник Крейтон, улыбаясь. — А куда он пойдет?
— Будет бродить по всей стране, как бродил эти три года. Он ищет Реку Исцеления. Проклятие на всех... — Махбуб сдержался. — Вернувшись с Дороги, он останавливается в храме Тиртханкары или в Будх-Гае. Потом отправляется навестить мальчика в Мадрасе, о чем нам известно, ибо мальчика за это наказывали два или три раза. Он совсем сумасшедший, но человек мирный. Я встречался с ним. У бабу тоже были с ним дела. Мы следили за ним три года. Красные ламы не так часто встречаются в Хинде, чтобы можно было потерять их след.
— Бабу — прелюбопытные люди, — задумчиво промолвил Ларган. — Вы знаете, чего Хари-бабу действительно хочется? Ему хочется, чтобы его за этнологические исследования выбрали в члены Королевского Общества. Вы знаете, я передал ему все то, что Махбуб и мальчик рассказывали мне о ламе. Хари-бабу ездит в Бенарес... и, как будто, за свой счет.
— Навряд ли, — кратко сказал Крейтон. Он оплатил Хари путевые расходы, ибо чрезвычайно хотел узнать, что за человек лама.
— И он несколько раз в течение этих немногих лет обращался к ламе за сведениями о ламаизме, о цаме, о заклинаниях и талисманах. Пресвятая дева! Я мог бы сообщить ему все это много лет назад. Мне кажется, что Хари-бабу становится слишком старым для Дороги. Ему больше нравится собирать сведения о нравах и обычаях. Да, он хочет стать Ч.К.О.
— Хари хорошего мнения о парне, ведь так?
— Да, очень хорошего; мы вместе провели в моем доме несколько приятных вечеров, но я думаю, что перебросить его вместе с Хари на этнологическую работу будет бессмысленной тратой его сил.
— Нет, если допустить это в качестве первого опыта. Как ваше мнение, Махбуб? Позволим мальчику шесть месяцев бродить с ламой. А потом посмотрим. Он приобретет опыт.
— Опыт у него уже есть, сахиб, как у рыбы, знающей воду, в которой плавает, но освободить его от школы во всяком случае следует.
— Ну что ж, отлично, — сказал Крейтон, обращаясь столько же к самому себе, сколько к окружающим. — Он может уйти с ламой, а если Хари-бабу не прочь последить за ним, тем лучше. При нем мальчик будет в безопасности, не то что при Махбубе. Любопытно, что Хари стремится стать Ч.К.О. И вполне естественно. В этнологии он всех за пояс заткнет... этот Хари.
Никакие деньги и никакое служебное повышение не могли бы оторвать Крейтона от его работы по разведке в Индии, но, кроме того, в сердце его таилось желание получить право добавить к своему имени Ч.К.О. Он знал, что благодаря собственной изобретательности и помощи друзей можно добиться довольно почетного положения, но, по его глубокому убеждению, ничто, кроме научной работы и статей, отражающих ее результаты, не могло ввести человека в то Общество, которое сам он много лет забрасывал монографиями о своеобразных азиатских культах и неизвестных обычаях. Девять человек из десяти, удрученные безмерной скукой, убегают с «вечера» в Королевском Обществе, но Крейтон был десятым, и временами душа его тосковала по битком набитым комнатам в уютном Лондоне: где седовласые или лысые джентльмены, совершенно незнакомые с армией, возятся со спектроскопическими экспериментами, мельчайшими растениями мерзлых тундр, машинами, измеряющими электрическое напряжение, и аппаратами, при помощи которых можно разрезать левый глаз самки москита на слои в десятые доли миллиметра. Судя по всему, он должен был бы мечтать о вступлении в Королевское Географическое Общество, но мужчины, как и дети, выбирают игрушки случайно. Итак, Крейтон улыбнулся и в лучшую сторону изменил свое мнение о Хари-бабу, движимом тем же стремлением. Он бросил ритуальный кинжал и взглянул на Махбуба.
— Как скоро выведем мы жеребенка из конюшни? — спросил барышник, читавший в его глазах.
— Хм. Если я теперь возьму его оттуда по приказу сверху, как вы думаете, что он станет делать? Никогда мне не приходилось следить за воспитанием такого мальчика.
— Он отправится ко мне, — быстро сказал Махбуб. — Ларган-сахиб и я подготовили его к Дороге.
— Пусть так. Шесть месяцев он будет бегать, где ему вздумается. Но кто сможет за него поручиться? — Ларган слегка наклонил голову.
— Он ничего не разболтает, если вы именно этого опасаетесь, полковник Крейтон.
— Все-таки он еще мальчик.
— Да, но, во-первых, ему не о чем болтать, а, во-вторых, он знает, что произойдет в таком случае. Кроме того, он очень любит Махбуба, да и меня немного.
— Будет ли он получать жалованье? — спросил практичный барышник.
— Только деньги на пропитание. Двадцать рупий в месяц.
Тайное ведомство обладает тем преимуществом, что от него не требуют надоедливой отчетности. Само собой разумеется, ведомству дают до смешного мизерные ассигнования, но фондами его распоряжаются несколько человек, которые не обязаны ссылаться на оправдательные документы или представлять отчеты с перечислением расходных статей. Глаза Махбуба загорелись почти сикхской любовью к деньгам. Даже бесстрастное лицо Ларгана изменило выражение. Он думал о грядущих годах, когда Ким будет окончательно подготовлен и примет участие в Большой Игре, не прекращающейся ни днем, ни ночью на всем пространстве Индии. Он предвидел, как будут уважать и хвалить его немногие избранные за такого ученика. Ларган-сахиб сделал Е.23-го, превратив ошалелого, дерзкого, лживого маленького уроженца Северо-Западной провинции в такого человека, каким был теперь Е.23-й.
Но радость этих мастеров была бледна и туманна в сравнении с радостью Кима, когда директор школы св. Ксаверия отозвал его в сторону и сообщил, что полковник Крейтон прислал за ним.
— Я полагаю, О'Хара, что он устроил вас на место помощника землемера в Ведомстве Каналов. Вот что получается, если как следует взяться за математику. Это большое счастье для вас, ведь вам всего семнадцать лет. Но, само собой разумеется, вы должны иметь в виду, что не будете пакка[41], покуда не сдадите осенних экзаменов. Поэтому вы не должны воображать, что вступаете в жизнь для того, чтобы развлекаться, или что карьера ваша уже сделана. Вам предстоит много трудной работы. Однако, если вам удастся стать пакка, знайте, что вам могут увеличить жалованье до четырехсот пятидесяти в месяц. — После этого директор дал ему много добрых советов относительно его поведения, манер и нравственности. Прочие же ученики, которые по годам были старше его и еще не получили назначения, говорили о протекции и взятке так, как могут говорить только англо-индийские юноши. Юный Кезелет, чей отец был пенсионером в Чанаре, намекал без всякого стеснения, что интерес полковника Крейтона к Киму носит явно отцовский характер, а Ким, вместо того чтобы дать отпор, даже не бранился. Он думал о предстоящих огромных радостях, о вчерашнем письме Махбуба, аккуратно написанном по-английски и назначавшем ему свидание сегодня после обеда в доме, одно название которого заставило бы волосы директора встать дыбом от ужаса...
В тот вечер на Лакхнауском вокзале, у багажных весов, Ким сказал Махбубу:
— Под конец я боялся, как бы крыша на меня не рухнула и я не остался бы в дураках. Неужели все это действительно кончилось, о, отец мой?
Махбуб щелкнул пальцами в знак того, что конец бесповоротно настал, и глаза его горели, как угли, раскаленные докрасна.
— Так где же пистолет, который я буду носить?
— Потише: полгода ты будешь бегать без пут на ногах. Я выпросил это у полковника Крейтона-сахиба. За двадцать рупий в месяц. Старый красношапочник знает, что ты придешь.
— Я буду платить тебе дастури[42] из моего жалованья в течение трех месяцев, — с важностью проговорил Ким. — Да, по три рупии в месяц. Но сначала нужно отделаться от этого. — Он тронул материю своих тонких полотняных штанов и дернул за воротник. — Я принес с собой все, что мне понадобится в Дороге. Чемодан мой отправлен к Ларгану-сахибу.
— Который посылает тебе свой салам... сахиб.
— Ларган-сахиб очень умный человек. Но что будешь делать ты?
— Я опять поеду на Север заниматься Большой Игрой. Что же еще делать? А ты все-таки намерен следовать за старым красношапочником?
— Не забывай, что он сделал меня таким, какой я есть. Из года в год он посылал деньги, на которые меня учили.
— Я сделал бы то же самое... приди мне это в мою тупую голову, — проворчал Махбуб. — Пойдем. Фонари уже зажжены, и никто не заметит тебя на базаре. Мы пойдем к Ханифе.
По дороге Махбуб давал ему почти такие же советы, какие давала мать Лемуила своему сыну, и, как ни странно, Махбуб в точности описал, каким образом Ханифа и ей подобные навлекают беды на властителей.
— Я вспоминаю одного человека, который говорил: «Верь змее больше, чем шлюхе, и шлюхе больше, чем патхану, Махбуб Али». Надо признать, что если исключить патханов, к коим я принадлежу, все это верно. И это особенно верно в Большой Игре, ибо бывает, что из-за женщин рушатся все планы и мы лежим на заре с перерезанными глотками. Так случилось с таким-то, — и он передал Киму ряд потрясающих подробностей.
— Так зачем же?.. Ким остановился перед грязной лестницей, уходящей в теплый мрак верхнего этажа одного дома, который стоял в квартале, расположенном позади табачной лавки Азимуллы. Знакомые с этим местом люди называют его «птичьей клеткой», так полно оно шепотов, свиста и щебетанья.
Комната с грязными подушками и наполовину выкуренными хукками отвратительно пахла застоявшимся табачным дымом. В одном углу лежала огромная бесформенная женщина, закутанная в зеленоватую прозрачную ткань и увешанная тяжелыми туземными драгоценностями, осыпавшими ее лоб, нос, уши, шею, кисти рук, предплечья, талию и щиколотки. Когда она поворачивалась, казалось, что бренчат медные горшки. Худая кошка мяукала от голода на балконе, за окном. Ким в изумлении остановился у дверной занавески.
— Это новичок, Махбуб? — лениво спросила Ханифа, даже не потрудившись вынуть мундштук изо рта. — О Бактану! — Как большинство подобных ей женщин, она имела обыкновение призывать джиннов. — О Бактану! На него очень приятно смотреть.
— Это входит в церемонию продажи коня, — объяснил Махбуб Киму, и тот рассмеялся.
— Я слышал эти речи с тех пор, как перешел в шестой класс, — откликнулся тот, садясь на корточки под лампой. — Что же будет дальше?
— Тебе будет оказано покровительство. Сегодня вечером мы изменим цвет твоей кожи. Жизнь под крышей сделала тебя белым как миндаль. Но Ханифа знает тайну прочной краски, это не то, что мазня, которая сходит через день-два. Кроме того, мы укрепим тебя и сделаем способным противостоять случайностям Дороги. Это мой подарок тебе, сын мой. Сними с себя все металлические вещи и положи их сюда. Готовься, Ханифа.
Ким вынул свой компас, топографический ящичек с красками и недавно пополненную аптечку. Все эти вещи были при нем во время его странствований, и он по-мальчишески очень дорожил ими.
Женщина медленно поднялась и двинулась, слегка вытянув руки перед собой. Тогда Ким увидел, что она слепа.
— Да, да, — пробормотала она, — патхан говорит правду... Моя краска не сходит через неделю или месяц, и те, кому я покровительствую, защищены хорошо.
— Когда ты уходишь далеко в одиночку, нехорошо внезапно покрыться нарывами или заболеть проказой, — сказал Махбуб. — Когда ты был со мною, я мог присматривать за тобой. Кроме того, у патханов светлая кожа. Теперь разденься до пояса и посмотри, как ты побелел. — Ханифа ощупью возвращалась из внутренней комнаты. — Ничего, она не видит. — Он взял оловянный кубок из ее унизанных кольцами рук.
Краска оказалась синеватой и липкой. Ким попробовал окунуть в нее кусочек ваты и мазнуть себя по руке, но Ханифа по слуху догадалась об этом.
— Нет, нет, — вскричала она, — так не годится, нужны надлежащие обряды. Окраска — последнее дело. Я дам тебе полную защиту для Дороги.
— Джаду[43]? — проговорил Ким, поднимаясь. Ему не нравились эти белые, незрячие глаза.
Рука Махбуба, лежащая на его шее, пригнула его к полу, и нос Кима очутился на расстоянии дюйма от досок.
— Лежи смирно. Никакого вреда тебе не будет, сын мой. Я — твоя жертва!
Ким не мог видеть, что делала женщина, но долго слышал позвякиванье ее драгоценностей. В темноте вспыхнула зажженная спичка, он услышал хорошо знакомое потрескиванье и шипенье зерен ладана. Потом комната наполнилась дымом — густым, ароматным и удушливым. Сквозь все сильнее одолевавшую его дремоту он слышал имена дьяволов: Залбазана, сына Иблиса, который обитает на базарах и парао и порождает внезапно вспыхивающий разврат на придорожных стоянках; Далхана, который невидимо присутствует в мечетях, обитает среди туфель верующих и мешает народу молиться; Мазбута, владыки лжи и панического ужаса. Ханифа, то шепча ему что-то на ухо, то говоря словно на огромном расстоянии, трогала его неприятными мягкими пальцами, но Махбуб не отнимал руки от его шеи, пока ослабевший юноша, вздохнув, не лишился чувств.
— Аллах! Как он боролся! Нам не удалось бы добиться этого без снадобий. Я считаю, что это благодаря его белой крови, — с раздражением сказал Махбуб. — Продолжай дават[44]. Дай ему полную защиту.
— О, слушающий! Ты, который слушает ушами, будь здесь. Слушай, о, слушающий! — Ханифа стонала, и мертвые глаза ее были обращены на запад. Темная комната огласилась стонами и пыхтеньем.
На наружном балконе показалась тучная фигура какого-то человека. Он поднял голову, круглую, как пуля, и нервно кашлянул.
— Не прерывайте этого чревовещательного колдовства, друг мой, — сказал человек по-английски. — Я предполагаю, что вам она очень неприятна, но просвещенный наблюдатель неспособен по-настоящему испугаться.
— ...Я придумала заговор, чтобы уничтожить их! О, пророк, будь терпелив к неверующим! Оставь их на время в покое! — Лицо Ханифы, обращенное на север, исказилось ужасными гримасами, и казалось, что с потолка ей отвечают какие-то голоса.
Хари-бабу снова принялся писать в своей записной книжке, балансируя на подоконнике, но рука его дрожала. Ханифа, сидя скрестив ноги у недвижной головы Кима, в каком-то наркотическом экстазе дергалась всем телом и одного за другим призывала дьяволов, согласно принятому в древнем ритуале порядку, убеждая их не вставать на пути юноши.
— У него ключи от тайн! Никто не знает о них, кроме него самого! Он знает все на суше и на море! — И снова послышались свистящие ответы из нездешнего мира.
— Я... я опасаюсь, не вредна ли эта процедура? — проговорил бабу, глядя, как дергались и дрожали мускулы на шее Ханифы, когда она говорила разными голосами. — А не убила ли она мальчика? В таком случае я отказываюсь быть свидетелем на суде... Как она назвала последнего из этих несуществующих дьяволов?
— Бабуджи, — промолвил Махбуб на местном языке. — Я не уважаю демонов Хинда, но сыны Иблиса — дело другое и, будь они джамали[45] или джалали[46], они одинаково не любят кафиров.
— Так вы полагаете, мне лучше уйти? — сказал Хари-бабу, приподнимаясь. — Само собой разумеется, они просто дематериализованные феномены! Спенсер говорит...
Кризис Ханифы прошел и, как это всегда бывает в таких случаях, заключился пароксизмом воя. На губах ее показалась пена. Недвижная, она в изнеможении лежала рядом с Кимом, а безумные голоса умолкли.
— Да. Дело кончено. Да послужит это на пользу мальчику! Ханифа — настоящая мастерица давата. Помоги оттащить ее в сторону, бабу. Не бойся.
— Как могу я бояться того, что не существует? — сказал Хари-бабу по-английски, чтобы подбодрить себя. Можно ли бояться колдовства, которое с презрением исследуешь, и собирать для Королевского Общества фольклор, не теряя веры во все силы тьмы?
Махбуб тихо засмеялся. Он и раньше встречался с Хари на Дороге.
— Кончим окраску, — промолвил он. — Мальчик теперь хорошо защищен, если... если у Владык Воздуха имеются уши, чтобы слышать. Я суфи[47]. Но если знаешь слабые стороны женщины, жеребца или демона, зачем приближаться к ним и подставлять себя под удар? Выведи его на Дорогу, бабу, и последи за тем, чтобы старый красношапочник не увел его туда, где нам его не достать. Я должен вернуться к своим лошадям.
— Хорошо, — сказал Хари-бабу, — в настоящее время он представляет любопытное зрелище.
Перед третьими петухами Ким проснулся после сна, который, казалось, длился тысячи лет. Ханифа тяжело храпела в углу, Махбуб ушел.
— Надеюсь, вы не испугались, — послышался у Кима под боком медоточивый голос. — Я наблюдал за всей процедурой, которая оказалась чрезвычайно интересной с этнологической точки зрения. Это был первоклассный дават.
— Ха! — произнес Ким, узнавая Хари-бабу, который вкрадчиво улыбался.
— Я также имел честь привезти сюда от Ларгана ваш настоящий костюм. Официально я не обязан возить подобные наряды подчиненным, но, — он захихикал, — ваш случай записан в книгах как исключительный. Надеюсь, мистер Ларган оценит мои действия.
Ким зевнул и потянулся. Приятно было опять поворачиваться и сгибаться в свободном платье.
— Что это такое? — Он с любопытством смотрел на тяжелую шерстяную ткань, от которой веяло всеми запахами дальнего Севера.
— О-хо! Это не привлекающий ничьего внимания костюм челы, служащего ламе. Полный костюм, подлинный до последних мелочей, — сказал Хари-бабу, выкатываясь на балкон, чтобы почистить себе зубы. — Я держусь того ме-нения, что единоверцы вашего старика носят не совсем такую одежду; эта скорее свойственна исповедующим один из вариантов его религии. На эти темы я посылал в «Азиатское Поквартальное Обозрение» заметки, возвращенные мне ненапечатанными. Однако любопытно, что сам старик абсолютно лишен религиозности. Он ни на йоту не щепетилен.
— А вы знакомы с ним?
Хари-бабу поднял руку, давая понять, что он занят совершением того ритуала, который в среде бенгальцев из хорошего общества сопровождает чистку зубов и тому подобные действия. Потом он прочел по-английски молитву теистического характера, принятую в обществе Ария-Самадж, и набил себе рот паном и бетелем.
— О, да. Я несколько раз встречался с ним в Бенаресе, а также в Будх-Гае, чтобы расспросить его о некоторых религиозных событиях и культе демонов. Он — подлинный агностик, точь-в-точь как я сам.
Ханифа шевельнулась во сне, и Хари-бабу в испуге отпрыгнул к медной курильнице, казавшейся темной и бесцветной при утреннем свете, и, вымазав палец в накопившейся саже, провел им черту поперек лица.
— Кто умер в твоем доме? — спросил Ким на местном языке.
— Никто. Но, может быть, у нее дурной глаз, у этой колдуньи, — ответил бабу.
— А что ты теперь будешь делать?
— Я отправлю тебя в Бенарес, если ты туда едешь, и расскажу тебе все, что ты должен знать о Нас.
— Я еду. В котором часу отходит поезд? — Ким встал на ноги, окинул взглядом голую комнату и желтое восковое лицо Ханифы, в то время как низкое солнце ползло по полу. — Не нужно ли дать денег этой ведьме?
— Нет. Она заколдовала тебя против всех демонов и всех опасностей... во имя своих демонов. Этого пожелал Махбуб. — Затем он продолжал по-английски: — Я думаю, что он в высшей степени старозаветен, если поддается такому суеверию. Ведь это же все чревовещание — разговор животом, э?
Ким машинально щелкнул пальцами, чтобы отвратить беду, которую действия Ханифы могли навлечь на него, хотя он знал, что Махбуб не желал ему зла, и Хари снова захихикал.
Но, пересекая комнату, он тщательно избегал наступать на пеструю короткую тень Ханифы на досках. Ведьмы, когда на них находит, могут схватить душу человека за пятки, если он не поостережется.
— Теперь вы должны слушать внимательно, — сказал бабу, когда они вышли на свежий воздух. — Некоторая часть церемоний, свидетелями которых мы были, предназначена к тому, чтобы служащие нашего ведомства получили надежный амулет. Пощупайте вашу шею, и вы обнаружите маленький серебряный амулет, оч-чень дешевый. Это наш. Понимаете?
— О-а, да это хава-дили[48], — сказал Ким, ощупывая себе шею.
— Ханифа делает их за две рупии двенадцать ан со... со всякими заклинаниями. Они совсем обыкновенные, если не считать того, что частично покрыты черной эмалью и внутри каждого из них лежит бумажка с именами местных святых и тому подобное. Это дело Ханифы, понимаете? Ханифа мастерит их то-олько для нас, но на случай, если она дает их другим, мы, прежде чем передать их своему человеку, вкладываем в них маленькую бирюзу. Камни мы получаем от мистера Ларгана и больше ни от кого, а выдумал все это я. Конечно, все это строго неофициа-ально, но удобно для подчиненных. Полковник Крейтон не знает об этом. Он европеец. Бирюза завернута в бумагу... Да, эта дорога ведет к вокзалу... Теперь предположим, что вы идете с ламой, или со мной, как пойдете когда-нибудь, надеюсь, или с Махбубом. Предположим, что мы попадаем в чертовски трудное положение. Я пугливый человек... чрезвычайно пугливый, но могу вас уверить, что попадал в чертовски трудные ситуации чаще, чем растут волосы у меня на голове. Тогда вы скажете: «Я Сын Талисмана». Оч-чень хорошо.
— Я не совсем понимаю. Не надо допускать, чтобы здесь слышали, как мы говорим по-английски.
— Все в порядке. Я просто бабу, который хочет показать вам, что он умеет говорить по-английски. Все мы, бабу, говорим по-английски, чтобы порисоваться, — сказал Хари, игриво помахивая плащом. — Как я только что собирался сказать, слова «Сын Талисмана» означают, что вы член Сат Бхаи — Семи Братьев, а это имеет отношение к хинди и тантризму. Обычно считают, что общество это ликвидировано, но я написал заметки, где доказываю, что оно все еще существует. Все это, видите ли, мое собственное изобретение. Оч-чень хорошо. В состав Сат Бхаи входит много членов, и прежде чем перерезать вам горло, они, быть может, предоставят вам один шанс для спасения. Как бы то ни было, это полезно. Кроме того, эти полоумные туземцы, если они не слишком возбуждены, всегда подумают, прежде чем убить человека, который заявляет о своей принадлежности к какой-либо специа-альной организации. Понимаете? Итак, когда вы попадаете в узкое место, вы говорите: «Я Сын Талисмана» и получаете возможность, быть может... э... выкарабкаться. Так надо поступать только в исключительных случаях или чтобы войти в сношение с незнакомцем. Вы улавливаете? Оч-чень хорошо. Но предположим теперь, что я или кто-то другой из числа служащих Ведомства подойдет к вам в совершенно другой одежде. Вы не узнаете меня, захоти я этого, — готов держать пари. Когда-нибудь я докажу вам. Я подойду в виде ладакхского купца... о, в любом виде... и скажу вам: «Не хотите ли купить драгоценные камни?» А вы скажете: «Разве я похож на человека, покупающего драгоценные камни?» Тогда я скажу: «Даже оч-чень бедный человек может купить бирюзу или таркиан».
— Но ведь это кхичри — овощная кари, — сказал Ким.
— Конечно, да. Вы говорите: «Дай мне попробовать таркиана». Я говорю: «Его варила женщина и, быть может, для вашей касты он не годится». Тогда вы говорите: «Нет каст, когда люди идут... искать таркиан». Вы делаете небольшую паузу между словами «идут» и «искать». В этом весь секрет. Небольшая пауза между словами.
Ким повторил пароль.
— Отлично. Тогда, если есть время, я покажу вам свою бирюзу и вы таким образом узнаете, кто я, и мы станем обмениваться ме-нениями и документами и тому подобными вещами. И так бывает с каждым из нас. Иногда мы говорим о бирюзе, иногда о тар-киане, но всегда делаем маленькую паузу между словами. Это оч-чень легко. Во-первых, если вы попали в трудное положение, надо сказать: «Я Сын Талисмана». Может быть, это поможет вам, может быть, и нет. Затем, если вы хотите вести официа-альные дела с незнакомцем, вы скажете то, что я вам говорил о таркиане. Конечно, в настоящее время у вас нет официа-альных дел. Вы... а-ха!... находитесь на испытании и еще не состоите в штате. Необычный случай. Будь вы азиатом по рождению, вас удалось бы использовать уже сейчас. Но этот полугодичный отпуск имеет целью разангличанить вас, понимаете? Лама ожидает вас, ибо я полуофициа-ально иноформировал его, что вы сдали все ваши экзамены и скоро получите государственную должность. О-хо! Вы состоите на жалованьи, понимаете, поэтому, если Сыны Талисмана призовут вас на помощь, вам не худо бы попробовать оказать ее. Теперь я распрощаюсь с вами, дорогой мой, и надеюсь... э... что вы благополучно доберетесь до вершины.
Хари-бабу отступил на один или два шага в толпу, скопившуюся у входа в Лакхнауский вокзал... и исчез.
ГЛАВА XI
Дай тому, кто не знаком С ремеслом, Меч швырнув, поймать его, Диск метнув, поднять его, Кость сломав, лечить ее, Кобру взяв, дразнить ее. В неумении своем Он порежется ножом, Он шагнет в змеиный ком, Он вкусит насмешек яд, А природный акробат Подчинит своим желаньям Все: пылинку, трость, орех; Прикует толпы вниманье Иль ее возбудит смех! «Но человек, который...» и т. д., «Песня жонглера», Ор. 15Ким глубоко вздохнул и поздравил себя. Он нащупал никелированный револьвер, лежащий за пазухой его серого халата; амулет висел у него на шее. Чаша для сбора милостыни, четки, ритуальный кинжал (мистер Ларган ничего не забыл) — все было у него под рукой, и, кроме того, аптечка, ящик с красками и компас, а в истрепанном засунутом за кушак кошельке с узорами из игол дикобраза лежало его месячное жалованье. Даже цари не могли быть богаче его. У торговца-индуса он купил себе сластей в чашке из листьев и ел их с наслаждением, пока полицейский не согнал его со ступенек лестницы.
За этим последовала внезапная естественная реакция. «Теперь я один... совсем один, — думал он. — Во всей Индии нет человека такого одинокого, как я. Если я сегодня умру, кто расскажет об этом... и кому? Если я останусь жив и если бог милосерден, голова моя будет оценена, ибо я Сын Талисмана, — я, Ким».
Очень немногие белые люди, но многие азиаты способны забраться в своего рода лабиринт, вновь и вновь повторяя про себя свое собственное имя и позволяя уму свободно размышлять о том, что называется индивидуальностью. Когда человек стареет, способность эта обычно исчезает, но пока она сохраняется, — может проявиться в любой момент. «Кто такой Ким... Ким... Ким?»
Он сел на корточки в углу шумной комнаты ожидания, и все посторонние мысли покинули его. Руки его были сложены на коленях, а зрачки сузились и стали не больше булавочного острия. Он чувствовал, что через минуту... через полсекунды... решит сложнейшую загадку, но тут, как это всегда бывает, ум его со стремительностью раненой птицы упал с высот, и, проведя рукой по глазам, Ким покачал головой.
Длинноволосый индуистский байраги[49], только что купивший билет, остановился перед ним в этот самый момент и стал пристально его рассматривать.
— Я тоже утратил это, — сказал он печально, — это одни из Ворот к Пути, но вот уже много лет как они для меня закрыты.
— О чем ты говоришь? — спросил Ким в смущении.
— Ты размышлял в духе твоем, что такое твоя душа. Тебя захватило внезапно. Я знаю. Кому же знать, как не мне? Куда ты едешь?
— В Каши[50].
— Там богов нет. Я доказал это. Я в пятый раз еду в Праяг[51] искать дорогу к Просветлению. Какой ты веры?
— Я тоже Искатель, — ответил Ким, пользуясь одним из излюбленных слов ламы. — Хотя, — он на минуту забыл свое северное одеяние, — хотя один Аллах знает, чего я ищу.
Старик сунул под мышку свой костыль — принадлежность каждого байраги — и сел на кусок рыжей леопардовой шкуры, в то время как Ким встал, заслышав звонок к бенаресскому поезду.
— Иди с надеждой, братец, — сказал байраги. — Долог путь к стопам Единого, но мы все идем туда.
После этого Ким больше не чувствовал себя таким одиноким и, не проехав и двадцати миль в битком набитом вагоне, принялся развлекать спутников и наплел им самых диковинных сказок о магических дарованиях своего учителя и своих собственных.
Бенарес показался ему чрезвычайно грязным городом, но Киму было приятно видеть, с каким почтением люди относились к его одежде. По крайней мере, одна треть населения Бенареса вечно молится той или иной группе божеств, а их много миллионов, и потому они почитают подвижников любого рода. В храм Тиртханкары, расположенный в миле от города, близ Сарнатха, Кима направил случайно повстречавшийся ему пенджабский крестьянин-камбох из местности, лежащей по дороге в Джаландхар; он тщетно молил всех богов своей усадьбы вылечить его маленького сына и теперь пришел в Бенарес сделать последнюю попытку.
— Ты с Севера? — спросил он, проталкиваясь через толпу по узким зловонным улицам почти так же, как это делал бы его любимый бык в родной деревне.
— Да, я знаю Пенджаб. Мать моя была пахарин, но отец из-под Амритсара... из Джандиалы, — ответил Ким, оттачивая свой подвижный язык для будущих встреч на Дороге.
— Джандиала... это в Джаландхаре? Охо! Так мы вроде как земляки. — Он нежно кивнул плачущему ребенку, которого нес на руках. — Кому ты служишь?
— Святейшему человеку из храма Тиртханкары.
— Все они святейшие... и жаднейшие, — с горечью промолвил джат. — Я ходил вокруг столбов и бродил по храмам, пока на ногах моих не ободралась кожа, а ребенку ничуть не лучше. И мать его тоже больна... Тише, малыш... Когда его одолела лихорадка, мы переменили ему имя. Мы одели его девочкой. Чего только мы не делали, кроме... я говорил его матери, когда она собирала меня в Бенарес... ей следовало пойти вместе со мной... Я говорил, что Сакхи-Сарвар-Салтан поможет нам больше всех. Мы знаем, как он милостив, но эти южные боги — чужие нам.
Ребенок заворочался на огромных узловатых руках, словно на подушке, и взглянул на Кима из-под тяжелых век.
— И все было напрасно? — спросил Ким с быстро пробудившимся интересом.
— Все напрасно... все напрасно, — прошептал ребенок потрескавшимися от лихорадки губами.
— Боги одарили его ясным разумом, и то хорошо, — с гордостью промолвил отец. — Подумать только, как он все понимает. Вон там твой храм. Я теперь бедный человек, потому что обращался ко многим жрецам, но ведь это мой сын, и если подарок твоему учителю сможет вылечить его... Просто не знаю, что мне делать!
Ким на минуту задумался, пылая тщеславием. Три года назад он быстро извлек бы выгоду из этого случая, а потом пошел бы своей дорогой без тени раскаяния, но теперь почтительное обращение джата доказывало, что Ким уже мужчина. Кроме того, он сам раз или два болел лихорадкой и умел распознавать симптомы истощения.
— Попроси его помочь, и я дам ему долговое обязательство на пару моих лучших волов, только бы ребенок выздоровел.
Ким присел у резной наружной двери храма. Одетый в белое освал — банкир из Аджмира, только что очистившийся от греха лихоимства, спросил его, что он тут делает.
— Я чела Тешу-ламы, святого человека из Бхотияла, обитающего здесь. Он велел мне прийти. Я жду; передай ему.
— Не забудь о ребенке, — крикнул настойчивый джат через плечо и потом заорал на пенджаби: — О подвижник!... О ученик подвижника!... О боги, обитающие превыше всех миров!... Взгляните на скорбь, сидящую у ворот. — Подобные вопли столь обычны в Бенаресе, что прохожие даже не оборачивались.
Расположенный ко всему человечеству благодушный освал ушел назад в темноту передать весть, и праздные, несчитанные восточные минуты потекли одна за другой, ибо лама спал в своей келье и ни один жрец не хотел будить его. Когда же стук четок снова нарушил тишину внутреннего двора, где стояли исполненные покоя изображения архатов, послушник прошептал: «Твой чела здесь», и старик большими шагами направился ко входу, позабыв окончить молитву.
Не успела его высокая фигура показаться в дверях, как джат подбежал к нему и, поднимая вверх ребенка, крикнул:
— Взгляни на него, святой человек, и, если угодно богам, да останется он в живых... в живых!
Он порылся в своем кошельке у пояса и вынул серебряную монету.
— Что такое? — взгляд ламы упал на Кима. Было заметно, что он много лучше стал говорить на урду, чем раньше, под Зам-Замой; отец ребенка не давал им возможности поговорить о чем-нибудь своем.
— Это всего лишь лихорадка, — сказал Ким. — Ребенок плохо питается.
— Он заболевает от всяких пустяков, а матери его здесь нет.
— Если будет позволено, я, быть может, вылечу его, святой человек.
— Как! Неужели тебя сделали врачом? Подожди здесь, — сказал лама, усаживаясь рядом с джатом на нижней ступеньке у входа в храм, в то время как Ким, поглядывая на них искоса, открывал коробочку для бетеля. В школе он мечтал вернуться к ламе в обличье сахиба, чтобы подразнить старика перед тем как открыться, но все это были ребячьи мечты. Более драматичным казалось ему теперь сосредоточенное перебирание склянок с таблетками, то и дело прерывавшееся паузами, посвященными размышлению и бормотанию заклинаний. У него были хинин в таблетках и темно-коричневые плитки мясного экстракта — наверное, говяжьего. Но это уж не его дело. Малыш не хотел есть, но плитку сосал с жадностью, говоря, что ему нравится ее соленый вкус.
— Так возьми шесть штук. — Ким отдал плитки крестьянину. — Восхвали богов и свари три штуки в молоке, а прочие три в воде. Когда он выпьет молоко, дай ему вот это (он протянул ему половину хинной пилюли), и укутай его потеплее. Когда он проснется, дай ему выпить воду, в которой варились эти три плитки, и другую половину белого шарика. А вот еще другое коричневое лекарство, пусть пососет его по дороге домой.
— Боги, какая мудрость! — воскликнул камбох, хватая лекарства.
Все эти процедуры Ким запомнил с тех пор, когда однажды сам лечился от осенней малярии... если не считать бормотанья, которое добавил, чтобы произвести впечатление на ламу. — Теперь ступай. Утром приходи опять.
— Но плата... плата, — начал джат, откидывая назад крепкие плечи. — Ведь это мой сын. Теперь, когда он снова будет здоровым, как могу я вернуться к его матери и сказать, что принял помощь у дороги и не оплатил ее даже чашкой кислого молока?!
— Все они на один лад, эти джаты, — мягко проговорил Ким. — Джат стоял на навозной куче, а царские слоны проходили мимо. «О погонщик! — сказал он, — сколько стоят эти ослики?»
Джат разразился было громким хохотом, но тотчас подавил его, прося извинения у ламы.
— Так говорят на моей родине, именно этими словами. Все мы, джаты, такие. Я приду завтра с ребенком, и да благословят вас обоих боги усадеб, а они хорошие боги!... Ну, сынок, мы теперь опять окрепнем. Не выплевывай лекарства, маленький принц! Владыка моего сердца, не выплевывай, и наутро мы станем сильными мужчинами, борцами и булавоносцами.
Он ушел, напевая и бормоча что-то. Лама обернулся к Киму, и вся его любящая душа засветилась в узких глазах.
— Исцелять больных — значит приобретать заслугу; но сначала человек приобретает знание. Ты поступил мудро, о Друг Всего Мира.
— Я стал мудрым благодаря тебе, святой человек, — сказал Ким, забыв о только что кончившейся игре, о школе св. Ксаверия, о своей белой крови, даже о Большой Игре, и склонился к пыльному полу храма джайнов, чтобы по-мусульмански коснуться ног своего учителя. — Тебе я обязан моим образованием. Твой хлеб я ел целых три года. Теперь это позади. Я свободен от школ. Я пришел к тебе.
— В этом моя награда! Входи! Входи! Значит, все хорошо? — они прошли во внутренний двор, пересеченный косыми золотистыми лучами солнца. — Стань, дай мне поглядеть на тебя. Так! — Он критически осмотрел Кима. — Ты уже не ребенок, но муж, созревший для мудрости, ставший врачом. Я хорошо поступил... Я хорошо поступил, когда отдал тебя вооруженным людям, в ту черную ночь. Помнишь ли ты наш первый день под Зам-Замой?
— Да, — сказал Ким. — А ты помнишь, как я соскочил с повозки, когда в первый раз входил...
— Во Врата Учения? Истинно. А тот день, когда мы вместе ели лепешки за рекой, близ Накхлао? А-а! Много раз ты просил для меня милостыню, но в тот день я просил для тебя.
— Еще бы, — сказал Ким, — ведь тогда я был школьником во Вратах Учения и одевался сахибом. Не забывай, святой человек, — продолжал он шутливо, — что я все еще сахиб... по твоей милости.
— Истинно. И сахиб весьма уважаемый. Пойдем в мою келью, чела.
— Откуда ты знаешь об этом? — Лама улыбнулся.
— Сначала по письмам любезного жреца, которого мы встретили в лагере вооруженных людей; но потом он уехал на свою родину, и я стал посылать деньги его брату. — Полковник Крейтон, взявшийся опекать Кима, когда отец Виктор уехал в Англию с Меверикцами, отнюдь не был братом капеллана. — Но я плохо понимаю письма этого сахиба. Нужно, чтобы мне их переводили. Я избрал более верный путь. Много раз, когда я, прерывая мое Искание, возвращался в этот храм, который стал моим домом, сюда приходил человек, ищущий Просветления, — уроженец Леха; по его словам, он раньше был индусом, но ему надоели все эти боги. — Лама показал пальцем на архатов.
— Толстый человек? — спросил Ким, сверкнув глазами.
— Очень толстый, но я вскоре понял, что ум его целиком занят всякими бесполезными предметами, как, например, демонами и заклинаниями, церемонией чаепития у нас в монастырях и тем, как мы посвящаем в иночество послушников. Это был человек, из которого так и сыпались вопросы, но он твой друг, чела. Он сказал мне, что, будучи писцом, ты стоишь на пути к великому почету. А я вижу, ты — врач.
— Да так оно и есть, я... писец, когда я сахиб, но это не имеет значения, когда я прихожу к тебе как твой ученик. Годы ученья, назначенные сахибу, подошли к концу.
— Ты был, так сказать, послушником? — сказал лама, кивая головой. — Свободен ли ты от школы? Я не хотел бы видеть тебя ее не окончившим.
— Я совершенно свободен. Когда придет время, я буду служить правительству в качестве писца...
— Не воина. Это хорошо.
— Но сначала я пойду странствовать... с тобой. Поэтому я здесь. Кто теперь просит для тебя милостыню? — продолжал он быстро.
Лама не замедлил с ответом.
— Очень часто я прошу сам, но, как ты знаешь, я бываю здесь редко, исключая тех случаев, когда прихожу повидаться с моим учеником. Я шел пешком и ехал в поезде из одного конца Хинда в другой. Великая и чудесная страна! Но когда я здесь останавливаюсь, я как бы в своем родном Бхотияле.
Он окинул благодушным взглядом маленькую опрятную келью. Плоская подушка служила ему сиденьем, и он уселся на нее, скрестив ноги, в позе Бодисатвы, приходящего в себя после самопогружения. Перед ним стоял черный столик из тикового дерева, не выше двадцати дюймов, уставленный медными чайными чашками. В одном углу был крошечный, тоже тиковый жертвенник с грубыми резными украшениями, а на нем медная позолоченная статуя сидящего Будды, перед которой стояли лампады, курильница и две медные вазы для цветов.
— Хранитель Священных Изображений в Доме Чудес приобрел заслугу, подарив их мне год назад, — сказал лама, следуя за взглядом Кима. — Когда живешь далеко от своей родины, такие вещи напоминают ее, и нам следует чтить Владыку за то, что он указал нам Путь. Смотри! — он показал пальцем на кучку подкрашенного риса причудливой формы, увенчанную странным металлическим украшением. — Когда я был настоятелем в своем монастыре, — это было до того, как я достиг более совершенного знания, — я ежедневно приносил эту жертву. Это мир, приносимый в жертву владыке. Так мы, уроженцы Бхотияла, ежедневно отдаем весь мир Всесовершенному Закону. И я даже теперь это делаю, хоть и знаю, что Всесовершенный выше всякой лести. — Он взял понюшку из табакерки.
— Это хорошо, святой человек, — пробормотал счастливый и усталый Ким, с удобством укладываясь на подушках.
— И кроме того, — тихо засмеялся старик, — я рисую изображения Колеса Жизни. На одно изображение уходит три дня. Этим я был занят, — а, может, просто ненадолго смежил глаза, — когда мне принесли весть о тебе. Хорошо, что ты здесь со мной: я научу тебя моему искусству... не из тщеславия, но потому, что ты должен учиться. Сахибы владеют не всей мудростью мира.
Он вытащил из-под стола лист желтой китайской бумаги, издающей странный запах, кисточки и плитку индийской туши. Чистыми строгими линиями набросал он контур Великого Колеса с шестью спицами, в центре которого переплетались фигуры свиньи, змеи и голубя[52]; между спицами были изображены все небеса, и преисподняя, и все события человеческой жизни. Люди говорят, что сам Бодисатва впервые изобразил его на песке при помощи рисовых зерен, чтобы открыть своим ученикам первопричину всего сущего. В течение многих веков оно выкристаллизовалось в чудеснейшую каноническую картину, усеянную сотнями фигурок, каждая черточка которых имеет свой смысл. Немногие могут толковать эту картину-притчу; во всем мире нет и двадцати человек, способных точно ее нарисовать, не глядя на образец; из числа последних только трое умеют и рисовать, и объяснять ее.
— Я немного учился рисовать, — промолвил Ким, — но это чудо из чудес.
— Я писал ее много лет, — сказал лама. — Было время, когда я мог написать ее всю целиком в промежуток времени между одним зажиганием ламп и следующим. Я научу тебя этому искусству... после надлежащей подготовки, и я объясню тебе значение Колеса.
— Так значит мы отправимся на Дорогу?
— На Дорогу, для Искания. Я только тебя и ждал. Мне было открыто в сотне снов — особенно в том, который привиделся мне ночью после того дня, когда Врата Учения впервые закрылись за тобой, — что без тебя мне не найти своей Реки. Как ты знаешь, я вновь и вновь отгонял от себя такие помышления, опасаясь, что это иллюзия. Поэтому я не хотел брать тебя с собой в тот день, когда мы в Лакхнау ели лепешки. Я не хотел брать тебя с собой раньше, чем для этого подойдет время. От Гор и до моря, от моря до Гор бродил я, но тщетно. Тогда я вспомнил Джатаку.
Он рассказал Киму предание о слоне в кандалах, которое так часто рассказывал джайнским жрецам.
— Дальнейших доказательств не требуется, — безмятежно закончил он. — Ты был послан на помощь. Когда эта помощь отпала, Искание мое сошло на нет. Поэтому мы опять пойдем вместе и наше Искание достигнет цели.
— Куда мы пойдем?
— Не все ли равно, Друг Всего Мира? Искание, говорю я, достигнет цели. Если так суждено, Река пробьется перед нами из-под земли. Я приобрел заслугу, когда открыл для тебя Врата Учения и дал тебе драгоценность, именуемую мудростью. Ты вернулся, как я сейчас только видел, последователем Шакьямуни, врачевателя, которому в Бхотияле воздвигнуто множество жертвенников. Этого довольно. Мы снова вместе... и все как было... Друг Всего Мира... Друг Звезд — мой чела!
Затем они поговорили о мирских делах, но следует отметить, что лама совершенно не расспрашивал о подробностях жизни в школе св. Ксаверия и не проявлял ни малейшего интереса к нравам и обычаям сахибов. Он был погружен в прошлое, и шаг за шагом вновь переживал их чудесное первое совместное путешествие, потирал руки и посмеивался, пока не свернулся клубочком, побежденный внезапно наступившим стариковским сном.
Ким смотрел на последние пыльные лучи солнца, меркнущие во дворе, и играл своим ритуальным кинжалом и четками. Шум Бенареса, древнейшего из всех городов земли, день и ночь бодрствующего перед лицом богов, плескался о стены, как ревущее море о волнорез. Время от времени жрец джайн пересекал двор, неся в руке скудный дар священным изображениям и подметая дорожку впереди себя, чтобы ни одно живое существо не лишилось жизни. Мигнул огонек лампады, послышался молитвенный напев. Ким смотрел, как звезды одна за другой возникали в недвижном, плотном мраке, пока не заснул у подножья жертвенника. В ту ночь он видел сны на хиндустани, без единого английского слова...
— Святой человек, вспомни о ребенке, которому мы дали лекарство, — сказал он часа в три утра, когда лама, тоже пробудившийся от сна, уже собирался начать паломничество. — Джат будет здесь на рассвете.
— Я получил достойную отповедь. В поспешности своей я едва не совершил большого зла. — Он уселся на подушки и принялся перебирать четки. — Поистине, старые люди подобны детям! — патетически воскликнул он. — Если им чего-нибудь хочется, то нужно сейчас же это сделать, иначе они будут сердиться и плакать. Много раз, будучи на Дороге, я готов был топать ногами, сердясь на препятствие в виде воловьей повозки, загородившей путь, или даже просто на облако пыли. Не то было, когда я был мужем... давным-давно. Тем не менее, это дурно...
— Но ты и вправду стар, святой человек.
— Дело было сделано. Причина была создана в мире, и кто же, будь он старый или молодой, здоровый или больной, ведающий или неведающий, кто может управлять следствием этой Причины? Может ли Колесо висеть спокойно, если... дитя... или пьяница вертит его? Чела, мир велик и страшен.
— Мне кажется, мир хорош, — зевнул Ким. — А нет ли чего поесть? Я со вчерашнего вечера ничего не ел.
— Я забыл о твоих потребностях. Вон там хороший бхотияльский чай и холодный рис.
— С такой пищей далеко не уйдешь. — Ким всем своим существом ощущал европейскую потребность в мясе, а этого в храме джайнов достать невозможно. Однако, вместо того чтобы сейчас же выйти наружу с чашей для сбора подаяния, он до самого рассвета набивал себе желудок комками холодного риса. На рассвете пришел крестьянин, многоречивый и заикающийся от избытка благодарности.
— Ночью лихорадка прекратилась и выступил пот! — воскликнул он. — Пощупайте-ка вот тут... кожа у него свежая, совсем как новая. Он с удовольствием съел соленые плитки и с жадностью выпил молоко. — Он откинул ткань, закрывающую лицо ребенка, и тот сонно улыбнулся Киму. Небольшая кучка жрецов-джайнов, безмолвная, но подмечающая все, собралась у дверей храма. Они знали (и Ким знал, что они это знали), как встретил старый лама своего ученика. Но, будучи учтивыми, они вчера вечером не мешали им ни присутствием своим, ни словом, ни жестом. За это Ким вознаградил их, когда взошло солнце.
— Благодари джайнских богов, брат, — сказал он, не зная даже, как называются эти боги. — Лихорадка действительно прошла.
— Смотрите! Глядите! — сиял лама, обращаясь к своим хозяевам, у которых гостил три года. — Был ли когда-нибудь такой чела? Он последователь нашего владыки-целителя.
Надо сказать, что джайны официально признают все божества индуистских верований, в том числе Лингам и Змею. Они носят брахманский шнурок, они подчиняются всем требованиям индуистских кастовых правил. Но они одобрительно забормотали, ибо знали и любили ламу, ибо он был старик, ибо он искал Путь, ибо он был их гость, ибо он долгими ночами беседовал с главным жрецом — самым свободомыслящим из метафизиков, которые когда-либо «расщепляли один волос на семьдесят слоев».
— Запомни, — Ким склонился над ребенком, — болезнь эта может вернуться.
— Нет, если ты знаешь истинные заклинания, — сказал отец. — Но мы вскоре уйдем отсюда.
— Это правда, — сказал лама, обращаясь ко всем джайнам. — Мы теперь идем вместе продолжать наше Искание, о котором я часто говорил. Я ждал, чтобы мой чела созрел. Глядите на него! Мы пойдем на Север. Никогда больше не увижу я этого места моего отдохновения, о благожелательные люди!
— Но я не нищий, — земледелец встал на ноги, прижимая к себе ребенка.
— Потише. Не беспокой святого человека, — прикрикнул на него один из жрецов.
— Ступай, — шепнул Ким. — Встречай нас под большим железнодорожным мостом и, ради всех богов нашего Пенджаба, принеси пищи — кари, стручков, лепешек, жаренных в жиру, и сластей. Особенно сластей. Живо.
Киму очень шла вызванная голодом бледность; он стоял, высокий и стройный, в тускло-сером длиннополом одеянии, взяв четки в одну руку и сложив другую благословляющим жестом, добросовестно перенятым от ламы. Наблюдатель-англичанин, пожалуй, сказал бы, что он похож на юного святого, сошедшего с иконы, написанной на оконном стекле, тогда как Ким был просто-напросто еще не повзрослевшим юношей, ослабевшим от пустоты в желудке.
Прощание вышло долгим и торжественным; три раза оно кончалось и три раза начиналось снова. Искатель — человек, пригласивший ламу переехать из дальнего Тибета в эту обитель, бледный как серебро, безволосый аскет — не принимал в этом участия, но, как всегда, пребывал в созерцании посреди священных изображений. Прочие выказали большую доброту; они настаивали, чтобы лама принял их мелкие подарки — ящик для бетеля, красивый новый железный пенал, сумку с едой и тому подобное, — предостерегали его от опасностей внешнего мира и предсказывали удачное завершение его Искания. Между тем Ким, унылый как никогда, сидел на ступеньках, ругаясь про себя на жаргоне школы св. Ксаверия.
«Но я сам виноват, — решил он. — С Махбубом я ел хлеб Махбуба или хлеб Ларгана-сахиба. У св. Ксаверия ели три раза в день. А здесь мне придется самому заботиться о себе. Кроме того, я еще не успел привыкнуть. С каким удовольствием я съел бы сейчас тарелку говядины!...»
— Кончилось или нет, святой человек?
Лама, подняв обе руки, запел последнее благословение на изысканном китайском языке.
— Я должен опереться на твое плечо, — сказал он, когда ворота храма захлопнулись. — По-видимому, тело наше костенеет.
Нелегко поддерживать человека шести футов ростом и много миль вести его по кишащим народом улицам, и Ким, нагруженный узелками и свертками, взятыми с собой в дорогу, обрадовался, когда они добрались до железнодорожного моста.
— Тут мы будем есть, — решительно заявил он, когда камбох, одетый в синее платье и улыбающийся, поднялся на ноги с корзинкой в одной руке и ребенком в другой.
— Идите сюда, святые подвижники! — крикнул он с расстояния пятидесяти ярдов. (Он стоял у отмели, под первым пролетом моста, далеко от голодных жрецов.) — Рис и хорошая кари, еще горячие лепешки, надушенные хингом[53], творог и сахар. Царь полей моих, — обратился он к сыну, — покажем этим святым людям, что мы, джаландхарские джаты, можем заплатить за услугу... Я слышал, что джайны не едят пищи, которую не сами состряпали, но поистине, — он деликатно отвернулся к широкой реке, — где нет глаз, нет и каст.
— А мы, — сказал Ким, поворачиваясь спиной и накладывая ламе полную тарелку, сделанную из листьев, — мы вне всяких каст.
Они в молчании насыщались хорошей пищей. Слизав липкую сладкую массу со своего мизинца, Ким заметил, что камбох тоже был снаряжен по-дорожному.
— Если пути наши сходятся, — сказал тот твердо, — я пойду с тобой. Не часто встречаешь чудотворца, а ребенок все еще слаб. Но и я не тростинка. — Он поднял свою латхи — бамбуковую палку в пять футов длины, окольцованную полосками полированного железа, и замахал ею в воздухе. — Говорят, что джаты драчливы, но это неправда. Если нас не обижают, мы подобны нашим буйволам.
— Пусть так, — сказал Ким. — Хорошая палка — хороший довод.
Лама безмятежно глядел на реку, вверх по течению, где длинной теряющейся вдали вереницей вздымались неизменные столбы дыма, тянувшиеся от гхатов сожжения у реки. Время от времени, вопреки всем муниципальным правилам, на ней появлялся кусок полусожженного тела, колыхавшийся на быстро текущих струях.
— Если бы не ты, — сказал камбох, прижимая ребенка к волосатой груди, — я сегодня, быть может, пошел бы туда... с этим вот мальчуганом. Жрецы говорят нам, что Бенарес — священный город, в чем никто не сомневается, и что в нем хорошо умереть. Но я не знаю их богов, а сами они просят денег; а когда совершишь одно жертвоприношение, какая-нибудь бритая голова клянется, что оно недействительно, если не совершить второго. Мойся тут! Мойся там! Лей воду, пей ее, омывайся и рассыпай цветы, но обязательно плати жрецам. Нет, то ли дело Пенджаб и самая лучшая в нем земля — земля Джаландхарского доаба?!
— Я много раз говорил, кажется, в храме, что, если понадобится, Река выступит у наших ног. Поэтому мы пойдем на Север, — сказал лама, вставая. — Я вспоминаю об одном приятном месте, усаженном плодовыми деревьями, где можно гулять, погрузившись в созерцание... и воздух там прохладнее. Он струится с Гор и горных снегов.
— Как оно называется? — спросил Ким.
— Почем я знаю? А разве ты не знаешь... нет, это было после того, как войско вышло из-под земли и увело тебя с собой. Я жил там в комнате близ голубятни и пребывал в созерцании... исключая те случаи, когда она непрерывно болтала.
— Охо! Женщина из Кулу. Это около Сахаранпура. — Ким засмеялся.
— Как дух твоего учителя движет его? Не ходит ли он пешком во искупление прошлых грехов? — осторожно спросил джат. — Далек путь до Дели.
— Нет, — ответил Ким. — Я соберу денег на билет для поезда. В Индии люди обычно не признаются, что у них есть деньги.
— Тогда, во имя богов, давайте поедем в огненной повозке. Сыну моему лучше всего на руках у матери. Правительство обложило нас множеством податей, но дало нам одну хорошую вещь — поезд, который сближает друзей и соединяет встревоженных. Замечательная штука — поезд.
Часа через два они сели в вагон и проспали всю жаркую половину дня. Камбох забросал Кима десятью тысячами вопросов относительно странствий и дел ламы и получил несколько замечательных ответов. Киму было приятно сидеть в вагоне, смотреть на равнинный ландшафт Северо-запада и разговаривать с постоянно меняющимися попутчиками. По сей день проездные билеты и пробивание их контролерами воспринимаются деревенскими индийцами как бессмысленное угнетение. Люди не понимают, почему, после того как они заплатили за клочок волшебной бумаги, какие-то незнакомцы пробивают в этом талисмане большие дыры. Отсюда долгие и ожесточенные споры между пассажирами и контролерами-евразиями. Ким присутствовал при двух-трех таких перепалках и давал серьезные советы с целью внести путаницу и выставить напоказ свою мудрость перед ламой и восхищенным камбохом. Но на пути в Сомну судьба послала ему предмет для размышлений. Когда поезд уже трогался, в отделение вагона ввалился невзрачный худой человек — махрат, насколько Ким мог судить по тому, как была повязана его тугая чалма. Лицо его было порезано, кисейное верхнее платье изорвано в клочья и одна нога забинтована. Он рассказал, что деревенская телега опрокинулась и чуть не убила его, когда он ехал в Дели, где живет его сын. Ким внимательно наблюдал за ним. Если, как он утверждал, его волокло по земле, то на коже его были бы ссадины от гравия. Но все его ранения были похожи на порезы, и простое падение с телеги не могло привести человека в такое ужасное состояние. Когда он дрожащими пальцами завязывал разорванное платье у шеи, на ней оказался амулет, который называется «придающий мужество». Правда, амулеты — вещь обыкновенная, но их нечасто нанизывают на плетеную медную проволоку, и еще реже встречаются амулеты с черной эмалью по серебру. Кроме камбоха и ламы в отделении никого не было и, к счастью, вагон был старого типа, с толстыми перегородками. Ким сделал вид, что почесывает себе грудь, и таким образом показал свой собственный амулет. Увидев его, махрат переменился в лице и передвинул свой амулет на груди, чтобы он был хорошо виден.
— Да, — продолжал он, обращаясь к камбоху, — я торопился, а лошадью правил негодный ублюдок, телега попала колесом в канаву, промытую водой, и, не говоря об ушибах, пропало целое блюдо таркиана. В тот день я не был Сыном Талисмана[54].
— Великая потеря, — сказал камбох, теряя интерес к разговору. Жизнь в Бенаресе сделала его подозрительным.
— А кто стряпал его? — спросил Ким.
— Женщина, — махрат поднял глаза.
— Но все женщины умеют стряпать таркиан, — сказал камбох.
— Насколько мне известно, это хорошая кари, — подтвердил махрат.
— И дешевая, — подхватил Ким. — Но как насчет касты?
— О, нет каст, когда люди идут... искать таркиан, — ответил махрат, делая условленную паузу. — Кому ты служишь?
— Вот этому святому человеку, — Ким показал пальцем на счастливого дремлющего ламу, который вздрогнул и проснулся, услышав столь любимое им слово.
— Ах, он был послан небом на помощь мне. Его зовут Другом Всего Мира. И еще зовут Другом Звезд. Он стал врачом, ибо пришло время его. Велика его мудрость.
— А также Сыном Талисмана, — едва слышно проговорил Ким, в то время как камбох поспешил заняться трубкой, опасаясь, как бы махрат не стал просить милостыни.
— Это кто такой? — обеспокоенно спросил махрат, скосив глаза.
— Я... мы вылечили его ребенка; он в большом долгу перед нами. Сядь у окна, человек из Джаландхара. Это больной.
— Вот еще. У меня нет желания вступать в разговоры с первым встречным бродягой. У меня уши не длинные. Я не баба — охотница подслушивать тайны. — Джат неуклюже передвинулся в дальний угол.
— А ты разве врач? Я на десять миль погрузился в бедствия, — воскликнул махрат, поддерживая выдумку Кима.
— Человек весь порезан и поранен. Я буду его лечить, — ответил Ким. — Никто не становится между твоим младенцем и мною.
— Я пристыжен, — сказал камбох с кротостью. — Я в долгу у тебя за жизнь моего сына. Ты — чудотворец. Я знаю это.
— Покажи мне порезы, — Ким склонился над шеей махрата, и сердце его билось так, что он чуть не задохнулся, ибо тут была Большая Игра, связанная с местью. — Теперь поскорее рассказывай, брат, пока я буду читать заклинания.
— Я пришел с Юга, где у меня была работа. Одного из нас убили при дороге. Ты слыхал об этом? — Ким покачал головой. Он, конечно, ничего не знал о предшественнике С.23-го, убитом на Юге в одежде арабского купца. — Найдя письмо, за которым меня послали, я уехал. Я выбрался из этого города и убежал в Мхову. Я даже не изменил своего вида, так я был уверен, что никто ничего не знает. В Мхове одна женщина обвинила меня в краже драгоценностей, будто бы совершенной в городе, который я покинул. Тогда я понял, что за мной началась погоня. Я убежал из Мховы ночью, подкупив полицию, которую уже подкупили выдать меня, не допросив, моим врагам на Юге. Потом я на неделю залег в древнем городе Читоре под видом кающегося в храме, но я не мог отделаться от письма, которое имел при себе. Я зарыл его под Камнем Царицы, в Читоре, в месте, известном всем нам.
Ким не знал об этом месте, но ни за что на свете не хотел прервать нити рассказа.
— В Читоре, видишь ли, я находился на территории владетельных князей, ибо к востоку от него, в Коте, законы королевы не имеют силы, а еще дальше на восток лежат Джайпур и Гвалиор. Во всех этих княжествах не любят шпионов, а правосудия там нет. Меня травили, как мокрого шакала, но я прорвался в Бандакуи, где услышал, что меня обвиняют в убийстве, совершенном в покинутом мною городе, в убийстве мальчика. Они добыли и свидетелей, и мертвое тело.
— Но разве правительство не может тебя защитить?
— Мы, участники Игры, беззащитны. Умрем, так умрем, и тогда имена наши вычеркиваются из книги. Вот и все. В Бандакуи, где живет один из нас, я попытался замести след и для этого переоделся махратом. Потом я приехал в Агру и уже собирался вернуться в Читор, чтобы взять письмо. Так уверен я был, что улизнул от них. Поэтому я никому не посылал тара[55], чтобы сообщить о том, где лежит письмо. Я хотел, чтобы заслуга целиком оставалась за мной. — Ким кивнул головой. Он хорошо понимал подобное чувство.
— Но в Агре, когда я шел по улицам, один человек закричал, что я ему должен и, подойдя со многими свидетелями, хотел сейчас же отвести меня в суд. О, люди Юга лукавы! Он заявил, что я его агент по продаже хлопка. Чтоб ему сгореть в аду за такое дело!
— А ты был его агентом?
— О, безумец! Я был человек, которого они искали из-за этого письма! Я хотел скрыться в квартале мясников и в доме одного еврея, но он боялся погрома и вытолкал меня вон. Я дошел пешком до дороги в Сомну, — денег у меня было только на билет до Дели, — и там, когда я, схватив лихорадку, лежал в канаве, из кустов выпрыгнул человек, избил меня, изрезал и обыскал с головы до ног! Это было совсем близко от поезда.
— Почему же он сразу не убил тебя?
— Они не так глупы. Если в Дели меня арестуют по настоянию юристов за доказанное обвинение в убийстве, меня передадут княжеству, которое пожелает меня получить. Я вернусь туда под стражей и тогда... умру медленной смертью в назидание всем прочим из нашей братии. Юг — не моя родина. Я бегаю по кругу, как одноглазая коза. Я не ел два дня. Я отмечен, — он тронул грязный бинт на ноге, — так что в Дели меня признают.
— Но в поезде ты вне опасности.
— Поживи с год, занимаясь Большой Игрой, и тогда говори! В Дели по проволокам полетели враждебные мне сведения, и в них описывается каждая моя рана, каждая тряпка. Двадцать, сто человек, если надо, скажут, что видели, как я убивал мальчика. А от тебя толку не будет!
Ким достаточно хорошо знал туземные методы борьбы и не сомневался в том, что доказательства будут представлены с убийственной полнотой, включая вещественное — мертвое тело. Махрат временами ломал себе пальцы от боли. Камбох угрюмо и пристально смотрел на них из своего угла; лама был занят четками, а Ким по-докторски щупал шею человека и обдумывал свой план, читая заклинания.
— Может, у тебя есть талисман, который изменит мой вид? Иначе я умру. Пять... десять минут побыть одному... и, не будь я так затравлен, я мог бы...
— Ну, что, исцелился он, чудотворец? — ревниво спросил камбох. — Ты достаточно долго пел.
— Нет. Я вижу, что раны его нельзя залечить, если он не побудет три дня в одежде байраги. — Это обычная эпитимья, которую духовники нередко налагают на толстых купцов.
— Жрец всегда не прочь создать другого жреца, — прозвучал ответ. Подобно большинству грубо суеверных людей, камбох не мог удержаться, чтобы не поиздеваться над духовенством.
— Так, значит, твой сын будет жрецом? Ему пора принимать мой хинин.
— Мы, джаты, все буйволы, — сказал камбох, снова смягчаясь.
Ким кончиком пальца положил горькое лекарство в послушные губы ребенка.
— Я ничего не просил у тебя, кроме пищи, — сурово обратился он к отцу. — Или ты жалеешь, что дал мне ее? Я хочу вылечить другого человека. Осмелюсь попросить твоего позволения... принц.
Огромные лапы крестьянина в мольбе взлетели вверх.
— Нет, нет! Не смейся так надо мной.
— Я желаю вылечить этого больного. А ты приобретешь заслугу, помогая мне. Какого цвета пепел в твоей трубке? Белый. Это хорошо. А нет ли среди твоих дорожных запасов куркумы?
— Я...
— Развяжи свой узел!
В узле были самые обычные мелочи: лоскуты ткани, знахарские снадобья, дешевые покупки с ярмарки, узелок с атой — сероватой, грубо смолотой туземной мукой, связки деревенского табаку, неуклюжие трубочные чубуки и пакет пряностей для кари — все это было завернуто в одеяло. Ким, бормоча мусульманские заклинания, перебирал вещи с видом мудрого колдуна.
— Этой мудрости я научился у сахибов, — зашептал он ламе, и тут, если вспомнить о его обучении у Ларгана, он говорил истинную правду. — Этому человеку грозит большое зло, — так предвещают звезды, и оно... оно тревожит его. Отвратить это зло?
— Друг Звезд, ты во всем поступал правильно. Делай, как хочешь. Это опять будет исцеление?
— Скорей! Поторопись! — шептал махрат. — Поезд может остановиться.
— Исцеление от смерти, — сказал Ким, смешивая муку камбоха с угольным и табачным пеплом, скопившимся в трубочной головке из красной глины.
Е.23-й, не говоря ни слова, снял чалму и тряхнул длинными черными волосами.
— Это моя пища, жрец, — заворчал джат.
— Буйвол, ты в храме! Неужели ты все это время осмеливался смотреть? — сказал Ким. — Мне приходится совершать тайные обряды в присутствии дураков; но пожалей свои глаза! Они еще не помутнели у тебя? Я спас младенца, а в награду за это ты... о бесстыжий! — Человек вздрогнул и откинутся назад под пристальным взглядом Кима, ибо юноша говорил всерьез. — Не проклясть ли мне тебя или?.. — Он поднял ткань, в которую были завернуты припасы джата, и накинул ее на его склоненную голову. — Посмей только хоть мысленно пожелать увидеть что-нибудь и... и... даже я не смогу спасти тебя. Сиди смирно! Онемей!
— Я слеп и нем. Не проклинай! По... пойди сюда, малыш, мы будем играть в прятки. Ради меня, не выглядывай из-под ткани.
— Я начал надеяться, — сказал Е.23-й. — Что ты придумал?
— Об этом после, — ответил Ким, стягивая с него тонкую нательную рубашку.
Е.23-й заколебался, ибо, как все уроженцы Северо-запада, он стеснялся обнажать свое тело.
— Что значит каста для перерезанного горла? — сказал Ким, опуская ему рубашку до пояса. — Мы должны всего тебя превратить в желтого садху. Раздевайся... скорей раздевайся и опусти волосы на глаза, пока я буду посыпать тебя пеплом. Теперь кастовый знак на лоб. — Он вытащил из-за пазухи топографический ящичек с красками и плитку красного краплака.
— Неужели ты только новичок? — говорил Е.23-й, буквально борясь за спасение своей жизни. Он скинул с себя покровы и стоял нагой, в одной лишь набедренной повязке, а Ким чертил ему благородный кастовый знак на осыпанном пеплом лбу.
— Я только два дня назад вступил в Игру, брат, — ответил Ким. — Потри грудь пеплом еще немного.
— А ты встречался... с целителем больных жемчугов? — Он развернул свою туго скатанную чалму, чрезвычайно быстро обернул ее вокруг бедер и пропустил между ногами, воспроизводя путаные перехваты опояски садху.
— Ха! Так ты узнаешь его руку? Он некоторое время был моим учителем. Нужно будет начертить полосы на твоих ногах. Пепел лечит раны. Помажь еще.
— Когда-то я был его гордостью, но ты, пожалуй, еще лучше. Боги к нам милостивы. Дай мне вот этого.
Это была жестяная коробочка с катышками опиума, оказавшаяся среди прочего хлама в узле джата. Е.23-й проглотил полгорсти катышков.
— Хорошее средство от голода, страха и холода. И от него краснеют глаза, — объяснил он. — Теперь я опять наберусь храбрости играть в Игру. Не хватает только щипцов садху. А как быть с прежней одеждой?
Ким туго свернул ее и сунул в широкие складки своего халата. Куском желтой охры он провел широкие полосы по ногам и груди Е.23-го, уже вымазанным мукой, пеплом и куркумой.
— Пятна крови на этой одежде — достаточный повод, чтобы повесить тебя, брат.
— Может и так, но выбрасывать ее из окна не стоит... Кончено! — Голос его звенел мальчишеским восторгом Игры. — Обернись и взгляни, о джат!
— Да защитят нас боги, — проговорил закутанный с головой камбох, возникая из-под своего покрывала, как буйвол из тростников. — Но... куда же ушел махрат? Что ты сделал?
Ким обучался у Ларгана-сахиба, а Е.23-й, в силу своей профессии, был недурным актером. Вместо взволнованного, ежившегося купца в углу валялся почти нагой, обсыпанный пеплом, исполосованный охрой садху с пыльными волосами, и припухшие глаза его (на пустой желудок опиум действует быстро), горели наглостью и животной похотью; он сидел, поджав под себя ноги, с темными четками Кима на шее и небольшим куском истрепанного цветистого ситца на плечах. Ребенок зарылся лицом в одежду изумленного отца.
— Погляди, маленький принц! Мы путешествуем с колдунами, но они тебя не обидят. О, не плачь!... Какой смысл сначала вылечить ребенка, а потом напугать его до смерти?
— Ребенок будет счастлив всю свою жизнь. Он видел великое исцеление. Когда я был ребенком, я лепил из глины людей и лошадей.
— Я тоже лепил. Сир Банас приходит ночью и всех их оживляет за кучей отбросов из нашей кухни, — пропищал ребенок.
— Так, значит, ты ничего не боишься? А, принц?
— Я боялся, потому что мой отец боялся. Я чувствовал, как у него руки дрожат.
— О цыплячья душа, — сказал Ким, и даже пристыженный джат рассмеялся. — Я исцелил этого несчастного купца. Он должен забыть о своих барышах и счетных книгах и сидеть при дороге три ночи, чтобы победить злобу своих врагов. Звезды против него.
— Чем меньше ростовщиков, тем лучше, говорю я, но, садху он или не садху, пусть он заплатит за мою ткань, которая лежит у него на плечах.
— Вот как? А у тебя на плечах лежит твой ребенок, которому меньше двух дней назад грозил гхат сожжения. Остается еще одно. Я совершил свое колдовство в твоем присутствии, потому что нужда в этом была велика. Я изменил его вид и его душу. Тем не менее если ты, о джаланхарец, когда-нибудь вспомнишь о том, что видел, вспомнишь, сидя под сельским деревом среди стариков или в своем собственном доме, или в обществе твоего жреца, когда он благословляет твой скот, тогда чума кинется на буйволов твоих, и огонь на солому крыш твоих, и крысы в закрома твои, и проклятия богов наших на поля твои, и они останутся бесплодными у ног твоих после пахоты твоей! — Эта речь была отрывком древнего проклятия, позаимствованного у одного факира, сидевшего близ Таксалийских ворот, когда Ким был совсем ребенком. Оно ничего не потеряло от повторения.
— Перестань, святой человек! Будь милостив, перестань! — вскричал джат. — Не проклинай хозяйства! Я ничего не видел. Я ничего не слышал! Я — твоя корова! — и он сделал движение, чтобы схватить голые ноги Кима, ритмично стучавшие по вагонному полу.
— Но раз тебе позволено было помочь мне щепоткой муки, горсточкой опиума и подобными мелочами, которые я почтил, употребив их для моего искусства, боги вознаградят тебя благословением, — и он, к великому облегчению джата, прочел пространное благословение.
Оно было одно из тех, которым Ким выучился у Ларгана-сахиба.
Лама смотрел сквозь очки более пристально, чем раньше глядел на переодеванье.
— Друг Звезд, — сказал он, наконец. — Ты достиг великой мудрости. Берегись, как бы она не породила тщеславие. Ни один человек, познавший Закон, не судит поспешно о вещах, которые он видел или встречал.
— Нет... нет... конечно, нет! — воскликнул крестьянин, боясь, как бы учитель не перещеголял ученика.
Е.23-й, не стесняясь, предался опиуму, который заменяет истощенному азиату мясо, табак и лекарства.
Так в молчании, исполненном благоговейного страха и взаимного непонимания, они приехали в Дели в час, когда зажигаются фонари.
ГЛАВА XII
Влекут ли тебя моря — видение водной лазури? Подъем, замиранье, паденье валов, взбудораженных бурей? Пред штормом растущая зыбь, что огромна, сера и беспенна? Экватора штиль или волн ураганом подъятые стены? Моря, что меняют свой лик, — моря, что всегда неизменны, Моря, что так дороги нам? Так вот, именно так, так вот, именно так горца влечет к горам! Море и горы— Я вновь обрел покой в своем сердце, — сказал Е.23-й, убедившись, что шум на платформе заглушает его слова. — От страха и голода люди дуреют, а то я и сам придумал бы такой путь к спасению. Я был прав... Вот пришли охотиться за мной. Ты спас меня.
Группа пенджабских полицейских в желтых штанах под предводительством разгоряченного и вспотевшего молодого англичанина раздвигала толпу у вагонов. За ними, незаметный, как кошка, крался маленький толстый человек, похожий на агента, служащего у адвоката.
— Смотри, молодой сахиб читает бумагу. У него в руках описание моей наружности, — сказал Е.23-й. — Они ходят из вагона в вагон как рыбаки с бреднем по пруду.
Когда полицейские вошли в их отделение, Е.23-й перебирал четки, непрестанно дергая кистью руки, а Ким издевался над ним за то, что он одурманен опиумом и потерял свои щипцы для угля — неотъемлемую принадлежность каждого садху. Лама, погруженный в созерцание, смотрел прямо перед собой, а крестьянин, украдкой поглядывая на окружающих, собирал свое добро.
— Никого тут нет, только кучка святош, — громко сказал англичанин и прошел дальше, сопровождаемый беспокойным говором, ибо во всей Индии появление туземной полиции грозит вымогательством.
— Теперь самое трудное, — зашептал Е.23-й, — отправить телеграмму насчет места, где я спрятал письмо, за которым меня послали. Мне нельзя идти в тар-контору в таком наряде.
— Разве мало, что я спас тебе жизнь?
— Да, если дело останется незаконченным. Неужели целитель больных жемчужин иначе тебя наставлял? А вот и другой сахиб! Ах!
Это был высокий желтовато-бледный окружной полицейский инспектор в полной форме — с поясом, шлемом и шпорами; он гордо выступал, покручивая темные усы.
— Что за дураки эти полицейские сахибы! — добродушно промолвил Ким. Е.23-й взглянул исподлобья.
— Хорошо сказано, — пробормотал он изменившимся голосом. — Пойду напиться воды. Посторожи мое место.
Он выскочил из вагона и тут же попал чуть ли не в самые объятия англичанина, который выругал его на плохом урду.
— Тум мат[56]? Нечего тут толкаться, приятель; Делийский вокзал не для тебя одного.
Е.23-й, в чьем лице не дрогнул и мускул, ответил потоком грязнейших ругательств, которые, разумеется, привели в восторг Кима. Это напоминало ему о ребятах-барабанщиках и казарменных метельщиках в Амбале в тяжелую пору его первых школьных дней.
— Болван! — протянул англичанин. — Никле джао! Ступай в вагон.
Шаг за шагом, почтительно отступая и понизив голос, желтый садху полез назад в свой вагон, проклиная полицейского инспектора и отдаленнейших потомков его проклятием Камня Царицы, — тут Ким чуть не подпрыгнул, — проклятием письмен под Камнем Царицы и проклятием множества других богов с совершенно неизвестными именами.
— Не понимаю, что ты плетешь, — рассерженный англичанин покраснел, — но это какая-то неслыханная дерзость. Вон отсюда!
Е.23-й, притворяясь непонимающим, с важностью вытащил свой билет, но англичанин сердито вырвал билет у него из рук.
— О, зулум! Какой произвол! — проворчал джат в своем углу. — И все это за простую шутку. — Перед этим он посмеивался над несдержанными выражениями садху. — Твои заклинания что-то неважно действуют нынче, святой человек!
Садху пошел за полицейским, униженно его умоляя. Толпа пассажиров, поглощенная заботами о своих детях и узлах, ничего не заметила. Ким выскользнул вслед за ними, ибо ему вдруг вспомнилось, что три года назад близ Амбалы этот сердитый глупый сахиб громогласно высказывал одной старой даме свое мнение о ее наружности.
— Все в порядке, — шепнул ему садху, стиснутый орущей, шумной, растерянной толпой; под ногами у него путалась персидская борзая собака, а сзади напирал раджпут — сокольничий с клеткой крикливых соколов. — Он пошел дать знать о письме, которое я припрятал. Мне говорили, что он в Пешаваре. А ведь я должен был бы знать, что он, как крокодил, — всегда не в той заводи, где его ищут. Он спас меня от беды, но жизнью своей я обязан тебе.
— Разве он тоже один из Нас? — Ким проскочил под мышкой жирного меварского погонщика верблюдов и растолкал целый выводок стрекочущих сингхских матрон.
— Да, и из самых главных. Нам обоим повезло. Я доложу ему о том, что ты сделал. Под его покровительством я в безопасности.
Он выбрался из толпы, осаждавшей вагоны, и сел на корточки у скамейки близ телеграфной конторы.
— Вернись в вагон, не то твое место займут. Не беспокойся о деле, брат, и о моей жизни. Ты дал мне передохнуть, а Стрикленд-сахиб вытащил меня на сушу. Возможно, мы еще поработаем с тобой вместе в Игре. До свидания!
Ким поспешил назад в вагон; он был горд, поражен, но слегка уязвлен тем, что у него нет ключей к окружающим его тайнам.
«Я только новичок в Игре, это правда. Я не мог бы спастись, с такой ловкостью перепрыгнув в безопасное место, как это сделал садху. Он знал, что «под самой лампой темней всего». Мне бы и в голову не пришло сообщать о себе сведения под видом проклятий... А как умно вел себя этот сахиб! Ну что ж, я спас жизнь одного из...» — А куда девался камбох, святой человек? — прошептал он, занимая место в переполненном отделении вагона.
— Его одолел страх, — ответил лама с нежным лукавством. — Он видел, как в мгновение ока ты превратил махрата в садху, чтобы уберечь его от беды. Это потрясло его. Потом он видел, как садху угодил прямо в лапы полиции — тоже из-за тебя. Тогда он схватил своего сына и удрал, ибо, по его словам, ты превратил мирного торговца в бесстыдного сквернослова, оскорбляющего сахибов, и он убоялся подобного жребия для себя. Где же садху?
— В полиции, — сказал Ким. — Однако я спас ребенка камбоха.
Лама с кротким видом взял понюшку табаку.
— Ах, чела, видишь, как ты сплоховал! Ты вылечил ребенка камбоха исключительно ради того, чтобы приобрести заслугу. Но ты заколдовал махрата из тщеславных побуждений, — я наблюдал за тобой, — и в это время ты искоса поглядывал на дряхлого старика и на неразумного крестьянина, которых хотел удивить: отсюда беда и подозрение.
Ким сдержался большим усилием воли, а это в его возрасте было непросто. Как и всякому другому юноше, ему было неприятно слушать незаслуженные порицания или быть неправильно понятым, но деваться ему было некуда. Поезд оставил позади Дели и погрузился в ночь.
— Это правда, — пробормотал он. — Я поступил дурно, если обидел тебя.
— Больше того, чела. Ты бросил в мир поступок, и, как от камня, брошенного в пруд, разбегаются круги, так и у твоего поступка будут последствия, и ты не можешь знать сколь далекие.
Очевидно, незнание это было благом как для тщеславия Кима, так и для душевного спокойствия ламы, если принять во внимание, что в Симле была получена шифрованная телеграмма с сообщением о прибытии Е.23-го в Дели и, что еще важнее, о местонахождении письма, которое Е.23-му было поручено... извлечь. Случайно какой-то не в меру усердный полицейский арестовал по обвинению в убийстве, совершенном в отдаленном южном княжестве, неистово негодующего аджмирского маклера по хлопку, который объяснялся с неким мистером Стриклендом на делийской платформе, в то время как Е.23-й пробирался окольными путями к замкнутому сердцу города Дели. В течение двух часов разгневанный министр одного южного княжества получил несколько телеграмм, извещавших его о том, что всякий след одного слегка пораненного махрата потерян, а к тому времени, как неторопливый поезд остановился в Сахаранпуре, последний круг ряби от камня, поднять который помогал Ким, лизал ступени некоей мечети в отдаленном Роуме... где и помешал одному благочестивому человеку совершить молитву.
Лама же, взбодренный ясным солнечным светом и присутствием своего ученика, долго молился у покрытой росой, обвитой ползучими растениями решетки близ платформы.
— Все это осталось позади, — сказал он, указывая на медный паровоз и сверкающие рельсы. — Тряска в поезде, — хотя он и чудесная штука, — превратила кости мои в воду. Отныне мы будем на чистом воздухе.
— Давай пойдем к женщине из Кулу. — Ким весело шагал под тяжестью своих свертков. Раннее утро на Сахаранпурской дороге всегда бывает ясно и наполнено ароматами. Он вспомнил о других утрах, проведенных в школе св. Ксаверия, и это увенчало его и без того безмерную радость.
— Откуда вдруг такая торопливость? Мудрые люди не бегают, как цыплята на солнце. Мы проехали сотни и сотни косов, но до сего времени мне, пожалуй, и минуты не удавалось побыть с тобой наедине. Как можешь ты слушать поучения, толкаясь в толпе? Как могу я, поглощенный потоком болтовни, размышлять о Пути?
— Так, значит, язык этой дамы не укорачивается с годами? — ученик улыбался.
— Ее любовь к талисманам тоже не уменьшается. Помню раз, когда я говорил о Колесе Жизни, — лама порылся за пазухой, ища последнюю копию, — она проявила интерес только по отношению к демонам, которые нападают на детей. Она приобретет заслугу, приняв нас... через некоторое время... при удобном случае... не сразу, не сразу. А теперь мы будем странствовать не спеша, следуя цели Всего Сущего, Искание достигнет цели.
И они побрели, не спеша, между обширными цветущими плодовыми садами — через Аминабад, Сахайганг, Акролу и Брода и маленькую Пхалесу, причем горная цепь Сивалик все время стояла перед ними на севере, а за нею, на Горах, виднелись снега.
После долгого сладкого сна под ясными звездами Ким не спеша проходил по просыпающейся деревне, в молчании протягивая чашу для сбора подаяний, но, вопреки уставу, блуждая взором с одного края неба до другого. Потом, мягко ступая по мягкой пыли, он возвращался к своему учителю в тень мангового дерева или в менее густую тень белого Дунского сириса, чтобы спокойно попить и поесть. В полдень после беседы и небольшого перехода они засыпали, и когда воздух становился прохладнее, освеженными трогались в путь. Ночь заставала их в новой области — какой-нибудь избранной ими деревне, куда они отваживались войти, после того как три часа выискивали ее среди плодородных полей и длительно обсуждали ее преимущества.
Там они рассказывали о себе, — Ким всякий раз по-новому, — и, согласно обычаям гостеприимного Востока, их принимал либо жрец, либо старшина.
Когда тени становились короче и лама начинал тяжелей опираться на Кима, всегда можно было достать Колесо Жизни, разложить его на земле, придавив обтертыми камнями, и, пользуясь длинной соломинкой, толковать цикл за циклом. Тут на высотах восседали боги — сновидения в сновидениях. Там было небо и мир полубогов — всадников, сражающихся в горах. Здесь изображались муки зверей, душ восходящих и нисходящих по лестнице, которым поэтому нельзя мешать. Тут возникали преисподние, знойные и студеные, и обители терзаемых духов. Пусть чела изучит страдания, вызванные прожорливостью, — вздутый живот и жжение в кишках. И чела послушно изучал, склонив голову и быстро водя смуглым пальцем вслед за указкой, но когда они добирались до мира людей, деятельного и суетного мира, расположенного прямо над преисподними, ум его отвлекался, ибо у Дороги катилось само Колесо, ело, пило, торговало, женилось и ссорилось — Колесо, полное жизни. Нередко лама избирал темой своих поучений эти живые картины, побуждая Кима, очень охотно это делавшего, замечать, как плоть принимает тысячи и тысячи обличий, хороших или дурных, по мнению людей, но в действительности не хороших и не дурных, и как неразумный дух, раб Свиньи, Голубя и Змеи, жаждущий бетеля, новой пары волов, женщин или милости царей, обречен следовать за телом по всем небесам и всем преисподним и снова возвращаться по Кругу на прежнее место. Иногда женщина или бедняк созерцали обряд — а это был обряд — развертывания большой желтой хартии и бросали несколько цветков или горсть каури на ее поля. Эти простые люди были довольны уже тем, что повстречали святого человека, который, быть может, помолится за них.
— Лечи их, если они больны, — говорил лама, когда у Кима пробуждалась жажда деятельности. — Лечи их, если у них лихорадка, но ни в коем случае не занимайся колдовством. Вспомни, что случилось с махратом.
— Так, значит, всякое деяние зло? — отвечал Ким, лежа под большим деревом на развилке Дунской дороги и глядя на маленьких муравьев, бегущих по его руке.
— Воздерживаться от действия — благо, исключая те случаи, когда стремишься приобрести заслугу.
— Во Вратах Учения нас учили, что сахибу не подобает воздерживаться от деятельности. А я сахиб.
— Друг Всего Мира, — лама прямо взглянул в глаза Киму. — Я старый человек, но и мне, как ребенку, приятны зрелища. Для тех, кто идет по Пути, нет ни черных, ни белых, ни Хинда, ни Бхотияла. Все мы — души, ищущие освобождения. Неважно, какую мудрость ты постиг у сахибов; когда мы придем к моей Реке, ты освободишься от всякой иллюзии вместе со мной. Хай! Кости мои ноют по этой Реке, как они ныли в поезде, но дух мой восседает превыше и он ждет. Искание достигнет цели!
— Я получил ответ. Дозволяется ли задать вопрос?
Лама величаво наклонил голову.
— Я, как ты знаешь, три года ел твой хлеб, святой человек. Откуда же приходили...
— В Бхотияле много того, что люди называют богатством, — спокойно ответил лама. — На моей родине я пользуюсь иллюзией почета. Я прошу того, в чем нуждаюсь. Я не даю отчета в расходах. Я действую на благо своему монастырю. Ах! Черные высокие сиденья в монастыре и послушники, сидящие стройными рядами!
Чертя пальцем по пыли, он стал рассказывать о долгих и пышных ритуалах в защищенных от снежных обвалов соборах, о процессиях и цаме, о превращении монахов и монахинь в свиней, о священных городах в воздухе на высоте пятнадцати тысяч футов, об интригах между монастырями, о голосах, слышных среди гор, и о том таинственном мираже, что пляшет на сухом снегу. Он говорил и о Лхассе и Далай-Ламе, которого видел и почитал.
Каждый из этих долгих и блаженных дней отделял Кима от его расы и родного языка. Он снова стал думать и видеть сны на местном наречии и бессознательно подражал ламе в соблюдении уставных правил при еде, питье и тому подобном. Старика все больше и больше влекло к его монастырю, так же как глаза его — к вечным снегам. Река ничуть его не беспокоила. Правда, он иногда долго, очень долго глядел на пучок или ветку, ожидая, как он сам говорил, что земля разверзнется и одарит их своим благословением, но он был доволен уже тем, что странствует со своим учеником, не спеша, овеянный ветерком, дующим с Дуна. Это был не Цейлон, не Будх-Гая, не Бомбей, не заросшие травами развалины, на которые он, по его словам, натолкнулся два года назад. Он говорил о тех местах, как ученый, лишенный тщеславия, как Искатель, странствующий в смирении, как старик, мудрый и воздержанный, освещающий знание тонкой интуицией. Мало-помалу достаточно последовательно (каждый рассказ его возникал по поводу чего-либо увиденного на дороге) он описал свои странствования вдоль и поперек Хинда, так что Ким, который раньше любил его беспричинно, теперь полюбил его за многие достоинства. Так они наслаждались высоким блаженством, воздерживаясь, как того требует устав, от дурных слов и от вожделений, не объедаясь, не ложась на высокие кровати и не одеваясь в богатые одежды. Желудок оповещал их о времени, а люди приносили им пищу, как сказано в пословице. Они были почитаемы во всех деревнях в окрестностях Аминабада, Сахайганга, Акролы у Брода и маленькой Пхалесы, где Ким благословил женщину, лишенную души.
Но в Индии молва бежит быстро, и раньше, чем им бы хотелось, им повстречался среди полей, поросших хлебами, седобородый слуга, худой сухощавый урия, тащивший корзину с фруктами и ящик с золотыми кабульскими апельсинами; он стал умолять их почтить своим присутствием его хозяйку, расстроенную тем, что лама так давно не навещал ее.
— Теперь я вспоминаю, — лама говорил так, будто приглашение явилось для него совершенной новостью, — она добродетельна, но чрезмерно болтлива.
Ким сидел на краю коровьей кормушки, рассказывая сказки детям деревенского кузнеца.
— Она попросит еще одного сына для своей дочери. Я не забыл ее, — сказал он. — Дай ей приобрести заслугу. Вели сказать, что мы придем.
Они в два дня прошли одиннадцать миль по полям и, достигнув места, куда направлялись, увидели себя окруженными вниманием и заботой, ибо старуха соблюдала добрые традиции гостеприимства, чему учила и зятя, который был под башмаком у женской половины семьи и покупал душевное спокойствие, занимая деньги у ростовщика. Старость не умерила ее болтливости, не ослабила ее памяти, и, сидя за стыдливо забранным решеткой верхним окном, она в присутствии дюжины слуг осыпала Кима комплиментами, способными привести в полнейшее замешательство европейских слушателей.
— Но ты все такой же бесстыдный щенок-сорванец, каким был на парао, — визжала она. — Я тебя не забыла. Вымойтесь и откушайте. Отец сына моей дочери ненадолго уехал. Поэтому мы, бедные женщины, сидим немые и никому не нужные.
В доказательство чего она, не скупясь на слова, обратилась ко всем своим чадам и домочадцам с речью, длившейся до тех пор, пока не принесли еду и напитки, а вечером, попахивавшим дымком вечером, окрасившим поля тусклой медью и бирюзой, ей вздумалось приказать, чтобы паланкин ее поставили на неопрятном дворе под дымящими огнями факелов, и там она принялась болтать за не слишком тщательно задвинутыми занавесками.
— Приди святой человек без спутника, я иначе встретила бы его, но с этим постреленком осторожность не помешает.
— Махарани, — промолвил Ким, как всегда называя ее полным титулом, — разве моя вина, что не кто иной, как сахиб, полицейский сахиб, назвал махарани, чье лицо он...
— Цыц! Это было во время паломничества. Когда мы путешествуем... Ты знаешь пословицу?
— ...Назвал махарани Разбивающей Сердца и Дарящей Наслаждения.
— И ты помнишь об этом! Это правда. Так он говорил. То было в пору расцвета моей красоты. — Она закудахтала, как довольный попугай при виде куска сахара. — Теперь расскажи мне о своих похождениях... насколько это позволяет стыдливость. Сколько девушек и чьи жены висели на твоих ресницах? Вы пришли из Бенареса? Я съездила бы туда опять в нынешнем году, но моя дочь... у нас только два сына. Пхай! Вот что значит жить на этих плоских равнинах. Зато в Кулу мужчины — слоны. Но я хотела бы попросить у святого человека, — встань в сторонке, сорванец, — талисман против мучительнейших колик и ветров, которые в пору созревания манго одолевают старшего сына моей дочери. Два года назад он дал мне замечательный талисман.
— О, святой человек! — сказал Ким, взглянув на раздраженное лицо ламы и заливаясь смехом.
— Это правда, я дал ей талисман от ветров.
— От зубов, от зубов, от зубов, — подхватила старуха.
— Лечи их, если они больны, — с наслаждением процитировал Ким, — но ни в коем случае не занимайся колдовством. Вспомни, что случилось с махратом.
— Это было два сезона дождей назад; она извела меня своей навязчивостью, — вздохнул лама, как некогда вздыхал судья неправедный. — Так вот и выходит, — заметь себе это, мой чела, что даже те, которые стремятся идти по Пути, совращаются с него праздными женщинами. Когда ребенок был болен, она три дня кряду разговаривала со мной.
— Аре! А с кем же мне еще говорить? Мать мальчика ни о чем не имела понятия, а отец... это было в холодные ночи. — «Молитесь богам», — сказал он, воистину так, и, повернувшись на другой бок, захрапел.
— Я дал ей талисман. Что может поделать старик?
— Воздерживаться от действия — благо, исключая тех случаев, когда стремишься приобрести заслугу.
— Ах, чела, если ты отречешься от меня, я останусь один на свете.
— Во всяком случае, молочные зубы у него прорезались легко, — сказала старуха. — Но все жрецы на один лад.
Ким со строгостью кашлянул. Юноша не одобрял ее легкомыслия.
— Не вовремя докучая мудрецу, навлечешь на себя беду. — У нас есть говорящая майна[57], — отповедь сопровождалась памятным Киму постукиваньем усыпанного драгоценностями указательного пальца. — Она гнездится над конюшнями и научилась подражать речи нашего домашнего жреца. Быть может, я недостаточно почитаю своих гостей, но если бы вы видели, как он тыкал себя кулаками в животик, вздувшийся как созревшая тыква, и кричал: «Вот тут больно!», вы простили бы меня. Я наполовину склоняюсь к тому, чтобы взять лекарство у хакима. Он продает их дешево и сам толстеет от них, как бык Шивы. Мальчик не отказывался от лекарств, но я опасаюсь, не повредят ли они ребенку, потому что цвет склянок показался мне зловещим.
Пока она говорила все это, лама исчез во мраке, направляясь в приготовленную для него комнату.
— Ты, наверное, рассердила его, — сказал Ким.
— Ну, нет. Он устал, а я, как всякая бабушка, позабыла об этом. (Никто кроме бабушки не должен воспитывать ребенка. Матери годятся лишь на то, чтобы рожать.) Завтра, когда он увидит, как вырос сын моей дочери, он напишет талисман. Тогда он сможет также высказать свое мнение о лекарствах нового хакима.
— Что это за хаким, махарани?
— Странник, как ты, но чрезвычайно трезвый бенгалец из Дакхи, знаток медицины. Он вылечил меня от тяжести в желудке, причиненной мясом, посредством маленькой пилюли, которая подействовала, как дьявол, сорвавшийся с цепи. Он странствует, торгуя хорошими дорогими лекарствами. У него и бумаги есть, напечатанные на ангрези, в которых написано, как он помог мужчинам с больной поясницей и немощным женщинам. Он живет здесь четыре дня, но услышав о том, что вы придете (во всем мире жрецы с хакимами, что тигры со змеями), он, надо полагать, спрятался.
Пока она, выпалив все это, переводила дух, дряхлый слуга, спокойно сидевший там, куда уже еле достигал свет факелов, пробормотал:
— Этот дом стал скотным двором для всяких проходимцев и... жрецов. Не давайте мальчику столько еды... Но кто переспорит бабушку? — Он почтительно возвысил голос. — Сахиба, хаким спит после еды. Он в комнате позади голубятни.
Ким ощетинился, как фокстерьер на стойке. Смутить и переспорить обучавшегося в Калькутте бенгальца, говорливого дакхского продавца лекарств, — вот настоящая игра. Не подобает, чтобы ламу, да и его самого отстранили ради такого человека. Киму были знакомы смешные объявления на плохом английском языке, которые печатались на последних страницах туземных газет. Воспитанники школы св. Ксаверия иногда приносили их с собой тайком и хихикали над ними, ибо язык благодарного пациента, перечисляющего симптомы своей болезни, обычно отличается необыкновенным простодушием и откровенностью.
Урия, ничего не имевший против того, чтобы стравить одного прихлебателя с другим, ускользнул по направлению к голубятне.
— Да, — сказал Ким со сдержанным презрением, — немного подкрашенной воды да великое бесстыдство — вот и весь их товар. Добыча их — потерявшие здоровье князьки и обжоры-бенгальцы. Барыш приносят им дети... еще не рожденные. — Старуха расхохоталась.
— Не завидуй! Талисманы лучше, а? Я никогда этого не отрицала. Позаботься, чтобы твой святой написал мне хороший амулет наутро.
— Только невежды отрицают, — глухой, низкий голос загудел в темноте, и какая-то фигура, приблизившись, присела на корточки, — только невежды отрицают действенность талисманов. Только невежды отрицают действенность лекарств.
— Крыса нашла кусок куркумы и говорит: «Я открою бакалейную лавку», — отпарировал Ким.
Словесный бой разгорался, и они заметили, что старуха замерла — вся внимание.
— Сын жреца знает только имя своей няньки да имена трех богов, но говорит: «Слушайте меня, не то я прокляну вас от имени трех миллионов Великих». — Несомненно, невидимый человек держал одну-две стрелы в колчане. Он продолжал: — Я только учу азбуке. Всей мудрости я научился у сахибов.
— Сахибы никогда не стареют. Бывает, они уже дедушки, а все еще пляшут и играют, как дети. Крепкая порода, — пропищал голос из паланкина.
— У меня также есть лекарства, которые замедляют биение крови в голове у разгоряченных и разгневанных людей. Есть у меня сина, отлично приготовленная в то время, когда месяц стоит в надлежащем Доме. Имеются желтые порошки... арплан из Китая, от которого человек молодеет и начинает изумлять свою семью; шафран из Кашмира и лучший салеп из Кабула. Много людей умерло раньше...
— Этому я охотно верю, — вставил Ким.
— ...чем они узнали о достоинствах моих снадобий. Моим больным я даю не простые чернила, которыми написан талисман, но сильно действующие лекарства, которые сражаются с недугом.
— И очень хорошо сражаются, — вздохнула старуха.
Голос начал длиннейший рассказ о каких-то злоключениях и банкротстве, пересыпанный обильными воззваниями к правительству.
— Ежели бы не моя судьба, которая всему помехой, я был бы на службе у правительства. Я имею диплом прославленной калькуттской школы, куда, быть может, поступит и сын этого дома.
— Обязательно поступит. Если ублюдок нашего соседа за несколько лет успел сделаться П. И. (Первым в Искусствах — она произнесла английские слова, которые так часто слышала), так почему гораздо более умным детям, — например, некоторым знакомым мне, — не получить награды в богатой Калькутте?
— Никогда, — начал голос, — не видывал я такого ребенка. Родился он в благоприятный час и, если бы не эти колики, которые, увы, перейдя в черную холеру, способны погубить его, как голубя, ему предстоит долгая жизнь и можно ему позавидовать.
— Хай май! — воскликнула старуха. — Хвалить детей — навлекать несчастье, не то я долго слушала бы эти речи. Но дом на задворках не охраняется, и даже в этих теплых краях есть мужчины и женщины, которых называть не стоит... Отец ребенка уехал, и мне приходится быть чаукидаром[58] на старости лет! Вставайте! Поднимайте паланкин! Пусть хаким и молодой жрец решат между собой, что помогает лучше — талисман или лекарства. Хо! Негодные люди, принесите табаку для гостей и... я пойду обойду усадьбу.
Паланкин поплыл прочь в сопровождении задуваемых ветром факелов и оравы собак. Двадцать деревень знали сахибу — ее слабости, ее язык и ее широкую благотворительность. Двадцать деревень с незапамятных времен надували ее по привычке, но ни один человек ни за какие небесные дары не стал бы воровать или грабить в пределах ее поместий. Тем не менее она с большой торжественностью совершала свои обходы, шум которых был слышен на полпути к Масури.
Ким сбавил тон, как авгур, встретившийся с другим авгуром. Хаким, продолжая сидеть на корточках, дружественным движением ноги подвинул к нему хукку, и Ким затянулся хорошим табаком. Окружающие их зеваки ждали серьезных профессиональных дебатов, а может быть, и врачебных советов на дармовщинку.
— Говорить о медицине в присутствии невежд то же, что учить павлина пению, — сказал хаким.
— Истинная учтивость, — отозвался Ким, — зачастую кажется невниманием.
Следует отметить, что то были приемы, имеющие целью произвести впечатление на окружающих.
— Ха! У меня нарыв на ноге, — вскричал один поваренок. — Взгляните на него!
— Пошел вон! Убирайся! — ответил хаким. — Разве здесь позволено приставать к почтенным гостям? Вы толпитесь, как буйволы.
— Если бы сахиба знала, — начал Ким.
— Да, да! Уйдемте... Для нашей хозяйки они все равно, что навоз. Когда колики ее шайтаненка пройдут, может, и нам, беднякам, позволят...
— Хозяйка кормила твою жену, когда ты сидел в тюрьме за то, что проломил голову ростовщику. Кто осуждает ее? — Старый слуга, облитый светом молодого месяца, яростно крутил белые усы. — Я отвечаю за честь этого дома. Ступайте! — и он погнал перед собой подчиненных. Хаким зашептал сквозь зубы:
— Как поживаете, мистер О'Хара? Я чертовски рад видеть вас снова.
Ким сжал пальцами чубук. Где угодно, хотя бы на большой дороге, он нисколько не удивился бы, но здесь, в этой тихой заводи, он не ожидал встретить Хари-бабу. К тому же он досадовал, что его провели.
— Аха! Я говорил вам в Лакхнау — resurgam — я встану перед вами, и вы не узнаете меня. На сколько вы держали пари, а? — Он лениво жевал семечки кардамона, но дышал с трудом.
— Однако зачем вы сюда пришли, бабуджи?
— А! Вот в чем вопрос, как сказал Шекспир. Я пришел поздравить вас с вашей необычайно удачной операцией в Дели. О-а! Говорю вам, все мы гордимся вами. Это было оч-чень аккуратно и ловко сделано. Наш общий друг — мой старый приятель, бывал в чертовски узких местах. И побывает еще в нескольких. Он рассказал мне; я рассказал мистеру Ларгану, и он доволен, что вы продвигаетесь столь успешно. Все ведомство довольно.
Впервые за всю свою жизнь Ким наслаждался чувством чистой гордости (которое, тем не менее, может оказаться коварной западней), вызванной одобрением ведомства, в котором служишь, дурманящей похвалой равного тебе сослуживца, ценимого другими сослуживцами. Ничто на земле не может сравниться с этим. «Но, — настойчиво подсказывал восточный человек, сидевший внутри него, — бабу не станет ездить так далеко лишь для того, чтобы сказать несколько приятных слов». — Рассказывай, бабу, — сказал он с достоинством.
— О-а, это пустяки. Просто я был в Симле, когда пришла телеграмма насчет того, что спрятал наш общий друг, по его словам, и старик Крейтон... — Он поднял глаза, чтобы видеть, как Ким отнесся к такой дерзости.
— Полковник-сахиб, — поправил его воспитанник школы св. Ксаверия.
— Конечно. Он узнал, что мне делать нечего, и мне пришлось ехать в Читор, чтобы найти это проклятое письмо. Я не люблю юга — слишком много приходится ездить по железной дороге. Но я получил хорошие командировочные. Ха! Ха! Возвращаясь, я встретил нашего общего друга в Дели. Он теперь сидит смирно и считает, что одеяние садху — самое для него подходящее. Прекрасно; там я услышал о том, что проделали вы столь хорошо, столь быстро, под влиянием момента. Я сказал нашему общему другу, что вы попали в самую точку, клянусь Юпитером! Это вышло великолепно. Я пришел сказать вам об этом.
— Хм!...
Лягушки квакали в канавах, а месяц скользил к горизонту. Какой-то веселый человек из слуг вышел наслаждаться ночью и бить в барабан. Следующую фразу Ким произнес на местном языке.
— Как ты выследил нас?
— О! Эт-то пустяки. Я узнаю от нашего общего друга, что вы отправились в Сахаранпур. Итак, я следую за вами. Красные ламы довольно заметные люди. Я покупаю себе аптечку, — ведь я действительно очень хороший врач. Я иду в Акролу у Брода и слышу все, что говорят о вас... Здесь потолкую, там потолкую! Все простые люди знают о том, что вы делаете. Когда гостеприимная старая леди послала доли, я об этом узнал. Тут сохранилось много воспоминаний о прежних визитах старого ламы. Я знаю, старые леди не могут жить без лекарств. Поэтому я стал доктором и... вы слышали, как я говорил? Я думаю, что это оч-чень хорошо. Даю слово, мистер О'Хара, люди знают о вас за пятьдесят миль отсюда — простые люди. Поэтому я пришел. Вы имеете что-нибудь против?
— Бабуджи, — сказал Ким, поднимая взгляд на широкое усмехающееся лицо, — я сахиб.
— Мой дорогой мистер О'Хара...
— ...И я надеюсь принять участие в Большой Игре.
— В настоящее время вы в служебном отношении подчинены мне.
— Тогда к чему болтать, как обезьяна на дереве? Никто не станет гнаться за другим человеком от самой Симлы и менять свой костюм только для того, чтобы сказать несколько приятных слов. Я не ребенок. Говори на хинди и давай доберемся до яичного желтка. Ты здесь, но из десяти слов твоих нет и одного правдивого. Зачем ты здесь? Отвечай прямо.
— Европеец всегда поставит вас в тако-ое неловкое положение, мистер О'Хара. А вам следовало бы больше знать в вашем возрасте.
— Но я и хочу знать, — со смехом сказал Ким. — Если это относится к Игре, я могу помочь. Как могу я сделать что-нибудь, если вы вертитесь вокруг да около?
Хари-бабу потянулся за чубуком, и сосал его, покуда вода в хукке снова не забулькала.
— Теперь я буду говорить на местном языке. Сидите смирно, мистер О'Хара... Это касается родословной одного белого жеребца.
— Неужели? Ведь эта история кончилась давным-давно.
— Когда все умрут, тогда только кончится Большая Игра. Не раньше. Выслушай меня до конца. Пятеро владетельных князей готовились внезапно начать войну три года назад, когда Махбуб Али дал тебе родословную жеребца. Получив это известие, наша армия выступила против них раньше, чем они успели подготовиться.
— Да... восемь тысяч человек и пушки... Я помню эту ночь.
— Но войны не было. Такова тактика правительства. Войска были отозваны, ибо правительство поверило, что эти пятеро владетельных князей усмирены, а кормить солдат на высоких Перевалах стоит недешево. Хилас и Банар, двое раджей, владеющих пушками, обязались за известное вознаграждение охранять Перевалы от всех пришельцев с Севера. Оба они притворялись испуганными и дружески к нам настроенными. — Он захихикал и перешел на английский язык. — Конечно, я сообщаю вам все это не-официа-ально, мистер О'Хара, я просто пытаюсь осветить политическую ситуацию. Официа-ально я воздерживаюсь от критики каких бы то ни было действий начальства. Теперь продолжаю. Это понравилось правительству, которое желало избежать расходов, и было заключено соглашение, что за определенную ежемесячную сумму Хилас и Банар начнут охранять Перевалы, как только правительственные войска будут отведены. В то время — это было после того, как мы с вами познакомились (тогда я торговал чаем в Лехе), — мне пришлось поступить на службу в армию счетоводом. Когда войска были отведены, меня оставили на месте, чтобы расплатиться с кули, которые прокладывали новые дороги в Горах. Прокладка дороги — одно из условий соглашения, заключенного правительством с Банаром и Хиласом.
— Так, а потом?
— Уверяю вас, там, наверху, было чертовски холодно, когда кончилось лето, — доверительным тоном продолжал Хари-бабу. — Я каждую ночь боялся, что люди Банара перережут мне горло из-за шкатулки с деньгами. Мои туземные телохранители — сипаи, смеялись надо мной. Клянусь Юпитером! Я был совершенно испуган. Но не в этом де-ело. Итак, продолжаю... Много раз я сообщал, что оба владетельных князя продались Северу, и Махбуб Али, который в то время находился еще дальше на Севере, привел в подтверждение этого обильные доказательства. Никакого результата. Я отморозил себе ноги, и один палец отвалился. Я послал донесение, что дороги, за которые я платил деньги землекопам, прокладываются для иностранцев и врагов.
— Для кого?
— Для русских. Кули открыто смеялись над этим. Тогда меня отозвали обратно, чтобы я устно рассказал все, что мне было известно. Махбуб тоже приехал на Юг. Слушайте, чем все это кончилось. На Перевалах в нынешнем году после таяния снегов, — он снова вздохнул, — появились два иностранца якобы для охоты на диких коз. У них имеются ружья, но у них имеются также и мерные цепи, и анероиды, и компасы.
— Охо! Дело разъясняется.
— Хилас и Банар любезно их принимают. Иностранцы щедро дают обещания, они говорят от имени царя и преподносят подарки. Они бродят по долинам, вверх и вниз, и говорят: «Здесь подходящее место для бруствера, тут можно построить укрепление. Эту дорогу можно защищать против целой армии». Речь идет о дорогах, за которые я ежемесячно выплачивал рупии! Правительство знает об этом, но ничего не делает. Три других владетельных князя, которым не платили за охрану Перевалов, сообщают через курьера о вероломстве Банара и Хиласа. Когда, заметьте себе, все зло уже свершилось и эти два иностранца с анероидами и компасами уже убедили пятерых князей, что завтра или послезавтра огромная армия наводнит Перевалы, что все горцы дураки, — приходит приказ мне, Хари-бабу, «отправиться на Север и посмотреть, что делают эти иностранцы». Я говорю Крейтону-сахибу: «Ведь мы не готовим судебный процесс, зачем же нам идти собирать доказательства?» — Он вздрогнул и опять перешел на английский. — «Клянусь Юпитером, — сказал я, — какого черта не издаете вы полуофициального приказа, чтобы какие-нибудь хорошие парни отравили их в назидание прочим? Это, да будет позволено мне заметить, совершеннейшая халатность с вашей стороны». А полковник Крейтон высмеял меня. Все это ваша проклятая английская гордость. Вы полагаете, что никто не дерзнет устраивать заговоры. Вздор!
Ким неторопливо курил, осмысливая своим острым умом всю историю, насколько он ее понял.
— Так ты собираешься пойти вслед за иностранцами?
— Нет, я собираюсь встретиться с ними. Они придут в Симлу, чтобы отослать рога и головы убитых зверей в Калькутту, для выделки. Эти джентльмены занимаются спортом и только, а правительство оказывает им особое содействие. В этом ваша британская гордость.
— Так чего же их опасаться?
— Клянусь Юпитером, это не черные люди. Я, само собой разумеется, могу делать все что угодно с черными людьми. Но они — русские и люди весьма непорядочные. Я... я не хочу входить в сношения с ними без свидетелей.
— Не убьют же они тебя?
— О-а, эт-то ничего. Я достаточно хороший спенсерианец, надеюсь, чтобы спокойно встретить столь пустячное событие, как смерть, которая, заметьте себе, все равно предназначена мне судьбой. Но... но они могут поколотить меня.
— За что?
Хари-бабу с раздражением щелкнул пальцами.
— Само собой разумеется, я наймусь к ним на сверхштатную должность (скажем, в качестве переводчика, быть может), или пристроюсь к ним как душевнобольной, или голодающий, или что-нибудь в этом роде. А тогда мне придется присматриваться к каждой мелочи. Для меня это так же легко, как играть роль доктора при старой леди. Только... только... Видите ли, мистер О'Хара, к несчастью, я азиат, а это в некотором смысле серьезный недостаток. К тому же я бенгалец — человек пугливый.
— Бенгальца и зайца создал бог, так чего ж им стыдиться? — пословицей ответил Ким.
— Я полагаю, что тут была какая-то первопричина, но факт остается фактом во всем своем cui bono. Я, ах, ужасно пуглив. Помню раз, по дороге в Лхассу, мне собирались отрубить голову. (Нет, до Лхассы мне ни разу не удалось дойти.) Я сидел и плакал, мистер О'Хара, предвидя китайские пытки. Не думаю, что эти два джентльмена будут пытать меня, но мне хочется подстраховать себя помощью европейца на случай непредвиденного стечения обстоятельств. — Он кашлянул и выплюнул кардамон. — Это совершенно неофициа-альное ходатайство, и вы вольны ответить на него: «Нет, бабу». Если у вас нет срочных дел с вашим стариком, — вам, быть может, удастся отвлечь его в сторону, а мне, быть может, удастся повлиять на его фантазию, — я желал бы, чтобы вы находились со мной в служебном контакте, пока я не найду этих спортсменов. Я возымел весьма благоприятное мне-ение о вас, когда повидался в Дели с моим другом. И я, безусловно, включу ваше имя в мое официа-альное донесение, когда будет вынесено окончательное решение по делу. Это добавит крупное перо на вашу шляпу. Вот, в сущности, зачем я пришел.
— Хм! Конец рассказа, пожалуй, соответствует истине, но как насчет первой части?
— Насчет пятерых князей? О, в этом правды не меньше. И даже гораздо больше, чем вы предполагаете, — серьезно сказал Хари-бабу. — Так пойдете? Отсюда я отправлюсь прямо в Дун. Там оч-чень зеленые и живописные луга. Я пойду в Масури — на старые, добрые «Масури-пахар», как говорят джентльмены и леди. Потом через Рампур в Чини. Они могут пройти только этим путем. Я не люблю ждать на холоде, но нам придется подождать их. Я хочу вместе с ними отправиться в Симлу. Заметьте себе, один из них русский, другой — француз, а я достаточно хорошо знаю французский язык. У меня есть друзья в Чандарнагаре.
— Он, разумеется, будет рад снова увидеть Горы, — задумчиво промолвил Ким. — Все эти десять дней он почти ни о чем другом не говорил... Если мы пойдем вместе...
— О-а! По дороге мы можем притворяться, что совершенно не знаем друг друга, если вашему ламе это больше нравится. Я пойду на четыре-пять миль впереди вас. Спешить некуда! Бабу будет тащиться, как баба. Это европейский каламбур, ха! ха! А вы пойдете сзади. Времени у нас пропасть. Они, конечно, будут делать схемки, рисовать планы и карты. Я выйду завтра, а вы послезавтра, если пожелаете. А? Обдумайте это до утра. Клянусь Юпитером, утро уже наступает. — Он громко зевнул и, не добавив ни слова, хотя бы из вежливости, скрылся в свою спальню. Но Ким спал мало, и мысли его были на хиндустани:
«Игру правильно называют Большой! В Кветте я четыре дня прослужил поваренком у жены того человека, чью книжку украл. И это было частью Большой Игры! С Юга — бог знает, из какого далека — пришел махрат, игравший в Большую Игру с опасностью для жизни. Теперь я пойду далеко-далеко на Север играть в Большую Игру. Поистине, она, как челнок, бегает по всему Хинду. И моим участием в ней и моей радостью, — он улыбался во тьме, — я обязан ламе. А также Махбубу Али, а также Крейтону-сахибу, но главным образом святому человеку. Он прав — это великий и чудесный мир, а я — Ким... Ким... Ким... один... один человек... во всем этом. Но я хочу посмотреть на этих иностранцев с их анероидами и цепями...»
— Чем кончилась вчерашняя болтовня? — спросил лама, совершив молитву.
— Тут появился какой-то бродячий продавец лекарств — прихлебатель сахибы. Я сразил его доводами и молитвами, доказав, что наши талисманы действенней, чем его подкрашенная вода.
— Увы! Мои талисманы... Неужели эта добродетельная женщина все еще хочет получить новый талисман?
— И очень на этом настаивает.
— Тогда его придется написать, не то она оглушит меня своей трескотней, — он стал рыться в пенале.
— На Равнинах, — сказал Ким, — всегда слишком много людей. В Горах, насколько я знаю, их меньше.
— О! Горы и снега на Горах! — Лама оторвал крошечный бумажный квадратик, годный для амулета. — Но что ты знаешь о Горах?
— Они очень близко. — Ким распахнул дверь и стал смотреть на длинную, дышащую покоем цепь Гималаев, розовую в золотом блеске утра. — Я никогда не ходил по ним иначе, как в платье сахиба.
Лама в задумчивости вдыхал утренний воздух.
— Если мы пойдем на Север, — с этим вопросом Ким обратился к восходящему солнцу, — не удастся ли нам избежать полуденной жары, бродя хотя бы по горным отрогам?.. Талисман готов, святой человек?
— Я написал тут имена семи дурацких демонов, ни один из которых не стоит и пылинки в глазу. Так неразумные женщины совращают нас с Пути!
Хари-бабу вышел из-за голубятни; он чистил зубы, подчеркнуто соблюдая ритуал. Упитанный, широкий в бедрах, с бычьей шеей и густым голосом, он не был похож на «пугливого человека». Ким почти незаметно сделал ему знак, что дело пошло на лад, и когда утренний туалет его был завершен, Хари-бабу явился приветствовать ламу цветистой речью. Разумеется, ели они каждый в отдельности, но после еды старуха, более или менее скрытая за окошком, вернулась к больному для нее вопросу о коликах у младенцев, причиненных незрелыми плодами манго. Лама, конечно, знал только симпатические средства. Он верил, что навоз вороной лошади, смешанный с серой и вложенный в змеиную кожу, — прекрасное лекарство от холеры, но символика интересовала его гораздо больше, чем наука. Хари-бабу с чарующей вежливостью присоединился к этим взглядам, так что лама назвал его учтивым врачом. Хари-бабу ответил, что он не более чем неопытный любитель, исследующий тайны, но, по крайней мере, — и за это он благодарит богов — способен понять, что сидит в присутствии знатока. Сам он учился у сахибов, не считающихся с расходами, в величественных залах Калькутты. Но, как он сам первый всегда признавал, бывает мудрость, превышающая земную мудрость, а именно высокое, доступное лишь немногим учение о созерцании. Ким смотрел на него с завистью. Знакомый ему Хари-бабу — вкрадчивый, экспансивный и нервный — исчез; исчез и вчерашний дерзкий знахарь. Остался утонченный, вежливый, внимательный, скромный ученый, познавший и опыт, и превратности судьбы, а теперь постигающий мудрость, исходящую из уст ламы. Старуха призналась Киму, что такие высоты выше ее понимания. Она любила талисманы, обильно исписанные чернилами, которые можно смыть водой, выпить эту воду, и дело с концом. Иначе какая польза от богов? Она любила мужчин и женщин и рассказывала о них: о князьках, которых знала в прошлом, о своей молодости и красоте, о нападениях леопардов и о причудах азиатской любви, о налогообложении, о непомерной арендной плате, о похоронных обрядах, о своем зяте (прибегая к прозрачным намекам), об уходе за детьми и о том, что в нынешний век люди лишились скромности. А Ким, интересующийся жизнью этого мира так же, как и она, та, которой скоро предстояло покинуть его, сидел на корточках, спрятав ноги под подол халата, и внимал ее словам, в то время как лама разрушал одну за другой все теории исцеления тела, выдвигаемые Хари-бабу.
В полдень бабу связал ремнем свой обитый медью ящик с лекарствами, взял в одну руку лакированные ботинки, надевавшиеся в торжественных случаях, в другую — пестрый зонтик в белую и синюю полоску и ушел в северном направлении к Дуну, где, как он говорил, его ожидали мелкие князья этих областей.
— Мы отправимся вечером, по холодку, чела, — сказал лама. — Этот врач, овладевший искусством врачевания и учтивого обращения, утверждает, что там, на горных отрогах, люди благочестивы, щедры и очень нуждаются в учителе. Спустя короткое время, — так говорит хаким, — мы доберемся до прохладного воздуха и запаха сосен.
— Вы идете в Горы? И по дороге в Кулу? О, втройне счастливые! — завизжала старуха. — Не будь я занята домашними делами, я взяла бы паланкин... Но так поступать бессовестно, и репутации моей конец. Хо! Хо! Я знаю дорогу, каждый переход на этой дороге я знаю. Вы повсюду встретите милосердие: красивым в нем не отказывают. Я прикажу дать вам пищи в дорогу. Не послать ли слугу проводить вас? Нет... Так, по крайней мере, я приготовлю вам вкусной пищи.
— Что за женщина эта сахиба! — сказал белобородый урия, когда на кухне поднялся шум. — Ни разу она не забыла о друге, ни разу не забыла о недруге за все годы своей жизни. А стряпня ее — ва! — он потер свой тощий живот.
Тут были и лепешки, и сласти, и холодное из домашней птицы, сваренной с рисом и сливами, и столько всего, что Киму предстояло нести груз мула.
— Я стара и никому не нужна, — сказала старуха. — Никто не любит меня... и никто не уважает, но мало кто может сравниться со мной, когда я призову богов, сяду на корточки и примусь за свои кухонные горшки. Приходите опять, о доброжелательные люди, святой человек и ученик, приходите опять! Комната для вас всегда готова; всегда вас ожидает любезный прием... Смотри, женщины слишком открыто гоняются за твоим челой! Я знаю женщин из Кулу... Берегись, чела, как бы он от тебя не убежал, когда опять увидит свои Горы... Хай! Не опрокидывай мешок с рисом... Благослови домочадцев, святой человек, и прости служанке твоей ее неразумие.
Она вытерла красные старые глаза уголком покрывала и гортанно закудахтала.
— Женщины много болтают, — сказал, наконец, лама, — но, что делать, это женский недуг. Я дал ей талисман. Она стоит на Колесе и всецело предана зрелищам этой жизни, но тем не менее, чела, она добра, радушна, отзывчива. Кто скажет, что она не приобретет заслуги?
— Только не я, святой человек, — сказал Ким, поправляя щедрый запас провизии на своих плечах. — В уме моем, позади моих глаз, я старался вообразить себе такую женщину совершенно освобожденной от Колеса — ничего не желающей, ничего не порождающей, так сказать, монахиню.
— Ну и что же, о чертенок? — лама чуть не рассмеялся.
— Я не могу этого вообразить.
— Я также. Но у нее много, много миллионов жизней впереди. Быть может, она в каждой из них будет достигать мудрости понемногу.
— А не позабудет ли она на этом пути, как нужно варить кашу с шафраном?
— Ум твой предан недостойным предметам. Но она искусна. Я чувствую себя совершенно отдохнувшим. Когда мы дойдем до горных отрогов, я стану еще крепче. Хаким верно сказал мне сегодня утром, что дыханье снегов сдувает двадцать лет с жизни человека. Мы поднимемся на Горы, на высокие горы, к шуму снеговой воды и к шуму деревьев... ненадолго. Хаким сказал, что мы в любое время можем вернуться на Равнины, ибо будем бродить лишь у самого края этих прекрасных мест. Хаким исполнен учености, но он ни в коей мере не гордится ею. Я поведал ему, — пока ты разговаривал с сахибой, — о некотором головокружении, которое по ночам ощущаю в затылке, и он сказал, что оно возникло от чрезмерной жары и пройдет от прохладного воздуха. Поразмыслив, я удивился, почему раньше не подумал о столь простом лекарстве.
— А ты сказал ему о твоем Искании? — спросил Ким несколько ревниво. Он хотел влиять на ламу собственными своими речами, а не посредством уловок Хари-бабу.
— Конечно, я рассказал ему о своем сне и о том, как приобрел заслугу, дав тебе возможность учиться мудрости.
— Ты не говорил, что я сахиб?
— Зачем? Я много раз говорил тебе, что мы всего лишь души, ищущие освобождения. Он сказал, — и в этом он прав, — что Река Исцеления выступит на поверхность именно так, как я это видел во сне, и если понадобится, то даже у самых моих ног. Видишь ли, раз я нашел Путь, который освободит меня от Колеса, зачем искать путей между обыкновенными полями земли, которые всего лишь иллюзия? Это было бы бессмысленно. У меня есть мои сны, повторяющиеся каждую ночь, у меня есть Джатака, у меня есть ты — Друг Всего Мира. В твоем гороскопе было начертано, что Красный Бык на зеленом поле, — я не забыл, — приведет тебя к почестям. Кто как не я видел, что пророчество это исполнилось? Поистине, я послужил орудием этого. А ты найдешь мне мою Реку, послужив орудием в свою очередь. Искание достигнет цели!
Он обратил свое желтое, как слоновая кость, лицо, безмятежное и спокойное, к зовущим его Горам, и тень его ползла далеко перед ним по пыльной земле.
ГЛАВА XIII
Влекут ли тебя моря, что велики бесстрастным волненьем? Рывок, содроганье, крен и бушприта средь звезд появленье, Сапфирные гребни внизу, облака на дорогах небесных, Ветра, что ревут в парусах и несут их к скалам неизвестным? Моря, чьих чудес и не счесть, моря, что извечно чудесны. Моря, что так дороги нам? Так вот, именно так, так вот, именно так горца влечет к горам! Море и горы. «Кто идет в Горы, идет к своей матери».Они пересекли горную цепь Сивалик и субтропический Дун, оставили позади себя Масури и по узким горным дорогам направились к Северу. День за днем они все глубже и глубже проникали в тесно скученные горы, и Ким день за днем видел, как к ламе возвращалась сила. Когда они шли по террасам Дуна, он опирался на плечо юноши и с охотой соглашался отдохнуть при дороге. У подножья большого подъема к Масури он весь как-то подобрался, словно охотник, вновь увидевший памятный берег, и, вместо того чтобы в полном изнеможении опуститься на землю, запахнул длинные полы халата, глубоко, обоими легкими вдохнул алмазный воздух и пошел, как умеют ходить только горцы. Ким, рожденный и воспитанный на равнинах, потел и задыхался, изумляясь старику.
— Эта страна по мне, — говорил лама. — В сравнении с Сач-Зеном эти места плоски, как рисовые поля. — И, упорно, размашисто двигая бедрами, шагал вверх. На крутом спуске в три тысячи футов, пройденном за три часа, он далеко опередил Кима, у которого болела спина от необходимости постоянно отклоняться назад, а большой палец на ноге был почти перерезан травяной перевязью сандалии. В пятнистой тени больших деодаровых лесов, по дубравам, пушистым и перистым от папоротников, среди берез, каменных дубов, рододендронов и сосен, вверх по голым горным склонам, скользким от сожженной солнцем травы, и снова в прохладе лесов, пока дуб не начинал уступать место бамбуку и пальмам долины, ритмично шагал он, не зная усталости.
В сумерках, оглядываясь на гигантские хребты, оставленные позади, и неясную узкую полоску пройденной за день дороги, старик со свойственной горцам дальнозоркостью намечал новые переходы на завтра или, задержавшись на вершине какого-нибудь высокого перевала с видом на Спити и Кулу, с вожделением протягивал руки к высоко вздымавшимся снегам на горизонте. На рассвете застывшая голубизна их вспыхивала буйным алым пламенем, когда Кедарнатх и Бадринатх — цари этой пустыни — принимали первые лучи солнца. Весь день они лежали под солнцем, как расплавленное серебро, а вечером снова надевали свои уборы из самоцветов. Вначале они дышали на путешественников ветерками, которые так приятно овевают тебя, когда карабкаешься по гигантскому склону, но через несколько дней, на высоте девяти-десяти тысяч футов, ветры эти стали пронизывающими, и Ким любезно позволил жителям одной горной деревни подарить ему грубый шерстяной плащ и тем приобрести заслугу. Лама выказал некоторое удивление, что кому-то могут не нравиться острые, как лезвие ножа, ветры, которые срезали многие годы с его плеч.
— Это только предгорья, чела, настоящий холод мы почувствуем, когда доберемся до настоящих Гор.
— Вода и воздух тут хороши, а люди достаточно благочестивы, но пища очень плоха, — ворчал Ким, — и мы несемся как сумасшедшие... или англичане. А ночью можно замерзнуть.
— Да, немного морозит, но лишь настолько, чтобы старые кости снова могли обрадоваться солнцу. Не следует вечно услаждать себя мягкой постелью и хорошей пищей.
— Мы могли бы, по крайней мере, держаться дороги. — Ким, как и всякий уроженец Равнин, был склонен идти по хорошо протоптанной тропе, не шире шести футов, змеившейся между горами. Но лама, как истый тибетец, не мог удержаться, чтобы не шагать напрямик по косогорам и краям крутых осыпей. Как он объяснял своему хромающему ученику, человек, выросший в горах, способен угадывать направление горной дороги, и если низко нависшие облака могут послужить помехой сокращающему путь чужеземцу, то для внимательного человека они — ничто. Таким образом, после долгих часов ходьбы, которую в цивилизованных странах оценили бы как очень трудное альпийское восхождение, они, задыхаясь, лезли еще на седловину, обходили по краю несколько обрывов и спускались лесом на дорогу под углом в сорок пять градусов. Вдоль их пути лежали деревни горцев — глиняные и земляные хижины, кое-где бревенчатые, грубо срубленные топором; они лепились по кручам, как ласточкины гнезда, скученные, стояли на крошечных площадках посередине склона в три тысячи футов, забивались в углы между скалами, где, как в воронке, смешивались разные потоки воздуха, или, стремясь быть поближе к летним пастбищам, жались в лощине, где зимой лежал десятифутовый слой снега. А люди — желтолицые, засаленные, одетые в грубые шерстяные ткани, люди с короткими голыми ногами и почти эскимосскими лицами выбегали толпой и поклонялись путникам. Равнины, гостеприимные и мягкие, обращались с ламой как со святейшим из святых. Но Горы поклонялись ему, как человеку, общающемуся со всеми демонами. Они исповедовали совершенно искаженный буддизм, обремененный поклонением природе, причудливым, как их ландшафты, тщательно продуманным, как насыпные террасы их крошечных полей, но большая шапка, брякающие четки и редкостные китайские тексты вызывали в них величайшее уважение и они почитали человека, носящего такую шапку.
— Мы видели, как ты спускался по черным грудям Юы, — сказал как-то вечером один бета, угощая их сырым, кислым молоком и твердым, как камень, хлебом. — Мы нечасто ходим этим путем — разве что летом, когда стельные коровы заблудятся. Там, в камнях, иногда в самый тихий день вдруг поднимается ветер и сбрасывает людей вниз. Но что может сделать таким людям, как вы, демон Юы?
Вот когда Ким, у которого болели все кости, голова кружилась от того, что он постоянно смотрел вниз, а пальцы ног были стерты, потому что он судорожно цеплялся ими за неровности почвы, испытывал радость от пройденного за день пути, — такую же радость, какую испытывает от похвал своих товарищей воспитанник школы св. Ксаверия, победивший в беге на четверть мили по ровному месту. Горы заставили жир от гхи и сахара потом сойти с его костей; сухой воздух, которым он прерывисто дышал на вершинах трудных перевалов, укрепил и развил его грудную клетку, а подъемы вырастили новые, твердые мускулы на его икрах и бедрах.
Они часто размышляли о Колесе Жизни, особенно с тех пор как, по выражению ламы, освободились от его видимых соблазнов. Если не считать серого орла, замеченного издалека медведя, который выкапывал корни на горном склоне, яростного пестрого леопарда, встреченного на рассвете в тихой долине, когда он пожирал козу, да иногда птицы с ярким оперением, они были одни, наедине с ветром и травой, шуршащей под его дуновением. Женщины из дымных хижин, по крышам которых проходили путники, спускаясь с гор, были некрасивы и нечистоплотны, жили со многими мужьями и страдали зобом. Мужчины — лесорубы или земледельцы — были кротки и невероятно простодушны. Но чтобы путники не страдали от отсутствия собеседника, судьба послала им учтивого врача из Дакхи: то они обгоняли его на дороге, то он их. Он платил за пищу мазями от зоба и советами, помогавшими восстановить мир между мужчинами и женщинами. Он, видимо, знал эти горы так же хорошо, как и здешние наречия, и описал ламе всю область, простирающуюся в сторону Ладакха и Тибета. Он говорил, что они всегда вольны вернуться на Равнины. Но для человека, любящего горы, дорога туда может оказаться интересной. Все это было сказано не сразу, а постепенно, во время вечерних бесед на каменных гумнах, когда, освободившись от пациентов, доктор курил, лама нюхал табак, а Ким следил за крошечными коровенками, пасущимися на крышах домов, или изо всех глаз смотрел на глубокие синие пропасти между горными цепями. Они вели беседы и вдвоем, в темных лесах, когда доктор собирал травы, а Ким в качестве начинающего врача сопровождал его.
— Видите ли, мистер О'Хара, не знаю, черт возьми, что именно я буду делать, когда найду наших приятелей-спортсменов, но если вы будете так любезны не упускать из виду моего зонтика, который служит хорошей опорной точкой для топографической съемки, я почувствую себя гораздо лучше.
Ким смотрел на горные пики, частые, как деревья в густом лесу.
— Здесь не моя родина, хаким. Я думаю, легче найти вошь в медвежьей шкуре.
— О-а, в этом я специалист. Я не спешу. Бабу тащится, как баба. Они не так давно были в Лехе. Они говорили, что пришли из Кара-Корама со звериными головами, рогами и прочим. Боюсь только, что они уже отослали все свои письма и нужные для их целей вещи из Леха на русскую территорию. Они, конечно, пойдут на восток насколько возможно дальше именно затем, чтобы показать, что они никогда не были в Западных Княжествах. Вы не знаете Гор? — Он стал царапать прутиком по земле. — Смотрите! Они должны были вернуться через Сринагар или Аботабад; эт-то кратчайшая дорога — вниз по реке, через Банджи и Астор. Но они натворили бед на Западе. Итак, — он провел борозду слева направо, — они идут на Восток, к Леху (ах, ну и холода же там!) и вниз по Инду к Хан-ле (я знаю эту дорогу) и опять, — смотрите! — вниз по Башахр в долину Чини. Это можно было определить методом исключения, а также путем опроса местных жителей, которых я так хорошо лечу. Наши приятели долго болтались здесь и не остались незамеченными. Поэтому, хотя они еще далеко, о них уже хорошо знают. Вот увидите, я поймаю их где-нибудь в долине Чини! Прошу вас, следите за зонтиком!
Зонтик кивал, как колеблемый ветром колокольчик, то в долинах, то на горных склонах, и в каждый назначенный вечер лама и Ким, который ориентировался по компасу, нагоняли Хари-бабу, врача, продающего мази и порошки.
— Мы пришли по такой-то и такой-то дороге! — Лама небрежно показывал пальцем назад, на горные хребты, а зонтик рассыпался в комплиментах.
Под холодным светом луны они поднялись на заваленный снегом перевал, и лама, добродушно поддразнивая Кима, увязал по колено, как бактрийский верблюд — из породы тех взращенных среди снегов косматых верблюдов, что приходят в Кашмирский караван-сарай. Они прошли по нетвердому снежному слою и опушенным снегом глинистым сланцам и укрылись от лавины в таборе тибетцев, спешно гнавших вниз крошечных овец, каждая из которых несла на спине по мешку буры. Они вышли на травянистые склоны, все еще испещренные снежными пятнами, и, пройдя через лес, снова попали на луга. На Кедарнатх и Бадринатх они совершенно не чувствовали, что куда-то передвинулись, и только после многих дней пути Ким, взойдя на холмик высотой в десять тысяч футов, вдруг замечал, что какой-нибудь эполет или рог у того или другого великана чуть-чуть изменил очертания.
В конце концов они вступили в совершенно обособленный мир — обширную долину, где высокие холмы, казалось, были сложены просто из щебня и отбросов с горных отрогов. Тут целый дневной переход уводил их как будто не дальше, чем стесненный шаг спящего уводит его во время ночного кошмара. Они с мучительным трудом огибали гору, и что же? Она оказывалась только крайней выпуклостью на крайнем выступе основного массива! Округлый луг, когда они взбирались на него, оказывался обширным плоскогорьем, спускающимся в далекую долину. Три дня спустя оно уже казалось просто складкой земли с неясными очертаниями, тянущейся к югу.
— Наверное, здесь обитают боги, — сказал Ким, подавленный тишиной и причудливыми тенями облаков, плывущих во все стороны и тающих после дождя. — Это место не для людей!
— Давным-давно, — промолвил лама как бы про себя, — владыку спросили, вечен ли мир. На это Всесовершенный не дал ответа... Когда я был в Цейлоне, один мудрый искатель подтвердил это на основании священной книги, написанной на языке пали. Конечно, раз мы находимся на пути к освобождению, вопрос этот бесполезен, но гляди, чела, и познавай иллюзию! Это настоящие Горы! Они похожи на мои родные Сач-Зенские горы. Ни разу еще мы не видели таких гор.
Над ними, все на такой же огромной высоте, земля вздымалась к границе снегов, где от востока до запада на протяжении многих сотен миль, словно отрезанные по линейке, кончались последние березы. Над березами загроможденные утесами и зубцами скалы приподнимали свои вершины над белой пеленой. Еще выше, неизменный от начала мира, но меняющийся с каждым движением солнца и туч, лежал вечный снег. На поверхности его, там, где бури и шальные вьюги поднимали пляску, виднелись пятна и проталины. Внизу, под ними, синевато-зеленым покрывалом милю за милей стлался лес, а ниже его видна была одинокая деревня, окруженная террасами полей и крутыми пастбищами; они догадывались, что ниже деревни, где сейчас бушевала и грохотала гроза, пропасть в двенадцать или пятнадцать тысяч футов обрывается в сырую долину, где сливаются родники — матери юного Сатладжа.
Лама, как всегда, повел Кима по коровьим следам и боковым тропкам, далеко от главной дороги, по которой Хари-бабу, этот «пугливый человек», промчался три дня назад во время бури, перед которой девять англичан из десяти отступили бы, не испытав никаких угрызений совести. Хари не был смельчаком, — щелчок курка заставлял его меняться в лице, — но, по его собственным словам, он был «неплохим загонщиком» и не зря просматривал с помощью своего дешевого бинокля всю огромную долину. Впрочем, белизна потрепанных парусиновых палаток на зеленом фоне заметна издалека. Сидя на одном гумне в Зиглауре, Хари-бабу увидел все, что хотел видеть, в двадцати милях от себя по прямой линии и в сорока, если идти по дороге, а именно две маленькие точки, которые сегодня виднелись чуть ниже границы снегов, а на другой день передвинулись по горному склону дюймов на шесть ниже. Его вымытые и готовые к дальнейшему пути толстые голые ноги способны были покрывать поразительно большие расстояния, и поэтому, в то время когда Ким и лама отлеживались в Зиглауре, в хижине с протекающей крышей, дожидаясь, пока пройдет гроза, вкрадчивый, мокрый, но не перестающий улыбаться бенгалец, произносящий на превосходном английском языке льстивейшие фразы, уже напрашивался на знакомство с двумя промокшими и довольно-таки простуженными иностранцами. Обдумывая множество дерзких планов, он явился вслед за грозой, расколовшей сосну против их лагеря, и так хорошо сумел убедить дюжины две встревоженных носильщиков в неблагоприятности этого дня для дальнейшего путешествия, что они дружно сбросили на землю свою поклажу и топтались на месте. Это были подданные одного горного раджи, который, по обычаю, посылал их на оброк и забирал себе их заработок. Они и так уже были взволнованы, а тут еще сахибы пригрозили им ружьями. Большинство их издавна было знакомо с ружьями и сахибами: все это были загонщики и шикари из Северных долин, опытные в охоте на медведей и диких коз, но никогда в жизни никто так не обращался с ними. Поэтому лес принял их в свое лоно и, несмотря на ругань и крики, не соглашался выдать обратно. Оказалось, что симулировать сумасшествие не понадобилось, но... бабу придумал другие средства обеспечить себе хороший прием. Он выжал мокрую одежду, напялил лакированные ботинки, открыл синий с белым зонтик и семенящей походкой, с «сердцем, бьющимся в горле», появился как «агент его королевского высочества рампурского раджи, джентльмены. Чем могу вам служить?»
Джентльмены обрадовались. Один из них, видимо, был француз, другой — русский, но оба они говорили по-английски немногим хуже, чем бабу. Они просили его оказать им посильную помощь. Туземные слуги их заболели в Лехе. Они торопятся потому, что хотят привезти в Симлу свою охотничью добычу раньше, чем моль попортит шкуры. У них есть рекомендательное письмо ко всем государственным чиновникам (бабу по-восточному поклонился). Нет, им не встречалось других охотничьих партий en route. Они путешествуют сами по себе. Снаряжения у них достаточно. Они хотят только двигаться как можно быстрее. Тут бабу окликнул какого-то горца, жавшегося к деревьям, и после трехминутного разговора и вручения небольшого количества серебра (на государственной службе не приходится экономить, хотя сердце Хари обливалось кровью при таком мотовстве) одиннадцать человек носильщиков и трое слуг появились вновь. По крайней мере, бабу будет свидетелем перенесенных ими притеснений.
— Мой царственный повелитель будет очень огорчен, но ведь это люди совсем простые и невежественные. Если ваши благородия по доброте своей согласятся посмотреть сквозь пальцы на это печальное недоразумение, я буду очень рад. В скором времени дождь прекратится, и тогда мы двинемся дальше. Вы стреляли, э? Прекрасное занятие!
Он порхал от одной килты к другой, делая вид, что поправляет то одну, то другую коническую корзинку. Англичанин, как правило, не фамильярен с азиатом, но он не позволит себе ударить по руке любезного бабу, нечаянно опрокинувшего килту с красной клеенчатой покрышкой. С другой стороны, как бы ни был бабу любезен, он не станет уговаривать его выпить или отобедать вместе. Иностранцы же все это проделали и забросали его множеством вопросов — преимущественно о женщинах, а Хари давал на них веселые и непосредственные ответы. Они дали ему стакан беловатой жидкости, похожей на джин, потом угостили еще и, немного погодя, от его серьезности ничего не осталось. Он оказался совершенным предателем и в самых непристойных выражениях говорил о правительстве, навязавшем ему европейское образование, но не позаботившемся снабдить его жалованием европейца. Он нес чепуху об угнетении и несправедливости, пока слезы, вызванные скорбью о несчастиях его родины, не потекли по его щекам. Тогда он встал, шатаясь, и, распевая любовные песни Нижнего Бенгала, отошел и рухнул на землю под мокрым деревом. Впервые столь неудачный продукт английского управления в Индии столь несчастливо попал в руки чужаков.
— Все они на один манер, — сказал один из спортсменов другому по-французски. — Сами увидите, когда мы доберемся до настоящей Индии. Хотелось бы мне нанести визит его радже. Может быть, там удалось бы замолвить за него словечко. Возможно, он слыхал о нас и пожелает выказать свое благорасположение.
— У нас нет времени. Надо попасть в Симлу как можно скорее, — возразил его спутник. — Что касается меня, я предпочел бы, чтобы наши отчеты были отосланы из Хиласа или хотя бы из Леха.
— Английская почта лучше и надежнее. Вспомните, они сами велели оказывать нам всяческое содействие, и — клянусь богом! — они действительно его оказывают! Невероятная глупость это или что?
— Это гордость — гордость, которая заслуживает наказания и получит его.
— Да! Биться в нашей игре со своим братом — уроженцем континента — это действительно что-то значит. Там есть риск, но эти люди... Ба! Это слишком просто.
— Гордость, все это гордость, друг мой.
— Какой толк, черт возьми, что Чагдарнагар так близко от Калькутты, — думал Хари, храпя с открытым ртом на отсыревшем мху, — если я не могу понять их французской речи. Они говорят так необыча-айно быстро! Лучше бы попросту перерезать их дурацкие глотки.
Он появился снова, измученный головной болью и полный раскаяния, многословно выражая опасения, не сболтнул ли он спьяну чего лишнего. Он предан британскому правительству; оно — источник процветания и почестей, и повелитель его в Рампуре придерживается того же взгляда. Тогда иностранцы начали высмеивать его и вспоминать все им сказанное, пока бедный бабу, пустивший в ход и покаянные гримасы, и елейные улыбки, и безгранично лукавое подмигивание, не был мало-помалу выбит из своих позиций и не оказался вынужденным открыть правду. Когда впоследствии об этом услышал Ларган, он откровенно сожалел, что не был среди упрямых, невнимательных носильщиков, которые с травяными циновками на головах дожидались хорошей погоды, в то время как капли дождя застаивались в отпечатавшихся на земле следах их ног. Все знакомые им сахибы, люди, одетые в грубое охотничье платье, из года в год с удовольствием посещавшие эти любимые ими лощины, держали и слуг, и поваров, и вестовых — зачастую горцев. Но эти сахибы путешествуют без всякой свиты. Значит, они бедные и невежественные сахибы, ибо ни один разумный сахиб не станет слушать советов бенгальца. Но бенгалец, появившийся неизвестно откуда, дал им денег и старался говорить на их наречии. Привыкшие к дурному обращению со стороны своих соотечественников, они подозревали какую-то западню и готовились сбежать, как только представится случай.
Сквозь свежий после дождя воздух, пронизанный чудесными, благоуханными испарениями земли, бабу повел их вниз по горному склону, гордо выступая впереди носильщиков и смиренно плетясь позади иностранцев. Мысли его были обильны и многообразны. Самая пустячная из них была бы способна чрезвычайно заинтересовать его спутников. Впрочем, он оказался приятным гидом, не упускавшим случая указать на красоты владений своего царственного повелителя. Он населял горы всеми животными, которых иностранцам хотелось убить, — горными козлами тхарами или маркхорами, и медведями, которых хватило бы даже на пророка Елисея. Он рассуждал о ботанике и этнологии с безупречной неточностью, и его запас местных преданий — не забудьте, он в течение пятнадцати лет служил уполномоченным княжества! — был неистощим.
— Этот малый, несомненно, оригинал, — сказал тот из иностранцев, который был выше ростом. — Он похож на карикатурного венского агента по организации туристских экскурсий.
— Он представляет в миниатюре всю Индию на переломе — чудовищный гибрид Востока и Запада, — ответил русский. — Только мы умеем обращаться с восточными людьми.
— Он потерял свою родину и не приобрел иной. Но он до глубины души ненавидит своих завоевателей. Слушай, вчера он признался мне... — и так далее...
Под полосатым зонтиком Хари-бабу напрягал мозг и уши, чтобы понять быструю французскую речь, и не сводил глаз с набитой картами и документами килты — самой большой из всех с двойной красной клеенчатой покрышкой. Он ничего пока не собирается красть. Он только хочет знать, что именно нужно украсть и, пожалуй, как убежать, когда он украдет то, что наметил. Он благодарит всех богов Индостана, а также Герберта Спенсера за то, что тут остались еще кое-какие годные для кражи ценности.
На другой день дорога круто поднялась на травянистый склон выше леса, и тут на закате путники повстречались с престарелым ламой (впрочем, они называли его бонзой), сидящим, скрестив ноги, перед таинственной хартией, прижатой к земле камнями, хартией, содержание которой он толковал замечательно красивому, хоть и немытому, молодому человеку, видимо неофиту.
Полосатый зонтик показался на горизонте, на полпути от этого места, и Ким предложил ламе сделать остановку, чтобы дождаться его.
— Ха! — произнес Хари-бабу, изобретательный, как Кот в Сапогах. — Это знаменитый местный подвижник. По всей видимости, он подданный моего царственного повелителя.
— Что он делает? Это очень любопытно.
— Он толкует священную картину — ручная работа!
Оба иностранца стояли с обнаженными головами, облитые светом вечернего солнца, низко склонившегося к окрашенной в золото траве. Угрюмые носильщики, обрадовавшись передышке, остановились и сняли с себя поклажу.
— Смотрите! — сказал француз. — Это похоже на рождение религии: первый учитель и первый ученик. Он буддист?
— Да, или некое отдаленное его подобие, — ответил второй. — В Горах настоящих буддистов нет. Но поглядите на складки его одеяния! Поглядите на его глаза — какие вызывающие! Почему в присутствии этого человека чувствуешь, что мы еще такой юный народ? — Говорящий со страстью ударил по стеблю высокого растения. — Мы до сих пор нигде еще не оставили своего следа. Нигде! Вот что меня расстраивает, понимаете ли? — Сдвинув брови, он смотрел на бесстрастное лицо и монументально-спокойную позу ламы.
— Имейте терпение! Мы вместе оставим след — мы и ваш юный народ. Пока что сделайте с него набросок.
Бабу величественно приблизился; спина его выражала совсем не то, что его почтительная речь и подмигиванье в сторону Кима.
— Святой человек, это сахибы. Мои лекарства вылечили одного из них от расстройства желудка, и теперь я иду в Симлу, чтобы наблюдать за его выздоровлением. Они хотят посмотреть твою картину.
— Лечить больных всегда благо. Это Колесо Жизни, — сказал лама, — то самое, которое я показывал тебе в хижине, в Зиглауре, когда пошел дождь.
— И они хотят послушать, как ты толкуешь его.
Глаза ламы загорелись в ожидании новых слушателей.
— Объяснить Всесовершенный Путь — благо. Понимают ли они язык хинди, как понимал его хранитель Священных Изображений?
— Немного понимают, пожалуй.
Тут лама, непосредственный, как ребенок, увлеченный новой игрой, откинул назад голову и гортанным громким голосом начал вступительное слово учителя веры, предпосылаемое проповеди самого учения. Иностранцы слушали, опираясь на альпенштоки. Ким, скромно сидя на корточках, смотрел на их лица, освещенные алым солнечным светом, и на их длинные тени, то сливающиеся, то отделяющиеся друг от друга. Они носили краги неанглийского образца и странные кушаки, смутно напоминавшие ему картинки в одной книге из библиотеки школы св. Ксаверия под заглавием «Приключения молодого натуралиста в Мексике». Да, они были очень похожи на удивительного мистера Самикреста из этой повести и очень не похожи на тех «в высшей степени беспринципных людей», как их охарактеризовал Хари-бабу. Носильщики, смуглые и молчаливые, благоговейно присели на землю в двадцати или тридцати ярдах, а бабу стоял с видом счастливого собственника, и полы его тонкого одеяния хлопали на холодном ветру, как флажок.
— Это и есть те самые люди, — шепнул Хари, в то время как ритуал шел своим чередом, а оба белых следили глазами за былинкой, ползущей от Преисподней к Небесам и обратно. — Все их книги в большой килте с красноватой покрышкой — книги, отчеты и карты, — и я видел письмо какого-то владетельного князя, написанное либо Хиласом, либо Банаром. Его они берегут особенно тщательно. Они ничего не отослали ни из Хиласа, ни из Леха. Это так.
— Кто с ними идет?
— Только носильщики, работающие по бигару. У них нет слуг. Они так осторожны, что даже сами варят себе пищу.
— Но что я должен делать?
— Ждать и смотреть. А если со мной что случится, ты будешь знать, где искать бумаги.
— Лучше бы им попасть в руки Махбуба Али, чем какого-то бенгальца, — с презрением сказал Ким.
— К любовнице можно попасть многими путями, не только свалившись со стены.
— Смотрите, вот Преисподняя для скупых и жадных. С одной стороны ее стоит Вожделение, с другой — Усталость. — Лама увлекся толкованием своей работы, а один из иностранцев делал с него набросок при быстро угасающем свете дня.
— Довольно, — резко сказал, наконец, иностранец. — Я не могу его понять, но хочу получить эту картину. Он рисует лучше меня. Спросите его, не продаст ли он ее.
— Он говорит: «Нет, сэр», — ответил бабу. Конечно, лама не больше собирался отдавать свою хартию случайному встречному, чем архиепископ — закладывать в ломбарде священные сосуды своего собора. Весь Тибет кишит дешевыми репродукциями Колеса, но лама был художник и, кроме того, богатый настоятель монастыря на своей родине.
— Быть может, дня через три, или четыре, или дней через десять, если я увижу, что сахиб — искатель и понимающий человек, я сам нарисую ему копию. Но эта используется при посвящении послушника. Скажи ему это, хаким.
— Он хочет получить ее сейчас, за деньги.
Лама медленно покачал головой и начал складывать Колесо. Русский же видел перед собой всего лишь нечистоплотного старика, торгующегося из-за клочка грязной бумаги. Он вынул горсть рупий и, полушутя, схватил хартию, которая разорвалась в руках ламы. Тихий ропот ужаса поднялся среди носильщиков, из которых некоторые были уроженцы Спити и, по их понятиям, правоверные буддисты. Оскорбленный лама выпрямился, рука его сжала тяжелый железный пенал — оружие духовенства, а бабу заметался в ужасе.
— Теперь вы видите, видите, почему я хотел запастись свидетелями?! Они в высшей степени беспринципные люди! О сэр! Сэр! Вы не должны бить святого человека.
— Чела! Он осквернил Писание!
Поздно! Раньше чем Ким успел вмешаться, русский ударил старика по лицу. В следующее мгновение он покатился вниз, под гору, вместе с Кимом, схватившим его за горло. Удар заставил закипеть в жилах юноши его ирландскую кровь, а внезапное падение противника довершило остальное. Лама упал на колени, наполовину оглушенный, носильщики с грузом на спине понеслись в гору так же быстро, как равнинные жители бегают по ровному месту. Они стали очевидцами несказанного кощунства и хотели скрыться раньше, чем горные боги и демоны начнут мстить. Француз, размахивая револьвером, подбежал к ламе, видимо, собираясь взять его в заложники за своего спутника. Град острых камней, — горцы очень меткие стрелки, — заставил его отступить, и один из носильщиков — уроженец Ао-Чанга — в ужасе увлек ламу за собой. Все произошло так же внезапно, как наступает в горах темнота.
— Они забрали багаж и все ружья, — орал француз, стреляя, куда попало, в полумраке.
— Ничего, сэр! Ничего! Не стреляйте. Я иду на выручку, — и Хари, скатившись с горы, наткнулся на разгоряченного и опьяненного своей победой Кима, который бил головой почти бездыханного врага по большому камню.
— Ступай к носильщикам, — зашептал ему бабу на ухо. — Багаж у них. Бумаги в килте с красной покрышкой, но ты обыщи все. Забери их бумаги и непременно мурасалу[59]. Ступай! Вот идет второй.
Ким полетел на гору. Револьверная пуля ударила по скале рядом с ним, и он припал к земле, как куропатка.
— Если вы будете стрелять, — завопил Хари, — они спустятся сюда и уничтожат нас. Я спас джентльмена, сэр. Это необычайно опасно.
— Клянусь Юпитером! — Ким напряженно думал по-английски. — Вот оно — чертовски узкое место, но я думаю, что это можно считать самообороной. — Он нащупал у себя за пазухой подарок Махбуба и нерешительно, — ведь он ни разу не пускал в ход маленького револьвера, если не считать нескольких выстрелов, сделанных для практики в Биканирской пустыне, — нажал курок.
— Что я говорил, сэр! — Бабу, казалось, заливался слезами. — Сойдите сюда и помогите его воскресить! Все мы попали в беду, говорю вам.
Выстрелы прекратились. Послышались шаги спотыкающегося человека, и, ругаясь, Ким в сумраке поспешно поднялся на гору, как кошка... или туземец.
— Они ранили тебя, чела? — крикнул лама сверху.
— Нет. А тебя? — Ким юркнул в рощицу низкорослых пихт.
— Я невредим. Уйдем отсюда. Мы пойдем с этими людьми в Шемлегх под Снегами.
— Но не раньше, чем восстановим справедливость, — крикнул чей-то голос. — У меня ружья сахибов — все четыре штуки. Давайте сойдем вниз.
— Он ударил святого человека, мы видели это. Скот наш останется бесплодным, жены наши перестанут рожать! Снега обвалятся на нас, когда мы пойдем домой... И это вдобавок ко всем остальным бедам!...
Пихтовая рощица гудела от гвалта носильщиков, охваченных паникой и в ужасе своем способных на все. Человек из Ао-Чанга нетерпеливо постукивал по собачке ружья и уже собирался спускаться с горы.
— Подожди немножко, святой человек, они не могут далеко уйти. Подожди, пока я не вернусь.
— Потерпевший — это я, — сказал лама, прикладывая руку ко лбу.
— Именно поэтому, — прозвучал ответ.
— Но если потерпевший пренебрежет оскорблением, ваши руки будут чисты. Больше того, послушанием вы приобретете заслугу.
— Подожди, мы вместе пойдем в Шемлегх, — настаивал тот. На одно лишь мгновение, как раз на то время, которое требуется, чтобы вложить патрон в магазин, лама заколебался. Потом он встал на ноги и коснулся пальцем плеча собеседника.
— Ты слышал? Я говорю, что убийство не должно совершиться. Я, который был настоятелем Сач-Зена. Неужели ты собираешься возродиться в виде крысы или змеи, хоронящейся под навесом крыши, или червя в брюхе самого презренного животного? Неужели ты этого хочешь?..
Человек из Ао-Чанга упал на колени, ибо голос ламы гремел как тибетский ритуальный гонг.
— Ай! Ай! — закричал уроженец Спити. — Не проклинай нас... не проклинай его. Ведь это он от усердия, святой человек! Положи ружье, дурак!
— Гнев за гнев! Зло за зло! Убийства не будет. Пусть те, что бьют духовных лиц, познают следствия своих поступков. Справедливо и совершенно Колесо, и не отклоняется оно ни на один волос! Они много раз будут перерождаться в терзаниях! — Голова его упала на грудь и он всей тяжестью оперся на плечо Кима.
— Я близко подошел к великому злу, чела, — зашептал он в мертвой тишине, наступившей под соснами. — У меня было искушение выпустить эту пулю и, поистине, в Тибете их постигла бы страшная и медленная смерть... Он ударил меня по лицу... по плоти моей. — Он опустился на землю, тяжело дыша, и Ким слышал, как старое сердце его трепетало и замирало.
— Неужели они его убили? — проговорил человек из Ао-Чанга, в то время как прочие стояли, онемев. Ким в смертельном страхе склонился над телом.
— Нет, — крикнул он страстно, — это только приступ слабости. — Тут он вспомнил, что он белый человек и может воспользоваться лагерным снаряжением белых людей. — Откройте килты! У сахибов, наверное, есть лекарства.
— Охо! Это лекарство я знаю, — сказал со смехом человек из Ао-Чанга. — Не мог я пять лет быть шикари Енклинга-сахиба и не знать этого лекарства. Я тоже пробовал его. Вот!
Он вытащил из-за пазухи бутылку дешевого виски, которое продается путешественникам в Лехе, и искусно влил несколько капель в рот ламы.
— Я сделал то же самое, когда Енклинг-сахиб вывихнул себе ногу за Астором. Аха! Я уже заглянул в их корзины, но мы справедливо все поделим в Шемлегхе. Дай ему еще немного! Это хорошее лекарство. Пощупай! Теперь сердце бьется ровнее. Положи ему голову пониже и слегка разотри лекарством грудь. Никогда бы этого не случилось, если бы он спокойно подождал, пока я рассчитаюсь с сахибами. Но, быть может, сахибы погонятся за нами сюда? Тогда не грешно будет застрелить их из их же собственных ружей, а?
— Один уже поплатился, должно быть, — сквозь зубы произнес Ким. — Я ударил его в пах, когда мы катились с горы. Если б я только убил его!
— Хорошо храбриться, если живешь не в Рампуре, — сказал один из тех, чья хижина стояла в нескольких милях от ветхого дворца раджи. — Если среди сахибов про нас пойдет дурная слава, никто больше не будет нанимать нас в шикари.
— О, но это не ангрези-сахибы, они не похожи на веселых людей вроде Фостама-сахиба или Енклинга-сахиба, они чужеземцы, они не могут говорить на ангрези, как сахибы.
Тут лама кашлянул и сел, ощупью отыскивая четки.
— Убийства не будет, — пробормотал он. — Колесо справедливо. Зло за зло...
— Нет, святой человек. Мы все здесь. — Человек из Ао-Чанга робко погладил его ноги. — Без твоего приказания не убьют никого. Отдохни немного. Мы раскинем табор ненадолго, а позже, когда взойдет месяц, пойдем в Шемлегх под Снегами.
— После драки, — сообщил как глубокую истину уроженец Спити, — лучше всего лечь спать.
— Я, и правда, ощущаю головокружение и покалывание в затылке. Дай я положу голову на твои колени, чела. Я старик, но подвластен страстям... Мы должны думать о Причине Всего Сущего...
— Накрой его одеялом. Нам нельзя разводить костер, как бы сахибы не увидели.
— Лучше уйти в Шемлегх. Никто не погонится за нами до Шемлегха, — говорил возбужденный житель Рампура.
— Я был шикари у Фостама-сахиба и шикари у Енклинга-сахиба. Я и теперь служил бы Енклингу-сахибу, кабы не этот проклятый бигар[60].
— Поставьте внизу двух человек с ружьями, чтобы помешать сахибам наделать новых глупостей. Я не покину святого человека.
Они сидели поодаль от ламы и, послушав некоторое время, нет ли шума, стали передавать по кругу примитивную хукку, резервуаром которой служила старая бутылка из под ваксы фирмы Дей и Мартин. Она ходила по рукам, и горящий на ее горлышке уголь освещал узкие мигающие глаза, китайские выдающиеся скулы и бычьи шеи, исчезающие под темными складками грубой шерстяной ткани на плечах. Кули были похожи на кобольдов из какого-то волшебного родника — горных гномов, собравшихся на совет. А под шум их голосов снеговые потоки вокруг утихали один за другим, по мере того, как ночной мороз сковывал их.
— Как он восстал против нас! — с восхищением сказал уроженец Спити. — Помню одного старого горного козла в стороне Ладакха (Дюпон-сахиб промазал в него семь лет назад), так он тоже стал вот так. Дюпон-сахиб был хороший шикари.
— Но не такой, как Енклинг-сахиб. — Человек из Ао-Чанга потянул виски из бутылки и передал ее соседям. — Теперь слушайте меня, если только кто-нибудь не считает, что знает больше.
Вызов не был принят.
— Мы пойдем в Шемлегх, как только взойдет месяц. Там мы честно разделим между собой поклажу. С меня хватит этого новенького ружьеца да патронов к нему.
— Разве медведи шалят только на твоем участке? — сказал его сосед, посасывая трубку.
— Нет, но мускусные железы стоят теперь по шести рупий за штуку, а твои женщины получат парусину с палаток и кое-что из кухонной посуды. Мы все разделим в Шемлегхе еще до зари. Потом разойдемся каждый своей дорогой, запомнив, что никто из нас не служил у этих сахибов и в глаза их не видел, потому что они, пожалуй, заявят, что мы украли их добро.
— Тебе-то хорошо, а что скажет наш раджа?
— А кто ему станет докладывать? Эти сахибы, что ли, которые не умеют говорить по-нашему, или бабу, который в своих видах дал нам денег? Он, что ли, пошлет против нас войско? Какие же останутся доказательства? Все лишнее мы выбросим в Шемлегхскую Мусорную Яму, куда еще нога человеческая не ступала.
— А кто живет этим летом в Шемлегхе? — Так назывался маленький поселок в три-четыре хижины, стоявший посреди пастбищ.
— Женщина Шемлегха. Она не любит сахибов, как нам известно. Остальных можно задобрить маленькими подарками, а тут хватит на всех нас. — Он хлопнул по ближайшей туго набитой корзине.
— Го... Но...
— Я сказал, что они не настоящие сахибы. Все их шкуры и головы были куплены на базаре в Лехе. Я узнал клейма. Я показывал их вам на прошлом переходе.
— Верно. Все это покупные шкуры и головы. В некоторых даже моль завелась.
Это был веский аргумент; человек из Ао-Чанга знал своих товарищей.
— Если случится худшее из худшего, я расскажу Енклингу-сахибу, а он веселый парень и будет смеяться. Мы не делаем зла сахибам, которых знаем. А эти бьют жрецов. Они напугали нас. Мы бежали. Кто знает, где мы растеряли багаж? Неужели, вы думаете, Енклинг-сахиб позволит полиции с равнин шляться по горам и пугать дичь? Далеко от Симлы до Чини, а еще дальше от Шемлегха до дна Шемлегхской Мусорной Ямы.
— Пусть так, но я понесу большую килту — корзину с красной покрышкой, которую сахибы каждое утро сами укладывали.
— В том-то и дело, — ловко ввернул человек из Шемлегха, — что это не настоящие важные сахибы. Кто слыхал, что Фостам-сахиб или Енклинг-сахиб, или даже маленький Пил-сахиб, который ночи просиживал, охотясь на сарау, — я говорю, слыхал ли кто, чтобы эти сахибы приходили в горы без повара-южанина, без своего лакея и целой свиты, которая получает хорошее жалованье, сердится и насильничает? Как могут они наделать нам хлопот? А что там в килте?
— Ничего, она набита письменами — книгами и бумагами, на которых они писали, и какими-то чудными штуками, которые, должно быть, употребляются для жертвоприношений.
— Шемлегхская Мусорная Яма поглотит все это.
— Верно! Но вдруг мы этим оскорбим богов сахибов? Не по нутру мне такое обращение с письменами. А их медные идолы мне совсем непонятны. Такая добыча не к лицу простым горцам.
— Старик все еще спит. Ш-ш! Мы спросим его челу. — Человек из Ао-Чанга выпил еще немного и приосанился, гордый тем, что играет первую роль.
— Тут у нас есть килта, — зашептал он, — и вещи в ней нам непонятны.
— А мне понятны, — осторожно сказал Ким. Лама спал спокойным, здоровым сном, а Ким обдумывал последние слова Хари. Как истый игрок в Большую Игру, он в тот момент готов был благоговеть перед бабу. — Килта с красной верхушкой набита разными замечательными вещами, которых дураки не должны трогать.
— Я говорил, я говорил, — вскричал носильщик, таскавший эту корзину. — Ты думаешь, она нас выдаст?
— Нет, если ее отдадут мне. Я вытяну из нее все колдовство, иначе она натворит больших бед.
— Жрец всегда возьмет свою долю. — Виски развязало язык человека из Ао-Чанга.
— Мне все равно, — ответил Ким с сообразительностью, свойственной сынам его родины. — Разделите ее между собой и увидите, что получится.
— Ну, нет! Я только пошутил. Приказывай. Тут на нас всех с излишком хватит. На заре мы пойдем своей дорогой в Шемлегх.
Не менее часа они обсуждали свои несложные планы, а Ким дрожал от холода и гордости. Смешная сторона всей ситуации затронула ирландские и восточные струнки его души. Вот эмиссары грозной Северной Державы, которые на своей родине, возможно, были такими же важными, как Махбуб Али или полковник Крейтон, здесь очутились вдруг в самом беспомощном положении. Один из них, как Киму было доподлинно известно, на некоторое время охромел. Они давали обещания владетельным князьям. Вот теперь, ночью, они лежат где-то внизу, без карт, без пищи, без проводников. И этот провал их Большой Игры (Ким не мог догадаться, кому они будут отчитываться в ней), это внезапное столкновение в ночи было не результатом происков Хари или ухищрений Кима; все случилось само собой и было так же естественно и неотвратимо, как поимка приятелей-факиров Махбуба ревностным молодым полицейским в Амбале.
— Вот и остались они... ни с чем. Клянусь Юпитером, ну и холод! Здесь при мне все их вещи. Как они разозлятся! Можно посочувствовать Хари-бабу!
Ким мог бы и не сочувствовать, ибо хотя в это время бенгалец терпел невыносимые телесные муки, душа его пела и неслась к небесам. На целую милю ниже, на опушке соснового бора, два полузамерзших человека, одного из которых временами сильно тошнило, осыпали взаимными упреками друг друга и сквернейшими ругательствами бабу, который притворился обезумевшим от ужаса.
Они приказали ему разработать план действий. Он объяснил, что им очень повезло, раз они вообще остались в живых, что носильщики, если только они сейчас не подкрадываются к своим господам, разбежались и не вернутся, что повелитель его раджа, живущий в девяноста милях отсюда, не только не одолжит им денег и провожатых до Симлы, но обязательно посадит их в тюрьму, едва только узнает, что они избили жреца. Он особенно напирал на это прегрешение и его последствия, пока они не велели ему переменить тему. Единственная их надежда на спасение, говорил он, в том, чтобы, не привлекая внимания, идти от деревни к деревне, пока они не доберутся до цивилизованных мест, и, в сотый раз заливаясь слезами, спрашивал у высоких звезд, зачем сахибы «избили святого человека».
Десять шагов в сторону — и Хари очутился бы в шуршащей мгле, где его было не отыскать, и нашел бы кров и пищу в ближайшей деревне, где разговорчивых докторов было мало. Но он предпочитал терпеть холод, резь в желудке, обидные слова и даже пинки в обществе своих уважаемых хозяев. Скорчившись под деревом, он горестно сопел.
— А вы подумали, — с горячностью произнес тот из иностранцев, который не был ранен, — вы подумали, какое зрелище мы будем представлять, странствуя по этим горам среди таких аборигенов?
Хари-бабу уже несколько часов об этом как раз и думал, но вопрос был обращен не к нему.
— Куда же нам странствовать? Я едва двигаюсь, — простонал тот, что был жертвой Кима.
— Быть может, святой человек по своей доброте сердечной окажется милосердным, сэр, не то...
— Я доставлю себе особенное удовольствие разрядить револьвер в спину этого молодого бонзы, когда мы снова встретимся, — последовал не подобающий христианину ответ.
— Револьверы! Месть! Бонзы! — Хари присел еще ниже. Страсти вновь накалились. — А вы не подумали о наших потерях? Багаж! Багаж! — Хари слышал, как говорящий буквально метался из стороны в сторону. — Все, что мы везли! Все, что мы достали! Наша добыча! Восемь месяцев работы! Вы понимаете, что это значит? «Поистине только мы умеем обращаться с восточными людьми»... О, хорошеньких дел вы наделали!
Так они пререкались на разных языках, а Хари улыбался. Килты были у Кима, а в этих килтах заключено восемь месяцев искусной дипломатии. Связаться с парнем нельзя, но на него можно положиться. Что касается всего прочего, то Хари так обставит путешествие по горам, что Хилас, Банар и все жители на протяжении четырехсот миль по горным дорогам будут рассказывать об этом в течение целого поколения. Людей, которые не в силах справиться со своими носильщиками, не уважают в Горах, а чувство юмора у горца развито сильно.
— Устрой я все это сам, — думал Хари, — и то не вышло бы лучше, но, клянусь Юпитером, как подумаю теперь об этом, конечно, я сам это устроил. Как быстро я все сообразил! И я придумал это, как раз когда бежал под гору! Оскорбление было нанесено случайно, но я один сумел использовать его... ах... потому что это чертовски стоило сделать. Подумать только, какой моральный эффект это произвело на невежественный народ! Никаких договоров, никаких бумаг... Никаких вообще письменных документов... и мне, именно мне, приходится служить им переводчиком. Как я буду смеяться вместе с полковником! Хорошо бы иметь при себе их бумаги, но нельзя одновременно занимать два места в пространстве. Эт-то аксиома.
ГЛАВА ХIV
Поэт Кабир сказал: мой брат Взывает к меди и камням, Но в голосе его звучат Страданья, близкие всем нам. Богов дала ему судьба, Его мольба — моя мольба. МолитваКогда луна взошла, осторожные носильщики отправились в путь. Лама, подкрепившись сном и спиртным, опирался на плечо Кима и быстро шагал в молчании. Они шли около часу по глинистому сланцу и траве, обогнули выступ скалы и поднялись в новую область, совершенно отрезанную от долины Чини. Обширное веерообразное пастбище поднималось к вечным снегам. У подножья его была площадка размером не более полуакра, на которой примостилось несколько земляных и бревенчатых хижин. За ними, — как все горные жилища, они стояли на самом краю, — земля обрывалась прямо в Шемлегхскую Мусорную Яму — пропасть глубиною в две тысячи футов, на дно которой еще не ступала нога человека.
Люди и не подумали начать дележ добычи, пока не убедились в том, что лама уложен на кровать в лучшей комнате деревушки, а Ким по мусульманскому обычаю моет ему ноги.
— Мы пришлем вам еды, — сказал человек из Ао-Чанга, — и килту с красной покрышкой. На заре, так или иначе, тут не останется никого, кто мог бы послужить свидетелем. А если какие-нибудь вещи в килте вам не понадобятся... взгляните туда!
Он показал на окно, за которым открывался простор, залитый лунный светом, отражающимся от снега, и выбросил в него пустую бутылку из-под виски.
— Даже шума падения не услышишь. Это конец мира, — сказал он и вышел. Лама заглянул вниз, опираясь руками о подоконник, и глаза его засветились, как желтые опалы. Из огромной пропасти, лежавшей перед ними, белые зубцы тянулись к лунному свету. Все остальное казалось тьмой межзвездного пространства.
— Вот это, — проговорил он медленно, — действительно мои Горы. — Вот где должен жить человек — возвышаясь над миром, вдали от наслаждений, размышляя о высоких вещах.
— Да, если у него есть чела, чтобы готовить чай, подкладывать сложенное одеяло ему под голову, отгонять коров с телятами.
Дымный светильник горел в нише, но яркое сияние луны затмевало его пламя. В этом смешанном свете Ким, как высокий призрак, двигался по комнате, наклоняясь над мешками с провизией и чашками.
— Да! Теперь, когда кровь моя остыла, в голове у меня все еще стучит и шумит, а затылок словно веревкой стянут.
— Не удивительно. Удар был сильный. Пусть тот, кто нанес его...
— Если бы не мои страсти, зло не совершилось бы.
— Какое зло? Ты спас сахибов от смерти, которую они сто раз заслужили.
— Урок не пошел на пользу, чела. — Лама прилег на сложенное одеяло, а Ким продолжал выполнять свои обычные вечерние обязанности. — Удар был только тенью от тени. Зло... — последние дни ноги мои устают от каждого шага! — Зло встретилось со злом во мне — с гневом, яростью и жаждой отплатить за зло. Это впиталось в мою кровь, вызвало бурю в моем желудке и оглушило мне уши. — Тут, взяв из рук Кима горячую чашку, он с должными церемониями выпил обжигающий кирпичный чай. — Будь я лишен страстей, злой удар породил бы только телесное зло — ссадину или кровоподтек, а это лишь иллюзия. Но ум мой не был отвлечен, ибо во мне тут же возникла жажда позволить людям из Спити убить обидчиков. Борясь с этой жаждой, душа моя разрывалась и терзалась хуже, чем от тысячи ударов. Не раньше, чем я прочитал про себя Благословение (он имел в виду буддистские заповеди), обрел я покой. Но зло укоренилось во мне, начиная с этого мгновения слабости и вплоть до конца. Справедливо Колесо и не отклоняется оно ни на один волос. Извлеки пользу из этого урока, чела!
— Он слишком высок для меня, — пробормотал Ким. — Я до сих пор весь дрожу. Я рад, что избил того человека.
— Я чувствовал это, когда спал на твоих коленях в лесу. Это тревожило меня во сне — зло в твоей душе отражалось на моей. Хотя, с другой стороны, — он развернул четки, — я приобрел заслугу тем, что спас две жизни — жизни тех, что обидели меня. Теперь я должен поразмыслить о Причине Всего Сущего. Ладья моей души колеблется.
— Засни, чтобы окрепнуть. Это мудрее всего.
— Я погружусь в созерцание: в этом есть нужда, и большая, чем ты полагаешь.
Час за часом, до самой зари, пока лунный свет бледнел на высоких гребнях, и то, что раньше казалось поясом тьмы на склонах дальних гор, превращалось в нежно-зеленые леса, лама пристально смотрел на стену. Но временами он издавал стон. За запертой на засов дверью, к которой подходил скот, ищущий привычного стойла, жители Шемлегха и носильщики делили добычу и пировали. Человек из Ао-Чанга был у них за главного, и с тех пор как они открыли консервные банки сахибов и нашли, что пища в них очень вкусна, они не осмеливались ослушаться его. Шемлегхская Мусорная Яма поглотила жестянки.
Когда Ким, видевший всю ночь неприятные сны, вышел наружу, чтобы на утреннем холоде почистить зубы, его отвела в сторону светлокожая женщина в головном уборе, украшенном бирюзой.
— Остальные ушли. Они оставили тебе эту килту, как обещали. Я не люблю сахибов, но в награду за это напиши нам талисман. Мы не хотим, чтобы про наш маленький Шемлегх пошла дурная слава... из-за этого случая! Я Женщина Шемлегха. — Она оглядела его смелыми блестящими глазами, не так, как женщины Гор, которые обычно смотрят как бы украдкой.
— Конечно. Но это надо сделать втайне. — Она, как игрушку, подняла тяжелую килту и бросила ее в свою хижину.
— Уходи и задвинь засов на двери. Никого не подпускай близко, покуда я не кончу, — сказал Ким.
— Но потом... мы сможем побеседовать?
Ким опрокинул килту, и на пол горой посыпались топографические инструменты, книги, дневники, письма, географические карты и туземная корреспонденция, издающая странный запах. На самом дне лежала вышитая сумка, скрывающая в себе запечатанный, позолоченный и разрисованный документ, наподобие тех, которые владетельные князья посылают друг другу. Ким в восторге задержал дыхание и стал обдумывать положение дел с точки зрения сахиба.
«Книги мне не нужны. К тому же это логарифмы, — должно быть, для съемки. — Он отложил их в сторону. — Писем я не понимаю, но полковник Крейтон поймет. Их нужно сохранить. Карты... о, они чертят карты лучше, чем я... еще бы. Все туземные письма. О-хо!... и особенно мурасала. — Он понюхал вышитую сумку. — Это, наверное, от Хиласа или Банара, значит Хари-бабу говорил правду. Клянусь Юпитером! Хороший улов. Если бы Хари знал об этом... Остальное полетит в окно. — Он потрогал пальцем великолепный призматический компас и блестящую поверхность теодолита. — Но, в конце концов, сахибу не к лицу воровать, и предметы эти впоследствии смогут оказаться опасными вещественными доказательствами». — Он рассортировал все клочки исписанной бумаги, все карты и письма туземцев. Все вместе образовало внушительную пачку. Три книги в переплетах, запертых на замок, и пять истрепанных записных книжек он отложил в сторону.
«Письма и мурасалу придется носить за пазухой и под кушаком, а рукописные книги положить в мешок с едой. Он будет очень тяжелым. Нет. Не думаю, что у них было еще что-нибудь! А если и было, так носильщики сбросили это в кхад, так что все в порядке. Ну, летите и вы туда же... — Он набил килту всеми вещами, с которыми решил расстаться, и поднял ее на подоконник. На тысячу футов ниже лежал длинный неподвижный закругленный на концах слой тумана, еще не тронутого утренним солнцем, а еще на тысячу футов ниже рос столетний сосновый бор. Когда порыв ветра рассеивал туманное облако, Ким различал зеленые верхушки деревьев, похожие на мох. — Нет! Не думаю, чтобы кто-нибудь пошел вас искать».
Корзина, падая, завертелась и извергла свое содержимое. Теодолит стукнулся о выступающий край скалы и разбился с шумом взорвавшейся гранаты, книги, чернильницы, ящики с красками, компасы, линейки несколько секунд казались пчелиным роем.
Потом они исчезли, и хотя Ким, высунувшись до половины из окна, напряг свой острый слух, из пропасти не долетало ни звука.
«За пятьсот... за тысячу рупий не купить этого, — думал он с огорчением. — Прямое мотовство, но у меня все прочие их материалы... Все, что они сделали... полагаю. Но как же мне теперь сообщить об этом Хари-бабу и вообще — как мне быть, черт побери? А мой старик болен. Придется завернуть письма в клеенку. Это надо сделать прежде всего, не то они отсыреют от пота... И я совсем один!» — Он аккуратно сложил письма, загнул на углах твердую, липкую клеенку: беспокойная жизнь приучила его к аккуратности как старого охотника, собирающегося в путь. Потом он с удвоенным тщанием спрятал книги на дне мешка с пищей. Женщина постучалась в дверь.
— Но ты не написал талисман, — сказала она, оглядываясь вокруг.
— В нем нет нужды. — Ким совершенно забыл, что должен с ней поболтать.
Женщина непочтительно смеялась над его смущением.
— Тебе-то нет. Ты можешь приворожить человека, едва подмигнув глазом. Но подумай о нас, несчастных: что будет с нами, когда ты уйдешь? Все мужчины слишком сильно перепились вчера, чтобы слушать женщину. Ты не пьян?
— Я — духовное лицо. — Ким перестал смущаться, а так как женщина отнюдь не была красивой, он решил вести себя, как подобает человеку в его положении.
— Я предупреждала их, что сахибы разгневаются, начнут дознание и пожалуются радже. С ними какой-то бабу. У писцов длинные языки.
— Ты только об этом беспокоилась? — в уме Кима возник вполне готовый план, и он обворожительно улыбнулся.
— Не только об этом, — сказала женщина, протягивая жесткую смуглую руку, унизанную бирюзой, оправленной в серебро.
— Это я смогу уладить в одно мгновение, — быстро проговорил он. — Бабу тот самый хаким (ты слыхала о нем!), который странствовал по горам в окрестностях Зиглаура. Я знаю его.
— Он донесет, чтобы получить награду. Сахибы не умеют отличить одного горца от другого, но у бабу есть глаз на мужчин и на женщин.
— Отнеси ему весточку от меня.
— Нет ничего, что я бы для тебя не сделала.
Он спокойно принял комплимент, как положено в странах, где женщины ухаживают за мужчинами, оторвал листок от записной книжки и, взяв нестирающийся карандаш, стал писать неуклюжим шакаста — почерком, которым скверные мальчишки пишут на стенах неприличные слова. «У меня все то, что они написали: их карты и много писем. Особенно мурасала. Скажи, что мне делать. Я в Шемлегхе под Снегами. Старик болен».
— Отнеси ему записку. Это ему сразу же закроет рот. Он не мог уйти далеко.
— Конечно, нет. Они все еще в лесу за тем склоном. Наши дети бегали смотреть на них, когда они тронулись в путь.
На лице Кима отразилось изумление, но с края овечьего пастбища несся пронзительный крик, похожий на крик коршуна... Ребенок, стороживший скот, подхватил крик брата или сестры, стоявшей на дальнем конце склона, вздымавшегося над долиной Чини.
— Мои мужья тоже там — собирают дрова. — Она вынула из-за пазухи горсть грецких орехов, аккуратно разгрызла один из них и начала его есть. Ким притворился ничего не понимающим.
— Разве ты не знаешь значения грецких орехов, жрец? — сказала она застенчиво и подала ему обе половинки скорлупы.
— Хорошо придумано. — Он быстро сунул бумажку в скорлупу. — Нет ли у тебя кусочка воска, чтобы залепить их?
Женщина громко вздохнула, и Ким смягчился.
— Платят не раньше, чем оказана услуга... Отнеси это бабу и скажи, что послано оно Сыном Талисмана.
— Да. Истинно так! Волшебником, похожим на сахиба.
— Нет, Сыном Талисмана, и спроси, не будет ли ответа.
— Но если он станет ко мне приставать? Я... я боюсь.
Ким расхохотался.
— Я не сомневаюсь, что он устал и очень голоден. Горы охлаждают любовников. А ты, — у него вертелось на языке слово «мать», но он решил назвать ее сестрой, — ты, сестра, мудрая и находчивая женщина. Теперь все деревни уже знают, что случилось с сахибами, а?
— Верно. До Зиглаура новости дошли в полночь, а завтра они долетят до Котгарха. Народ в деревнях напуган и сердит.
— Ну и зря! Прикажи жителям деревень кормить сахибов и провожать их с миром. Нам нужно, чтобы они подобру-поздорову убирались из наших долин. Воровать — одно, убивать — другое. Бабу поймет это и задним числом жаловаться не будет. Поспеши. Мне нужно ухаживать за моим учителем, когда он проснется.
— Пусть так. За услугой, — так ты сказал? — следует награда. Я — Женщина Шемлегха и подчиняюсь только радже. Я гожусь не только на то, чтобы рожать детей. Шемлегх твой: копыта и рога, и шкуры, молоко и мясо. Бери или отказывайся!
Она решительно зашагала в гору, навстречу утреннему солнцу, встающему из-за вершины, которая вздымалась в полутора тысячах метрах над ними, и серебряные ожерелья звенели на ее широкой груди.
В это утро Ким, залепляя воском края клеенки на пакетах, думал на местном языке.
«Как может мужчина идти по Пути или играть в Большую Игру, если к нему вечно пристают женщины? В Акроле, у Брода, это была девушка, а потом, за голубятней, — жена поваренка, не считая остальных, а теперь еще и эта. Когда я был ребенком, куда ни шло, но теперь я мужчина, а они не хотят смотреть на меня, как на мужчину. Грецкие орехи, скажи пожалуйста! Хо! Хо! А на Равнинах — миндали».
Он пошел по деревне собирать дань, но не с чашкой нищего, которая годилась для южных областей, а как принц.
Летом в Шемлегхе живут только три семейства — четыре женщины и восемь или девять мужчин. Все они набили себе животы консервами и смесью из всевозможных напитков, начиная от нашатырно-хинной настойки до белой водки, ибо они получили свою долю вчерашней добычи. Опрятные европейские палатки были изрезаны, ткань их давно уже разошлась по рукам, и все обзавелись фирменными алюминиевыми кастрюлями.
Но люди считали присутствие ламы надежной защитой и без угрызений совести угощали Кима всем, что у них было лучшего, даже чангом — ячменным пивом, которое привозится из Ладакха. Потом они высыпали на солнце и сидели, свесив ноги, над бездонной пропастью, болтая, смеясь и покуривая. Они судили об Индии и ее правительстве только по тем странствующим сахибам, которые нанимали их или их друзей в шикари. Ким слушал рассказы о неудачных выстрелах в горных козлов, сарау или маркхоров, сделанных сахибами, которые уже двадцать лет лежали в могилах; причем каждая подробность отчетливо выделялась, как выделяются ветви на верхушках деревьев при блеске молнии. Они рассказывали ему о своих немудреных хворях и, что важнее, о болезнях своего малорослого, но крепкого скота, о путешествиях в Котгарх, где живут чужеземные миссионеры, и дальше — в чудесную Симлу, где улицы вымощены словно серебром и, представьте себе, каждый человек может наняться на службу к сахибам, которые ездят в двуколках и швыряют деньги лопатами. Но вот важный и отчужденный, тяжело ступая, появился лама, присоединился к кружку, болтающему под навесами, и все широко раздвинулись, давая ему место. Освеженный чистым воздухом, он сидел на краю пропасти с почтеннейшими из жителей и, когда разговор умолкал, бросал камешки в пустоту. В тридцати милях по прямой линии лежала следующая горная цепь, изрубцованная, изрезанная и изрытая, с небольшими щетинистыми пятнами — лесами, каждый из которых отнимал день пути в сумраке чащи. За деревушкой гора Шемлегха загораживала вид на юг. Казалось, что сидишь в ласточкином гнезде под навесом крыши мира.
Время от времени лама протягивал руку и, руководствуясь тихими подсказками собеседников, описывал дорогу на Спити и дальше к Северу через Парангла.
— По ту сторону, там, где горы стоят теснее одна к другой, находится Де-Чен (он имел в виду Хан-Ле) — большой монастырь. Его построил Таг-Тан-Рас-Чен, и о нем ходит такое предание. — Он рассказал это предание — фантастическое нагромождение всякого колдовства и чудес, от которого у шемлегхцев дух захватывало. Поворачиваясь к западу, он показывал на зеленые горы Кулу и отыскивал под ледниками Кайланг.
— Оттуда я пришел давным-давно. Я пришел из Леха через Баралача.
— Да, да, мы знаем эти места, — говорили бывалые люди Шемлегха.
— Я две ночи ночевал у монахов Кайланга. Вот Горы моего счастья! Тени благословенные превыше всех теней! Там глаза мои открылись на этот мир, там обрел я просветление и там препоясал я свои чресла перед тем, как начать Искание. С Гор я пришел, с высоких Гор и от сильных ветров. О, справедливо Колесо! — Он благословлял Горы, каждую гряду и вершину в отдельности одну за другой — обширные ледники, голые скалы, нагроможденные морены и выветренные сланцы; сухие плоскогорья, скрытые соленые озера, вековые леса и плодородные, орошенные водопадами долины — как умирающий благословляет своих родственников, и Ким дивился его страстности.
— Да... да... Нет лучше мест, чем наши Горы, — говорили шемлегхские жители. И они удивлялись, как может человек жить в жарких, страшных Равнинах, где волы, рослые, как слоны, не годятся для пахоты по горным склонам, где, как они слышали, на протяжении сотни миль одна деревня соприкасается с другой, где люди шайками ходят воровать, а чего не стащат разбойники, то заберет полиция.
Так время незаметно прошло до полудня, и, наконец, женщина, посланная Кимом, спустилась с крутого пастбища, дыша так же легко, как утром, когда она вышла в путь.
— Я послал весточку хакиму, — объяснил Ким, в то время как она приветствовала собравшихся.
— Он присоединился к идолопоклонникам? Нет, я вспоминаю, он исцелил одного из них. Он приобрел заслугу, хотя исцелившийся употребил свою силу во зло. Справедливо Колесо. Ну, а что же хаким?
— Я боялся, что тебе худо и... и я знал, что он мудр. — Ким взял залепленную воском ореховую скорлупу и прочел строки, написанные по-английски на обороте его записки: «Ваше уведомление получено. Сейчас не могу покинуть это общество, проведу их в Симлу. Затем надеюсь присоединиться к вам. Нелегко сопровождать разгневанных джентльменов. Возвращайтесь той же дорогой — догоню! Весьма удовлетворен сообщением, оправдавшим мое предвидение». — Он пишет, святой человек, что сбежит от идолопоклонников и вернется к нам. Так не подождать ли нам его в Шемлегхе?
Лама долго и с любовью смотрел на Горы, затем покачал головой.
— Этого не следует делать, чела. Кости мои хотят этого, но это запрещено. Я видел Причину Всего Сущего.
— Почему же? Ведь Горы день за днем возвращали тебе твою силу? Вспомни, как мы были слабы и утомлены там, внизу, в Дуне.
— Я стал сильным для того, чтобы сотворить зло и забыть свой долг. Драчуном и убийцей стал я на горных склонах. — Ким, закусив губы, не позволил себе улыбнуться.
— Справедливо и совершенно Колесо и не отклоняется оно ни на один волос. Когда я был зрелым мужем, давным-давно, я совершил паломничество в Гуру-Чван, место среди тополей (он показал в сторону Бхутана), где хранится священный конь.
— Тише, тише! — всполошился весь Шемлегх. — Он говорит о Джам-Лин-Нин-Коре, коне, который может обежать вокруг света за один день.
— Я обращаюсь только к моему чела, — сказал лама с мягким упреком, и все испарились, как иней, тающий утром на южных скатах крыш. — В те дни я стремился не к Истине, но к беседам о догматах. Все иллюзия! Я пил пиво и ел хлеб в Гуру-Чване. На следующий день один монах сказал: «Мы идем вниз, в долину, сражаться с монастырем Сангар-Гатаком (заметь еще раз, как Вожделение связано с Гневом!), чтобы узнать, какой из настоятелей, их или наш, будет главенствовать в долине, и чтобы воспользоваться молитвами, которые печатаются в Сангар-Гатаке. Я пошел, и мы сражались целый день.
— Но как, святой человек?
— Нашими длинными пеналами, как я мог бы тебе показать... Да, мы сражались под тополями, оба настоятеля и все монахи, и один рассек мне лоб до кости. Гляди! — Он сдвинул назад шапку и показал сморщенный белеющий шрам. — Справедливо и совершенно Колесо! Вчера этот шрам стал зудеть, и через пятьдесят лет я вспомнил, как мне рассекли лоб, и лицо того, кто это сделал, забыл, что все это иллюзия. Что было потом, ты сам видел — ссора и неразумие. Справедливо Колесо! Удар идолопоклонника пришелся по шраму. Я был потрясен до глубины души, душа моя потемнела, и ладья души моей закачалась на водах иллюзии. Не раньше, чем я попал в Шемлегх, смог я размышлять о Причине Всего Сущего или проследить за направлением побегов зла. Я боролся всю долгую ночь напролет.
— Но, святой человек, ты неповинен ни в каком зле. Да буду я твоей жертвой!
Ким был искренне расстроен печалью старика, и выражение Махбуба Али вырвалось у него помимо воли.
— На заре, — продолжал тот еще более торжественно, перемежая медлительные фразы постукиванием четок, бывших при нем всегда, — на заре пришло просветление. Оно здесь... Я старик... в Горах рожденный, в Горах вскормленный, и никогда больше не придется мне жить среди моих Гор. Три года я путешествовал по Хинду, но разве может земля быть сильнее, чем Мать Земля? Оттуда, снизу, неразумное тело мое стремилось к Горам и горным снегам. Я говорил, и это правильно, что Искание мое достигнет цели. Итак, в доме женщины из Кулу я обратился в сторону Гор, обманув самого себя. Хакима не надо осуждать. Он, повинуясь Желанию, предсказывал, что Горы сделают меня сильным. Они укрепили мою силу, чтобы я совершил зло и позабыл о своем Искании. Я радовался жизни и наслаждениям жизни. Я радовался крутым склонам и взбирался на них. Я намеренно отыскивал их. Я мерился силой моего тела, которое есть зло, с высокими горами. Я смеялся над тобой, когда ты задыхался под Джамнотри. Я подшучивал, когда ты отступал перед снегами перевала.
— Но что тут худого? Мне действительно было страшно. Я этого заслуживал. Я не горец, и твоя обновленная сила увеличивала мою любовь к тебе.
— Не раз, помнится, — лама горестно оперся щекой на руку, — я стремился услышать от тебя и хакима похвалы только за то, что ноги мои стали сильными. Так зло следовало за злом, пока чаша не наполнилась. Справедливо Колесо! Весь Хинд в течение трех лет оказывал мне всяческие почести. Начиная от Источника Мудрости в Доме Чудес и вплоть до, — он улыбнулся, — маленького ребенка, игравшего у большой пушки, мир расчищал мне дорогу. А почему?
— Потому что мы любили тебя. Просто у тебя лихорадка, вызванная ударом. Я сам все еще расстроен и потрясен.
— Нет! Это было потому, что я шел по Пути, настроенный как синен[61] на то, чтобы следовать Закону. Но я отклонился от этого Закона.
Музыка оборвалась. Потом последовала кара. В моих родных Горах, на границе моей родины, именно в обители моего суетного желания наносится удар — сюда! — (он коснулся лба). Как бьют послушника, когда он неправильно расставляет чашки, так бьют меня, который был настоятелем Сач-Зена. Заметь себе, чела, слов не было — был удар.
— Но сахибы не знали, кто ты такой, святой человек.
— Мы стоили друг друга. Невежество с Вожделением встречают на дороге Невежество с Вожделением и порождают Гнев. Удар был мне знамением, мне, который не лучше заблудившегося яка, знамением, указавшим, что место мое не здесь. Кто может доискаться причины какого-либо действия, тот стоит на полпути к освобождению! «Назад на тропинку, — говорит Удар. — Горы не для тебя. Не можешь ты стремиться к освобождению и одновременно предаваться радостям жизни».
— И зачем только встретились мы с этим трижды проклятым русским?!
— Сам владыка наш не может заставить Колесо покатиться вспять, но за одну заслугу, приобретенную мною, мне дано и другое знание. — Он сунул руку за пазуху и вытащил изображение Колеса Жизни. — Гляди! Я обдумал и это, когда размышлял. Почти все это разорвано идолопоклонниками, и целым остался лишь край не шире моего ногтя.
— Вижу.
— Столько, значит, я пробуду в этом теле. Я служил Колесу во все мои дни. Теперь Колесо служит мне. Если бы не заслуга, которую я приобрел, указав тебе Путь, мне предстояла бы новая жизнь, раньше чем я нашел бы мою Реку. Понятно ли тебе, чела?
Ким уставился на жестоко изуродованную хартию. Слева направо тянулся разрыв — от Одиннадцатого Дома, где Желание порождает ребенка (как рисуют тибетцы), через мир человеческий и животный к Пятому Дому — пустому Дому Чувств. На такую логику возразить было нечего.
— Прежде чем наш владыка достиг просветления, — лама благоговейно сложил хартию, — он подвергся искушению. Я тоже подвергся искушению, но все это кончено. Стрела упала на Равнинах, а не на Горах. Что нам здесь делать?
— Не подождать ли нам все-таки хакима?
— Я знаю, как долго мне осталось жить в этом теле. Что может сделать хаким?
— Но ты совсем болен и расстроен. Ты не в силах идти.
— Как я могу быть болен, если вижу освобождение? — он, шатаясь, встал на ноги.
— Тогда мне придется собрать пищу в деревне. О утомительная Дорога! — Ким почувствовал, что и ему нужен отдых.
— Это не противоречит уставу. Поедим и пойдем. Стрела упала на Равнинах... но я поддался Желанию. Собирайся, чела!
Ким обернулся к женщине в украшенном бирюзой головном уборе, которая от нечего делать бросала камешки в пропасть. Она ласково ему улыбнулась.
— Я нашла твоего бабу, и он был как буйвол, заблудившийся в кукурузном поле, — сопел и чихал от холода. А голоден он был так, что, позабыв о своем достоинстве, начал говорить мне любезности. У сахибов нет ничего. — Она махнула раскрытой ладонью. — У одного сильно болит живот. Твоя работа? Ким кивнул головой, и глаза его блеснули. — Сначала я поговорила с бенгальцем, потом с людьми из соседней деревни. Сахибам дадут пищи, сколько им потребуется... и люди не спросят с них денег. Добычу всю уже разделили. Бабу говорит сахибам лживые речи. Почему он не уйдет от них?
— Потому что у него большое доброе сердце.
— Нет такого бенгальца, чье сердце было бы больше сухого грецкого ореха. Но не об этом речь... Теперь насчет грецких орехов. После услуги дается награда. Я говорю, что вся деревня твоя.
— В том-то и горе, — начал Ким. — Вот сейчас только я обдумывал, как осуществить некоторые желания моего сердца, которые... — но не стоит перечислять комплименты, подходящие для такого случая. Он глубоко вздохнул. — Но мой учитель, побуждаемый видением...
— Ха! Что могут видеть старые глаза, кроме полной чашки для сбора милостыни?
— ...уходит из этой деревни назад, на Равнины.
— Попроси его остаться.
Ким покачал головой.
— Я знаю своего святого и ярость его, когда ему противоречат, — ответил он выразительно. — Его проклятия сотрясают горы.
— Жаль, что они не спасли его от удара по голове. Я слышала, что ты именно тот человек с сердцем тигра, который отколотил сахиба. Дай ему еще немного отдохнуть. Останься!
— Женщина гор, — сказал Ким с суровостью, которой все же не удалось сделать жесткими черты его юного овального лица, — такие предметы слишком высоки для твоего понимания.
— Боги да смилуются над нами! С каких это пор мужчины и женщины стали отличаться от мужчин и женщин?
— Жрец всегда жрец. Он говорит, что пойдет сей же час. Я его чела и пойду с ним. Нам нужна пища на дорогу. Он почетный гость во всех деревнях, но, — Ким улыбнулся мальчишеской улыбкой, — пища здесь хорошая. Дай мне немного.
— А что, если не дам? Я главная женщина этой деревни.
— Тогда я прокляну тебя... чуть-чуть... не очень сильно, но так, что ты это запомнишь, — он не мог не улыбнуться.
— Ты уже проклял меня опущенными ресницами и вздернутым подбородком. Проклятие? Что для меня слова?! — она сжала руки на груди... — Но я не хочу, чтобы ты ушел в гневе и дурно думал обо мне, собирающей коровий навоз и траву в Шемлегхе, но все-таки не простой женщине.
— Если я о чем и думаю, — сказал Ким, — так это только о том, что мне не хочется уходить отсюда, ибо я очень устал, а также о том, что нам нужна пища. Вот мешок.
Женщина сердито схватила мешок.
— Глупа я была, — сказала она. — Кто твоя женщина на Равнинах? Светлая она или смуглая? Когда-то я была светлая. Ты смеешься? Когда-то — давно это было, но можешь поверить моим словам — один сахиб смотрел на меня благосклонно. Когда-то, давным-давно, я носила европейское платье в миссионерском доме, вон там. — Она показала в сторону Котгарха. — Когда-то, давным-давно, я была кирлистиянкой и говорила по-английски, как говорят сахибы. Да. Мой сахиб говорил, что вернется и женится на мне... Он уехал, — я ухаживала за ним, когда он был болен, — но он не вернулся. Тогда я поняла, что боги кирлистиян лгут, и вернулась к своему народу... С тех пор я и в глаза не видела ни одного сахиба. (Не смейся надо мной — наваждение прошло, маленький жрец!) Твое лицо, твоя походка и твой говор напомнили мне о моем сахибе, хотя ты всего только бродячий нищий, которому я подаю милостыню. Проклинать меня? Ты не можешь ни проклинать, ни благословлять! — Она подбоченилась и рассмеялась горьким смехом. — Боги твои — ложь, слова твои — ложь, дела твои — ложь. Нет богов под небесами. Я знаю это... Но я на мгновение подумала, что вернулся мой сахиб, а он был моим богом. Да, когда-то я играла на фортепиано в миссионерском доме в Котгархе. Теперь я подаю милостыню жрецам-язычникам. — Она произнесла последнее слово по-английски и завязала набитый доверху мешок.
— Я жду тебя, чела, — промолвил лама, опираясь на дверной косяк.
Женщина окинула глазами высокую фигуру.
— Ему идти! Да он и полмили не пройдет. Куда могут идти старые кости?
Тут Ким, и так уже расстроенный слабостью ламы и предвидевший, каким тяжелым будет мешок, совершенно вышел из себя.
— Тебе-то какое дело, зловещая женщина, как он пойдет? Что ты хочешь накаркать?
— Мне дела нет... А вот тебя это касается, жрец с лицом сахиба. Или ты понесешь его на своих плечах?
— Я иду на Равнины. Никто не должен мешать моему возвращению. Я боролся с душой своей, пока не обессилел. Неразумное тело истощено, а мы далеко от Равнин.
— Смотри! — просто сказала она и отступила в сторону, чтобы Ким мог убедиться в своей полнейшей беспомощности. — Проклинай меня! Быть может, это придаст ему силы. Сделай талисман! Призывай своего великого бога! Ты — жрец, — она повернулась и ушла.
Лама, пошатываясь, присел на корточки, продолжая держаться за дверной косяк. Если ударить старика, он не сможет оправиться в одну ночь, как юноша. Слабость пригнула его к земле, но глаза его, цепляющиеся за Кима, светились жизнью и мольбой.
— Ничего, ничего, — говорил Ким. — Здешний разреженный воздух расслабляет тебя. Мы скоро пойдем. Это горная болезнь. У меня тоже немного болит живот... — Он встал на колени и принялся утешать ламу первыми пришедшими на ум словами.
Тут вернулась женщина: она держалась еще более прямо, чем обычно.
— От твоих богов толку мало, а? Попробуй воспользоваться услугами моих. Я — Женщина Шемлегха. — Она хрипло крикнула, и на крик ее из коровьего загона вышли двое ее мужей и трое других мужчин, тащивших доли — грубые горные носилки, которыми пользуются для переноски больных или для торжественных визитов. — Эти скоты, — она даже не удостоила их взглядом, — твои, покуда они будут нужны тебе.
— Но мы не пойдем по дороге, ведущей в Симлу. Мы не хотим приближаться к сахибам, — крикнул первый муж.
— Они не убегут, как убежали те, и не будут красть вещи. Двое, правда, слабоваты. Становитесь к заднему шесту, Сону и Тари. — Они торопливо повиновались. — Опустите носилки и поднимите святого человека. Я буду присматривать за деревней и вашими верными женами, пока вы не вернетесь.
— А когда это будет?
— Спросите жрецов. Не докучайте мне! Мешок с пищей положите в ноги. Так лучше сохранится равновесие.
— О, святой человек, твои Горы добрее наших Равнин! — воскликнул Ким с облегчением, в то время как лама, пошатываясь, двинулся к носилкам.
— Это поистине царское ложе, — место почетное и удобное. И мы обязаны им...
— Зловещей женщине. Твои благословения нужны мне столько же, сколько твои проклятия. Это мой приказ, а не твой. Поднимайте носилки — и в путь! Слушай! Есть у тебя деньги на дорогу?
Она позвала Кима в свою хижину и нагнулась над потертой английской шкатулкой для денег, стоявшей под ее кроватью.
— Мне ничего не нужно, — Ким рассердился, хотя, казалось, должен был испытывать благодарность. — Я уже перегружен милостями.
Она взглянула на него со странной улыбкой и положила руку ему на плечо.
— Так хоть спасибо скажи. Я противна лицом и рождена в Горах, но, как ты говоришь, приобрела заслугу. Но показать ли тебе, как благодарят сахибы? — и твердый взгляд ее смягчился.
— Я просто бродячий жрец, — сказал Ким, и глаза его ответно блеснули. — Тебе не нужны ни благословения мои, ни проклятия.
— Нет. Но подожди одно мгновение, — ты в десять шагов сможешь догнать доли... Будь ты сахибом... ты сделал бы... Но показать ли тебе, что именно?
— А что, если я догадаюсь? — сказал Ким и, обняв ее за талию, поцеловал в щеку, прибавив по-английски: — Очень вам благодарен, дорогая.
Поцелуи почти неизвестны азиатам, поэтому она отпрянула с испуганным лицом и широко раскрытыми глазами.
— В следующий раз, — продолжал Ким, — не слишком доверяйтесь языческим жрецам... Теперь я скажу: до свидания, — он по-английски протянул руку для рукопожатия. Она машинально взяла ее. — До свидания, дорогая.
— До свидания и... и... — она одно за другим припоминала английские слова. — Вы вернетесь? До свидания и... бог да благословит вас.
Спустя полчаса, в то время как скрипучие носилки тряслись по горной тропинке, ведущей на юго-восток от Шемлегха, Ким увидел крошечную фигурку у двери хижины, машущую белой тряпкой.
— Она приобрела заслугу большую, чем все прочие, — сказал лама. — Ибо она направила человека на Путь к Освобождению, а это почти так же хорошо, как если бы она сама нашла его.
— Хм, — задумчиво произнес Ким, вспоминая недавний разговор. — Быть может, и я приобрел заслугу... По крайней мере, она не обращалась со мной, как с младенцем. — Он обдернул халат спереди, где за пазухой лежал пакет с документами и картами, поправил драгоценный мешок с пищей в ногах у ламы, положил руку на край носилок и постарался приноровиться к медленному шагу ворчавших мужчин.
— Они тоже приобретают заслугу, — сказал лама, когда прошли три мили.
— Больше того, им заплатят серебром, — произнес Ким. Женщина Шемлегха дала ему серебра, и он рассудил, что будет только справедливо, если ее мужья заработают это серебро.
ГЛАВА XV
Не страшен мне император, Дороги не дам царю. Меня не согнут все власти, но тут Другое я говорю: Подчиняюсь воздушным силам! Мост опусти, страж! Мечтатель идет, чьей мечты полет Победил — он властитель наш! «Осада фей»В двух милях к северу от Чини, на голубом сланце Ладагха, Енклинг-сахиб, веселый малый, нетерпеливо водит биноклем по хребтам, высматривая, нет ли где следов его любимого загонщика — человека из Ао-Чанга. Но этот изменник, взяв с собой новое ружье системы Манлихера и двести патронов, где-то совсем в другом месте промышляет кабаргу для продажи, и на будущий год Енклинг-сахиб услышит о том, как тяжело он был болен.
Вверх по долинам Башахра торопливо шагает некий бенгалец — дальнозоркие гималайские орлы отлетают прочь, завидев его новый синий с белым, полосатый зонтик, — бенгалец, некогда полный и красивый, а теперь худой и обветренный. Он получил благодарность от двух знатных иностранцев, которых умело провел Машобрским туннелем к большой и веселой столице Индии. Не его вина, что, заблудившись в сыром тумане, они не заметили телеграфного отделения и европейской колонии Котгарха. Не его вина — вина богов, о которых он так увлекательно рассказывал, что они очутились у границ Нахана, где раджа ошибочно принял их за британских солдат-дезертиров. Хари-бабу расписывал величие и славу его спутников на их родине до тех пор, пока заспанный владетельный князек не улыбнулся. Он рассказывал об этом всякому, кто его спрашивал, много раз, громогласно и в разных вариантах. Он выпрашивал пищу, находил удобные помещения, искусно лечил ушиб в паху — ушиб, который можно получить, скатившись в темноте с каменистого горного склона, — и вообще во всех отношениях был незаменим. Причина его любезности делала ему честь. Вместе с миллионами своих порабощенных соотечественников он привык смотреть на Россию как на великую северную освободительницу. Он пугливый человек. Он боялся, что не сумеет спасти своих высокопоставленных господ от гнева возбужденных крестьян. Да и сам он не прочь дать по уху какому-нибудь подвижнику, но... Он глубоко благодарен и от души радуется, что «по мере своих слабых сил» сумел привести рискованное предприятие (если не считать потери багажа) к успешному концу. Он позабыл о пинках; даже отрицает, что получал эти пинки в ту неприятную первую ночь под соснами. Он не просит ни пенсии, ни жалованья, но, если его считают достойным, не соблаговолят ли джентльмены дать ему письменную рекомендацию? Она, быть может, пригодится ему впоследствии, если другие люди, их друзья, придут на Перевалы. Он просит их вспомнить его в их будущем величии, ибо «осмеливается надеяться», что даже он, Махендра-Лал-Дат М. И. из Калькутты, «оказал некоторую услугу государству».
Они дали ему бумагу, в которой восхваляли его учтивость, услужливость и замечательную сноровку проводника. Он засунул бумагу за кушак и всплакнул от переизбытка чувств; ведь они вместе подвергались стольким опасностям. В полдень он провел их по людному бульвару Симлы до Союзного банка, где они намеревались удостоверить свои личности. Дойдя до банка, он исчез, как предрассветное облако на Джеко.
Смотрите на него! Он слишком исхудал, чтобы потеть, слишком торопится, чтобы рекламировать препараты из обитой медью шкатулочки, он поднимается по Шемлегхскому склону — настоящее воплощение добродетели. Смотрите, как позабыв все время изображать бабу, он в полдень курит, сидя на койке, а женщина в украшенном бирюзой головном уборе показывает пальцем на голые травянистые склоны, уходящие к юго-востоку. По ее словам, носилки не могут двигаться так быстро, как люди порожняком, но его друзья теперь, наверное, уже на Равнинах. Святой человек не хотел остаться, хотя она, Лиспет, и уговаривала его. Бабу тяжело вздыхает, препоясывает свои могучие чресла и вновь отправляется в путь. Он не любит путешествовать в сумерках, но дневные его переходы — некому записать их в книгу — поразили бы людей, насмехающихся над его расой. Добродушные деревенские жители, памятуя о продавце лекарств из Дакхи, проходившем тут два месяца назад, дают ему прибежище от злых духов леса. Он видит во сне бенгальских богов, университетские учебники и «Королевское общество, Лондон, Англия». Наутро синий с белым зонтик, подрагивая, движется вперед.
На границе Дуна, оставив Масури далеко позади себя, перед Равнинами, окутанными золотой пылью, стоят истрепанные носилки, в которых, как это знают все Горы, лежит больной лама, ищущий Реку, чтобы исцелиться ею. Деревня чуть не передралась за честь нести эти носилки, ибо, не говоря уже о том, что лама одарял их своими благословениями, — ученик его платил хорошие деньги — целую треть того, что обычно платят сахибы. Доли проходила по двенадцать миль в день, как это видно по засаленным истертым концам ее шестов, и двигалась по дорогам, которыми ходят лишь немногие сахибы. Через перевал Ниланг, в бурю, когда взвихренная снежная пыль засыпала каждую складку широких одежд невозмутимого ламы; между черными утесами Райенга, где слышалось рявканье диких коз за облаками; ныряя и снова поднимаясь на глинистых сланцах у подножья гор; крепко зажатая между плечом и челюстью, когда приходилось огибать опасные крутые повороты дороги на Бахгирати; качаясь и скрипя под равномерную рысцу носильщиков на спуске в Долину Вод; торопясь миновать туманное плоское дно этой замкнутой долины; снова поднимаясь вверх и вверх на простор, навстречу ревущим ветрам, дующим с Кедарнатха; в полдень, отдохнув в тусклом сумраке приветливых дубовых лесов; переходя от деревни к деревне по предрассветному морозу, когда даже верующим простительно ругать нетерпеливых святых, или при свете факелов, когда даже самый бесстрашный думает о привидениях, — двигалась доли и добралась, наконец, до последнего своего перехода. Малорослые горцы обливались потом на Сиваликских отрогах, даже когда солнце не слишком припекало, и обступили жрецов, желая получить от них благословение и жалованье.
— Вы приобрели заслугу, — говорит лама. — Заслугу большую, чем сами вы способны понять. И вы вернетесь в Горы, — вздыхает он.
— Еще бы! На высокие Горы, как можно скорей! Носильщик потирает плечо, пьет воду, выплевывает ее и поправляет свои травяные сандалии. Ким — лицо его осунулось и кажется утомленным — платит им очень мелкой серебряной монетой, вынутой из-за кушака, снимает мешок с пищей, сует за пазуху завернутый в клеенку пакет — в нем священное писание — и помогает ламе подняться на ноги.
В глазах старика снова покой, и он уже не думает, что Горы рухнут и раздавят его, как думал в ту ужасную ночь, когда их задержала разлившаяся река.
Носильщики подхватывают доли и скрываются из виду в зарослях кустарника.
Лама поднимает руку, указывая на Гималаи, стоящие как крепостная стена.
— Не в ваших пределах, о благословеннейшие из гор, упала Стрела нашего владыки! И никогда больше не придется мне дышать вашим воздухом!
— Но на здешнем хорошем воздухе ты станешь вдесятеро сильнее, — говорит Ким, ибо его утомленную душу влекут пышно поросшие злаками приветливые равнины. — Здесь или поблизости упала Стрела; это так. Мы будем идти очень медленно, быть может, только по одному косу в день, ибо Искание достигнет цели.
— Да, наше Искание достигнет цели. Я преодолел великое Искушение.
Теперь они проходили не больше двух миль в день, и вся тяжесть этого пути легла на плечи Кима: бремя старика, бремя тяжелого мешка с пищей и непонятными книгами, груз документов, лежащих у него за пазухой, и все ежедневные заботы. Он просил милостыню на заре, расстилал одеяла для ламы, когда тот погружался в созерцание, в полуденный жар держал у себя на коленях усталую голову старика, отгоняя от нее мух, пока рука его не начинала ныть, вечером снова просил милостыню и растирал ноги ламе, который вознаграждал его обещаниями достигнуть Освобождения сегодня, завтра или, в крайнем случае, послезавтра.
— Никогда не бывало такого челы. Иной раз я сомневаюсь, что Ананда более преданно ухаживал за нашим владыкой. Неужели ты сахиб? Когда я был зрелым мужем — давным-давно — я забывал об этом. Теперь я часто смотрю на тебя и всякий раз вспоминаю, что ты сахиб. Странно...
— Ты говорил, что нет ни белых, ни черных. Зачем же терзать меня такими разговорами, святой человек? Дай, я потру тебе другую ногу. Мне это неприятно, — я не сахиб. Я твой чела, и голова моя обременяет плечи.
— Потерпи немного! Мы вместе достигнем Освобождения. Тогда мы с тобой, стоя на дальнем берегу Реки, будем вспоминать наши жизни, как в Горах вспоминали наш дневной переход, оставшийся позади нас. Быть может, и я был когда-то сахибом.
— Никогда не было сахиба, похожего на тебя, клянусь!
— Я уверен, что хранитель Священных Изображений в Доме Чудес был в прошлой жизни мудрейшим настоятелем монастыря. Но даже очки его не помогают глазам моим видеть. Когда я хочу смотреть пристально, перед ними проходит тень. Ничего, нам знакомы обманы бедного неразумного тела — тени, переходящей в другую тень. Я связан иллюзией времени и пространства... Как далеко прошли мы сегодня во плоти?
— Пожалуй, с полкоса.
Это три четверти мили, но переход показался им очень утомительным.
— Полкоса. Ха! Я прошел десять тысяч тысячей косов в духе. Насколько все мы закутаны, спеленаты, забинтованы этими бессмысленными предметами. — Он взглянул на свою худую, в синих жилках руку, для которой четки стали теперь такими тяжкими. — Чела, тебе ни разу не хотелось покинуть меня?
Ким вспомнил о завернутом в клеенку пакете и книгах в мешке с пищей. Если бы кто-нибудь, получивший на то полномочия свыше, мог забрать их с собой, Киму стало бы безразлично, как будет разыгрываться в дальнейшем Большая Игра. Он устал, голова у него горела, и глубокий кашель мучил его.
— Нет, — сказал он почти сурово. — Я не собака и не змея, чтобы кусать, когда научился любить.
— Ты слишком нежен ко мне.
— И это не так. Кое-чем я распорядился, не посоветовавшись с тобой. Я известил женщину из Кулу, через женщину, давшую нам козьего молока нынче утром, о том, что ты немного ослаб и тебе нужны носилки. Я не перестаю бранить себя за то, что не подумал об этом, когда мы вступили в Дун. Мы останемся здесь, пока не придут носилки.
— Я доволен. Она женщина с золотым сердцем, как ты говоришь, но разговорчива... ох, как разговорчива!
— Она не будет надоедать тебе. Я и об этом позаботился. Святой человек, тяжело у меня на сердце от того, что я был так небрежен к тебе. — В груди его что-то заклокотало. — Я увел тебя слишком далеко, я не всегда доставал для тебя хорошую пищу, я не обращал внимания на жару, я болтал с людьми на дорогах, оставляя тебя одного... Я... Я... Хай-май! Но я люблю тебя... Теперь слишком поздно... Я был ребенком... О, зачем я не был мужчиной! — разбитый напряжением, усталостью и непосильной для его лет тяжестью в сердце, Ким рухнул к ногам ламы и зарыдал.
— Что за пустяки! — ласково сказал старик. — Ты ни разу, ни на волос не отступил от Пути Послушания. Небрежен ко мне? Дитя, я жил, опираясь на тебя, как опирается старое дерево на новую стену. День за днем, начиная с Шемлегха и дальше, я крал твою силу. Поэтому, а не по своей вине ты ослабел. Тело, глупое неразумное тело говорит в тебе, а не твоя уверенная душа. Будь спокоен! Познай хотя бы тех демонов, с которыми ты борешься. Они рождены землей, они детища иллюзии. Мы пойдем к женщине из Кулу. Она приобретет заслугу, давая нам приют и особенно услужая мне. Ты будешь свободен, пока не вернется твоя сила. Я позабыл о неразумном теле. Если это достойно осуждения, я принимаю его. Но мы слишком близки к вратам Освобождения, чтобы казниться в душе своей. Я мог бы похвалить тебя, но какая в этом нужда? Скоро, очень скоро мы не будем нуждаться ни в чем.
Так он ласкал и утешал Кима мудрыми пословицами и глубокомысленными изречениями, касавшимися этого неразгаданного звереныша, нашего тела, этого обмана чувств, которое ради омрачения Пути и безграничного умножения ненужных демонов все равно настаивает, чтобы его считали душой.
— Хай! Хай! Давай поговорим о женщине из Кулу. Как думаешь, не попросит ли она еще один талисман для своих внуков? Когда я был молодым человеком, давным-давно, меня терзали подобные мучительные чувства и кое-какие другие, и я пошел к одному настоятелю, очень святому человеку, искателю истины, чего я в то время не знал. Сядь и послушай, дитя моей души! Я поведал ему все. А он сказал мне: «Чела, знай, в мире много лжи и немало лжецов, но нет таких лжецов, как наши тела, если не считать ощущений в наших телах». Поразмыслив об этом, я успокоился, а он, по великому своему милосердию, позволил мне выпить чаю в его присутствии. Позволь же мне теперь попить чаю, ибо я чувствую жажду!
Со смехом и слезами Ким поцеловал ламе ноги и стал готовить чай.
— Ты опираешься на меня во плоти, святой человек, но ты служишь мне опорой в другом. Ты знаешь это?
— Быть может, я угадал, — глаза ламы блеснули. — Нам придется изменить это.
Поэтому, когда с шумом, ссорами и большой торжественностью до них добрался любимый паланкин сахибы, высланный навстречу за двадцать миль во главе с памятным седым стариком — урией, и когда они очутились в длинном, белом безалаберном доме за Сахаранпуром, где царил беспорядочный порядок, лама принял свои меры.
После первых приветствий сахиба, сидевшая за окном в верхнем этаже, весело крикнула:
— Что толку, когда старуха дает советы старику? Говорила я тебе, говорила, святой человек, не спускай глаз с челы. А ты послушался? Не спорь! Я знаю. Он бегал за женщинами. Погляди на его глаза, — как они запали и потускнели, — и на предательскую морщину, что тянется от носа вниз! Его всего высосали. Фай! Фай! А еще жрец!
Ким взглянул вверх, слишком переутомленный, чтобы улыбнуться, и отрицательно покачал головой.
— Не надо шуток, — сказал лама. — Теперь не время для этого. Мы пришли сюда по важным делам. В Горах меня одолела болезнь души, а его — болезнь тела. С тех пор я жил его силой, пожирая его.
— Оба вы дети, и старый, и малый, — фыркнула она, но шутить перестала. — Наше гостеприимство да восстановит ваши силы! Посидите пока, потом я приду поболтать о высоких, славных Горах.
Вечером, — зять ее вернулся, и ей не нужно было обходить дозором усадьбу, — она перешла к сути того дела, которое лама объяснил ей тихим голосом. Старые головы их с мудрым видом кивали одновременно. Ким, шатаясь, поплелся в какую-то комнату и заснул в ней мертвым сном. Лама запретил ему расстилать одеяла и добывать пищу.
— Знаю, знаю. Кому и знать, как не мне? — не умолкала старуха. — Мы, идущие к гхатам сожжения, цепляемся за руки тех, кто поднимается от Реки жизни с кувшинами, полными воды, да, с кувшинами, полными до краев. Я несправедливо осудила мальчика. Он одолжил тебе свою силу? Истинно, старики ежедневно пожирают молодых. Теперь нам нужно вернуть ему здоровье.
— Ты много раз приобретала заслугу...
— Мои заслуги! Подумаешь! Старый мешок с костями, стряпающий кари для людей, которые не спрашивают «Кто приготовил это?». Но если б я могла сохранить заслугу про запас для моего внука!...
— Того, у которого болел живот?
— Подумать только, что святой человек помнит об этом! Я скажу его матери! Это особенная честь для нее: «Того, у которого болел живот!» — сразу вспомнил святой человек. Она будет гордиться.
— Мой чела для меня то же, что сын для непросветленных.
— Скажи лучше — внук. У матерей нет мудрости, свойственной нашим летам. Если ребенок плачет, им кажется, что небеса на землю валятся. Ну, а бабушка так далека от родовых мук и наслаждения кормить грудью, что разбирается, когда дети плачут просто от злости, когда от ветров в животике. И раз уж ты сам опять заговорил о ветрах, быть может, когда святой человек был здесь в последний раз, я оскорбила его, приставая к нему с талисманами?
— Сестра, — сказал лама, называя ее так, как лишь изредка называют буддийские монахи монахинь, — если талисманы успокаивают тебя...
— Они лучше, чем десять тысяч лекарей.
— Повторяю, если они успокаивают тебя, то я, бывший настоятель Сач-Зена, напишу их столько, сколько ты пожелаешь. Я никогда не видал твоего лица...
— Даже обезьяны, ворующие у нас локваты, довольны, что не видели его. Хи! Хи!
— Но, как сказал тот, кто спит вон там, — он кивнул на запертую дверь комнаты для гостей, расположенной по ту сторону переднего двора, — у тебя золотое сердце... А в духе он мне все равно, что «внук».
— Ладно! Я корова святого человека. — Это было чисто индуистское выражение, но лама не обратил на него внимания. — Я стара. Я во плоти родила нескольких сыновей. О, некогда я умела услаждать мужчин! Теперь я умею лечить их. — Он услышал, как зазвенели ее браслеты, словно она засучивала рукава перед работой. — Я возьмусь за мальчика, буду пичкать его лекарствами, откармливать и верну ему здоровье. Хай! Хай! Мы, старухи, кое-что еще знаем.
Поэтому, когда Ким, у которого болели все кости, открыл глаза и собрался идти на кухню, чтобы взять еду для учителя, он понял, что утерял свободу: у дверей рядом с седовласым служителем стояла закутанная фигура, подробно разъяснившая Киму, чего он не должен делать.
— Ты хочешь получить... Ничего ты не получишь. Что? Запирающийся ящик, чтобы хранить в нем священные книги? О, это дело другое. Сохрани меня небо становиться между жрецом и его молитвами! Тебе принесут сундук, и у тебя будет ключ от него.
Под его кровать поставили сундук, и Ким со вздохом облегчения спрятал в него пистолет Махбуба, завернутый в клеенку пакет с письмами, непонятные книги и дневники. Эти вещи почему-то отягощали его плечи несравненно меньше, чем его бедную душу. Даже шея его болела по ночам при мысли об этой тяжести.
— Болезнь твоя нечасто встречается среди молодежи в наши дни, — с тех пор как молодые люди перестали заботиться о старших. Тебя вылечат сон и некоторые лекарства, — говорила сахиба, и он был рад отдаться пустоте, которая казалась ему и угрожающей и успокаивающей.
Старуха варила напитки в каком-то таинственном азиатском подобии перегонного куба. Эти лекарства пахли отвратительно, а на вкус были еще хуже. Она стояла над Кимом, покуда они не проходили ему в желудок, и подробно расспрашивала о том, как они вышли наружу. Она запретила всем заходить на передний двор и, чтобы распоряжение ее выполнялось, поставила на страже вооруженного человека. Правда, ему было добрых семьдесят лет; рукоятка меча торчала из пустых ножен, но страж олицетворял власть сахибы, и нагруженные телеги, болтливые служанки, телята, собаки, куры и все остальные обходили двор стороной. Больше того, когда тело Кима было очищено, она извлекла из толпы бедных родственников, ютившихся на задворках, — их прозвали домашними собаками — вдову своего двоюродного брата — женщину опытную в том искусстве, которое европейцы, ничего в этом не смыслящие, называют массажем. И обе они, положив Кима головой на восток, а ногами на запад, чтобы таинственные воздушные течения, возбуждающие наше тело, помогали им, а не мешали, стали растирать юношу и в течение всей второй половины дня перебрали ему кость за костью, мускул за мускулом, связку за связкой и, наконец, нерв за нервом. Вымешанный как тесто, превращенный в безгласную покорную мякоть, почти загипнотизированный непрестанными взмахами рук, оправлявших неудобные чадры, которые закрывали женщинам глаза, Ким погрузился в глубокий, глубиной в десять тысяч миль, сон — тридцать шесть часов сна, оросившего его, как дождь после засухи.
Потом она стала кормить его, и у всех домашних головы пошли кругом от ее окриков. Она приказывала бить птицу, посылала за овощами, и трезвый тугодум-огородник, почти такой же старый, как она, обливался потом; она сама отбирала пряности, молоко, лук, маленьких рыбок, выловленных в ручьях, лимоны для шербета, перепелок, пойманных в ловушку, цыплячью печень, поджаренную на шпильке и переложенную нарезанным имбиром.
— Я кое-что видела в этом мире, — говорила она, глядя на заставленные едой подносы, — а в нем только два рода женщин: одни отнимают силу у мужчин, другие возвращают ее. Некогда я была одной из первых, теперь я — одна из вторых. Ну, нечего корчить из себя жреца передо мною. Это просто шутка. Если сейчас она тебе не по нраву, — понравится, когда опять пойдешь шляться по дорогам. Сестра, — обратилась она к бедной родственнице, никогда не устававшей превозносить милости своей благодетельницы, — кожа его порозовела, как у коня, только что вычищенного скребницей. Наша работа все равно что полировка драгоценных камней, которые потом будут брошены танцовщице, а?
Ким сел на кровати и улыбнулся. Страшная слабость свалилась с него как старый башмак. Его снова тянуло поболтать, а всего неделю назад малейшее слово увязало в нем как в пепле. Боль в шее (должно быть, он заразился этим недугом от ламы) прошла, а с нею прошла и тропическая лихорадка, сопровождавшаяся острыми болями и неприятным вкусом во рту. Обе старухи теперь тщательнее, хотя и не слишком, закутались в покрывала и кудахтали весело, как куры, которые пробрались в комнату через открытую дверь.
— Где мой святой? — спросил Ким.
— Вы только послушайте его! Твой святой здоров, — подхватила сахиба ядовито, — здоров, хотя и не по своей милости. Знай я, что заговоры способны научить его уму-разуму, я продала бы свои драгоценности и купила бы ему талисман. Отказываться от хорошей пищи, которую я состряпала, и две ночи таскаться по полям на пустой желудок, а потом свалиться в ручей — да разве это святость?! А когда тревога за него чуть не разбила то немногое в моем сердце, что осталось после тревоги за тебя, он говорит мне, что приобрел заслугу. О, как все мужчины похожи друг на друга! Нет, не так: он сказал мне, что освободился от всякого греха. Я и сама могла бы сообщить ему это, прежде чем он промок насквозь. Теперь он здоров, — это случилось неделю назад, — только... ну ее совсем, такую святость! Трехлетний младенец поступил бы умнее. Не беспокойся о святом человеке! Он не сводит с тебя глаз, если не барахтается в наших ручьях.
— Не припоминаю, чтобы я его видел. Помню, что дни и ночи чередовались, как белые и черные полосы, — открывались и закрывались! Я не был болен, я просто утомился.
— Слабость, которой следовало бы наступить только через несколько десятков лет. Но теперь все прошло.
— Махарани, — начал Ким, но, заметив выражение ее взгляда, заменил этот титул простым обращением, продиктованным любовью, — мать, я обязан тебе жизнью. Как отблагодарю я тебя? Десять тысяч благодарностей дому твоему и...
— В... благословенье этому дому (невозможно передать в точности словечко старой хозяйки). Благодари богов как жрец, если хочешь, а меня благодари как сын, если вздумаешь. Небеса превышние! Неужто я растирала тебя, и поднимала тебя, и шлепала и крутила все десять пальцев на твоих ногах, чтобы в голову мне полезли священные изречения? Наверное, мать родила тебя, чтобы ты разбил ей сердце... Как называл ты ее... сын?
— У меня не было матери, мать моя, — сказал Ким. — Говорят, она умерла, когда я был маленький.
— Хай май! Так, значит, никто не посмеет сказать, что я украла хоть одно из ее прав... когда ты снова отправишься в путь. А ведь этот дом один из тысячи, дававших тебе приют и позабытых после небрежно брошенного благословения. Ничего. Мне благословения не нужны, но... но... — Она топнула ногой на бедную родственницу. — Отнести подносы в дом. Что хорошего, когда в комнате стоит несвежая пища, о женщина, сулящая беду?
— Я то... тоже родила сына в свое время, но он умер, — захныкала согбенная фигура под чадрой. — Ты знаешь, что он умер. Я только ждала приказания унести поднос.
— Это я — женщина, сулящая беду, — в раскаянии воскликнула старуха. — Мы, спускающиеся к чатри[62], изо всех сил цепляемся за несущих чати[63]. Когда не можешь плясать на празднестве, то вынужден смотреть на него из окна, а обязанности бабушки отнимают у женщины все время. Твой учитель дает мне столько талисманов для старшенького моей дочери, сколько я прошу, дает потому — потому ли? — что он совершенно свободен от греха. Хаким теперь совсем опустился. Он отравляет лекарствами моих слуг за неимением больных поважнее.
— Какой хаким, мать?
— Тот самый человек из Дакхи, который дал мне пилюлю, разорвавшую меня на три части. Он приплелся сюда, как заблудившийся верблюд, неделю назад, клялся, что вы с ним стали кровными братьями, когда шли в Кулу, и притворялся, что сильно встревожен состоянием твоего здоровья. Он был очень худой и голодный, так что я приказала подкормить его тоже и тем утешить его тревогу.
— Хотелось бы повидаться с ним, если он здесь.
— Он ест пять раз в день и вскрывает чирьи моим батракам, чтобы самому уберечься от апоплексического удара. Он столь полон тревоги за твое здоровье, что не отходит от кухонной двери и набивает себе живот объедками. Так он тут и останется. Никогда нам от него не отделаться.
— Пошли его сюда, мать, — у Кима на мгновение заблестели глаза, — и я попробую с ним справиться.
— Пошлю, но выгонять его нехорошо. Все-таки у него хватило разума вытащить святого человека из ручья и таким образом, хотя святой человек и не сказал этого, приобрести заслугу.
— Очень мудрый хаким. Пошли его сюда, мать.
— Жрец хвалит жреца? Ну, чудеса! Если он твой приятель (в прошлую встречу вы-таки поругались), я приволоку его сюда на аркане и... и потом угощу его обедом, подобающим только человеку нашей касты, сын мой... Вставай и погляди на мир! Лежанье в постели — мать семидесяти дьяволов... сын мой! Сын мой!
Она засеменила вон из комнаты, чтобы тотчас поднять целый тайфун на кухне, и едва успела исчезнуть ее тень, как вкатился бабу, задрапированный до самых плеч, словно римский император, зобастый, как Тит, заплывший жиром, без головного убора и в новых лакированных ботинках. Он рассыпался в приветствиях и выражениях радости.
— Клянусь Юпитером, мистер О'Хара, я действительно чертовски рад вас видеть. С вашего позволения я закрою дверь. Жаль, что вы больны! Вы очень больны?
— Бумаги... бумаги из килты. Карты и мурасала! — Ким нетерпеливо протягивал ключ; в это мгновение душа его жаждала развязаться с добычей.
— Вы совершенно правы. Это правильный, ведомственный подход к делу. У вас все в наличности?
— Я взял все рукописи из килты. Остальное сбросил под гору. — Ким услышал лязг ключа в замке, мягкий треск медленно рвущейся клеенки и шелест быстро перебираемых бумаг. В течение праздных дней болезни он, без всяких на то причин, тяготился тем, что вещи лежат под его постелью и никому нельзя передать это бремя. Поэтому кровь закипела у него в жилах, когда Хари, подпрыгнув по-слоновьи, снова пожал ему руку.
— Вот это здорово! Лучше некуда! Мистер О'Хара! Вы, ха! ха! — вы попали в самую точку! Одним выстрелом в семерых! Они говорили мне, что их восьмимесячная работа полетела к чертям. Клянусь Юпитером, как они колотили меня!... Глядите, вот письмо от Хиласа! — Он прочел нараспев несколько строчек на придворном персидском языке, который служит языком официальной и неофициальной дипломатии. — Мистер раджа-сахиб попал ногой в яму. Ему придется давать официа-альные объяснения, какого дьявола он вздумал писать любовные письма царю... А карты весьма искусно составлены... Три или четыре премьер-министра этих областей причастны к данной переписке. Клянусь богом, сэр, британское правительство изменит порядок престолонаследия в Хиласе и Банаре и назначит новых наследников престола. «Преда-ательство самого низкого разбора»... Но вы не понимаете, а?
— Ты все забрал? — спросил Ким. Это единственное, что его сейчас заботило.
— Можете держать пари сами с собой, что забрал, — он рассовал всю добычу по разным местам своей одежды, как это умеют делать только восточные люди. — Все это тоже попадет в наше учреждение. Старая леди думает, что я навсегда поселился в ее доме, но я сейчас же удалюсь со всеми этими вещами... немедленно. Мистер Ларган будет горд. Вы официа-ально подчинены мне, но я включу вашу фамилию в свой устный доклад. Жаль, что нам не разрешается делать письменных докладов. Мы, бенгальцы, отличаемся в точных науках. — Он отложил в сторону ключ и показал Киму пустую шкатулку.
— Хорошо. Это хорошо. Я чувствовал себя совсем разбитым. Мой святой тоже был болен. И он упал в...
— О да-а! Я — его приятель, могу вас уверить. Он вел себя очень странно, когда я пришел сюда за вами, и я думал — не у него ли бумаги. Я следил за ним, когда он погружался в созерцание, а также обсуждал с ним некоторые этнологические вопросы. Теперь я, видите ли, играю здесь оч-чень маленькую роль в сравнении со всеми его талисманами. Клянусь Юпитером, О'Хара, вы знаете, что он иногда страдает припадками. Да-а, именно так, уверяю вас. Каталептическими, если не эпилептическими вдобавок. Я нашел его в таком состоянии под деревом in articulo mortem, и он вскочил, вошел в ручей и утонул бы, не будь меня. Я вытащил его.
— Это потому, что меня с ним не было, — сказал Ким. — Он мог умереть.
— Да, он мог умереть, но теперь он высох и уверяет, что пережил преображение. — Бабу со значительным видом постучал себя по лбу. — Я записал его показания для Королевского Общества... in posse. Вам придется поскорее совсем выздороветь и вернуться в Симлу, а я расскажу вам обо всем подробно у Ларгана. Вот было здорово! Брюки у них совершенно обтрепались внизу, и старый Нахан-раджа подумал, что это европейские солдаты, дезертиры.
— Ах, русские? Как долго они пробыли с тобой?
— Один был француз. О, они были со мной столько, столько, столько дней! Теперь все горцы уверены, что все русские — нищие. Клянусь Юпитером, ни единой крупинки своей у них не было, все я им доставал! А простому народу я рассказывал — о-а, такие истории и анекдоты! Я повторю их вам у старика Ларгана, когда вы подъедете. Мы, ах! весело проведем вечер! Это перо на вашу шляпу и на мою! Да-а, они дали мне рекомендацию. Ну и потеха! Надо было вам поглядеть на них, когда они удостоверяли свои личности в Союзном банке! И, благодарение всемогущему богу, вы так хорошо добыли их бумаги! Сейчас вы не оч-чень смеетесь, но вы будете смеяться, когда поправитесь. Сейчас я прямо на железную дорогу и... прочь. У вас теперь все преимущества в Игре. Когда вы думаете подъехать? Все мы оч-чень гордимся вами, хотя вы здорово нас перепугали, и особенно гордится Махбуб.
— А, Махбуб. А где он?
— Продает лошадей здесь побли-изости, само собой разумеется.
— Здесь! Как так? Говори медленно. У меня все еще голова тяжелая.
Бабу скромно потупил глаза.
— Ну, видите ли, я пугливый человек и не люблю ответственности. Вы были больны, видите ли, а я не знал, где именно находятся эти дьявольские бумаги и сколько их. Поэтому, придя сюда, я дал частную телеграмму Махбубу, — он был в это время в Миратхе, на скачках, — и сообщил ему, как обстоят дела. Он является со своими людьми и совещается с ламой, а потом обзывает меня дураком и ведет себя очень грубо...
— Но почему... почему?
— Вот именно почему, спрашивается? Я только намекнул, что, если кто-нибудь украл бумаги, я хотел бы иметь несколько крепких, сильных, храбрых ребят, чтобы выкрасть их обратно. В них, видите ли, сейчас острая нужда, а Махбуб Али не знал, где вы находитесь.
— Махбуб Али стал бы грабить дом сахибы? Ты с ума сошел, бабу, — сказал Ким с возмущением.
— Я хотел иметь бумаги. Представьте, что она бы их украла. Это было лишь практическое предложение, так я считаю. Вам это не нравится, а?
Туземная пословица, привести которую немыслимо, выразила всю глубину неодобрения Кима.
— Ну, — Хари пожал плечами, — о вкусах не спорят. Махбуб тоже рассердился. Он продавал лошадей тут, в окрестностях, и говорит, что старая леди пакка, настоящая старая леди, и она не унизится до таких неджентльменских поступков. Мне все равно, я получил бумаги и был рад моральной поддержке Махбуба. Говорю вам, я пугливый человек, но, так или иначе, чем я бываю пугливее, тем чаще попадаю в чертовски узкие места. Поэтому я был рад, что вы пошли со мной в Чини, и рад, что Махбуб находился тут, под рукой. Старая леди иногда весьма непочтительна ко мне и не доверяет моим чудесным пилюлям.
— Аллах да помилует вас! — весело сказал Ким, опираясь на локоть. — Что за чудище этот бабу! И такой человек шел один, — если все это правда, — с ограбленными и рассерженными иностранцами.
— О-а, эт-то была чепуха, после того как они перестали бить меня, но потеряй я бумаги, все вышло бы чертовски скверно. Махбуб чуть не поколотил меня. И он долго совещался с ламой. Отныне я ограничусь этнологическими изысканиями. Теперь до свидания, мистер О'Хара. Я успею попасть на поезд, отходящий в 4.25 пополудни в Амбалу, если потороплюсь. То-то будет весело, когда мы с вами будем рассказывать эту историю у мистера Ларгана. Я доложу официально, что вы чувствуете себя лучше. До свидания, дорогой мой, и когда в следующий раз вами овладеют эмоции, не употребляйте мусульманских выражений, нося тибетский костюм.
Он дважды пожал руку Киму, — настоящий бабу с головы до пят, — и открыл дверь. Но едва солнце осветило его довольную физиономию, он тотчас же превратился в смиренного знахаря из Дакки.
— Он ограбил их, — думал Ким, позабыв о своем собственном участии в Игре. — Он надул их. Он лгал им, как бенгалец. Они дали ему чит[64], он смеялся над ними, рискуя жизнью, — я ни за что бы не спустился к ним после револьверных выстрелов, — а потом говорит, что он пугливый человек... И он в самом деле труслив. Мне нужно вернуться в мир.
Сначала ноги его гнулись, как скверные трубочные чубуки, а пронизанный солнечными лучами воздух опьянял его. Он сел на корточки у белой стены и мысленно стал перебирать все подробности долгого путешествия с доли, вспоминал о болезни ламы и, поскольку взволновавший его разговор был окончен, принялся думать о себе с жалостью, запас которой у него, как и у всех больных, был очень велик, Истомленный мозг его уходил от всего внешнего, как бросается в сторону необъезженная лошадь, впервые попробовавшая шпор. Содержимое килты теперь далеко... он сбыл это с рук... отделался и хватит с него. Он пытался думать о ламе... понять, почему тот упал в ручей, но широкая панорама, открывавшаяся из ворот переднего двора, мешала на чем-то сосредоточиться. Тогда он стал смотреть на деревья и просторные поля, где хижины с тростниковыми крышами прятались среди хлебов, — смотрел чужими всему глазами, неспособными охватить размеры и пропорции вещей и понять, на что они нужны, тихо и пристально смотрел целых полчаса. Он чувствовал, хотя и не мог бы выразить этого, что душа его потеряла связь с окружающим, что он похож на зубчатое колесо, отделенное от механизма, точь-в-точь как бездействующее колесо дешевого бихийского сахарного пресса, что валялось в углу. Легкий ветер обвевал его, попугаи кричали вокруг; шумы многолюдного дома — ссоры, приказания и упреки — врывались в его неслышащие уши.
«Я Ким. Я Ким. Кто такой Ким?» — душа его снова и снова повторяла эти слова.
Он не хотел плакать, — никогда в жизни он не был так далек от желания плакать, — но вдруг невольные глупые слезы покатились по его щекам и он почувствовал, что с почти слышным щелчком колеса его существа опять сомкнулись с внешним миром. Вещи, по которым только что бессмысленно скользил его глаз, теперь приобрели свои истинные пропорции. Дороги предназначались для ходьбы, дома — для того, чтобы в них жить, скот — для езды, поля — для земледелия, мужчины и женщины — для беседы с ними. Все они, реальные и истинные, твердо стояли на ногах, были вполне понятны, плоть от его плоти, не больше и не меньше. Он встряхнулся, как собака с блохой в ухе, и, шатаясь, вышел из ворот. Сахиба, которой какой-то наблюдательный человек сообщил об его уходе, промолвила:
— Пусть себе идет. Я исполнила свою работу. Мать Земля довершит остальное. Когда святой человек выйдет из нирваны, сообщите ему.
В миле от дома на холмике стояла пустая повозка, а за нею молодая смоковница, которая казалась стражем недавно распаханных равнин; веки Кима, омытые мягким воздухом, отяжелели, когда он подошел к ней. Почва была покрыта добротной чистой пылью — не свежими травами, которые в своем кратковременном бытии уже близки к гибели, а пылью, полной надежд, таящей в себе семя всяческой жизни. Он ощущал эту пыль между пальцами ног, похлопывал ее ладонями, и со сладостными вздохами, расправляя сустав за суставом, растянулся в тени повозки, скрепленной деревянными клиньями. И Мать Земля оказалась такой же преданной, как и сахиба. Она пронизывала его своим дыханием, чтобы вернуть ему равновесие, которое он потерял, так долго пролежав на ложе вдали от всех ее здоровых токов. Голова его бессильно покоилась на ее груди, а распростертые руки отдавались ее мощи. Глубоко укоренившаяся в земле смоковница над ним и даже мертвое спиленное дерево подле него знали его мысли лучше, чем он сам. Несколько часов лежал он в оцепенении более глубоком, чем сон.
К вечеру, когда пыль, поднятая стадами, возвращавшимися с пастбищ, окутала дымом весь горизонт, появились лама с Махбубом Али: они шли пешком, осторожно ступая, ибо домашние рассказали им, куда ушел юноша.
— Аллах! К чему разыгрывать такие штуки на открытом месте? — пробормотал барышник. — Его могли сто раз пристрелить... Впрочем, здесь не Граница.
— Никогда не было такого челы, — промолвил лама, повторяя много раз сказанное, — сдержанный, добрый, мудрый, не ворчливый, всегда веселый в дороге, ничего не забывающий, ученый, правдивый, вежливый! Велика будет его награда!
— Я знаю мальчика, как я уже говорил.
— Таким он был и раньше?
— Кое в чем да, но у меня пока нет амулета, которым владеют красношапочники, чтобы сделать его вполне правдивым. За ним, очевидно, был хороший уход.
— У сахибы золотое сердце, — серьезно сказал лама. — Она смотрит на него как на родного сына.
— Хм! Мне кажется, половина Хинда смотрит так. Я только хотел увериться, что мальчик не попал в беду и свободен в своих поступках. Как тебе известно, мы с ним были старыми приятелями еще в первые дни вашего совместного паломничества.
— В этом связь между мной и тобой, — лама опустился на землю. — Мы теперь завершили паломничество.
— Не себя благодари, что неделю назад паломничеству твоему помешали навсегда прекратиться. Я слышал, что сказала тебе сахиба, когда мы принесли тебя на койке, — Махбуб рассмеялся и дернул себя за бороду, выкрашенную заново.
— В то время я размышлял о других предметах. Хаким из Дакхи прервал мои размышления.
— Не будь его, — Махбуб из приличия произнес эти слова на языке пушту, — ты закончил бы свои размышления на знойном краю ада, — ведь ты неверующий, идолопоклонник, хотя и прост как младенец. А теперь, красношапочник, что нужно делать?
— В нынешнюю же ночь, — торжественные слова текли медленно, и голос ламы дрожал, — в нынешнюю же ночь он, как и я, будет свободен от всякой скверны греха... Он, как и я, получит уверенность, что, покинув тело, освободится от Колеса Всего Сущего. Мне дано знамение, — он положил руку на порванную хартию, лежавшую у него на груди, — что срок мой близок, но его я обезопасил на все грядущие годы. Запомни, как уже тебе говорил, я достиг знания всего три ночи назад.
— Должно быть, правда, как сказал тирахский жрец, когда я выкрал жену его двоюродного брата, что я суфи[65], ибо я сижу здесь, слушая немыслимое богохульство, — сказал себе Махбуб. — Я помню твой рассказ. Так, значит, он этим путем попадет в джаннатулади[66]? Но каким образом? Убьешь ты его или утопишь в той чудесной Реке, из которой тебя вытащил бабу?
— Меня не вытаскивали ни из какой реки, — простодушно сказал лама. — Ты забыл, что произошло. Я нашел Реку через Знание.
— О да! Верно, — буркнул Махбуб, в котором негодование боролось с неудержимым весельем. — Я забыл, как это случилось. Ты нашел ее сознательно.
— ...И говорить, что я собираюсь отнять его жизнь... это не грех, а просто безумие. Мой чела помог мне найти Реку. Он вправе очиститься от греха вместе со мной.
— Да, он нуждается в очищении; ну, а дальше, старик, что же дальше?
— Разве это важно под небесами? Нибан ему обеспечен, когда он получит просветление, как и я.
— Хорошо сказано. Я боялся, как бы он не вскочил на коня Магомета и не ускакал на нем.
— Нет... Он должен идти дальше и стать учителем.
— Аха! Теперь понимаю. Самый подходящий аллюр для такого жеребенка. Конечно, он должен идти дальше и стать учителем. Так, например, государство срочно нуждается в его услугах как писца.
— К этому он был подготовлен. Я приобрел заслугу, помогая ему в учении. Доброе дело не пропадет. Он помог мне в моем Искании. Я помог ему в его Искании. Справедливо Колесо, о продавец коней, пришедший с Севера! Пусть он будет учителем, пусть будет писцом — не все ли равно? В конце концов он достигнет Освобождения. Все прочее — иллюзия.
— Все равно? А если мне нужно взять его с собой в Балх через шесть месяцев? Я приезжаю сюда с десятком хромых коней и тремя крепкими парнями, — все по милости этого цыпленка-бабу, — чтобы силой вытащить больного мальчика из дома старой бабы. А выходит, что я стою в сторонке, в то время как молодого сахиба волокут в Аллах его знает какое языческое небо усилиями старого красношапочника. А ведь я тоже, в некотором роде, считаюсь участником Игры! Но этот сумасшедший любит мальчика, а я, должно быть, тоже с ума сошел.
— Что это за молитва? — спросил лама, слыша, как резкие звуки на языке пушту вырывались из красной бороды.
— Пустяки, но теперь, когда я понял, что мальчик, которому обеспечен рай, все же может поступить на государственную службу, на душе у меня полегчало. Мне нужно пойти к своим лошадям. Темнеет. Не буди его! Я не хочу слышать, как он называет тебя учителем.
— Но он мой ученик. Кто же он еще?
— Он говорил мне, — Махбуб стряхнул охватившую его печаль и со смехом встал на ноги. — Моя вера не совсем похожа на твою, красношапочник... если тебя интересуют такие пустяки.
— Это ничего, — сказал лама.
— А я думал иначе. Поэтому тебя не обрадует, если я тебя, безгрешного, свежевымытого и на три четверти утонувшего, назову хорошим человеком, очень хорошим человеком. Мы четыре или пять вечеров проговорили с тобой, и хоть я и лошадник, я все же умею, как говорится в пословице, видеть святость из-за лошадиных ног. Да, и я также понимаю, почему наш Друг Всего Мира вложил свою руку в твою с самого начала. Обращайся с ним хорошо и позволь ему вернуться в мир учителем, когда ты... омоешь ему ноги, если только это принесет пользу жеребенку.
— Почему бы тебе самому не вступить на Путь, чтобы сопровождать мальчика?
Махбуб уставился на него, пораженный этой неслыханной дерзостью, на которую за Границей он ответил бы не одним ударом. Потом смешная сторона этого предложения открылась его мирской душе.
— Постепенно... постепенно... сперва одной ногой, потом другой, как прыгал через препятствия хромой мерин в Амбале. Быть может, я попаду в рай позже... меня сильно тянет на этот путь... так и манит. И я обязан этим твоему простодушию. Ты никогда не лгал?
— К чему?
— О Аллах, послушай его только! К чему лгать в этом мире? И ты ни разу не поранил человека?
— Раз... пеналом... до того, как я достиг мудрости.
— Вот как? Ты возвысился в моем мнении. Учение твое доброе. Ты совратил одного моего знакомого с тропы борьбы, — он громко расхохотался. — Он приехал сюда, намереваясь совершить дакайти[67]. Да, резать, грабить, убивать и увезти то, чего он желал.
— Великое неразумие!
— О! А также великий позор. Так решил он, после того как увидел тебя... и некоторых других людей — мужчин и женщин. Поэтому он оставил свое намерение, а теперь отправляется колотить большого толстого бабу.
— Не понимаю.
— Слава Аллаху, что ты не понял! Некоторые люди сильны знанием, красношапочник. Твоя сила еще сильнее. Сохраннее... Думаю, что сохранишь. Если мальчишка будет плохо тебе служить, дери его за уши.
Махнув концом широкого бухарского кушака, патхан исчез в сумерках, а лама настолько спустился со своих облаков, что даже взглянул на его широкую спину.
— Этому человеку недостает учтивости, и он обманут тенью явлений. Но он хорошо отзывался о моем челе, который нынче обретет награду. Надо помолиться... Проснись, о счастливейший из всех рожденных женщиной! Проснись! Она найдена!
Ким очнулся от глубокого сна, а лама смотрел, с каким наслаждением он зевает, и добросовестно щелкал пальцами, чтобы отогнать злых духов.
— Я спал сто лет. Где?.. Святой человек, ты долго тут сидел? Я заснул по дороге. Теперь я здоров. Ты ел? Давай пойдем домой. Много дней прошло с тех пор, как я перестал служить тебе. А сахиба хорошо тебя кормила? Кто мыл тебе ноги? Как твои недуги — живот и шея и шум в ушах?
— Прошли, все прошли. Разве ты не знаешь?
— Я ничего не знаю; знаю только, что давным-давно тебя не видел. А что я должен знать?
— Странно, что знание не коснулось тебя, когда все помыслы мои тянулись к тебе.
— Я не вижу твоего лица, но голос твой звучит как гонг. Или сахиба своей стряпней вернула тебе молодость?
Он смотрел на фигуру, сидящую скрестив ноги, вычерченную черным силуэтом на лимонном фоне вечерней зари. Так сидит каменный Бодисатва, глядя на автоматические турникеты Лахорского музея.
Лама безмолвствовал. Их окутала мягкая, дымная тишина индийского вечера, нарушаемая лишь щелканьем четок да едва слышным звуком удаляющихся шагов Махбуба.
— Слушай меня! Я принес весть.
— Но давай же...
Длинная желтая рука взмахнула, призывая к молчанию. Ким послушно спрятал ноги под подол халата.
— Слушай меня! Я принес весть! Искание завершено. Теперь приходит Награда... Итак. Когда мы были в Горах, я жил твоей силой, пока молодая ветвь не погнулась и едва не сломалась. Когда мы спустились с Гор, я тревожился о тебе и о других вещах и у меня было неспокойно на сердце. Ладья моей души потеряла направление. Я не мог увидеть Причину Всего Сущего. Поэтому я оставил тебя на попечении добродетельной женщины. Я не принимал пищи. Я не пил воды. И все же я не видел Пути. Меня уговаривали есть и кричали у моей запертой двери. Тогда я удалился в ложбину, под дерево. Я не принимал пищи. Я не пил воды. Я сидел, погруженный в созерцание, два дня и две ночи, отвлекая мой ум, вдыхая и выдыхая, как предписано... На вторую ночь — так велика была моя награда — мудрая душа отделилась от неразумного тела и освободилась. Подобного я еще никогда не достигал, хотя и стоял на пороге этого. Поразмысли, ибо это чудо!
— Поистине чудо! Два дня и две ночи без пищи! Куда же девалась сахиба? — сказал Ким едва слышно.
— Да. Душа моя освободилась и, взлетев, как орел, увидела, что нет ни Тешу-ламы, ни вообще какой-либо иной души. Как капля падает в воду, так душа моя приблизилась к Великой Душе, которая вне Всего Сущего. Тут, возвышенный созерцанием, я увидел весь Хинд, от Цейлона среди морей и до Гор, вплоть до моих раскрашенных скал у Сач-Зена, я увидел все, до последнего лагеря и последней деревни, где мы когда-либо отдыхали. Я увидел их одновременно и в одном месте, ибо все они были внутри, в душе. Так я узнал, что душа перешла за пределы иллюзии времени и пространства и вещей. Так я узнал, что освободился. Я увидел тебя, лежащего на кровати, и увидел тебя, падающего с горы вместе с язычником, — одновременно, в одном месте, в моей душе, которая, как я говорил, коснулась Великой Души. Я видел также неразумное тело Тешу-ламы, лежащее на земле, и хакима из Дакхи, склонившегося над ним и кричащего ему на ухо. Тогда душа моя осталась одна, и я ничего больше не видел, ибо сам стал всем, коснувшись Великой Души. И я погрузился в созерцание на тысячи и тысячи лет, бесстрастный, отчетливо сознающий Причину Всего Сущего. Тогда чей-то голос крикнул: «Что будет с мальчиком, если ты умрешь?» и, потрясенный, я вернулся в себя из сострадания к тебе и сказал: «Я вернусь к моему челе, чтобы он не заблудился на Пути». Тут моя душа, душа Тешу-ламы отделилась от Великой Души, с сопротивлением, и тоской, и напряжением, и муками несказанными. Как икринка из рыбы, как рыба из воды, как вода из облака, как облако из плотного воздуха — так отошла, так оторвалась, так отлетела душа Тешу-ламы от Великой Души. Тогда чей-то голос крикнул: «Река! Иди к Реке!» и я взглянул на весь мир, который был таким, каким я видел его раньше, — единый во времени, единый в пространстве, и я ясно увидел Реку Стрелы у своих ног. В тот час душе моей мешало некое зло, от которого я не совсем очистился, и оно лежало у меня на руках и обвивалось вокруг моего пояса, но я скинул его и бросился, как летящий орел, к месту моей Реки. Ради тебя я отталкивал один мир за другим. Я увидел под собой Реку, Реку Стрелы, и когда вошел в нее, вода сомкнулась надо мной. Но вот я снова очутился возле Тешу-ламы, но уже свободным от греха, и хаким из Дакхи поднял мою голову над водами Реки. Она здесь! Она за манговой рощей — вот здесь.
— Аллах карим! Счастье, что бабу был рядом. Ты сильно промок?
— Что мне до этого? Я помню, как хаким тревожился за тело Тешу-ламы. Он своими руками вытащил его из святых вод, а потом пришел твой барышник с Севера с носилками и людьми, и они положили тело на носилки и понесли его в дом сахибы.
— А что сказала сахиба?
— Я размышлял в этом теле и не слышал. Итак, Искание завершено. За ту заслугу, которую я приобрел, Река Стрелы оказалась здесь. Она выбилась из земли у нас под ногами, как я и говорил. Я нашел ее. Сын души моей, я оторвал мою душу от порога Освобождения, чтобы освободить тебя от всякого греха, — сделать тебя свободным, как я, и безгрешным. Справедливо Колесо! Впереди у нас Освобождение. Пойдем!
Он сложил руки на коленях и улыбнулся как человек, обретший спасение для себя и для того, кого он любит.
К О Н Е Ц
1
китаец
(обратно)2
горец
(обратно)3
Тибете
(обратно)4
тибетец
(обратно)5
идолопоклонник
(обратно)6
Бенарес
(обратно)7
ученик
(обратно)8
злонравный
(обратно)9
святой
(обратно)10
чужеземец
(обратно)11
ученик
(обратно)12
вор! вор!
(обратно)13
капралом
(обратно)14
Александр Македонский
(обратно)15
главнокомандующий
(обратно)16
шести милях
(обратно)17
дух
(обратно)18
артиллерии
(обратно)19
поместьем
(обратно)20
Николсона
(обратно)21
содовой воды
(обратно)22
место отдыха
(обратно)23
горец
(обратно)24
оскорбления
(обратно)25
шалопай
(обратно)26
Европы
(обратно)27
школу
(обратно)28
Понимаете?
(обратно)29
белые люди
(обратно)30
видимо, речь идет о школе св. Ксаверия in Partibus
(обратно)31
хороший ездок
(обратно)32
негром
(обратно)33
маслодела
(обратно)34
Ким говорил о соединенных рогах черной антилопы — единственном вещественном оружии факиров.
(обратно)35
безумие или дело, подлежащее рассмотрению гражданского суда, — слово это имеет два значения
(обратно)36
уголовное дело
(обратно)37
метельщика
(обратно)38
замолчи
(обратно)39
смотрите
(обратно)40
Никогда... никогда!
(обратно)41
штатным служащим
(обратно)42
комиссионные
(обратно)43
колдовство
(обратно)44
заклинания
(обратно)45
доброжелательные
(обратно)46
страшные
(обратно)47
свободомыслящий
(обратно)48
придающий мужество
(обратно)49
подвижник
(обратно)50
Бенарес
(обратно)51
Аллабад
(обратно)52
символы невежества, злобы и сладострастия
(обратно)53
асафетидой
(обратно)54
удачливым человеком
(обратно)55
телеграммы
(обратно)56
ты пьян
(обратно)57
скворец
(обратно)58
сторожем
(обратно)59
письмо владетельного князя
(обратно)60
повинность
(обратно)61
цимбалы
(обратно)62
большие навесы у гхатов сожжения, где жрецы собирают плату за погребальные обряды
(обратно)63
кувшины с водой; она имела в виду молодых людей, полных жизни, но это неудачная игра слов
(обратно)64
удостоверение
(обратно)65
свободомыслящий
(обратно)66
Сады Эдема
(обратно)67
ограбление дома с применением насилия
(обратно)


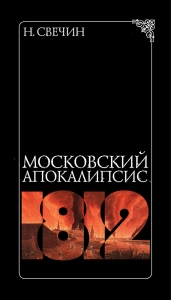


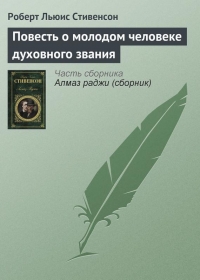


Комментарии к книге «Ким», Редьярд Джозеф Киплинг
Всего 0 комментариев