Роберт В. Сервис Аргонавты 98-го года
ПРЕЛЮДИЯ
Северный ветер завывает в вышине. Он напоминает мне рычание волкодава под полярными звездами. Сидя одиноко у ярко пылающего торфом камина, я слышу, как он бушует в вершинах соседних елей. Это неумолимо презрительный голос вешкой Белой Страны.
О, я ненавижу, ненавижу его! Почему человеку не дано забывать? Почти десять лет прошло с тех пор, как я пристал к Неистовой Рати. Я путешествовал, я совершал паломничества к алтарям красоты, я гнался за призраком счастья до самых краев земли. И все же ничто не изменилось — …я не могу забыть.
Почему человека должна вечно осенять, подобно крылу вампира, тень его прошлого? Разве я не имею права быть счастливым? У меня есть деньги, положение, имя, все, что означает «Сезам откройся» для волшебной двери. Другие входят в нее, а я бьюсь об ее кремнистый порог руками, из которых сочится кровь. Нет, я не имею права быть счастливым. Дороги мира открыты передо мною, праздник жизни в разгаре, кудесники готовят торжества красоты и радости, и все же нет хвалы в моем сердце. Я видел, я пробовал, я пытался. Пепел, грязь и горечь ― вот все, что мне досталось. Довольно усилий. Это тень крыла вампира.
Так я сижу у ярко пылающего огня, невыразимо усталый и печальный. Я, по крайней мере, дома. Здесь почти все по-прежнему. Пламя освещает обшитый дубом зал; блестят скрещенные палаши, глаза чучел оленьих голов мерцают стеклянным блеском, меховые ковры покрывают лощеный пол, все дышит уютом, домом и привычной атмосферой моего детства. Порой мне кажется, что все это был лишь сон: Великое Белое Безмолвие, неотразимые чары золота, исступление борьбы ― лишь сон, и я, проснувшись, услышу, как Гарри зовет меня поохотиться на болоте, увижу дорогую маленькую маму с ее кротким мягким ртом и щеками, нежно окрашенными, как лепестки шиповника. Но нет! Зал безмолвен. Мама успокоилась навеки. Гарри спит под снегом. Всюду тишина. Я один, один. Так сижу я в большом резном дубовом кресле моих предков ― поникшая человеческая фигура с изможденным лицом и безвременно поседевшими волосами. Около меня на полу лежит костыль. Моя старая служанка спокойно подходит, чтоб посмотреть на огонь. Ее розовое морщинистое лицо приветливо улыбается, но я подмечаю тревогу в ее голубых глазах. Она боится за меня. Должно быть, доктор сказал ей что-нибудь. Без сомнения, мои дни сочтены. Потому я и намерен рассказать обо всем: о Великом Походе, о Пути к Сокровищам, о Золотоносном Городе, о тех, кого чары золота завлекли в великую Белую Страну, о Зле, которое повелевало ими, о Гарри и о Берне. Может быть, рассказ об этом подкрепит меня. Завтра я начну. Сегодня дайте мне уйти в воспоминания.
Берна! Я упомянул о ней в конце. Передо мной встает сейчас ее одухотворенно-бледное лицо с огромными серыми, полными тоски глазами, маленький, трагический, невыразимо трогательный образ. Где вы теперь, малютка? Я перерыл весь мир, чтобы найти тебя. Я вглядывался в миллионы лиц, день и ночь я искал, вечно надеясь, вечно обманываясь, потому что, дорогая, я люблю тебя. В этой обезумевшей сладострастной орде ты была так слаба, так беспомощна и так полна жажды любви. С помощью своего костыля я открываю одно из длинных окон и выхожу на балкон. В пещерной темноте снежинки жалят мне лицо, но и здесь мне опять чудится страна подавляющих пространств, безмолвного величия, непостижимого уныния.
Призраки! Они толпятся вокруг меня. Темнота кишит ими, ― мой брат Гарри среди них. Но вот они исчезают, уступая место одному образу.
* * *
Берна! Моя любовь к тебе вечна! Из ночи я взываю к тебе зовом разбитого сердца. Твой ли это, маленький такой, жалкий призрак приближается ко мне? О, я жду, я жду. Здесь буду я ждать, Берна, нашей новой встречи. Ибо встретиться мы должны там, за туманами, за грезами, наконец-то, дорогая любовь моя, наконец!
Книга первая ПУТЬ В НЕИЗВЕСТНОЕ
Глава I
С тех пор как я себя помню, я всегда был верен знамени Романтики. Она дала краски моей жизни, превратила меня в творца грез и вершителя подвигов. Еще мальчиком, одиноко блуждая на поросших вереском холмах, я часто слышал веселые крики игравших на лугу в футбол, но никогда не присоединялся к ним. Моя радость была полнее, драгоценнее. Я как сейчас вижу себя в те дни маленьким застенчивым мальчуганом в коротких штанах, с головой, открытой горным ветрам, с пышущими здоровьем щеками и душой, погруженной в мечты. Я действительно жил в сказочной стране ― стране грифонов и водяных, принцесс и блестящих рыцарей. Из каждого черного болота я ждал появления чешуйчатого дракона, из каждой мрачной пещеры ― вещего ворона. На зеленых лужайках между вереском танцевали феи, а каждый утес и водопад имели своего местного духа. Я населял милый зеленый лес нестройными созданиями моей мечты, нимфами и фавнами, наядами и дриадами и нисколько не был бы удивлен, встретив в тенистой прохладе самого великого бога Пана.
Однако лишь ночью мои грезы достигали наибольшей яркости. Я боролся против тирании сна. Лежа в своей маленькой кроватке, я предавался очаровательной игре воображения. Ночь за ночью я сражался, праздновал триумфы, делил царства. Я изощрялся в подробностях. Мои суровые полководцы были для меня вполне реальными существами, а мои приключения отражали самые разнообразные исторические эпохи.
Я обладал дивным даром фантазии в те дни. То был птичий полет чистого детского воображения, для которого несуществующее полно истинного бытия. Затем внезапно я перешел в следующую стадию моего умственного развития, и желания заняли место воображения. Меня привлекал современный эквивалент Романтики, и, по мере того как я все больше проникался действительностью, способность грезить увядала. Как до сих пор я бредил странствующими рыцарями, корсарами и мятежниками, так теперь я увлекался ковбоями, золотоискателями и исследователями новых берегов. Воображение мое рисовало картины, в которых я по-прежнему играл выдающуюся роль. Я жадно читал все, что мог найти относящегося к Дальнему Западу, и мой пристальный взор вечно блуждал над серым морем. Я мечтал о приключениях в чужих странах, о грозных опасностях, о геройских подвигах. При одной мысли об этом вся кровь во мне ликовала от восторга, и я едва мог дождаться дня, когда дорога счастья и приключений откроется для меня.
Как это ни странно, но в эти годы я никому не вверялся. Гарри, который был мне братом и самым близким другом, посмеялся бы надо мною с обычным добродушием. Нас трудно было принять за братьев, так различны мы были по характеру и внешности. Это был красивейший мальчик, какого я когда-либо видел, искренний, светлый и привлекательный, а я был черен, мрачен и ни в ком не вызывал особенного расположения. Он был лучшим бегуном и пловцом в округе и кумиром деревенских парней. Я не любил игр и вечно блуждал в одиночестве, где-нибудь в зарослях вереска на холмах, почти всегда с каким-нибудь романом в кармане. Он был умен, практичен, честолюбив и прекрасно учился, я же, за исключением тех предметов, которые затрагивали мое воображение, был туп и ленив.
Тем не менее мы любили друг друга, как редкие братья. О, как восхищался я им! Он был моим идеалом и часто героем моих фантазий. Несмотря на свою положительность и благоразумие, он понимал меня, мою кельтскую мечтательность, ту боязливую замкнутость, которая служит щитом впечатлительной душе, и со свойственной ему чуткостью оберегал и ободрял меня. Он был таким сверкающим, чарующим; он согревал, как весеннее солнце, и освежал, как горный утренний ветер. Он казался мне совершенством ― нежность, остроумие, энтузиазм, привлекательность и красота юного бога, все очарование мужественности жило в моем брате.
Так мы росли в этом западном горном краю, и жизнь наша была чиста и сладостна. Я никогда не бывал дальше маленького городка, где мы продавали на рынке наших овец. Мать управляла имением до тех пор, пока Гарри не подрос и не взялся за это с энергией и настойчивостью, которые приводили в восторг каждого. Мне кажется, что моя маленькая мама немножко благоговела перед пылким, талантливым и деятельным братом. Ей также была свойственна задумчивая мечтательность, которая делала ее прекрасной в моих глазах, да и в действительности она была на редкость хороша собой. Особенно запечатлелся в моей памяти нежный цвет ее лица и глаз, синих, как темные васильки; она была не очень мужественна и находила большую поддержку в религии. Ее прелестный нежный рот имел удивительно ласковое выражение; я никогда не видал ее сердитой: всегда кроткой, ласковой, улыбающейся.
Итак, мы были идеальной семьей: Гарри ― высокий, светлый, привлекательный, я сам ― темный, мечтательный, молчаливый, и между нами, связывая нас узами любви и дружбы, ― наша ласковая, нежная мама.
Глава II
Так ясно и безмятежно протекали дни моей юности. Я оставался все тем же мечтателем и лентяем. Целые дни я бродил с ружьем по болоту, удил форелей в пенистых водах ручья или жадно читал в библиотеке. Я поглощал большей частью рассказы о путешествиях и различных приключениях. Стивенсон покорил мое воображение. Я твердо решил в будущем отправиться на поиски дальних островов, и с этой минуты жизнь моя совершенно изменилась. Девственные прерии манили меня. Шелест гигантских пиний отдавался в моем сердце, но сильнее всего было влечение к тем блаженным островам, где нет забот, где все полно солнечного света и песнопений, где цветет вечное лето.
В то время маме пришлось, наверное, немало беспокоиться о моем будущем. Гарри был теперь молодым хозяином, я же оставался по-прежнему лентяем, бездельником, обузой в хозяйстве. Наконец я сказал ей, что хотел бы уехать за границу и этим как будто сразу разрешил большое затруднение. Мы вспомнили о двоюродном брате, очень успешно занимавшемся разведением овец в долине Саскачевана. Было решено, что я поселюсь у него в качестве ученика и, подучившись, обзаведусь собственным хозяйством. Можно легко представить себе, что, соглашаясь на эти условия, я твердо решил в душе взять судьбу в собственные руки, как только доберусь до Нового Света.
Мне будет памятен пасмурный день в Глазго и туманный ландшафт, мелькавший сквозь залитые дождем стекла вагона. Я находился в необыкновенно приподнятом состоянии. Большой дымный город наполнил меня изумлением (близким к страху). Я никогда не представлял себе такой толпы, таких домов, такой сутолоки. Мы втроем, мама, Гарри и я, блуждали и дивились в течение трех дней. Люди оглядывали нас с любопытством, порой с восхищением, ибо наши щеки пылали деревенским здоровьем, а глаза были ясны, как июньские небеса. Особенно Гарри ― высокий, белокурый, красивый, всюду привлекал любопытные взгляды. Когда же приблизился час моего отъезда, уныние охватило нас.
Не буду останавливаться на нашем прощании. Если я и предался малодушному горю, нужно помнить, что я до сих пор никогда не покидал еще дома. К тому же я был еще юн, и эти двое были всем для меня. Мама отказалась от попыток сохранить мужество и смешивала свои слезы с моими. Одному Гарри еще удавалось сохранить немного бодрости. Увы! Все мое возбуждение исчезло, и вместо него мной овладело сознание вины, недостойного бегства, и непреодолимая печаль охватила меня.
― Не плачь, милая мама, ― говорил я, ― я вернусь опять через три года.
― Я уверена в этом, мой мальчик, уверена.
Она посмотрела на меня с бесконечной грустью, и сердце мое внезапно дрогнуло от ужасного предчувствия, что я никогда больше не увижу ее.
Гарри был бледен и спокоен, но я видел, что он глубоко взволнован.
― Этоль, ― сказал он, ― если ты когда-нибудь будешь иметь во мне нужду, дай мне только знать. Я приеду, как бы ни был далек и труден путь.
Я оторвался от них и взобрался на пароход. Когда я оглянулся назад, их уже не было, но сквозь серый туман ко мне, казалось, доносился еще крик душевной боли и невозвратимой утраты.
Глава III
Была ранняя осень, когда я, стоя по колено в вереске Гленджайля, жадно всматривался в серое море. Прошел лишь месяц, и я очутился, одинокий и бездомный, на берегу, у маяка в Сан-Франциско, глядя на сердитые волны другого океана. Такова романтика судьбы.
Отправленный, так сказать, к своему кузену-овцеводу, я почувствовал, высадившись в чужой стране, очень мало склонности к своему новому призванию. Мой ум, напитанный книжными вымыслами, жаждал более широкой деятельности. Я положительно бредил приключениями. Ехать вперед наудачу, сталкиваться с явной опасностью, чувствовать дубинку судьбы, бродяжничать, голодать, спать под звездами ― это была все та же упорная ребяческая мечта, укрепившаяся теперь в мужчине, и она заставила меня втолкнуться в трагический хоровод. Но я был не в силах подавить эту мечту. Слишком силен был во мне цыганский дух. Здоровье и молодость кипели в моих жилах. Несколько потерянных лет, говорил я себе, не могут иметь значения. А тут были Стивенсон и его волшебные острова, манившие меня.
И вот я очутился один на скалистом берегу, с тысячью впечатлений, теснившихся в голове. Здесь был длинный путь по железной дороге с его необычайными картинами: суровые фермы, мрачные леса, сверкающие озера, которые могли бы затопить всю мою родину, унылые равнины, горы, упиравшиеся в небо, благоговейный трепет пустыни. Наконец, солнечный рай ― Калифорния.
Я прожил неделю чудес, о каких никогда не мечтал, и находился теперь у самого престола Запада. О, что это была за страна, что за народ! Властолюбивый дух надменного Запада смягчался в нем чарами Востока и волшебством Древней Испании. Сан-Франциско! Множество наречий звенели на его улицах, множество рас ютились в его переулках. Он пригревал на своей груди детей старых седых наций и наделял их своим стремительным, изобретательным духом, полным гордого сознания прежних достижений и веры в славное будущее.
Меня поражала кипучая деловитость жителей наряду с любовью к утонченным увеселениям. Казалось, что деньги даются всем легко и тратятся с увлечением. Все казались счастливыми, жизнерадостными, деятельными. Ночью Маркеэстрит превращалась в ослепительную аллею света, на которой толпились сильные мужчины и красивые женщины, входя и выходя из сверкающих ресторанов. Однако среди этой кипучей страстной жизни я чувствовал в себе странную отчужденность. Временами мое сердце просто болело от тоски, и я бродил по дорожкам парка или присаживался на скамью в Портсмутском сквере, такой же далекий от всего этого, как наблюдатель на своей горкой вершине под звездами.
Я полюбил мечтать на морском берегу, ибо мысль о Полинезии не покидала меня. Я наслаждался солнечным светом, сидя на краю дамбы, и бесцельно следя за вялым крейсированием судов. То были беззаботные, праздные, но, как я теперь думаю, не совсем потерянные дни. Я оценил всю прелесть этих набережных и погрузился в новый мир волшебства.
Чтобы вполне насладиться своей независимостью, я сделался искателем приключений. Ночная жизнь города была открыта мне. С уверенностью невинности я бродил повсюду. Я проникал в притоны подземного Китайского города, с удивлением встречал там белых женщин, которые скрывались при виде меня. В одиночестве я направлялся в курильни опиума и игорные дома. Порок раскрывался передо мной во всем своем бесстыдстве. Иногда мне приходила мысль о том, как взглянули бы на все это мои суровые пресвитерианские предки.
Мои ночные похождения закончились совершенно неожиданно. В одну туманную полночь, идя по Пасификстрит с ее сверкавшими ресторанами, я получил искусный удар сзади и очень изящно покатился в канаву. Когда я пришел в себя в боковой аллее, ошеломленный и разбитый, я увидел, что у меня украден бумажник, в котором находилось почти все мое состояние. К счастью, я оставил свои часы на хранение в гостинице и, продав их, оказался еще не совсем нищим. Но обстоятельства изгнали меня из моей крепости ласкающих грез и столкнули с суровой правдой жизни.
Я сделался завсегдатаем десятицентовых ресторанов и был поражен, узнав, какие прекрасные блюда можно было получить за десять центов. О, ненавистный аппетит этих черных дней! От голодной смерти меня отделяли какие-нибудь жалкие тридцать долларов. Оставалось, очевидно, только сделаться дровосеком или водовозом, и с этой целью я обивал пороги контор для найма. Это были голые, грязные помещения, набитые людьми, которые жевали, болтали, зевали и изучали черные доски, где выставлялись требования дня. Вся жизнь людей, как мне казалось, складывалась из трех моментов: поисков работы, работы и траты заработков. Это была олицетворенная беспомощность лицом к лицу с неизбежным злом труда.
Однажды утром, посетив одно из своих излюбленных бюро труда, я нашел его завсегдатаев в необычайном волнении: крупный предприниматель требовал немедленно пятьдесят человек. Вознаграждение было два доллара в день, причем квалификация была не обязательна. Я протискался вперед в числе других, был опрошен и принят. В тот же день мы все были отправлены на вокзал и погружены в вагоны четвертого класса. О том, куда мы едем и что будем делать, я не имел никакого понятия. Я знал только, что мы направлялись на юг, и в общем мог с полным правом смотреть на себя, как на ракету, пущенную на волю судьбы.
Глава IV
В день моего отъезда Сан-Франциско был весь окутан серым туманом, а улицы его обметал ревущий ветер. Когда же я открыл глаза, надо мной широко раскинулось синее ясное небо, и ослепительно сияло яркое солнце. Апельсиновые рощи шумели, здороваясь с нами, сады миндаля и олив радостно блестели в прозрачном воздухе, чешуйчатые эвкалипты, высокие, сухощавые и узловатые, бормотали нам утреннее приветствие, а белоснежные тонущие в зелени домики улыбались нам, когда мы с грохотом проносились мимо. Мне казалось, что мы попали в обетованную страну песен и солнца, и я молчаливо забился в угол, чтобы любоваться и наслаждаться.
― Недурной видик? Правда?
Я буду называть его Блудным Сыном. Он был приблизительно моих лет, худощавый, но загорелый и здоровый. У него были шелковистые волосы темно-рыжего цвета и белые ровные, как молодое зерно, зубы. В его глазах блестел веселый огонек, но лицо его было проницательное, осторожное и дерзкое.
― Да, ― ответил я сдержанно, ибо всегда был настороже с незнакомыми.
― Чудное дельце. Пояс бананов. Старичина солнце работает сверхурочно. Цветы и фрукты выпирают из дерева в одно время. Вечное лето. Страна маньяна: угощайтесь на даровщинку. Первый раз?
― Первый.
― Я тоже. Рад, что поехал ― даже если придется обратиться в «ваши грубые мозолистые руки». Есть самокрутка?
― Нет, к сожалению. Я не курю.
― Ладно, кажется, у меня хватит.
Он вытащил тощий кисет с мелким табаком, высыпал несколько крошек на коричневую папиросную бумагу и проворно скрутил ее, загнув края. Затем он закурил с таким наслаждением, что я позавидовал ему.
― Куда мы едем? Вы имеете понятие? ― спросил я.
― Хоть обыщите меня, не имею. Дядя, который нас везет, не совсем похож на бесплатное справочное бюро. Как слона водить, он тут как тут, но как только попытаешься извлечь из него хоть на грошик холодных положительных фактов, он уже не он и лошадь не его и сам он не извозчик.
― Но, ― настаивал я, ― может вы сами догадываетесь?
― Одну вещь вы можете зарубить себе на носу. Они выжмут из нас последнюю каплю пота. Это игра в блошки: нас швыряют, как хотят. Наш подрядчик ― форменный мошенник. Он на всем наживает: на проезде нашем, на остановках в определенных гостиницах ― свой процент имеет. Чем дальше, тем больше будет жульничества. Пять долларов в неделю считают нам за харчи. Им обойдется в два с половиной да еще и кормить будут дрянью. Сгонят вдвое больше людей, чем им нужно, и половину снимут с работы. Я хорошо знаю их штуки.
― Так зачем вы поехали с нами, если вы так хорошо все знаете? ― спросил я.
― Видите ли, если я знаю это, то я знаю и еще кое-что кроме этого. Я сам с усами. С меня как с гуся вода.
Он говорил удивительно живо и с таким огромным знанием жизни, что глубоко заинтересовал меня. Однако в его речах проскальзывали некоторые намеки на интеллигентность, и я нисколько не сомневался, что его грубость была напускной. Как выяснилось потом, он был во многих отношениях более сведущ, чем я ― мальчик, проходящий подготовительный курс в школе Сурового Случая.
Так как лед между нами был уже сломан, я рассказал ему свою несложную жизнь. Он слушал внимательно и сочувственно.
― Послушайте, ― сказал он серьезно, когда я кончил, ― я груб и резок в обращении. Жизнь для меня ― потеха, вроде маскарада, и я худший из ряженых. Но я знаю, как мне вести себя, и прекрасно умею прокладывать себе дорогу. Вы еще зелены, если вы позволите мне так выразиться, и может статься, что я смогу немного помочь вам. Вы, кстати, единственный пришлись мне по вкусу во всей этой команде бродяг. Давайте будем товарищами.
Он нравился мне и я с радостью согласился.
― Ну, а теперь я пойду поваляю дурака с другими парнями. Тепленькая компания? Что вы скажете? Цветные джентльмены, славяне, поляки, итальянцы, шведы. Пойду поразведаю, нельзя ли чем-нибудь поживиться. ― Он подошел к ним с ворохом необыкновенных словечек, открытой улыбкой, готовой шуткой и было ясно, что он скоро сделается общим любимцем. Я завидовал легкости его обращения; мне ее так не доставало.
― Скажите-ка, товарищ, нет ли у вас деньжат?
В нем было столько искренности и убедительности, что я немедленно извлек несколько оставшихся у меня долларов и выложил их перед ним.
― Вот все мое богатство, ― сказал я, улыбаясь.
Он разделил деньги на две равные части и вернул одну мне. Относительно другой он заметил:
― Мы сочтемся с вами после.
Он ушел с моими деньгами. Ему, казалось, не приходило в голову, что я мог бы не согласиться. Я же со своей стороны был слишком рад доказать ему свое доверие. Несколько минут спустя я увидел его с тремя отчаянными типами. Они играли в покер. «Прощайте, мои денежки, ― подумал я. ― Волки окружили овцу». Я был огорчен за своего нового друга и утешался только тем, что он не может проиграть.
Мы подъезжали к Лос-Анджелесу, когда он подошел ко мне. К моему удивлению, он вытащил из карманов кучу смятых бумажек и блестящего серебра долларов на двадцать и, разделив деньги поровну, протянул половину мне.
― Вот, ― сказал он, ― опустите это в ваши недра.
― Нет, ― возразил я, ― отдайте мне только то, что вы взяли. Мне больше ничего не следует.
― Плюньте на это. Вы выручили меня, и это ваше. Эти архаровцы приняли меня за пижона. Решили, что меня легко ощипать. Но я забыл больше, чем они когда-либо в жизни знали, а я не так уж много забыл.
― Нет, пожалуйста, оставьте эти деньги себе, я не хочу их.
― Ну, полно, спрячьте вашу шотландскую щепетильность в карман. Возьмите деньги.
― Нет, ― повторил я с упорством.
― Послушайте, наше товарищество должно быть основано на полном равенстве. Если вам не по вкусу мои ворота, так и не вешайтесь на них.
― Я и не собираюсь, ― резко ответил я и отвернулся.
Глава V
Дорога тянулась среди крутых холмов, испещренных зеленью и золотом. Над ними высилась цепь снежноглавых гор, а наверху сияло небо, синее, как яйцо реполова. Прелестное утро наполняло радостью наши сердца, когда мы поднимались вверх по лощине. Воздух опьянял нас. Мы пришли в шумный восторг при виде пасеки и проводили громкими криками упряжку мулов с звенящими бубенчиками, с грохотом промчавшуюся по дороге. С восторженными криками мы перешли вброд маленький прозрачный ручей. Мы проходили милю за милей, взбираясь все выше и выше, с мешками за спиной, с радостью в сердце. Я был счастлив, как школьник в праздничный день, и мечтал лишь о том, чтобы так продолжалось вечно; я старательно отгонял суровый образ труда, который ждал нас.
Около полудня мы достигли цели. Всюду рассеянные группы людей, которые рвали и ломали склоны горы. Слышался грохот взрывов, и скалы срывались вниз на нас. Бараки из неотесанного леса прели на солнце. Всюду чувствовалась лихорадочная деятельность рабочего лагеря.
Нам отвели отдельный барак, причем произошла энергичная свалка из-за мест. Барак был без пола, без дверей и частью без крыши. Среди гула голосов я различил голос Блудного Сына: ― Эй, ребята, какое тут помягче местечко, на этих досках? Ну, до чего же предусмотрительны наши предприниматели! Все виды вентиляции в этом бараке! Прекрасно приспособлено для занятий астрономией. Гм, где бы это раздобыть все-таки матрац? Ага! Есть дело! Подождите-ка, ребята.
Мы увидели, как он побежал к находившемуся вблизи навесу, где стояли лошади. После тщательной разведки, он ринулся внутрь и через минуту вышел, пошатываясь под ворохом сена.
― Что? Плохой матрац? Эх, мало только захватил.
Он начал устилать свои нары сеном под завистливыми взглядами остальной компании.
Услыхав звон колокола, он остановился: «Кормежка готова. Последний звонок в вагон-ресторан. Пойдем-ка, посмотрим, как свиньи засунут рыла в корыто».
Мы устремились в кухонный барак, где на простых дощатых столах были приготовлены оловянные тарелки, оловянные ложки, оловянные кружки и железные ножи. Посреди стола было большое блюдо с рубленным мясом и все, кроме меня, жадно принялись за еду. Я предпочел кружку меда и несколько сухих бисквитов.
Вернувшись в барак, я увидел, что мои нары устланы славным мягким сеном, а сверху разостлано одеяло. Я оглянулся на Блудного Сына. Он лежал и читал, держа тонкую папиросу в желтых пальцах. Я подошел к нему.
― Это очень мило с вашей стороны, ― сказал я.
― Полно. Такие пустяки, ― ответил он с изысканной вежливостью, не отрывая глаз от книги.
― Как хотите, ― сказал я. ― Я только хотел поблагодарить вас. Послушайте, давайте покончим с этим. Не стоит ссориться из-за этих проклятых денег. Не можем ли мы все-таки быть друзьями?
Он вскочил и схватил мою руку: «Конечно. Я только этого и хочу. В следующий раз я приму во внимание вашу воспитанную на кратком катехизисе щепетильность. А теперь пойдемте поболтать к костру».
Мы уселись у потрескивавшего костра из хвороста, шалфея и каменного дуба, и под дружелюбное мерцание звезд он рассказал мне много приключений из своей бродячей жизни.
― Мой старик, знаете ли, обломал себе все зубы об меня. Все хотел, чтобы я перестал валять дурака. У него фабрика клея в Массачусетсе. Кажется, он всадил в нее миллион или что-то в этом роде. Он хотел, чтоб я поступил на фабрику, вник бы в дело и остался бы в нем. «Держись клея, ― говорил он, ― будешь королем клея». Но с маленьким Вилли это не прошло. Жизнь слишком ― любопытная задача, чтобы так просто решить ее. Я не раскаиваюсь. Я знаю, что упитанный телец ждет меня дома и тучнеет с каждым днем. В один прекрасный день я вернусь и слопаю его.
От него я впервые услышал о великой Белой Стране, и его рассказ странно глубоко взволновал меня.
― Все помешались теперь на ней и устремляются туда тысячами, чтобы попасть к началу зимы. Будущей весной там будет сутолока, какой еще не видел мир. Послушай, шотландчик, у меня есть величайшее желание переметнуться туда. Поедем, брат, вместе? У меня был когда-то товарищ, который побывал там. Это огромная мрачная суровая страна, но в ней есть золото. Меня преследует это нежное, сияющее, девственное золото в уединенных реках, где нет никого, чтоб овладеть им. Мне наплевать на его ценность. Я могу сделать все, что мне нужно, из клея. Но приключения, возбуждение ― вот что сводит меня с ума.
Он долго молчал; воображение рисовало мне грозный чарующий образ этой огромной, непробудной страны, и во мне просыпалось страстное желание бросить вызов ее теням.
Когда мы прощались на ночь, его последними словами было: «Помни, шотландчик, дело решенное: мы вливаемся в великое движение».
Глава VI
Я спал беспокойно, потому что свежий ночной воздух пощипывал, а барак был открыт, как клетка. Утро было веселое, и солнце славно согрело меня, так что к завтраку я пришел в веселое настроение. Затем я начал присматриваться к работе артели и проявил такое неблагоразумное любопытство, что в тот же полдень был сам поставлен на работу. Дело было очень простое. В горе был вырыт туннель, который теперь цементировался, и мы должны были толкать тачки с материалами от входа в туннель до места работ. Моим товарищем был швед, с детства привыкший к тяжелой работе, а я не знал в жизни ни одного рабочего дня. Все мои силы ушли на то, чтобы поднять на тачку нагруженные цементом ящики. Затем мы оставили за собой солнечный свет и на расстоянии четверти мили в темноте, надрываясь, тащились в гору. Мы должны были сгибаться, чтобы не задеть головами сводов, с которых струилась вода. Тяжелая тачка то и дело сходила с рельс, составленных из негодных, стертых от постоянного трения, шпал. Тогда мой швед впадал в гомерическую ярость, и мы поднимали тачку, напрягаясь изо всех сил, пока жилы не начинали стучать в голове. Никогда время не тянулось так медленно. Каторжник, работающий в соляных копях Сибири, никогда не возмущался своей работой больше меня. Пот слепил меня. Острая пронизывающая боль сверлила мне голову, сердце стучало, как молот. Никогда в жизни не чувствовал я такого облегчения, как в ту минуту, когда, кончив последний рейс, измученный и ошеломленный, я надел свою куртку, чтобы идти домой. Было темно. Туннель соединялся с лагерем канатом, по которому мы могли спускаться в бадьях, по двое зараз. При спуске я испытал отвратительное ощущение, но зато избежал десятиминутного спуска пешком по склону горы, чему был очень рад.
Вернувшись в барак усталый, мокрый и грязный, от всей души позавидовал я Блудному Сыну, тепло и уютно устроившемуся на своем ароматном сене. Он читал роман. Но мысль, что я заработал доллар, подкрепляла меня. После ужина он с Инбирем и Голландцем играли в карты, почти до полуночи, в то время, как я лежал на своей скамье, слишком усталый и измученный, чтобы заснуть.
Следующий день был повторением предыдущего, только еще хуже. Все мое тело болело, как будто я был избит. Помертвелый и совершенно больной, я потащился опять к туннелю. Я поднимал, надрывался, тащил, толкал, с остановившимся искаженным лицом. Пять часов ада миновали. Был полдень, я поел. Я сердито уговаривал себя и снова прошел через ад. Пошабашив, я спустился по канату, усталый, бессильный, весь в грязи. Уютно расположившись на нарах, Блудный Сын прочел еще двести страниц «Отверженных». Все же, не без горечи подумал я, я заработал два доллара.
На третий день одно лишь упорство заставило меня пойти в туннель. Самолюбие подстрекало меня. Я не сдамся. Я должен выдержать это испытание во что бы то ни стало. В полдень мне сделалось дурно, но никто не заметил этого, и я, стиснув зубы, снова начал подталкивать изо всех сил свою тяжелую тачку. Снова ночь застала меня ожидающим очереди для спуска в бадье. Вдруг снизу раздались треск и крики: «Канат оборвался!» Мой швед и другой рабочий лежали между камней с сильными повреждениями. Несчастные! Как они должны были страдать, трясясь по усыпанной валунами тропинке, ведшей к госпиталю.
Это происшествие сильно подействовало мне на нервы. Напрасно я бранил себя и осыпал упреками. Я скорее согласился бы просить милостыню, чем пойти еще раз в туннель. Весь мир казался мне разделенным на две половины: туннель и все остальное. Я больше не должен идти туда.
Блудный Сын окончил одну книгу и начал другую. В эту ночь он занял у меня немного денег для игры в карты.
На другой день я подошел к заведующему и заявил ему:
― Я ухожу. Это работа слишком тяжела для меня.
Он ласково посмотрел на меня:
― Ладно, сынок, не уходи, я пристрою тебя в песочную яму.
И, действительно, на другой день я нашел более подходящую работу. Нас было четверо. Мы кидали песок на решето. Мелкие просеянные части шли на выработку цемента. Работа была удручающе однообразна. Мы отправлялись в яму по щиплющему утреннему холоду, задолго до того, как солнце показывалось из-за гор. Мы следили за тем, как оно ползло, как улитка по девственному небу. Мы задыхались в его зное. Мы видели, как оно исчезало снова за горными хребтами, оставляя небо великолепно окрашенным всеми цветами, начиная от пламенно оранжевого до льдисто-бледно-зеленого. Позднее, когда снова сползали холод и мрак, при свете вечерних звезд, мы выпрямляли наши усталые спины и, отбросив в сторону кирку и лопату, отправлялись ужинать.
Эх-ма! Что это была за жизнь! Отдых, еда, сон. Отрицательные удовольствия превратились в положительные. Великий жизненный принцип восстановления сил спасал нас, и спокойный отдых с номером старой газеты в руках казался нам изысканным удовольствием.
Меня беспокоил Блудный Сын. Он жаловался на мышечный ревматизм и выползал только к трапезам, в остальное время не покидал своих нар. Каждый день являлся надсмотрщик и с беспокойством справлялся, не собирается ли он выйти на работу, но больному с каждым днем делалось все хуже. Однако он переносил свои страдания очень бодро и среди этого неописуемого сброда казался олицетворением радости и света, отголоском того мира, к которому принадлежал я. Его прозвали в насмешку «счастливчиком», так неизменно было его хорошее настроение. При каждом удобном случае он играл в карты, и ему, должно быть, не везло, так как он взял у меня последние остатки моего маленького капитала.
Однажды утром, проснувшись около шести часов, я нашел приколотой к своему одеялу записку от моего друга:
«Дорогой шотландчик, мне очень тяжело покинуть тебя таким образом, но жестокий надсмотрщик настаивает на том, чтобы я отработал свои десятидневные харчи и для меня, измученного страданиями, не остается другого выхода, кроме бегства. Поэтому я снова погружаюсь в неизвестное. Буду писать тебе до востребования в Лос-Анджелес. Счастливо оставаться. Желаю: удачи. Твой до праха ― «Счастливчик».
Поднялась суета и крик. Но он исчез и внезапное отвращение к месту овладело мной. Я проработал еще два дня, охваченный унынием, которое возрастало с каждой минутой. Внутренний голос властно требовал перемены. Я не хотел допустить, чтобы работа раздавила меня. Я обратился к старшему надсмотрщику.
― Почему вы хотите уйти? ― спросил он с упреком.
― Видите ли, работа слишком однообразна.
― Однообразна? Ну, знаете, это самый странный предлог для расчета, который я когда-либо слышал. Впрочем, каждому виднее его дела. Я дам вам расчет.
Пока он считал, я задумался о том, действительно ли мои дела были мне виднее. Но будь это даже величайшим безумием, я бы не колеблясь покинул ущелье.
Бережно неся в руке клочок бумаги ― цену моего труда, ― я отыскал одного из хозяев, язвительного, жесткого человека, страдающего дурным пищеварением. С ядовито-ласковой улыбкой он возвратил ее мне.
― Прекрасно, предъявите это в нашу контору в Окланде и вы получите деньги.
Я стоял в ожидании денег, своего первого так тяжело доставшегося заработка и, услышав это, взглянул на него с стеснившимся сердцем. Ведь до Окланда несколько сот миль, а я был без гроша.
― Не могли бы вы заплатить мне здесь? ― пробормотал я наконец.
― Нет, ― ядовито ответил он.
― Тогда не можете ли вы учесть мне эту квитанцию?
― Нет! (еще более ядовито).
Я повернулся и вышел, унылый и подавленный. Когда я рассказал об этом остальным товарищам, они очень возмутились и сильно обеспокоились за свой собственный счет. Я послал самое выразительное проклятие, какое только мог придумать, по адресу правления и, привязав за спину свой узел, пошел.
Глава VII
Я начинал приобретать опыт. Утро распускалось, как роза, когда я спускался по ущелью, и бодрость моя непрерывно возрастала. То была радость широкого вольного пути и беззаботного сердца. Как отвратительный кошмар, вставало воспоминание о туннеле и песочной яме. Вся кровь во мне ликовала, мои мускулы напрягались от гордого сознания своей мощи. Я вызывающе дерзко смотрел на мир. Торопясь, чтобы скорее добраться до апельсиновых рощ, я вдруг наступил на пакет, лежавший на тропинке. Я рассмотрел его содержимое и нашел в нем планы с подробными указаниями, относившиеся к оставленной мною работе. Вскоре я встретил всадника, который задержал лошадь около меня.
― Послушайте, молодой человек, не попался ли вам на дороге голубой конверт? ― Что-то в обращении этого человека мгновенно вызвало во мне раздражение. Я был рабочим в испачканной грязью одежде, а он надменным и заносчивым барином в платье из прекрасного сукна и в тонком белье.
― Нет, ― ответил я резко и пошел дальше, прислушиваясь к топоту его лошади, поднимавшейся по ущелью.
Смеркалось, когда я достиг прекрасной обширной равнины. Позади меня было ущелье, мрачное, как логовище дикого зверя, а передо мной солнечный закат, превращавший долину в море расплавленного золота. Я стоял, как странствующий рыцарь у порога волшебной страны, где жила принцесса моих грез. Но я увидел только человека, поднимавшегося по тропинке. Он, пошатываясь, плелся восвояси, с живым индюком и плетеной бутылкой красного вина под мышкой. Он предложил мне выпить. Он был похож на рождественского деда и говорил с шотландским акцентом, так что я довольно охотно разделил с ним бутылку вина. Затем он пожелал, чтобы мы спели рождественский гимн.
И вот среди вереска, в золотой пляске света, мы сплели наши руки и слили голоса, как двое безумных. Но так как это был рождественский сочельник, то поведение наше в общем не было уж так безрассудно.
Добравшись наконец до апельсиновой рощи, я бросился к первому, дереву и сорвал четыре самых крупных плода. Они были еще зеленые и ужасно кислы на вкус, но я не обратил на это внимания и съел все. Затем я двинулся дальше.
Когда я вошел в город, мое настроение сразу упало при мысли о том, что я был без гроша. Я не умел еще легко переносить безденежья. Тем не менее я вытащил свой чек и, войдя в гостиницу, спросил хозяина, не разменяет ли он его. Это был немец с приветливым лицом, которое, казалось, говорило: «Добро пожаловать!», в то время как холодные, похожие на бусинки глазки допытывались: «Сколько мне удастся извлечь из вашего кармана?» Я запомнил его глаза. «Нет, я не берет это. Меня уже раньше обмануль. О, майн гот! Ни за что! Убирайт это».
Я опустился на стул. Уловив в зеркале свое отражение, я не узнал себя в этом измученном парне с провалившимися щеками и утомленным лицом.
Ресторан был полон посетителями, собравшимися для встречи рождественского сочельника. Гусей разыгрывали в кости: Трое из них гоготали на полу, в то время как в углу извозчик и какой-то рыжеволосый человек разыгрывали одного из них. Я спокойно дремал. Из-за стойки до меня долетели обрывки разговора: конверт… потерянные планы… большая задержка. Вдруг я выпрямился, вспомнив о найденном мной пакете.
― Вы ищете потерянные планы? ― спросил я.
― Да, ― поспешно отозвался один из говоривших. ― Вы нашли их?
― Я не сказал этого. Но если бы я достал их для вас, не согласились бы вы разменять мне этот чек?
― Конечно, ― ответил он. ― Услуга за услугу. Верните мне пакет, и я разменяю ваш чек.
У него было открытое, приветливое лицо. Я вытащил конверт и протянул его ему. Он быстро просмотрел содержимое и убедился, что все было цело.
― Ха! Это избавит меня от путешествия в Сан-Франциско, ― сказал он с облегчением.
Он повернулся к стойке и приказал налить вина для всех. Пока они чокались с ним, он, казалось, совершенно забыл обо мне. Я подождал немного, затем подошел к нему с чеком.
― Вот еще! ― сказал он. ― Я и не собираюсь разменивать вам его. Я пошутил.
Жгучая злоба охватила меня. Я задрожал, как лист.
― Вы отказываетесь от своего слова? ― сказал я. Он смутился.
― Я никак не могу этого сделать. У меня нет свободных денег.
Не знаю, что бы я сделал или сказал, ибо я был близок к отчаянию. Но в это время кучер дилижанса, упоенный своей победой в кости, выхватил бумажку из моих рук.
― Так и быть, я разменяю его. Но я дам вам только пять долларов.
Чек был на четырнадцать, но я был так подавлен в эту минуту, что с радостью взял золотой в пять долларов, который он вынул, чтобы соблазнить меня.
Таким образом мое благосостояние было восстановлено. Было уже поздно, и я попросил у немца комнату. Он ответил, что все занято и предложил мне на ночь славный сухой сарай за домом. Но, увы, в нем жили также его цыплята. Они приютились как раз над моей головой, а сам я лежал на грязном полу, отданный на съедение бесчисленным блохам. В довершение всех бед зеленые апельсины, которые я съел, вызвали у меня смертельные схватки в желудке.
Я был воистину счастлив, когда наконец забрезжил день, и я снова очутился на ногах, с лицом, обращенным к Лос-Анджелесу.
Глава VIII
Лос-Анджелес навсегда вписан золотыми буквами в мои воспоминания. Угрюмый, несчастный, истерзанный когтями труда, я наслаждался радостью жизни, свободной и праздной. Я помню бездну света и тишину публичной библиотеки, в открытые окна которой вливалось благоухание магнолий. Жизнь была невероятно дешева. За семьдесят пять центов в неделю я снимал маленькую залитую солнцем мансарду, а за десять центов мог обильно пообедать. Так, читая, мечтая и блуждая по улицам, я проводил дни в состоянии блаженства.
Но и пяти долларов не может хватить на веки. Настало время, когда передо мной снова вырос суровый лик труда.
Я должен признаться, что не чувствовал уже никакой склонности к тяжелой работе, хотя все же делал попытки получить ее. Однако у меня был непокладистый нрав, застенчивый и гордый в одно и то же время, и больше одного грубого отказа в день я не мог вынести. Мне не хватало самоуверенности, с которой легко находят занятие, и я еще раз смешался с мягкотелым сбродом, наполняющим конторы для найма.
На свой последний доллар я жил целый месяц. Не всякий проделал это в жизни, хотя это и не так мудрено. Вот, как я оборачивался: во-первых, я предупредил старушку, которая сдавала мне комнату, что не смогу заплатить ей раньше, чем найду работу, и дал ей в залог свои одеяла. Оставался вопрос питания. Я разрешил его, покупая ежедневно на пять центов черствого хлеба, который я съедал в своей комнате, запивая его чистой ключевой водой. Немного воображения, и мой хлеб превращался в мясо, а вода в вино. Для ужина существовали собрания евангельской проповеди, на которых мы за вечер успевали прокричать во все горло с сотню гимнов, за что получали кружку кофе и ломти хлеба. Как вкусен казался ароматный кофе и как мягок был белый хлеб!
В конце третьей недели я получил место сборщика апельсинов. Работать приходилось на длинных лестницах, приставленных к осыпанным пышными плодами деревьям. В ярких солнечных лучах, под шелест листьев расхищалось золото ветвей, и ящики наполнялись плодами. Я не знаю более приятной работы. Я наслаждался ею. Остальные рабочие были мексиканцы; меня прозвали «Эль Гринго», хотя я зарабатывал в среднем только пятьдесят центов в день. Однажды, когда плодов было особенно много, я заработал семьдесят центов. По всей вероятности я бы удовольствовался этим, так нравилась мне эта работа на высоких лестницах в солнечном царстве древесных верхушек, но она прекратилась сама собой. Я был теперь крупным капиталистом, считая на центы. Подсчитав свои сбережения, я насчитал 495 центов и почувствовал себя настолько обеспеченным, что решил предаться своей страсти к путешествиям. Поэтому я купил билет в Сан-Диего и снова направился на юг.
Глава IX
Несколько дней в С.-Диего свели мой маленький капитал на нет. Однако я с легким сердцем повернул снова к северу и направился по шпалам в Лос-Анджелес. Колея тянулась вдоль берега океана на много звонких миль. Величественные волны катились, длинные и ровные, как бы начерченные линейкой, и с грохотом разбивались о песчаный берег. Я видел великолепные закаты и чарующие бури со скрытыми в небе кинжалами зарниц. По ночам я строил маленькие хижинки из негодных шпал и зажигал костры из страха перед ползучими существами, которых видел днем. Койоты выли на ближних холмах, тревожные шорохи раздавались в зарослях шалфея. Мои зубы стучали от холода и не давали мне заснуть, пока я не подвязывал подбородок платком. Промокая ночью от росы, полумертвый от голода и измученный ходьбой, я, казалось, с каждым днем делался все выносливей и крепче. Я не колебался в выборе между рабством и бродяжничеством. Придя в Лос-Анджелес, я первым делом пошел на почту. Там ждало меня письмо из Нью-Йорка от Блудного Сына, с четырнадцатью долларами, которые он был мне должен. Письмо гласило:
«Я вернулся под отеческий кров, устав от своей роли. Упитанный телец ждал меня; тем не менее я опять тоскую по презренному свиному месиву. Жди меня в Фриско в конце февраля. Я сообщу тебе замечательный план. Будь непременно. Мне нужен товарищ, и я хочу, чтобы это был ты. Жди письма до востребования».
Нельзя было терять время, ибо февраль подходил уж к концу. Я взял билет на палубе до Сан-Франциско и решил впредь изменить свой образ жизни. Ведь так легко было опуститься на дно. Я уже находился среди подонков, сам превратился в отверженного. Я сознавал, что без друзей и связей не добьюсь ничего, кроме самой неблагодарной работы. Конечно, я мог бы еще побарахтаться, но ради чего? Уютная ферма на северо-западе ждала меня. Я заработаю себе на дорогу и приеду туда в приличном виде. Тогда никто не узнает о моем унижении. До сих пор я был упорен и глуп, но зато научился кое-чему. Люди, которые трудились, нуждались и страдали, были ласковы и отзывчивы ко мне; их господа были подлы и жестоки. Везде велась та же низкая борьба за доллар. При моих взглядах и воспитании меня ждало только разочарование и поражение. С меня было достаточно всего этого.
Глава X
Уплатив за проезд на пароходе в Сан-Франциско, я убедился, что разорен дотла. Я был положительно жалок и буквально доведен до крайности, ибо мои сапоги благодаря длинным путешествиям пешком едва держались на ногах. Никакого письма на мое имя не было; и от разочарования ли или от крайней нищеты я почувствовал, что совершенно лишился мужества. В таком виде я не решался просить работы. Итак, я потуже стянул свой пояс и уселся в Портсмутском сквере, упрекая себя за то, что легкомысленно растратил так много денег. Прошло два дня, а я все еще стягивал свой пояс. За это время я съел только одно блюдо, которое заработал, очистив полмешка картофеля для ресторана. Я ночевал на полу в пустом доме.
Однажды, когда я по обыкновению дремал на своей скамье, кто-то окликнул меня: «Послушайте-ка, молодой человек, у вас очень изнуренный вид». ― Я увидел пожилого седого господина. «Вовсе нет, ― ответил я, ― это только комедия; я переодетый миллионер и изучаю социологию». ― Он подошел ближе и подсел ко мне: «Полно, мальчик, вы порядком приуныли и растерялись. Я наблюдаю за вами «уже два дня».
― Два дня? ― повторил я мрачно. Мне они показались двумя годами. Затем мною овладела внезапная горячность:
― Я чужой для вас, ― сказал я. ― До сих пор я никогда не пытался брать взаймы. Я знаю, что будет слишком смело просить вас поверить мне, но вы сделаете христианское дело. Я умираю с голода. Если у вас есть 10 центов, которые вам не нужны, одолжите их мне. Я выплачу их вам, хотя бы я должен был отрабатывать их десять лет.
― Ладно, ― сказал он весело, ― пойдем закусим.
Он повел меня в ресторан и заказал обед, от которого голова моя закружилась. Я был близок к обмороку, но после небольшого количества бренди почувствовал себя в силах справиться с пищей. Пока я добрался до кофе, я опьянел от еды, как от вина. Только тут я воспользовался случаем, чтобы рассмотреть своего благодетеля.
Он был скорее среднего роста, но такой плотный и коренастый, что сразу производил впечатление человека, с которым следует считаться. У него была смуглая как у индуса кожа, а ясные голубые глаза ярко сияли радостью, как бы от внутреннего света. У него был твердый рот и решительный подбородок, и все лицо представляло странную смесь добродушия и неумолимой твердости. Теперь он рассматривал меня самым добродушным образом.
― Чувствуешь себя лучше, сынок? Ладно, продолжай дальше в том же духе и расскажи мне о себе столько, сколько тебе захочется.
Я рассказал ему все, что случилось со мною с тех пор, как я высадился в Новом Свете.
― Эх, ― воскликнул он, когда я кончил. ― Вот главный недостаток всех ваших молодцов из Старого Света. Вам не хватает выдержки и умения довести дело до конца. Вы идете к хозяину и докладываете ему, что собственно не умеете ничего делать, но будете стараться изо всех сил. Американец говорит: «Я умею все, дайте мне только работу, и я докажу вам это!» Ясно, кого возьмут? Ну, я думаю, что смогу вас устроить помощником садовника на Аландской дороге.
Я выразил свою благодарность.
― Полно, ― отвечал он, ― я рад, что по милости божьей был избран орудием помощи для вас. Вы можете остановиться у меня, пока что-нибудь не наладится. Через три дня я уезжаю на север.
Я спросил его, не направляется ли он в Юкон.
― Да, я намерен присоединиться, к этому безумному стремлению в Клондайк. За последние двадцать лет я изрыл вдоль и поперек Аризону и Колорадо, и теперь хочу посмотреть, не найдется ли на севере участка и для меня.
Дома он рассказал мне всю свою жизнь.
― Я был скверным человеком, но спасся милостью божьей. Я прошел через все, начиная от мэрства до содержания игорного притона. В течение двух лет я погибал, готовясь каждую минуту получить свой пропуск в ад.
― Не убили ли вы кого-нибудь? ― осведомился я.
Он зашагал взад и вперед по комнате.
― Слава богу нет, но я мог застрелить… Было время, когда я мог выстрелом из ружья вогнать гвоздь в стену. Я был ловок, но вокруг было много таких, которые могли дать мне сто очков вперед. На вид это были смирные люди. Трудно было подумать о них дурное. Смирные-то и были худшими. Обходительные, ласковые, приветливые, за бутылкой в ресторане они не знали удержу и страха, и каждый из них имел по дюжине зарубок на своем ружье. Я знал многих из них, якшался с ними; это были самые утонченные люди в стране, готовые отдать последнюю рубашку за друга. Они понравились бы вам, но, слава господу, я теперь спасенный человек.
Я был глубоко заинтересован.
― Я знаю, что мне не следует так говорить. Это все прошло теперь, и я познал всю скверну своих путей, но иногда хочется поболтать. Я Джим Хоббард, известный под кличкой Блаженный Джим. Одно время я играл в карты и пил запоем. Однажды утром я встал из-за карточного стола после 36-часовой игры. Я проиграл пять тысяч долларов. Я знал, что они облапошили меня как индюка и принял свои меры. Ладно же, сказал я себе, буду мошенничать и я. Я научился играть мечеными картами и мог вскоре назвать любую карту с японцем и китайцем в качестве партнеров. Они были проворнее белых и обладали большой выдержкой. Выиграть деньги было мне так же легко, как отнять леденец у ребенка. Иногда я играл вполне честно. Никто не может вести сильную игру, не выдав себя. Иногда это лишь вздрагивание ресниц, иногда колебание ноги: Я изучал одного человека месяц, пока подметил признак, предавший его. Тогда я начал все больше и больше подогревать его, пока пот не выступил у него на лбу. Он был моей добычей. Я пошел по следам человека, который ограбил меня и превзошел его. Ну-ка, стасуйте эту колоду.
Он вытащил из ящика кучу карт:
― Я никогда не вернусь к прежнему ремеслу. Я спасен, я верю в Бога, но для забавы стараюсь не забывать свое искусство.
Разговаривая со мною, он стасовал колоду несколько раз.
― Ну, я сдаю. Что вы хотите? Трех королей?
Я кивнул. Он сдал на четыре руки. В моей сдаче очутились три короля. Открыв другую, он показал мне трех тузов.
― У меня давно не было практики, ― сказал он, как бы извиняясь. ― Руки огрубели. Прежде я следил за тем, чтобы они были мягкими, как бархат.
Я вошел в милость даже к тем, которые обобрали меня. Нужно было выбирать между тем, чтобы глотать самому, или быть проглоченным другим. Я предпочел следовать за хищниками. Никогда не платил я добром человеку, причинившему мне зло. Конечно, теперь дело обстоит иначе. Добрая Книга говорит: плати добром за зло. Я надеюсь следовать этому, но не советую никому искушать меня. Я, пожалуй, мог бы забыть.
Тяжелая выдающаяся челюсть выдвинулась вперед, глаза загорелись необузданной свирепостью, и человек внезапно стал похож на тигра. Я с трудом верил своим глазам; но через минуту передо мною было прежнее веселое, добродушное лицо, и я решил, что глаза обманули меня. Не знаю, сказалась ли во влечении к нему моя положительная пуританская наследственность, но мы сделались большими друзьями. Мы беседовали о многом, но больше всего я любил слушать рассказы об его молодости. Это было похоже на роман. Ребенок, выброшенный на улицу, чистильщик сапог в Нью-Йорке, бродяга в лесах Мичигана, наконец рудокоп в Аризоне. Он описывал мне долгие месяцы, проведенные в необитаемых степях в обществе одной только трубки, когда он разговаривал сам с собой у огня, чтобы не сойти с ума. Он рассказал мне о девушке, на которой был женат, которую боготворил, и о человеке, разрушившем его очаг. При этом на лице его снова появилось выражение тигра и также молниеносно исчезло. Он рассказал мне о своей беспутной жизни:
― Я всегда был бесстрашным забиякой и никогда не встречал человека, который мог бы победить меня в силе и ловкости. Я был необыкновенно худощав и гибок как кошка, но больше всего помогало мне в борьбе мое неистовство. Я превращал человеческие физиономии в желе. В те дни все сходило. Затем, по мере того как вино начало овладевать мною ― я делался все хуже и хуже. Было время, когда я собирался ограбить банк и застрелить человека, который пытался остановить меня. Слава богу. Я познал скверну моих путей в жизни.
― Вы уверены, что никогда не вернетесь к прежнему? ― спросил я.
― Никогда! Я переродился: не курю, не пью, не играю и вполне счастлив. Вино влекло меня. Я посадил себя на три месяца на воду, но днем и ночью, где бы я ни был, стакан виски стоял неотступно перед моими глазами. Так или иначе, он начинал одолевать меня. Наконец однажды вечером я пришел полупьяный в евангельское собрание. Стакан был тут как тут, и я испытывал адские муки, стараясь противостоять ему. Проповедник призывал грешников выйти вперед. Я решил бороться всеми способами и пошел на покаянную скамью. Когда я встал, стакан исчез. Он, конечно, вернулся вновь, но я опять избавился от него таким же образом. Разумеется, мне пришлось выдержать сильную борьбу и перенести много поражений, но в результате я победил. Это божественное чудо.
Я хотел бы нарисовать или изобразить вам этого человека. Слова бессильны передать его странный облик. Я проникся к нему большой привязанностью и чувствовал себя его неоплатным должником.
Однажды, когда я, по обыкновению, был на почте, кто-то схватил меня за руку.
― Алло, шотландец! Вот чудесно! Я как раз собирался опустить тебе письмо. ― Это был Блудный Сын, одетый как щеголь. ― Я так рад, что поймал тебя. Мы уезжаем через два дня.
― Уезжаем? Куда? ― спросил я.
― Конечно, на Золотой Север, в Страну Полуночного Солнца, за сокровищами Клондайка.
― Ты, может быть, поедешь, ― сказал я строго, ― но я не могу.
― Нет, ты можешь и поедешь, старый чудак. Я уже решил все это. Пойдем, мне нужно поговорить с тобой. Старик очень снисходительно отнесся ко мне, когда я заявил ему, что не образумился и не желаю поступать на клеевую фабрику, даже временно. Я сказал ему, что у меня золотая лихорадка в сильнейшей степени и что ничто, кроме поездки на север, не излечит меня. Он был приятно изумлен этой идеей, щедро подкрепил меня и предоставил мне год сроку, чтобы нажить состояние. И вот я здесь и ты со мной. Я намерен забрать тебя. Помни, что это деловое предложение: я должен иметь товарища. Если ты бастуешь, ― можешь проваливать!
Я пробормотал что-то насчет места помощника садовника.
― Брось! Ты скоро будешь выкапывать золотые самородки вместо картошки. Право, человече, это может быть единственный случай в жизни, и всякий другой ухватился бы за него. Конечно, если ты боишься лишений и тому подобное…
― Нет, ― сказал я поспешно, ― я поеду.
― Ха, ― засмеялся он, ― ты слишком большой трус, чтобы испугаться. А теперь нам нужно позаботиться об экипировке. Остается не так уж много времени.
Казалось, что половина Сан-Франциско помешалась на Клондайке. Всюду царили спекуляция и возбуждение. Все магазины имели специальные отделения для продажи снаряжения путешественникам, но смутны и дики были их представления о том, что требовалось на Юконе. Мы недурно устроили свои дела, хотя, как и все остальные, накупили много нелепых и бесполезных вещей. Внезапно я вспомнил о Блаженном Джиме и рассказал Блудному Сыну о своем новом друге.
― Это чертовски славный малый, ― сказал я, ― закаленный насквозь, прошел огонь и медные трубы.
Он едет один.
― Вот, ― сказал Блудный Сын, ― это как раз человек, который нам нужен. Мы попросим его присоединиться к нам.
Я свел их, и дело наладилось. Таким образом, 4 марта мы втроем покинули Сан-Франциско, чтобы поискать счастья на ледяном Севере.
Книга вторая ПУТЬ
Глава I
― Однако у тебя довольно кислый вид. Ну-ка, повеселей, подтянись, что случилось? ― сочувственно осведомился Блудный Сын.
В самом деле, причина была уважительная. Я только что получил письма из дому от мамы и от Гарри. Письмо Гарри было колкое, почти укоризненное. Он писал, что мама чрезвычайно расстроена моей выходкой, сравнивал меня с камнем, летящим в пропасть, и выражал надежду, что я немедленно брошу свою сумасбродную мечту о Полинезии и благоразумно направлюсь на северо-запад. Письмо матери было полно упреков и местами почти отчаяния. Она писала, что слабеет, умоляла меня быть хорошим сыном, отказаться от своих странствий и тотчас же поехать к двоюродному брату. В конверт она вложила перевод на сорок фунтов. Это письмо, написанное тонким дрожащим почерком, полное ласки и любви, вызвало слезы на моих глазах, так что я мрачно склонился над бортом, следя за сутолокой отъезда. Бедная мама! Дорогой дружище Гарри! С какой страстной нежностью я представлял себе их обоих, далекий Гленджайль, шотландский туман, серебрящийся вереск и манящий ветер с моря. О, чистое, живительное дыхание его! И, однако, увы, с каждым днем воспоминания бледнели, с каждым днем я все больше привязывался к новой жизни.
― Я только что получил вести от своих…
― Э, плюнь, ― воскликнул он, ― теперь поздно отступать.
― Ты должен проделать штуку до конца. Матери все на один лад, когда сынки отрываются от их юбок. Моя коченеет от ужаса за меня и уверена, что дьявол имеет полную власть над моим будущим. Они довольно быстро умиротворяются. Теперь тебе нужно только работать и привыкнуть к обстановке. Я шнырял последние два часа по палубе и перезнакомился почти со всеми. Знаешь, мне сдается, что эта компания здесь запаслась решительно всем, кроме крепкой шкуры для самого дела. Большинство из них ― комнатные люди, чернильные крысы или аршинники, которые за всю свою жизнь не видели в глаза тяжелого рабочего дня и не имеют представления о мотыге. Они уверены, что достаточно только добраться туда, чтобы вытаскивать из воды самородки, как вишни из коктейля. Дальше идти некуда!
― Расскажи-ка мне о них, ― сказал я.
― Ладно, видишь этого парня около нас.
Я посмотрел. Это был тщедушный молодой человек, с мягкими тонкими чертами и необыкновенно свежим цветом лица.
― Этот малый был банковским клерком. Его имя Пинклув. Он хотел связаться с какою-то девицей, но директора, видно, не особенно настаивали на этом. Теперь он послал к черту свою службу и всадил все свои сбережения в это предприятие. Вон там в толпе на пристани его девица.
В мозаике человеческих лиц было вкраплено одно, показавшееся мне олицетворением девической прелести она без смущения заливалась слезами.
― Как счастлив этот бедняга, ― сказал я, ― что кто-то так огорчен его отъездом.
― Несчастен, хочешь ты сказать, дружище… Разве ты хотел бы иметь на себе путы, идя на такое дело?
Он указал на длинноволосого юношу с развевающимися концами галстука.
― Посмотри на этого бледнолицего чудака с видом артиста рядом с ним. Он резчик по дереву. Они зовут его Глобсток. Он сказал мне, что его ремесло резчика, наверное, пригодится, когда нам придется мастерить себе лодки на озере Беннет. А там третий, вон, посмотри, тот маленький, высунувшийся вперед.
Я увидел худого, узкогрудого человека с самоуверенным, решительным видом.
― Это профессор, напичкан книгами о Юконе. Это всеобщий календарь на ножках. Ему известно все. Послушал бы ты его монолог на тему как что делается. Он намерен жить на палубе, чтобы приучить себя к суровостям полярного климата. Работает гирями, чтобы развить мускулы и быть в состоянии сгребать самородки.
Наши глаза перебегали от группы к группе, подмечая характерные фигуры.
― Посмотри-ка на этого белобрысого англичанина. Он ехал вместе со мной в пульмане из Нью-Йорка. Чертовски надоедлив. Когда мы подъезжали к Фриско, он сказал: «Самая трудная часть путешествия уже позади». А вон там Ромул и Рем, близнецы. Стройные ребята. Единственная примета, по которой я различаю их, в том, что один шнурует сапоги туго, другой слабо. Они ужасно много воображают друг о друге.
Он повернулся в другую сторону, где Блаженный Джим разговаривал с двумя мужчинами:
― Вот пара победителей. Я ставлю на них в ординаре. Ничто на Земле не остановит этих молодцов. Прирожденные американцы, оба решительные и неустрашимые. Взгляни-ка на того высокого, который курит сигару и разглядывает женщин. Это настоящий атлет. Его имя Мервин, весь из ремней и китового уса. Упругий, как охотничий лук. Уж он-то преодолеет. Взгляни на другого! Его зовут Хьюсом, крепок, как башня, мускулист, как медведь. Врос в землю. Это воплощение Сильного. Посмотри на его суровое, решительное лицо. Такого не согнешь.
Он указал на другую группу.
― А вот три хищные птицы: Бульгамер, Маркс и Мошер. Огромный со свиными глазками и тяжелой челюстью ― это Бульгамер. Он по ресторанной части. Тот, среднего роста, в фуражке ― это Маркс. Посмотри на его жирное желтое лицо, покрытое прыщами. Это любопытная штучка. Именует себя маклером по золотым приискам. Третий ― Джек Мошер ― картежник до мозга костей, надежный человек, был раньше священником.
Я снова посмотрел. Мошер как раз снял шляпу. У него была совершенно лысая вытянутая голова, прищуренные хитрые глазки и незначительный нос. Всю остальную часть лица занимала борода. Она росла, черная как бездна, спускаясь к выпуклости его живота и, казалось, истощила череп своим изумительным изобилием. На палубе раздавались сочные жирные звуки его голоса.
― Препротивный тип, ― сказал я.
― Да, таких много на пароходе. Тут едет целая группа каскадных танцовщиц со своей обычной свитой паразитов. Взгляни на этого полукровку. Вот подходящий человек для той страны ― полушотландец, полуиндус. Самый спокойный человек на пароходе, незначительный с виду, но крепкий, как проволочный гвоздь.
Я увидел сухощавого смуглого человека с большими глазами и плоскими чертами лица, курившего папиросу.
― Посмотри, вон там, рядом с нами евреи Майк и Ревекка Винкельштейн. Они едут, чтобы открыть кафешантан.
Мужчина был маленькое кривоногое существо, с нафабренными усами и косыми глазами, напоминавший лицом жирный окорок. Но мое внимание привлекла женщина. Никогда не видал я раньше такой представительной амазонки, ростом в шесть футов без малого, с массивными формами. При этом она была красива красотой брюнетки, хотя вблизи лицо ее казалось чувственным и наглым. У нее были мягкие вкрадчивые манеры и грубое остроумие, которым она покоряла толпу. Опасная, бессовестная и жестокая, подумал я. Мужеподобная женщина, должно быть ― ведьма.
Я уже начал уставать от толпы и мечтал о том, чтобы сойти вниз. Мое любопытство исчезло. Но голос Блудного Сына снова раздался в моих ушах:
― Вон старик со своей внучкой, кажется, родственники Винкельштейнов. Сдается мне, что старикашка немного развинтился. Красивый человек, однако. Похож на Ветхозаветного пророка в отставке. Выходец из Польши. Говорит не то по-еврейски, не то на каком-то другом жаргоне. Единственное, что он знает по-английски ― это «Клондайк-Клондайк». У девочки несчастный вид. Бедная маленькая нищая.
«Бедная маленькая нищая». Я слышал эти слова, но мысли были далеко. К черту польских евреев и их внучек. Я хотел, чтобы Блудный Сын предоставил меня собственным мыслям, мыслям о моей горной родине и близких мне. Но нет. Он настаивал:
― Ты не слушаешь меня. Посмотри. Почему ты не хочешь?
Итак, чтобы угодить ему, я повернулся кругом и посмотрел. Старик патриархального вида примостился на палубе. Рядом с ним, положив руку на его плечо, стояла тонкая фигурка вся в черном, фигура девушки. Глаза мои равнодушно поднялись от ее ног к лицу. Тут они остановились. Я едва перевел дух. Я забыл все окружающее. Так я впервые увидел Берну. Я не буду описывать девушку. Описания так бледны на бумаге. Скажу только, что лицо ее было очень бледно, а огромные «серые глаза глядели скорбно. Щеки ее впали, рот был твердо сжат. Все это я хорошо запомнил, но сильнее всего врезались мне в душу эти большие серые глаза, с тоской устремленные туда, на далекий восток, где жили ее грезы и воспоминания. Бедная маленькая нищая!
Тут я выругал себя за чрезмерную чувствительность и спустился вниз. У меня была каюта под номером 47. Мы трое разошлись в сутолоке, и я не знал, кто будет моим товарищем по койке. В очень подавленном настроении я вытянулся на верхней койке и предался грустному раскаянию. Я слышал, как подняли последние сходни, слышал громкое ликование толпы и мерное трепетание машин, но не мог оторваться от своих дум. Снаружи была суета, надвигалась темнота. Вдруг у моей двери раздались голоса. Горловые звуки смешивались с мягкими. Затем раздался робкий стук. Я быстро ответил на него.
― Это каюта номер 47? ― спросил нежный голос. Прежде чем она заговорила я догадался, что это была еврейская девушка с серыми глазами. Я увидел теперь, что волосы ее напоминали светлое облако, а лицо было хрупко, как цветок. «Да», ― ответил я.
Она ввела старика:
― Это мой дедушка. Слуга сказал нам, что это его каюта.
― Прекрасно, ― ответил я, ― я думаю, что ему будет удобнее на нижней койке.
― Да, благодарю вас; он старый человек и не очень крепкого здоровья. ― Ее голос был чист и приятен, в нем звучала бесконечная нежность.
― Вы можете войти, ― сказал я. ― Я оставлю вас с ним, чтобы вы помогли ему устроиться получше.
― Спасибо еще раз, ― ответила она с благодарностью.
Я ушел и, вернувшись, уже не нашел ее, старик же мирно спал. Я снова вышел на палубу. Мы рассекали иссиня черную ночь и вправо от нас я едва мог различить берег, изрезанный мигающими огнями. Все уже ушли вниз и одиночество было мне приятно. У меня было легко на душе и я думал о том, как хорошо все вокруг: благовонный ветер, бархатистый свод ночи, усеянный задумчивыми звездами, и свободная песня моря. Все успокаивало, подкрепляло и ласкало. Вдруг я услышал рыдание, безутешное рыдание, вырывавшееся из женской груди. Мучительное и настойчивое, оно ясно долетало до меня, выделялось на фоне глухого ропота моря. Я оглянулся. В тени верхней палубы я смутно различил одиноко приютившуюся девическую фигуру. Это была девушка с серыми глазами, в припадке горя от которого, казалось, разрывалось ее сердце. «Бедная маленькая нищая!» ― пробормотал я.
Глава II
― Грр… Грр… ты паскудница! Если ты покажешь ему свое лицо, я убью тебя, убью тебя, слышишь?
Голос принадлежал мадам Винкельштейн, и слова эти, произнесенные с невероятной злостью, свистящим шепотом, поразили меня, как электрический ток. Я прислушался. За дверью каюты воцарилось зловещее, напряженное молчание. Затем раздался глухой удар, и тот же дикий шепот: «Послушай, Берна, мы хорошо знаем твои штуки. Нас не проведешь. Мы знаем, что у старика спрятаны в поясе две тысячи банковскими билетами. Так вот, моя дорогая, мой сладкий ангелочек, который думает, что она слишком хороша, чтобы смешиваться с такими, как мы, нам нужны денежки, видишь ли (хлоп, хлоп), и мы намерены добыть их, видишь ли (хлоп, хлоп). Вот когда ты можешь пригодиться, душечка, ты должна раздобыть их для нас (хлоп, хлоп, хлоп). Не правда ли, ты теперь сделаешь это, милочка (хлоп, хлоп, хлоп).
Едва, едва расслышал я слабый ответ: «Нет».
Если возможно вскрикнуть шепотом, женщина сделала это.
― Ты сделаешь это, сделаешь. О! О! О! В тебе сидит проклятое ослиное упорство твоей матери. Она никогда не хотела назвать имени человека, который погубил и опозорил ее.
― Не смейте говорить о моей матери, гадкая женщина.
Я услышал голос мегеры, звучавший неслыханной яростью:
― Гадкая женщина, гадкая женщина? Ты, ты смеешь называть меня гадкой женщиной, меня, которая трижды сочеталась святым таинством брака… Ах ты незаконное отродье, прелюбодейный щенок, грязная накипь. О, я проучу тебя, хотя бы меня повесили за это. ― Эти брызжущие ядом слова были покрыты ругательством, слишком гнусным, чтобы быть повторенным, и снова раздалось ужасное хлопанье, как будто чья-то голова билась о деревянную обшивку. Не в силах выносить это дольше, я резко постучал в дверь. Молчание, долгое и томительное молчание. Затем звук падающего тела. Потом дверь немного приоткрылась, и в ней появилось искаженное лицо Мадам.
― Не болен ли кто-нибудь? ― спросил я. ― Простите за беспокойство, но мне послышались стоны, и я решил спросить, не могу ли быть чем-нибудь полезным.
Она пронизывающе посмотрела на меня. Ее глаза сузились в щелки и сверлили меня своей злостью. Ее темное лицо распухло от бессильной ярости, казалось она готова была убить меня. Затем выражение ее молниеносно изменилось. Грязной, унизанной кольцами рукой, она пригладила свои растрепанные волосы. Крупные белые зубы засверкали в притворно сладкой улыбке. Голос сделался мелодичным.
― О, это пустяки! У моей племянницы болят зубы, но я надеюсь, что мы справимся с этим сами. Нам не нужно помощи. Благодарю вас, молодой человек.
― О, не стоит, ― сказал я. ― Если вам что-нибудь понадобится, я буду близко.
Затем я ушел, чувствуя, что глаза ее враждебно следили за мной. Эта история произвела на меня гнетущее впечатление. Было ясно, что с бедной девочкой дурно обращались. Я был полон негодования, злобы, наконец, беспокойства. К этому примешивалась досада за то, что случай заставил именно меня подслушать эту сцену. Как раз теперь у меня не было никакого желания сделаться покровителем обиженных барышень и еще меньше быть замешанным в семейные свары незнакомых евреев. Тем не менее я чувствовал себя обязанным наблюдать и ждать и даже ценой своего спокойствия и удобства предотвратить дальнейшее.
На пароходе вообще не прекращались всякие безобразия: пьянство, картежная игра, ночные оргии и постоянные ссоры. Казалось, что мы увозили с собой все людские отбросы Сан-Франциско. Я думаю, что даже тогда, когда нагруженные аргонавтами корабли дюжинами почти ежедневно отплывали на Золотой Север, не было ни одного, на котором так доминировал бы веселящийся элемент. Кают-компания была продушена пачулями и застоявшимся виски. Из кают долетали пронзительные напевы популярных песен, сопровождаемые хлопаньем пробок шампанского. Каскадные танцовщицы, без умолку болтая, вертелись в проходах, танцевали на столах и удерживались от непристойностей только из страха перед своими драчунами.
День превращался в непрерывный ряд пиршеств, а ночь наполнялась зловещими звуками.
Даже среди лучшей части пассажиров уже проявлялась нравственная распущенность. Приличия остались позади вместе с накрахмаленными сорочками и сюртуками; помешавшись на быстром обогащении, люди не старались сохранить благопристойность. Это была ревущая толпа, гордая своей распущенностью и уже зараженная ядом золота. О, как хорошо было на палубе ночью, вдали от этих сатурналий, любоваться на маяки звезд, мерцавшие в небесной глубине, и внимать древнему плачу отверженного моря. Ночи были голубые, серебристые и прозрачные, как хрусталь. Свежий ветер горячил щеки и зажигал глаза.
Однажды, когда я сидел, погруженный в задумчивость, ко мне подошел Блаженный Джим. Его лицо было мрачно, глаза имели сосредоточенное выражение. Из ослепительно освещенной кают-компании долетали крикливые напевы мюзик-холла.
― Мне совсем не нравится все это. Посмотри-ка туда, сынок, Я жил двадцать лет на приисках, я предавался самому грубому разврату, какой только существует на земле, я прошел Штаты вдоль и поперек, но нигде я не встречал ничего подобного. Ты понимаешь, что это не предубеждение говорит во мне, хотя я и познал греховность своей жизни, благодарение Богу. Я могу допустить это разок другой для молодцев, отправляющихся на такое дело, но клянусь рождеством… Подумай-ка, ведь на этом пароходе хватит грешников, чтобы образовать целую подсекцию в аду. Здесь есть люди, которым следовало бы сидеть дома с милыми маменьками и любящими женами и детьми, а вместо этого они торчат в кают-компании, разоряются на вина для этих намалеванных Иезавелей. Здесь есть доктора, адвокаты и дьякон из церкви в старом Огайо, которые никогда не сделали в жизни дурного дела, а теперь они буянят, как кабацкие забулдыги, из-за поцелуев этой дряни. В окнах их душ дьявол ликует и скалит зубы, а Господь Бог замерзает на чердаке. Запомни мои слова, мальчик. На Северном золоте лежит проклятие. Юкон проглотит свою добычу. Запомни мои слова.
― О, Джим, ― сказал я, ― вы суеверны.
― Нисколько. Но мне было откровение. Они думают, что держат счастье в руках. Послушай, как они вопят, они все уже воображают себя миллионерами. В них нет и тени сомнения. Запомни мои слова, юноша, потому что я не доживу до их исполнения: девяносто девять из ста этих ребят, едущих в этот самый Клондайк, обречены.
― Только один процент выиграет свою ставку? Это нелепо, Джим.
― Ладно, увидишь. А что до меня, то я уверен в том, что никогда не вернусь обратно. Мне было откровение: «Старый Джим в последний раз в пути». Он вздохнул и потом резко сказал: ― Заметил ты этого молодца, который прошел мимо нас? Это Мошер-картежник и бывший пастор. Это гадина, ренегат небесного пути. У меня зуб против этого человека. Быть может, мы с ним сведем счеты в ближайшие дни. ― Внезапно он отошел, оставив меня в глубоком раздумье над его мрачными изречениями.
Мы были уже три дня в пути. Погода стояла прекрасная, и почти все проводили время на палубе, греясь на солнце. Даже Бульгамер, Маркс и Мошер покинули на время картежную игру. Банковский клерк и столяр оживленно беседовали, строили планы и мечтали. Профессор был занят изложением теории происхождения золота группе молодых людей из Миннесоты. Молчаливо наблюдая эту толпу, богатырь Мервин курил свою большую сигару, в то время как железный Хьюсон невозмутимо спокойно и тупо жевал табак. Близнецы играли в шашки. Винкельштейны старались сблизиться потеснее с кафешантанной кликой. Тут и там среди отдельных групп мелькал Блудный Сын, быстрый и неуловимый, как хроникер на благотворительном базаре. А за всеми ими всегда одна, в строгом отдалении, как воплощение благородства и прелести, стояла еврейская девушка со своим престарелым дедом. Хотя он и был моим товарищем по каюте, но я мало видел его. Он был в постели, когда я возвращался, а я утром вставал и уходил прежде, чем он просыпался. В остальное время я избегал обоих из-за их очевидной близости с Винкельштейнами. Ясно, думал я, что она не может быть вполне порядочной, оставаясь в близких отношениях с этой парой. Однако в чистых глазах девушки и прекрасном лице старика было что-то, что укоряло меня за мои подозрения. В то время как я колебался таким образом и исподтишка наблюдал за ними, случилось следующее. Около меня стояли Бульгамер и Маркс и на палубе раздавались резкие гнусавые голоса танцовщиц. Я видел, как порочные глазки Бульгамера беспрерывно перебегали с одной непривлекательной девицы на другую, пока наконец не остановились на странной девушке, стоявшей рядом со своим седовласым дедушкой. Он облизнулся с видом знатока.
― Послушай, обезьяна, что это за овечка там рядом со старой бородой?
― Хочешь соблазнить меня, Пит? Не желаешь ли, чтобы я поразил ее одним ударом.
― Наглый хвастун! А она, однако, кажется рыбьей породы не правда ли?
― Плевать на рыбью породу! До сих пор не встречал чего-нибудь мало-мальски приличного, что могло бы устоять против Сама Маркса. Я победитель ― вот кто я. Не забудь. Посмотри только, как я это обработаю.
Я должен заметить, что на нем было дорогое платье франтовского покроя. Его лоснящееся угреватое, лицо расплылось в покровительственно-развязную улыбку и с поклоном учителя танцев он приблизился к девушке. Я увидел, как она вздрогнула от неожиданности, закусила губу и отшатнулась.
«Тем лучше для тебя, девочка», ― подумал я. Но тот нисколько не смутился.
― Послушайте, мамзель, не пугайтесь, я хочу только представить вас одному джентльмену, моему другу.
Девушка смотрела на него и ее расширенные глаза красноречиво выражали страх и недоверие. Их взгляд напомнил мне смертельный ужас лани, преследуемой охотником, и я почувствовал в себе трепет сочувствия. Одно мгновение она пристально смотрела на него, затем резко повернулась спиной.
Это было слишком сильно для Маркса. Он побагровел от досады.
― Послушайте, что это с вами? Слезайте-ка с насеста. Разве мы недостаточно хороши для вас? Кто вы такая, черт возьми?
Его лицо делалось все краснее и наглее. Он приблизился к ней и грубо опустил руку на ее плечо. Решив, что дело зашло слишком далеко, я выступил вперед, чтобы вмешаться, как вдруг произошло неожиданное.
Старик внезапно поднялся на ноги, и я с удивлением увидел, как он был высок.
На лице его появился отблеск прежней силы и властности, глаза засверкали мщением и кулак высоко поднялся с угрозой. Затем он стремительно опустился на голову Маркса, сплющив и надвинув ему шляпу на самые глаза. Развязка носила отчасти смешной характер. Раздался взрыв хохота, услышав который, Маркс рассвирепел окончательно. Освободившись от шляпы, он, с яростным проклятием, кинулся на старика, готовый, казалось, раздавить его. Но тут огромная рука сдавила ему плечо. Это был мрачный молчаливый Хьюсон, и, судя по тому, как скорчилась его жертва, можно было представить себе, что лапа его была очень похожа на клещи. Старик был бледен, как смерть, девушка плакала, пассажиры толпились вокруг. Все забавлялись и проявляли любопытство. Чувствуя, что я не могу ничем помочь, я спустился вниз.
Что в этой девушке так привлекало меня и заставляло без конца думать о ней?
Был ли это подслушанный разговор, или таинственность, окружавшая ее, или непреодолимое влечение сердца к мечте моей жизни? Со стариком, несмотря на наше соседство по каюте, я не сближался, с девушкой не сказал больше ни слова.
Но боги судьбы действуют причудливыми путями. По всей вероятности, путешествие так и окончилось бы, оставив нас чужими друг другу, и наши пути разошлись бы, чтобы никогда больше не встречаться. По всей вероятности, жизни наши были бы изжиты до конца, и эта повесть никогда не была бы написана, если бы не случайное вмешательство ящика с виноградом.
Глава III
Мы миновали Пютджет-саунд и вышли в то великое море, которое простирается к северу до Полярных Равнин. Ветер был туманный и влажный, насыщенный холодными лобзаниями ледяных гор. Под небом, мрачно окрашенным в багровый цвет, морщилась ледяная вода. Призрачные острова теснили друг друга, чтобы рассмотреть нас, когда мы проплывали мимо. Еще более призрачный материк, прикованный мрачной тоской к морской пене, томился вдали, в твердынях неприступной скорби.
Вокруг было разлито смертельное страдание, подавляющая пустынность, непобедимая тоска. Мне казалось, что я впервые почувствовал духа Пустыни ― ветер, его бесконечное приволье, его святилище.
Пробираясь по неверным морским тропинкам, мы всходили на блестящую безделушку на груди ночи. Наше безумное веселье не угасало ни на минуту. Мы были ревом разгула и снопом света. Возбуждение доходило до горячки. Пользуясь им, женщины с накрашенными щеками пожинали обильную жатву. Я удивляюсь теперь, как мы не натолкнулись на серьезное злоключение при одурелой небрежности наших кормчих.
― Не напоминает ли это тебе пикник воскресной школы? ― заметил как-то Блудный Сын. ― Способ, которым девицы пытаются облегчить карманы этих слабоумных, граничит с жестокостью. Я устал, стараясь образумить их: «Подите и придите в себя!» Они отвечают: «Мы прекрасно себя чувствуем. Теперь не важно, если мы продуемся немного. Нас ждет там много легких денег».
Затем они начинают говорить о том, что сделают, когда добудут золото.
― Один лупоглазый хочет купить себе замок в Старом Свете. Другой желает скаковую конюшню, третий паровую яхту. О, это сборище неистовых идиотов! Они все мечтают о сладком житье в самом близком будущем. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из них собирался основать приют для одряхлевших прачек или поддерживать своих престарелых бабушек. Меня тошнит от них. Скоро их прошибет холодный пот отрезвления.
Он был прав. В своей мысленной скачке к богатству они взлетали на головокружительную высоту. Они важничали и хвастали, как будто миллионы уже были в их руках. Слушая их, можно было подумать, что они имели исключительное право на сокровища Клондайка. И, однако, впереди и позади нас были дюжины подобных судов, нагруженных такой же жадной толпой искателей счастья, неудержимо притягиваемых к северу золотым магнитом. Тем не менее трудно было не заразиться господствовавшим духом оптимизма. Лично для меня золото не имело большой привлекательности, но приключения были очень дороги моему сердцу. В моих ушах снова раздавался звук рога романтики и я рвался на его призыв.
И в самом деле, рассуждал я, каким волшебным калейдоскопом был этот мир, в котором я всего полгода тому назад болтал ногами в горном ручье. Я сделался теперь участником и частицей этой великой армии Аргонавтов.
Моя природная неповоротливость была уже делом прошлого и моя изящная шотландская речь уступила место крепкому американскому наречию. Чем ближе к цели мы подвигались, тем сильнее и выносливей я становился. Оглядываясь вокруг себя, я видел много менее приспособленных для предприятия, чем я, и ни одного с таким запасом цветущего здоровья. Вы можете легко представить себе меня в то время; я был высоким юношей с румянцем во всю щеку, черными кудрявыми волосами и темными глазами, которые то зажигались страстью, то заволакивались мечтой.
Я сказал уже, что все мы были в большей или меньшей степени охвачены горячкой, но тут я должен оговориться. Среди охватившего нас волнения одно существо оставалось неизменно холодным, далеким и чуждым; это была еврейская девушка Берна. Даже у старика золотая лихорадка сказывалась в блуждающем взоре и дрожании губ, но девушка казалась статуей терпеливой покорности и живым укором нашим лихорадочным и близоруким мечтаниям.
Чем больше я наблюдал за ней, тем больше она казалась мне здесь не на месте и почти бессознательно я начал окутывать ее сетью романтики. Я окружал ее таинственностью, которая возбуждала и манила меня, но и без этого меня, несомненно, влекло бы к ней. Мне хотелось узнать ее поближе, заслужить ее уважение, сделать для нее что-нибудь, что заставило бы ее ласково посмотреть на меня. Короче говоря, я, подобно всем молодым людям, направлялся ощупью к дружбе и участию, которые служат предвестникам любви и страсти.
Мы проходили ветряную полосу и ветер дул с такой силой, что летевшие навстречу ему чайки с трудом махали крыльями. Стаи морских волков, набегая, покрывались пеной. Палубы были безлюдны. Почти все кутилы были больны и лежали как трупы, так что на корабль казалось спустилась субботняя тишина. В тот день я не видал старика и, спустившись в каюту, нашел его совершенно больным. Высохшая рука лежала на лбу, а из запекшихся губ вылетали легкие стоны.
«Бедный старик, ― подумал я. ― Не могу ли я чем-нибудь помочь ему». Пока я размышлял, раздался робкий стук в дверь. Я открыл. За дверью стояла девушка, Берна. Она казалась очень встревоженной, и в ее серых глазах стоял немой вопрос.
― Мне кажется, он немного нездоров сегодня, ― сказал я ласково.
― Благодарю вас!..
Жалость, нежность и любовь боролись на ее лице, когда она проскользнула мимо, слегка коснувшись меня. С ласковыми словами она опустилась около него на колени. Ее маленькая белая ручка легла на его худую морщинистую руку. Старик с благодарностью повернулся к ней, словно оживленный гальваническим током.
― Может быть, он хочет кофе? ― сказал я. ― Я думаю, что смогу достать ему.
Она с благодарностью взглянула на меня своими прелестными грустными глазами. «Если бы вы были так добры», ― ответила она. Когда я вернулся с чашкой кофе, старик полулежал, обложенный подушками. Она взяла у меня кофе и поднесла к его губам, но после нескольких глотков он отвернулся с тоской. «Боюсь, что ему не хочется», ― сказал я.
― Да, кажется он не будет пить.
Она была похожа на заботливую сиделку, склонившуюся над больным. Она задумалась на минутку. «О, если бы я могла достать немного фруктов». Только тогда я вспомнил о ящике с виноградом. Я купил его как раз накануне отъезда, думая сделать приятный сюрприз моим товарищам. Это было очевидно вдохновение свыше и теперь я с торжеством вытащил крупные тяжелые глянцевитые ягоды, зарытые в душистые кедровые опилки. Я отряхнул большую гроздь и мы снова попробовали кормить старика. Казалось, что мы нашли как раз то, что ему было нужно, ибо он ел с жадностью. Она наблюдала за ним с возрастающим облегчением и когда он, кончив есть, спокойно улегся, обернулась ко мне.
― Не знаю, как мне отблагодарить вас за вашу любезность, сэр.
― Очень просто, ― ответил я поспешно. ― Если вы сами согласитесь попробовать виноград, я буду вознагражден сверх меры.
Она бросила на меня неуверенный взгляд, затем глаза ее внезапно засияли радостным, ярким светом, от которого она вся показалась мне лучезарной. Казалось, будто полдюжины лет свалилось с ее плеч, открывая сердце, способное на бесконечную радость и счастье.
― Если и вы будете кушать, ― сказала она просто.
За неимением стульев мы присели, скорчившись, на узком полу каюты под благожелательным взором старика. Фрукты напомнили нам о солнечных виноградниках и беззаботных утехах юга. Для меня все это было полно неизъяснимой прелести. Она ела очаровательно, и, пока мы разговаривали, я всматривался в ее лицо, как бы желая запечатлеть его навеки в своей памяти. Особенно понравился мне задумчивый овал ее лица и прелестно выточенный подбородок. У нее были ясные искренние глаза и длинные ресницы. Уши ее напоминали раковины, у нее были шелковистые волнистые темные волосы. Все это я подробно приметил и решил, что она более чем прекрасна ― настоящая красавица. Я испытывал необыкновенную гордость, как человек, нашедший драгоценный камень в грязи.
Эта девушка была своеобразна, таинственна и очаровательна, а потому неудивительно, что я находил особенную прелесть в ее обществе. Я показал себя настоящим артезианским колодцем красноречия и свободно беседовал с ней о корабле, о наших попутчиках-пассажирах и возможности удачи. Я нашел в ней необыкновенно чуткую собеседницу. Казалось, что ум ее проворно опережал мой и она угадывала мои слова прежде, чем я успевал произнести их. Однако она не обмолвилась звуком о себе. Оставив их вдвоем, я почувствовал, что полон тревожных вопросов.
На следующий день старик все еще оставался в постели и девушка снова пришла навестить его. На этот раз я заметил, что застенчивость в ее обращении почти исчезла и на месте ее появилось робкое дружелюбие. Еще раз ящик с виноградом сыграл роль посредника между нами. Я снова нашел в ней сдержанную, но полную внимания слушательницу и, разоткровенничавшись, рассказал ей о себе самом, о своем доме и о близких. Я боялся, что моя болтовня надоест ей, но она слушала с широко открытыми глазами, время от времени сочувственно кивая головой. Тем не менее она опять не проронила словечка о своих собственных делах, так что, когда я снова оставил их, то почувствовал себя больше, чем когда-либо, в потемках.
На третий день я нашел старика на ногах, уже одетым. Берна была с ним. Она выглядела радостней и счастливей обыкновенного и приветствовала меня улыбающимся лицом. Немного спустя она обратилась ко мне:
― Мой дедушка играет на скрипке. Вы не будете иметь ничего против, если он сыграет несколько наших старинных народных песен. Это подкрепит его.
― Нет, пожалуйста, я бы охотно послушал.
Тогда она достала старую скрипку, и старик, любовно прижав ее к себе, мягко заиграл чарующую венгерскую песню; звуки навеяли на меня мысли о романтике, любви и ненависти, страсти и отчаяния. Он играл вещь за вещью, как бы изливая всю грусть и сердечное томление угнетенного народа, пока сердце мое не сжалось от сочувствия.
Странная музыка трепетала страстной нежностью и безнадежностью. Незаметно бледные сумерки вползали в маленькую каюту. Суровое прекрасное лицо старика дышало вдохновением. Девушка сидела неподвижная и бледная, сложив руки. Вдруг я заметил отблеск на ее щеке. То струились тихие слезы. Прощаясь с ней в этот вечер, я сказал: «Берна, эта наша последняя ночь на пароходе». ― «Да». ― «Завтра наши пути разойдутся, быть может, навсегда. Не придете ли вы сегодня ночью на минутку на палубу. Мне нужно поговорить с вами». ― «Поговорить со мной?» Она казалась удивленной и недоумевающей. Она заколебалась. ― «Пожалуйста, Берна, это единственный случай». ― «Хорошо», ― ответила она тихим голосом. Потом с любопытством взглянула на меня.
Глава IV
Она пришла на свидание прелестная и белая, как лилия. Она была легко одета и дрожала так, что я закутал ее в свое пальто. Мы пробрались на самый нос парохода, перешагнув через огромный якорь, и приютились в его углублении, чтобы укрыться от холодного ветра. Мы прорезали глянцевитую воду. Вокруг нас теснились угрюмые громады, то тут, то там мерцавшие зеленоватым ужасом льдин. Над головой в пустынном небе молодой месяц баюкал в своих объятиях старую луну.
«Берна?» ― «Да!» ― «Вы несчастливы, Берна, вы в большой тревоге, маленькая девочка. Я не знаю зачем вы направляетесь в эту забытую богом страну и почему вы с этими людьми. Я не хочу знать. Скажите мне только, не могу ли я сделать что-нибудь для вас, как-нибудь доказать вам, что я вам верный друг». Мой голос выдавал волнение. Я чувствовал около себя, как трепетала ее стройная фигурка в струившемся серебре зарождающегося месяца. Я видел ее лицо, бледное и томно нежное. Я ласково взял ее руку в свою. Она заговорила не сразу. Она долго сидела молча, как бы пораженная чем-то, как бы прислушиваясь к внутренней борьбе. Наконец, очень ласково, очень спокойно, очень нежно, взвешивая каждое слово, она заговорила:
― Нет, вы ничего не можете сделать. Вы были слишком добры все время. Вы единственный на пароходе, который был добр ко мне. Многие смотрели на меня. Вы ведь знаете, как мужчины смотрят на бедную беззащитную девушку, но вы совсем другой, вы благородны, вы искренни. Я видела это по вашему лицу, по вашим глазам. Я знала, что могу довериться вам. Вы были сама доброта для девушки, и я никогда не смогу отблагодарить вас.
― Полно, не говорите о благодарности, Берна, вы не знаете, каким счастьем для меня было помочь вам. Мне жаль, что я так мало сделал. О, я намерен быть искренним и откровенным с вами. Те немногие часы, которые мы провели вместе, заставили меня желать большего. Я одинокий бродяга. У меня никогда не было сестры или девушки-друга. Вы первая, и это было для меня, как внезапный солнечный свет. Так вот не могу ли я быть действительно на самом деле вашим другом, Берна, другом, который много сделал бы для вас? Дайте мне сделать что-нибудь, что бы то ни было, чтобы показать, как серьезно я понимаю это». ― «Да, я знаю. Так вот вы мой друг, мой истинный друг уже теперь». ― «Да, но, Берна. Завтра вы уйдете и, возможно, мы никогда больше не увидим друг друга. Что толку в этом». ― «Так чего же вы хотите. Мы оба сохраним воспоминания, очень нежные, милые воспоминания. Не правда ли? Верьте мне, так будет лучше. Вы не захотите иметь что-нибудь общее с такой девушкой, как я. Вы ничего не знаете обо мне и видите, с какими людьми я еду. Может быть, я такая же скверная, как они». ― «Не говорите так, Берна, ― возразил я решительно. ― Вы воплощение добра, чистоты и прелести». ― «О, вовсе нет. Во всех нас хорошее смешано с дурным, но я не так уж плоха. Во всяком случае с вашей стороны очень мило так хорошо думать обо мне. О, если бы я никогда не отправилась в это ужасное путешествие. Я не знаю даже, куда мы едем. И мне страшно, страшно». ― «Полно, маленькая девочка». ― «Да, я не могу сказать вам, до чего мне страшно. Край такой дикий и пустынный, мужчины похожи на грубых животных, а женщины, ну женщины еще хуже. И тут мы среди них». ― «Но, Берна, если дело обстоит так, почему бы вам с дедушкой не вернуться обратно. Зачем вам ехать?» ― «Он никогда не вернется назад. Он будет пробираться вперед, пока не умрет. Он знает только одно слово по-английски ― это «Клондайк, Клондайк». Он повторяет его тысячу раз в день. Ему мерещится золото блестящими грудами и он будет стремиться и бороться, пока не найдет его». ― «Но не можете ли вы вразумить его?» ― «О, это бесполезно. Ему было видение. Он похож на помешавшегося человека; он думает, что избран свыше и что ему откроется великое сокровище. Вы можете с таким же успехом вразумить камень. Все что я могу сделать ― это следовать за ним и заботиться о нем». ― «А как насчет Винкельштейнов?»
― О, это они причина всему, это они воспламенили его воображение. У него есть немного денег, сбережения всей жизни, около двух тысяч долларов; и с тех пор, как он приехал в эту страну, они все время стараются получить их. Они содержали маленький ресторан в Нью-Йорке и убеждали дедушку вложить свое состояние в это дело. Теперь они пользуются золотом, как приманкой, чтобы завлечь его туда. Они ограбят и убьют его в конце концов. Самое ужасное то, что он не алчный. Он хочет этого не для себя, а для меня. Вот что разрывает мое сердце». ― «Вы, наверное, ошибаетесь, Берна. Они не могут быть такими скверными». ― «Говорю вам, что они скверные люди. Муж, червяк, а жена воплощенный дьявол. Она сильна и неукротима в ярости, а когда напивается, это просто отвратительно… Я достаточно знаю это, ибо жила с ними в течение трех лет». ― «Где?» ― «В Нью-Йорке. Я приехала из Старого Света к ним. Они дали мне сначала место в ресторане. Затем немного спустя я получила работу в мастерской готового платья. Я была проворна и ловка и работала с утра до вечера, я посещала вечернюю школу и читала до боли в глазах. Говорили, что у меня есть способности. Учитель хотел, чтобы я доучилась и сделалась сама учительницей. Но об этом нечего было думать. Я должна была зарабатывать на жизнь и осталась в мастерской, работая без устали. Затем, когда я скопила несколько долларов, я выписала дедушку. Он приехал и мы зажили по-семейному и были очень счастливы некоторое время. Но Винкельштейны никогда не давали нам покоя. Они знали, что у него было скоплено немного денег и у них чесались руки от желания завладеть ими. Муж рассказывал нам всегда о способах быстрого обогащения, а она старалась запугать меня самым ужасным образом. Но я не боялась в Нью-Йорке. Здесь другое дело. Все вокруг так мрачно и зловеще. Я почувствовал, как она содрогнулась.
― О, Берна, ― сказал я, ― не могу ли я вам помочь?
Она грустно покачала головой.
― Нет, не можете, у вас самих достаточно забот. К тому же не стоит беспокоиться обо мне. Я не собиралась рассказывать вам все это, но теперь, если вы хотите быть истинным другом, уходите и забудьте меня. Вы не должны иметь ничего общего со мной. Подождите, я скажу вам еще кое-что: меня зовут Берна Вилович. Это имя дедушки. Моя мать убежала из дому, она вернулась через два года со мной. Вскоре после этого она умерла от чахотки. Она ни за что не хотела назвать моего отца, но говорила, что он был христианин и из хорошей семьи. Дедушка пытался отыскать его. Он убил бы этого человека. Итак, вы видите, у меня нет имени, я дитя позора и горя. А вы ― благородный и гордитесь вашей семьей. Посмотрите же теперь какого друга вы приобрели. Вы не захотите быть в дружбе с такой, как я.
― Я хочу быть в дружбе с тем, кто нуждается во мне. Что будет с вами, Берна?
― Что будет? Это неважно. О, я всегда жила в тревоге. У меня никогда в жизни не было вполне счастливого дня. Я и не жду его никогда. Я просто пойду до конца, терпеливо перенося все и извлекая из окружающего возможное утешение. Я думаю, что была предназначена к этому. ― Она пожала плечами и слегка вздрогнула. ― Отпустите меня теперь, друг мой, здесь холодно наверху, я продрогла. Не огорчайтесь так сильно. Я надеюсь, что все обойдется благополучно. Что-нибудь может случиться. Подбодритесь! Может быть, вы еще увидите меня королевой Клондайка.
Я чувствовал, что под ее внезапной веселостью скрывается черная бездна горечи и опасений. То, что она рассказала мне, сильно поразило меня. В стечении обстоятельств я чувствовал что-то гнусное, отталкивающее. Она поднялась и была готова переступить через лапу большого якоря, когда я вскочил на ноги.
― Берна, ― сказал я, ― то, что вы рассказали, надрывает мне сердце. ― Я не могу выразить вам, как мне тяжело. Неужели я ничего не могу сделать для вас, ничего такого, что бы доказало, что я друг не только на словах? О, я не могу так отпустить вас.
Луна зашла за облако. Мы были в глубокой тени. Она остановилась, так, что мы стояли почти не касаясь друг друга. Ее голос звучал трогательной покорностью.
― Что же вы можете сделать? Если бы мы могли идти туда вместе, все было бы иначе. Когда я впервые встретила вас, я начала надеяться, о, как я надеялась. Впрочем, неважно, на что я надеялась. Но поверьте мне, со мной не случится ничего дурного. Вы не забудете меня. Неправда ли?
― Забыть вас? Нет, Берна. Я никогда не забуду вас. У меня сердце разрывается от того, что я не в силах помочь вам сейчас, но мы встретимся там. Не может быть, чтобы мы расставались надолго. Ах, вы должны идти? Хорошо, хорошо, Берна.
― А я желаю вам счастья и успеха, мой дорогой друг.
Ее голос задрожал, как будто что-то душило ее. Она постояла с минуту, как будто не решаясь уйти. Вдруг сильная волна нежности и жалости нахлынула на меня и прежде, чем я понял, мои руки обвились вокруг нее. Она слабо сопротивлялась, но лицо ее было поднято и глаза сияли, как звезды. Затем на мгновение непостижимого восторга мои губы коснулись ее уст и я почувствовал их слабый ответ.
Бедные покорные губы… они были холодны как лед.
Глава V
Я никогда не забуду той минуты, когда увидел в последний раз ее беспомощную трогательную фигурку в черном, махавшую мне на прощанье, пока я стоял на пристани. Я помню низкий ворот ее платья, открывавший нежную белизну шеи, помню ее поникшую головку и шелковистый блеск ее волос. Серые глаза были ясны и спокойны, когда она прощалась со мной, и издали лицо ее своей трогательной прелестью напоминало мадонну. Они все направились через Дейю и старый мрачный Чайлькут с его вырытыми ураганами террасами, тогда как мы избрали менее крутую, но более длинную тропу через Скагвей. Среди них я увидел неразлучных близнецов ― мрачного Хьюсона и молчаливого Мервина; оба были спокойны и сосредоточены и как бы сберегали силы для страшной борьбы. Там же выделялась своей пошлостью мадам Винкельштейн, сверкающая драгоценностями, улыбками и грубыми шутками и возле нее ее надушенный супруг, отвратительно подмигивающий и улыбающийся; тут был и старик с лицом ветхозаветного пророка и мечтательными глазами, горевшими теперь огнем фанатического воодушевления, беспрестанно лепечущий: «Клондайк, Клондайк», и, наконец, рядом с ним, с слегка искаженной улыбкой, бледная девушка. Как болело за нее мое сердце. Но время нежных чувств миновало. Призыв к борьбе прозвучал. Путь призывал нас неумолимо. Настал час для каждого из нас проявить свою доблесть так, как он ни когда не проявлял ее раньше. Царство Мира кончилось. Битва начиналась.
Вокруг была неописуемая суета, беспорядок и волнение. Мужчины кричали, бранились, метались из стороны в сторону. Они ссорились из-за своих припасов, одурелые, с растерянным видом. Жажда неукротимой деятельности охватила их. Единственной мыслью было поскорей добраться до золота. Неистовый пыл властно увлекал их. Путь призывал их. Жажда золота тлела и разгоралась в их беспокойных взорах. В них просыпался дух золотоискателей.
Сотни разбросанных палаток, несколько деревянных зданий, большей частью салуны, кафешантаны и игорные дома, порывистая возбужденная толпа, теснящаяся по колено в грязи на плохо вымощенных улицах, спорящая, дерущаяся и ругающаяся за свои припасы, ― вот все, что я помню о Скагвей. Горы с обнаженными отвесными вершинами, казалось, давили жалкий город. И среди них, словно в гигантский рупор, завывал мощный ветер. Всюду господствовал полный произвол. Но это не трогало нас. Туги поджидали людей из Европы, как хищные звери.
Главой их был некий Смит по прозвищу Мыльный, с которым я имел удовольствие познакомиться. Это был очень общительный человек с приятной внешностью, и никто не принял бы его за отчаянного головореза и убийцу. Одно приключение в Скагвее до сих пор живо в моей памяти. Место действия ― салун. Мы с Блудным Сыном пьем пиво. В углу сидит опьяневший пожилой человек в полудремоте. Это долговязый, тощий малый с огрубелым лицом и желтой козлиной бородкой. Это самый оборванный, опустившийся старый грешник, какой когда-либо процветал в кабаке. Внезапно раздаются звуки выстрелов. Мы выскакиваем и видим двух тугов, стреляющих друг в друга, прикрывшись за углами противоположного дома.
― Эй, папаша. Посмотри-ка, палят! ― сказал хозяин бара.
Старик встал и поднял тупой добродушный взгляд.
― Палят, говоришь ты, тьфу! Эти молодцы и понятия не имеют о стрельбе. Старый папаша покажет им, как стреляют.
Он подходит к дверям и, вытащив старый заржавевший револьвер, стреляет в одного из дуэлянтов. Тот с воплем удивления и боли, ковыляя, убегает. Старик поворачивается к другому молодцу. Паф! Мы видим, как летят щепки и человек убегает сломя голову.
― Говорил вам, что покажу им как стреляют, ― замечает старый папаша. ― Спасибо, я опрокину рюмочку за свое здоровье.
Блудный Сын развил необыкновенную энергию и ловкость в то время. Он был неутомим, заботился обе всем и гордился своей ответственностью руководителя. Вечно жизнерадостный, всегда внимательный, он был мозгом и душой нашей компании. Он ни на минуту не падал духом и служил примером и поддержкой для всех нас, ибо к нам примкнул еще Банка Варенья. Это Блудный Сын открыл его. Это был высокий, опустившийся англичанин, худой, оборванный и вшивый, но с приметами аристократа. Он был равнодушен ко всему, кроме виски, и единственной заботой его было скрыться от друзей. Я обнаружил, что, он был когда-то офицером гусарского полка, хотя он явно избегал разговора о своем прошлом. Это было погибшее существо во всем значении этого слова. Север был для него пристанищем и полем неограниченных возможностей обогащения. Итак, мы разрешили ему присоединиться к нам, отчасти из жалости, отчасти надеясь помочь ему завоевать вновь свое человеческое достоинство.
Вьючные животные были в большом спросе, ибо фунт съестных припасов ценился наравне с фунтом золота. Старые лошади, годные только разве для живодерни, и нагруженные до того, что едва держались на ногах, подгонялись ударами по грязи. Всякая собака была ценностью, которую ловко похищали, как только она оставалась без присмотра. Овцам, отправляемым к мяснику, привязывали на спину мешки. Была даже попытка превратить в вьючных животных свиней, но они захрюкали, завизжали и опрокинули свой груз в лужу. Какое безумное волнение, какая брань и понукание, какая изумительная изобретательность нужны были для того, чтобы сдвинуться с места! Нам посчастливилось купить у экспедитора пару волов за четыреста долларов. В первый день мы перетащили половину нашего груза в Каньйон Сити и на второй еще столько же. Таким образом мы целиком выполнили наш план, хотя много раз застревали в тяжелых местах. Это было несложно. Но, какого труда это стоило! Вот выдержки из моего дневника за эти дни: «Выступили в четыре часа утра. Завтрак ― яблочные оладьи и кофе. Нашли одного вола издыхающим. Издох в семь часов. Запрягли оставшегося вола и двинулись с грузом вверх по ущелью. Дорога в ужасном состоянии, но все же тысячи надрываются, чтобы пробраться по ней. Лошади часто сваливаются в рытвины от десяти до пятнадцати футов глубины, стараясь протащить груз через валуны, которые делают путь почти непроходимым. Мы пробираемся с салазками по таким местам, через которые в другое время побоялись бы пройти без всякого груза. Снег за ночь выпал на два фута, но теперь идет дождь. Дождь и снег падают попеременно. По ночам жестоко холодно. Сегодня перетащили пять партий груза в Каньйон. Кончили последний рейс около полуночи и вернулись замерзшие, промокшие, разбитые». Этот день очень показателен и таких было еще много перед нами, пока мы доберемся до воды. Медленно, с бесконечным напряжением, с трудом и неимоверными усилиями делая каждый шаг, мы перевозили наши огромные припасы вперед от стоянки к стоянке. Это все были тяжкие мучительные дни, полные лишений. Но все же шаг за шагом мы подвигались вперед. Впереди и позади нас толпа двигалась неудержимо. Черную реку муравьев напоминали они, между громадами, круто воздымавшими грозящие гибелью ледяные вершины. В темноте ночи армия забывалась неспокойным сном и при первом проблеске зари приходила в движение. Это было бесконечное шествие, в котором каждый человек был предоставлен самому себе. Я точно сейчас вижу, как они двигаются, согнувшись под ношами, с усилием таща за собой салазки, стегая своих лошадей и волов. Их лица сморщены и искажены от усталости, воздух резок от их ругательств и тяжел от их стонов. Вдруг лошадь спотыкается и скользит в одну из размытых ям на краю дороги. Никто не может пройти. Шествие задержано. Закоченевшие пальцы распрягают бедное замерзшее животное и вытаскивают его из воды. Люди, обезумев от ярости, свирепо бьют своих навьюченных животных, чтобы наверстать потерянное, драгоценное время. Нет больше сострадания, человечности, дружбы. Всюду богохульство, неистовство и непреклонная решимость. Это дух Золотой Тропы.
У выхода из ущелья была большая стоянка, в которой заметно выделялась братия картежников. Дюжина их шумно занималась своим делом за зелеными столиками. Они устроились лагерем по одну сторону ущелья.
Был вечер и мы втроем, Блудный Сын, Блаженный Джим и я, пробрались к тому месту, где человек обыгрывая других в три раковины.
― Эге, ― сказал Блудный Сын, ― это наш старый друг Джек. Он уже содрал с меня сотнягу на пароходе. Любопытно, как это он проделывает.
Это был Мошер, со своей лысой головой, своими зоркими глазками, своим плоским носом, своей черной бородой. Я заметил, как Джим насупился. Он всегда проявлял непреодолимое отвращение к этому человеку, и я часто недоумевал о причине этого. Мы стояли неподалеку. Толпа постепенно расходилась и рассеивалась, пока наконец остался только один человек. Это был один из рослых молодых людей из Миннесоты. Мы услышали зычный голос Мошера. «Ну-ка, товарищ, ставлю десять долларов, что вы не угадаете, где фасоль. Смотрите, я кладу ее под раковину здесь перед вашими глазами. Ну-ка, где он теперь?
― Здесь, ― сказал человек, дотрагиваясь до одной из раковин.
― Угадал, мой милый. Вот ваша десятка.
Человек из Миннесоты взял деньги и отошел.
― Стойте, ― закричал Мошер, ― почему я знаю, были ли у вас деньги, чтобы покрыть ставку?
Человек засмеялся и вынул из кармана пачку билетов в дюйм толщиной.
― Этого хватило бы, неправда ли?
С быстротой молнии Мошер вырвал у него билеты, и человек из Миннесоты увидел перед собой дуло шестистволки.
― Деньги эти мои. И теперь проваливайте.
Одно мгновение ― и выстрел прозвучал. Я увидел, как оружие вывалилось из рук Мошера и связка билетов упала на землю. Человек из Миннесоты быстро поднял ее и помчался предупредить своих. Миннесотцы достали свои винчестеры и стрельба началась. Игроки покинули свой лагерь, укрылись за валунами, покрывавшими склоны ущелья, и открыли стрельбу по своим противникам. Началось правильное сражение, продолжавшееся до наступления ночи. Насколько я знаю, при этом произошел только один несчастный случай. Один швед, находившийся на расстоянии полумили впереди на дороге, был ранен осколком пули в щеку. Он пожаловался старосте. Этот достойный человек, сидя верхом на своей лошади, посмотрел на него минуту и энергично сплюнул. «Ничего не могу поделать, Оле. Вот что я скажу вам: в следующий раз, когда пули будут летать в этой части страны, не ходите по дороге, распустив ваши пышные усы. Вот что!»
В эту ночь я спросил Джима: «Как вы это сделали?» Он засмеялся и показал мне в кармане пальто дыру, прожженную пулей.
― Вот видишь, я прошел сам через все это, и я знал, что должно произойти и приготовился.
― Хорошо, что вы не ранили его тяжелей.
― Подожди еще, сынок, подожди еще. Мне что-то очень знаком этот Джек Мошер. Он удивительно напоминает некоего Сема Мозли, которым я очень интересуюсь. Я как раз написал письмо в ту сторону, чтобы разузнать. И если это он, тогда я спасен.
― А кто был Сем Мозли, Джим?
― Сем Мозли? Сем Мозли ― был вонючий хорек, который разрушил мой дом и украл у меня жену. Будь он проклят!
Глава VI
День за днем мы истощали в конец наши силы в пути и спускающаяся ночь находила нас совершенно обессиленными. Блаженный Джим проявлял неистощимую изобретательность и ловкость. Блудный Сын напоминал динамо неограниченной энергии. Но особенно отличался своей поразительной неутомимой доблестью Банка Варенья. Не знаю, из чувства ли благодарности или из желания заглушить гложущую тоску, но только он наполнял весь день безжалостными усилиями. Любопытный человек был Банка Варенья по имени Бриан Венлес, мировой бродяга, отверженец семи британских морей. Если бы его история была записана, это был бы человеческий документ, полный захватывающего интереса. Он, должно быть, был когда-то прекрасным малым и даже теперь, опустившись физически и нравственно, казался джентльменом среди этой толпы, благодаря своей неутомимой отваге и надменному нраву. У него слово всегда сопровождалось ударом, и бой длился до печального конца. Он держался особняком, надменно и вызывающе, и всегда искал ссоры. Мрачный и молчаливый с людьми, Банка Варенья выказывал нежную привязанность к животным. Он с самого начала стал заботиться о нашем быке; но особенно сильна была в нем любовь к лошадям, так что в пути, где царила жестокость, он постоянно находился под угрозой ссоры.
― Это большой человек, ― сказал мне Блудный Сын, ― боец с головы до пят. Только одного он не может побороть ― старину Виски. Но в пути каждый был борцом. Нужно было сражаться или погибнуть, ибо путь не терпел малодушных. Хороший или дурной мужчина должен был быть мужчиной в основном смысле этого слова: властным, свирепым и выносливым. Путь был неумолим. С первого шага он взывал к сильным и отбрасывал слабых. Я видел, как на пароходе эти люди питали свое тщеславие глупыми фантазиями и предавались разгулу, воспламененные пылкими надеждами. Мне предстояло увидеть их покоренными, усмиренными, подавленными, чующими каждый по своему угрозу и враждебность пути.
Мне предстояло увидеть, как слабые зашатаются и упадут на краю дороги. Мне предстояло увидеть, как малодушные упадут духом и повернут назад. Но мне предстояло увидеть и то, как сильные и храбрые сделаются свирепыми и необузданными в этой отчаянной борьбе и, стянув свои пояса, решительно пойдут вперед навстречу жестокому концу. Так избирал путь свои жертвы. И так это произошло, из страсти, отчаяния и поражения создался дух Пути.
Дух Золотого Пути. Как мне описать его? Он опирался на тот основной инстинкт самосохранения, который залегает у нас под тонким слоем человечности. Он воплощал мятеж и безначалие. Он был безжалостен, надменен и груб. Это был человек каменного века в современной оболочке, потрясающий своим неистовством, в беспрестанной борьбе с силами природы.
Пришпоренные лихорадочной жаждой золота, подстрекаемые страхом быть побежденными в состязании, обезумевшие от трудностей и лишений в дороге, люди превращались в демонов жестокости и вражды, безжалостно отталкивая и приканчивая слабых, преграждавших им путь. Жалости, человечности, любви не оставалось и следа. Всеми владела лишь жажда золота, торжествующая и отвратительная. Это была победа наиболее приспособленных, упорных и жестоких, и все же на всем этом лежало какое-то грозное величие. То было варварское нашествие, войско, в котором каждый человек сражался сам за себя под знаменем золота. Это было завоевание. Каждый день, наблюдая этот человеческий поток, я размышлял о том, как он был могуч и неудержим. Это был эпос. Это была история. Мне пришлось увидеть много тяжелого: одни с угрюмыми, отчаянными лицами бросали свои припасы в снег и поворачивали обратно с сокрушенным сердцем; другие, изнуренные вконец, шатаясь, слепо устремлялись вперед, чтобы вскоре тяжело опуститься на краю дороги в жестокий холод и зловещий мрак. Те и другие были слабы. Много страшного пришлось мне увидеть: люди проклинали друг друга, проклинали путь, проклинали своего бога и как отголосок этих проклятий, звучал скрежет их зубов и стук падения. Потом они обращали свою ярость и досаду на бедных бессловесных животных. О, какая жестокость царила там! Жизнь животного не ставилась ни во что. Это была дань Пути, это были жертвы на алтарь человеческой алчности. Задолго до рассвета караван просыпался, и воздух наполнялся запахом еды, состоявшей большею частью из подгоревшей похлебки, ибо котлы чистились лишь в редких случаях, а тарелки также редко мылись. Вскоре далеко растянувшаяся армия пускалась в путь. Измученные животные надрывались под своей поклажей, погонщики бранили и стегали их. Все мужчины обросли бородой и носили малицы. Многие женщины также сбросили юбки, так что трудно было на близком расстоянии определить пол человека. На салазках были устроены палатки, из которых выглядывали лица детей и женщин. Это была необыкновенная процессия. Все классы, все национальности, седые бороды и юноши, священники и проститутки, богатые и бедные, дефилировали тысячами, неодолимо притягиваемые золотым магнитом.
Однажды, когда мы подвигались с грузом, впереди произошла заминка в движении и мы с Банкой Варенья отправились разузнать в чем дело. Оказалось, что наш старый друг Бульгамер попал в беду. У него была довольно хорошая лошадь. На краю рытвины с водой его салазки затормозились и соскользнули вниз в воду. Теперь он безжалостно колотил животное, неистовствуя, как помешанный, бранясь в припадке бешеной ярости. Лошадь делала самые доблестные усилия, какие мне приходилось когда-либо видеть, но с каждой новой попыткой ее силы ослабевали. Время от времени она падала на свои стертые окровавленные колени. На ней не было сухого волоска, она вся блестела от пота, и если когда-либо глаза бессловесного животного говорили об агонии и ужасе, то это были глаза этой лошади. Но Бульгамер все больше ожесточался с каждой минутой, раздирал ей рот и бил дубиной по голове. Это было отвратительное зрелище и, несмотря на то, что я успел уже привыкнуть к бесчеловечности армии, я вступился бы, если бы Банка Варенья не выскочил вперед. Он был бледен как смерть, глаза его горели. «Эй, вы, жестокое животное, если вы еще раз ударите эту лошадь, то я сломаю вашу дубину на вашей спине». Бульгамер обернулся к нему, он остолбенел от удивления, злоба душила его. Оба они были рослые, крепкие ребята и теперь они выстроились друг против друга. Бульгамер сказал: «Проваливайте к дьяволу. Не суйтесь в мои дела. Я выколочу черта из своей лошади, если пожелаю, и вы не посмеете сказать слова, слышите».
С этими словами он нанес лошади еще один ужасный удар по голове. Произошла короткая борьба. Палка была вырвана из рук Бульгамера. Я видел, как она опустилась дважды. Человек барахтался на спине, тогда как Банка Варенья со свирепым видом стоял над ним. Лошадь медленно погружалась в воду. «Эй, ты ― мерзавец. Я с удовольствием выколотил бы из тебя дух, но ты не стоишь этого. Ах ты пес!»
Он дал пинка Бульгамеру. Тот встал на ноги. Он был труслив, но его свиные глазки горели бессильной яростью. Он посмотрел на свою лошадь, которая дрожа лежала в ледяной воде: «Тогда вытаскивайте лошадь сами, чтоб вас черт побрал. Делайте с ней что хотите. Но, помните, я рассчитаюсь даже с вами за это… Я… рассчитаюсь… даже…» Он погрозил кулаком и с ужасным ругательством удалился. Препятствие на дороге было устранено. Шествие снова пришло в движение. Мы вытащили затонувшую лошадь при помощи вола. Благодаря Банке Варенья, который выказал немалое ветеринарное искусство, через несколько дней она снова была в силах работать.
Прошла еще неделя, мы все еще находились в пути, между начатом ущелья и вершиной перевала. День за днем повторялся тот же ряд непоколебимых усилий в условиях, которые ужаснули бы каждого, кроме выносливых сердец. Путь был в ужасном состоянии, местами почти непроходим и много раз, если бы не непоколебимая стойкость Блудного Сына, я повернул бы обратно. У него было обыкновение смеяться над неудачами и внушать бодрость, когда обстоятельства, казалось, превосходили всякую выносливость.
Вот другой день, выбранный из моего дневника:
«Встали в 4.30 утра и начали подниматься вверх с грузом. Путь завалило снегом и мы ужасно измучились, расчищая его. Груз переворачивался бесконечное количество раз. Достигли вершины в 3 часа. Вол утомился. Пытается улечься на землю через каждые несколько шагов. Жестокий мороз, и нам с трудом удается уберечь ноги и руки от замерзания. Продолжаем продвигаться по направлению к Бальзам Сити. Прибыли туда около 10 часов вечера. Одежка промерзла насквозь и затвердела от холода. Снег от 7 до 10 футов глубиной. Леса нет на расстоянии 1/4 мили, да и там только мелкое бальзамное дерево. Пришлось идти за дровами. С большим трудом удалось развести огонь. Было уже около полуночи, когда костер разгорелся и сварился ужин. 18 часов в пути без настоящей пищи. О, как тяжела дорога в Клондайк!».
И все же я думаю, что по сравнению с другими мы преодолевали путь сравнительно хорошо. С каждым днем, по мере того, как дорога делалась все тяжелее, возрастали страдания и лишения и для многих название Белого Ущелья звучало как похоронный звон надежде. Я видел, как бледнели их лица, когда они смотрели вверх на белую громаду. Я видел, как они подтягивали ремни своих узлов, стискивали зубы и начинали карабкаться. Видел, как напрягался каждый мускул, когда они ползли вверх, как углублялись жесткие складки вокруг их ртов, а глаза наполнялись беспросветным страданием и отчаянием. Я видел, как они задыхались на каждом шагу, измученные усталостью, спотыкаясь и шатаясь под тяжелыми ношами. Это были слабейшие, которые рано или поздно отказывались от борьбы.
Но были и сильные, безжалостные, которые бросили человечность дома, которые стегали своих надрывающихся, изнуренных вьючных животных, пока они не падали и тогда с проклятьем бросали их на произвол судьбы.
Высоко-высоко над нами чудовищные горы уходили в облака, так что трудно было отличить гору от облака. Это были гигантские вершины, вздымавшиеся к звездам, туда, где вскармливаются вьюги, где зарождаются бурные ветры, величавые грозные родичи бури и грома. Я ощущал их беспредельное величие. Казалось, будто кто-то нагромоздил вершину на вершину, как мешки с мукой. Джим говаривал иногда: «Скажи-ка, не свернем ли мы себе шею, глазея на эти горы?» Как похожа на муравьев была черная Армия, карабкающаяся по обледеневшему ущелью, цепляющаяся за его скользкую поверхность в слепящем вихре снега и дождя. Люди срывались с его краев, не вызывая ни в ком ни жалости, ни беспокойства. Пробел замыкался, не заботясь о тех, кто падал, и движение продолжалось. Великая армия карабкалась на вершину и переваливала через нее. Далеко позади можно было видеть их: сотни, тысячи, бесчисленное множество, все с именем Клондайка на устах и жаждой обладания золотом в сердцах. Это был Великий Поход.
«Клондайк или Гибель» ― был пароль. Он не сходил с уст этих бородатых мужчин.
«Клондайк или Гибель!» Сильный человек с бесконечным терпением выправлял свои перевернувшиеся санки и проталкивал их через сугробы снега в лицо слепящей вьюге. «Клондайк или Гибель!» Усталый измученный дорогой путник поднимался из ямы, в которую свалился, и, окоченевший, истерзанный болью, упорно стиснув зубы, тащился еще несколько шагов.
«Клондайк или Гибель»! Фанатик предприятия, обезумевший от жажды золота, проявлял безрассудную выносливость, пока природа не возмутилась и его не унесли, бредящего и вопящего, умирать.
― Это товарищ Джо, ― сказал кто-то, когда навьюченная лошадь спускалась вниз по тропинке с привязанным к ней мертвым окоченевшим телом.
― Джо был такой весельчак! Вечно шутил или поддразнивал кого-нибудь. И вот Джо.
Двое усталых, убитых горем людей спускались с салазками нам навстречу.
К салазкам был привязан человек. У него был сильный жар. Он бредил и метался. Его товарищи, сами полупомешанные от страданий, не обращая внимания, продолжали спускаться. Я узнал банковского клерка и профессора и окликнул их. Их глаза устремились на меня из черных впадин, не узнавая, и я увидел, как изнурены были их лица.
― Спинномозговой менингит, ― сказали они кратко. Они везли его вниз в госпиталь. Я всмотрелся и узнал в этой маске ужаса и агонии знакомое лицо резчика.
Он уставился на меня диким горящим взглядом:
― Я богат! ― закричал он. ― Богат. Я нашел его ― золото, миллионами, миллионами. Теперь я возвращаюсь обратно, чтобы проживать его. Конец холоду, страданиям и бедности, я возвращаюсь туда, чтобы жить, чтобы жить!
Бедный Глобсток. Он умер там. Его похоронили в безымянной могиле. Мне думается, что старушка мать до сих пор ждет его обратно. Он был ее единственным утешением, единственным существом, ради которого она жила, добрый, ласковый сын, человек, полный святой простоты и милосердия. Теперь он покоится под сенью этих суровых гор в безвестной могиле. Золотой Путь потребовал свою дань.
Глава VII
Это было в Бальзам-Сити. Дела шли плохо. Маркс и Бульгамер заключили товарищество с полукровкой, профессором и банковским клерком и на двух последних это соглашение сказывалось печальным образом. Причиной всему был Маркс. В лучшие времена он был сварливым и придирчивым брюзгой, а в пути, который мог бы испортить характер ангелу, его желчный нрав превратился для всех в бельмо на глазу. Он непрерывно рычал и в короткое время заставил двух слабейших лизать свои следы. Он любил рассказывать о тех, которые пытались противиться ему, и все же «сковырнулись», о метких выстрелах и смертельных ножевых ударах, в которых он проявил хладнокровную жестокость. Профессор и банковский клерк были люди мирные и очень впечатлительные, поэтому они исполнились благоговейного страха и готовы были стать на голову по его приказанию. На метиса, однако, его стращание не действовало. В то время как те двое дрожали, когда он хмурился, и подстерегали каждое его движение, человек индейской крови не обращал на него внимания и лицо его ничего не выражало. Этим он заслужил сильную неприязнь Маркса. Дела шли все хуже и хуже. Придирчивость Маркса становилась день ото дня невыносимей. Он обращался с остальными, как с низшей расой И при каждом удобном случае старался завязать ссору с метисом. Но последний, прикрываясь своей индийской флегмой, только тупо взирал на него. Маркс принял это за трусость и усвоил себе привычку обзывать метиса скверными словами, в особенности такими, которые бросали тень на доброе имя его матери. Метис по-прежнему не обращал на это внимания, но в его обращении появилась пренебрежительность, которая уязвляла сильнее слов. Таково было положение дел, когда мы с Блудным Сыном посетили их однажды вечером. Маркс пьянствовал весь день и превратил жизнь остальных в маленький ад. Когда мы пришли, он был уже вполне созревшим для ссоры. Блудный Сын предложил игру в покер и они вчетвером, он сам, Маркс, Бульгамер и метис, уселись за карты. Сначала они установили предел для ставки в десять центов, скоро лимит вырос в двадцать пять. Но спустя некоторое время никакого предела, кроме крыши, уже не существовало. Бутылка переходила от одного к другому и несколько крупных котлов было уже разыграно. Бульгамер и Блудный Сын были близки к банкротству, Маркс сильно проигрывал, тогда как метис неизменно увеличивал свою кучу фишек. По прихоти судьбы два человека, казалось, беспрерывно стирали один другого в порошок. С каждым разом они все сильнее возбуждали друг друга, пока наконец Маркс не объявлял игру, но при этом всегда оказывалась лучшая карта у его противника. Это могло довести до отчаяния, свести с ума, особенно когда Маркс несколько раз сам открывал игру впустую. Казалось, будто сам дух невезения вселился в него, и по мере того, как игра затягивалась, Маркс все более багровел и раздражался. Он бранился вслух. У него всякий раз были хорошие карты, но тот неизменно ухитрялся обыграть его. Он готов был лопнуть от злости и держал себя вызывающе. Метис предложил выйти из игры, но Маркс не захотел слышать об этом. «Продолжай, ты, негр, ― закричал он, ― не увертывайся, дай мне возможность отыграть свои деньги». Таким образом, они уселись снова и сдали карты. После второго круга остальные отпали и Маркс с Метисом были оставлены вдвоем. Метис был неподражаемо хладнокровен, его лицо напоминало превосходную маску. Маркс также неожиданно стал очень спокоен. Они начали набавлять. Оба, казалось, имели кучу денег и, начав с десяти и двадцати, быстро дошли до пятидесяти долларов за ставку. Зрелище начинало приобретать захватывающий интерес. Можно было услышать падение иголки. Бульгамер и Блудный Сын хладнокровно наблюдали. У Маркса выступил пот на лбу, тогда как Метис оставался вполне спокойным. В котле было около трехсот долларов, тут Маркс не выдержал: «Я прибавляю сотню, ― закричал он, ― смотри!» Он с видом победителя открыл свои карты. «Ну-ка, теперь побей это ты, вонючий мул». Произошла заметная пауза. Мне было жаль Метиса. Он не был в состоянии покрыть такой проигрыш, но лицо его не выражало и тени волнения. Он открыл свои карты, и тут у всех нас вырвался крик недоверия и удивления, ибо Метис открыл королевский флеш ― в бубнах. Маркс вскочил. Теперь он был бледен от ярости. «Ах, ты подлая свинья, нечистый дьявол». Он быстро ударил противника по лицу, окровавив его. Я думал с минуту, что Метис вернет удар. В его глазах появилось выражение холодной смертельной ненависти. Но нет. Быстро согнувшись, он схватил деньги и выскользнул из палатки. Мы посмотрели друг на друга.
― Необыкновенное счастье, ― сказал Блудный Сын.
― Необыкновенное жульничество! Не говорите мне, что это счастье. Он мошенник, грязный вор, но я прищемлю его. Он должен драться теперь. Он будет драться на ружьях, и я убью этого сукина сына. ― Он пил большими глотками из бутылки, сам раздувая в себе неудержимую ярость площадной бранью. Наконец он вышел, еще раз поклявшись, что убьет Метиса, и направился к другой палатке, откуда доносились звуки шумного веселья. Смутно предчувствуя беду, мы с Блудным Сыном не ложились и продолжали сидеть, беседуя. Вдруг я заметил, что он насторожился. «Тсс, слышишь?»
Мне почудился звук, похожий на яростный рев дикого зверя.
Мы выбежали. Это был Маркс, бежавший к нам. Он обезумел от напитков и размахивал в руке ружьем. На губах его была пена и он кричал на бегу. Затем мы увидели, как он остановился перед палаткой, занятой Метисом, и откинул завесу. ― «Выходи, грязный жулик, мошенник, индейский ублюдок. Выходи драться». ― Он ворвался внутрь и снова выбежал, таща за собой Метиса на расстоянии руки. Они вцепились друг в друга, но мы бросились и разняли их. Я держал Маркса, но он неожиданно отбросил меня и, выхватив револьвер, выпустил один заряд, крича: «Отстаньте вы все, отстаньте, дайте мне застрелить его. Это моя добыча!» ― Мы довольно быстро отступили, ибо, Маркс разошелся вовсю. По существу мы все нуждались в защите, кроме Метиса, который стоял прямо и спокойно. Маркс прицелился в противника, который хладнокровно выжидал. Маркс выстрелил и красная струйка показалась на рубашке его противника около плеча. Тогда случилось нечто. Рука Метиса быстро поднялась и шестистволка щелкнула два раза. Он повернулся к нам: «Я не хотел этого, но вы видите. Он принудил меня. Мне очень жаль. Он принудил меня к этому».
Маркс лежал пластом, как мешок. У него было прострелено сердце и он был мертв.
Глава VIII
Мы были на стоянке в Райской Долине. Впереди и позади нас с бесконечным трудом пробивалась Чичакская армия. Мы много выстрадали, но путь близился к концу. И к какому концу! С каждой милей бедствия и трудности, казалось, возрастали.
Наконец мы подошли к дороге Павших Лошадей. Мы встречали мертвых животных в большом количестве на протяжении всего пути, но то, что представилось нам, когда мы подошли к этому месту, не поддается описанию. Здесь они лежали тысячами. В одну ночь мы перетащили шесть трупов, чтобы очистить место для палатки. Они лежали там, отвратительно разбухшие, ребра их просовывались сквозь кожу и глаза гнили на солнце. Это напоминало поле сражения своим гнетущим безобразием.
С каждым днем число их увеличивалось. Тропа шла по большим валунам, покрытым заледеневшим снегом, в который усталые животные проваливались по брюхо. Отчаянно борясь, они скользили вниз между валунами. Затем их ноги начинали хрустеть, как хворостинки, и тут их обыкновенно оставляли умирать.
Часто можно было видеть в расселине скалы защемленный обломок копыта или прицепившийся к уступу острый осколок ноги, в то время как лошадь, которой это принадлежало, лежала далеко оттуда. Можно было увидеть, как бедные животные устилали путь вплотную, голова к хвосту, ― на сотни ярдов в длину. Можно было увидеть, как они блуждали вокруг, покинутые и несчастные, в поисках пищи. Они подходили к стоянке ночью, издавая жалобное ржанье, с выражением ужасной мольбы на изголодавшихся мордах, пока кто-нибудь из жалости не приканчивал их. Я помню, как однажды ночью в темноте наткнулся на большую унылую лошадь. Она покачивалась из стороны в сторону, и я, приблизившись, увидел, что горло ее отвратительно перерезано. Она смотрела на меня с такой смертельной тоской, что я закрыл ей морду платком и ударом топора прекратил ее мучения. Самые умные лошади погибали первыми. Они надрывали свои силы в доблестных усилиях. Доведенные до отчаяния, они иногда убивали себя сами, бешено кидаясь на скалы. О, это было ужасно, ужасно! Наша собственная лошадь была обречена на гибель. Откровенно говоря, никто, кроме Банки Варенья, не был этим особенно огорчен. Если впереди была глубокая рытвина, лошадь неизменно погружалась в нее. Иногда нам приходилось дважды в день распрягать вола и при помощи его вытаскивать ее. На краю дороги было место, очищенное от снега и служившее живодерней. Туда-то мы привели ее со сломанной ногой и всадили ей пулю в голову. Пока мы возились, туда привели еще шесть других, чтобы застрелить.
Было воскресенье, и мы сидели в палатке, бесконечно наслаждаясь днем отдыха. Банка Варенья чинил кусок упряжи, Блудный Сын играл в соло. Блаженный Джим только что возвратился из путешествия в Скагуэй, где он надеялся найти письмо издалека, касающееся некоего Джека Мошера. Его обычно бодрое, приветливое лицо было мрачно и встревоженно. Он медленно снял свое покрытое снегом пальто.
― Я всегда говорил, что на этом клондайкском золоте лежит проклятье, ― сказал он, ― теперь я уверен в этом. Во что оно обойдется, сколько сердец разобьет, сколько очагов разрушит, никто никогда не узнает, во что оно уже обошлось. Но это последнее все же самое ужасное:
― Что случилось, Джим? Какое последнее?
― Да разве вы не слыхали? Так вот, нынче произошел снежный обвал на Чайлькуте, и несколько сот человек погребены. ― Я смотрел на него пораженный. Нас, живших изо дня в день под угрозой снежных обвалов, это бедствие наполнило ужасом.
― Не может быть, ― сказал Блудный Сын. ― Где?
― О, где-то около Линдемана. Сотни бедных грешников погибли, не имея возможности покаяться.
Он собирался уже сказать нам поучение по этому поводу, когда вмешался Блудный Сын.
― Несчастные! Я думаю, что мы знаем кое-кого из них. ― Он повернулся ко мне. ― Хотел бы я знать, не случилось ли чего с вашей маленькой подругой-полькой?
Мои мысли действительно как раз обратились к Берне. Среди испытаний в пути (когда нам приходилось сосредоточивать все мысли на треволнениях минуты, а каждая минута была полна своих треволнений) оставалось мало времени для размышлений. Тем не менее образ ее был всегда передо мною и мысли о ней приходили мне в голову, когда я меньше всего ждал их. Жалость, нежность и большая доля тревоги наполняли мои думы. Часто я задавал себе вопрос, увижу ли я ее еще раз. Радость и сильное томление охватывали меня, когда я мечтал об этом.
При этих словах Блудного Сына казалось, будто все мои рассеянные чувства слились в одно. Могучее желание, доходившее почти до страданий, охватило меня. Мне кажется, что я был все время молчалив и серьезен, но, должно быть, сила моего желания внушила Блудному Сыну следующие слова:
― Послушай, старина, если тебе хочется прогуляться по Дейской дороге, я думаю, что смогу обойтись без тебя денек-другой.
― Да, правда, я хотел бы осмотреть путь.
― О, да, мы уже заметили твою пылкую любовь к путешествиям. Почему бы тебе не жениться на девушке? Ладно, навостри лыжи, старый дружище, и не пропадай слишком долго.
Итак, на следующее утро я отправился налегке в Беннет. Как легко было идти, не сгибаясь под ношей! И я быстро обогнал усталую толпу, с трудом заканчивающую последний переход. Я ожидал некоторого улучшения в самой дороге, но она, напротив, с каждым шагом делалась все безнадежнее и ужасней. Приходилось идти по колено в замерзшем снегу, под которым путь, казалось, был вымощен трупами павших лошадей. Я довольно долго задержался в Беннете в ожидании завтрака. Пирог, прибитый к крыше палатки, указывал ресторан, где я за доллар получил вкусное блюдо бобов со свиной грудинкой, кофе и пирожное. Рано утром я отправился в Линдеман. Воздух был чист и морозен и первые партии начинали уже подходить к Беннету, усталые и измученные. В пути человек заканчивал один рабочий день в 9 утра, второй к 4 часам пополудни, третий ― к наступлению ночи. Каким счастьем было освободиться от этого. Я подвигался вперед за передовым отрядом приближающейся армии, когда встретил Хьюсона и Мервина. Они, казалось, вполне приспособились и в кратчайшее время проделали путь с большим грузом. В противоположность изнуренным людям с измученными глазами и сморщенными исхудалыми лицами, они казались полными бодрости. До них дошли слухи о снежном обвале, но они не знали никаких подробностей. Я спросил о Берне и о старике. Они находились где-то позади между Чайлькутом и Линдеманом.
― Да, по всей вероятности, они погибли при обвале. До свидания.
Я устремился вперед, полный беспокойства. Черная река Чичакоу протекала через Линдеман. Только тут я ясно представил себе всю многочисленность другой надвигавшейся армии и могущество импульса, увлекавшего эти неукротимые атомы на север. Дул сильный ветер, и многие с большим успехом прикрепили паруса к своим салазкам. Я видел еврея, правившего волом, который тащил за собой четыре пары салазок. К каждой из них был прикреплен маленький парус. Вдруг вол обернулся и увидел паруса. Это было нечто, выходившее за пределы его опыта. С ревом ужаса он обратился в паническое бегство и помчался, преследуемый вопящим евреем, в то время как вещи скатывались во все стороны с цепи салазок. Когда я видел их в последний раз на далеком расстоянии, еврей и вол все еще бежали. Почему я так беспокоился о Берне? Я и сам не знал, но с каждой милей моя тревога возрастала. Мной владел темный, безрассудный страх. Я решил, что никогда не прощу себе, если с ней что-нибудь случится. Я рисовал ее себе распростертой, белой и холодной, как самый снег, с лицом, умиротворенным смертью. Почему я так мало думал о ней до сих пор! Я недостаточно ценил ее чарующую прелесть, ее нежность. Если бы только она уцелела теперь, я показал бы ей, каким преданным другом могу быть. Я защищал бы ее и был бы всегда рядом в час нужды. Но все же как глупо думать, что с ней что-нибудь случилось. На это был один шанс против ста. И тем не менее я рвался вперед. Я встретил близнецов. Они сообщили мне, что едва избежали обвала и не оправились еще от потрясений.
― Это произошло немного дальше по дороге, ― сказали они.
Я увидел людей, раскапывающих трупы. Они вырыли семнадцать трупов в это утро. Некоторые были раздавлены в лепешку.
Снова с болью в сердце я справился о Берне и ее дедушке. Близнец номер первый заявил, что они оба погребены под обвалом. У меня занялось дыхание и я почувствовал неожиданную слабость.
― Нет, ― сказал близнец номер второй, ― старик погиб, но девушка спаслась и почти обезумела от горя.
Снова я рванулся вперед. Группы людей раскапывали убитых. От времени до времени лопата натыкалась на руку или череп. Поднимался крик, и изуродованный труп вытаскивался. Я снова начал расспрашивать. Усердно копавший человек приостановил свою работу. Это был на вид придурковатый парень, и глаза его своим блеском напоминали сову.
― Да, это, должно быть, старик с бородой, которого они выкопали раньше из более низкой части обвала. Родственник его, по имени Винкельштейн вызвался позаботиться о нем. Его унесли вон в ту палатку. Никого не подпускают близко. ― Он указал на палатку на склоне горы. И я с тяжелым сердцем направился туда. Бедный старик, такой ласковый, такой благородный, со своей мечтой о золотом сокровище, которое должно было принести счастье другим. Это было жестоко, жестоко!
― Что вам здесь нужно, убирайтесь к черту! ― Слова сопровождались рычанием.
Я удивленно оглянулся вокруг. У входа в палатку, весь ощетинившись, как сторожевой пес, стоял Винкельштейн.
Глава IX
Я остолбенел на минуту, ибо совсем не ожидал такого «ласкового» приема.
― Убирайтесь отсюда! Вы не нужны здесь. Проваливайте! Брысь!
Я почувствовал, как дикая злоба поднялась во мне. Я измерил его глазами и решил, что легко осилю его.
― Я желаю, ― сказал я твердо, ― увидеть тело моего старого друга.
― Вы желаете, неужели? Ну, так можете желать сколько влезет, тем более, что здесь нет никакого тела.
― Вы лжец, ― сказал я, ― но не стоит тратить слов на вас. Я войду во что бы то ни стало. ― С этими словами я внезапно схватил его и с силой отбросил в сторону. Он зацепился ногой за один из канатов палатки и растянулся, поблескивая в мою сторону злыми глазами. ― А теперь, ― сказал я, ― у меня есть ружье, и если вы попробуете устроить мне какую-нибудь пакость, я пристукну вас так быстро, что вы не успеете даже сообразить, что с вами случилось. Внушение подействовало. Он поднялся на ноги и последовал за мной в палатку, как воплощение бессильной злобы. На полу лежал длинный предмет, покрытый одеялом. Со странным чувством невольного ужаса я поднял покрывало. Под ним был труп старика.
Он лежал на спине и не был лишен, как многие другие, подобия человека, хотя все же был достаточно страшен со своим посиневшим лицом и открытыми выкатившимися глазами. Отчего его пальцы были стерты до костей? Он, должно быть, отчаянно боролся голыми руками, чтобы карабкаться. Я никогда не забуду этих скрюченных, лишенных ногтей пальцев. Я ощупал его поясницу. Ха! Пояс с деньгами исчез.
― Винкельштейн, ― сказал я, повернувшись неожиданно к маленькому еврею, ― этот человек имел при себе две тысячи долларов. Куда вы девали их?
Он сильно вздрогнул. В глазах его появилось выражение страха. Оно исчезло, и лицо его исказилось яростью.
― У него ничего не было, ― взвизгнул он, ― у него не было медного гроша. Он не что иное, как старый нищий, которого я таскал за собой, чтобы он играл на скрипке. Он в долгу у меня. Будь он проклят. А вы-то тут при чем, вы, паршивый нахал, который смеет обвинять почтенного человека в том, что он обкрадывает трупы.
― Я был другом покойника. Я и сейчас друг его внучки. Я хочу восстановить справедливость. Этот человек носил на себе две тысячи долларов в поясе. Это принадлежит теперь девушке. Вы должны это отдать, Винкельштейн, или…
― Докажите это, докажите это, ― суетился он. ― Вы лжец, она лгунья, вы все шайка лгунов, старающихся очернить почтенного человека. Я утверждаю, что у него никогда не было денег, и если он когда-либо говорил это ― он лжец.
― О, подлая гадина, ― воскликнул я, ― это вы лжете. Я с удовольствием заткнул бы вашу грязную глотку, но я не отстану от вас, пока вы не выкашляете назад эти деньги. Где Берна?
Он сразу успокоился.
― Ищите ее, ― засмеялся он ядовито, ― ищите ее сами и убирайтесь с глаз моих как можно скорей. ― Я увидел, что он нащупал мое слабое место, и, погрозив ему на прощанье, вышел.
В одной из соседних палаток находился ресторан, куда я направился, чтобы выпить чашку кофе. Я расспросил прислуживавшего мне человека, жирного веселого малого, относительно девушки. Да, он знал ее. Она жила вон в той палатке с мадам Винкельштейн. Говорят, что она ужасно убивается по старику бедная девочка.
Я поблагодарил его, проглотил свой кофе и направился к палатке. Пола была спущена, но я постучал о парусину и тотчас же увидел мрачное лицо Мадам. Увидев меня, она сделалась еще мрачнее.
― Что вам нужно? ― спросила она.
― Я хочу видеть Берну, ― ответил я.
― Это невозможно. Ведь вы же слышите ее. Разве этого недостаточно? ― И я действительно слышал очень тихий жалобный звук, исходивший из палатки, что-то среднее между рычаньем и стонами, похожее на плач индусской женщины над покойником, только бесконечно более покорное и тоскливое. Я был потрясен, полон благоговения, неизмеримо грустен.
― Благодарю вас, ― сказал я. ― Простите. Я не хочу беспокоить ее в час горя. Я приду еще раз.
― Хорошо, ― засмеялась она ядовито, ― приходите еще раз.
Итак, мои ожидания не сбылись. Я подумал о возвращении, но потом решил воспользоваться случаем, чтобы осмотреть немного знаменитый Чайлькут и снова направился дальше. Лица тех сотен, которые я встречал, были те же, что попадались уже мне тысячами: отмеченные печатью пути, изборожденные складками страдания, измученные усталостью, помертвелые от отчаяния.
Здесь были та же безумная спешка, то же равнодушие к бедствиям, та же суровая стоическая выносливость.
Снежная буря бушевала на вершине Чайлькута и снег кружился, покрывая тысячи ям глубиной от десяти до пятнадцати футов, вырытых для сохранения припасов. Я стоял на вершине почти отвесного склона, который носил название «лестницы». В ледяной коре были вырублены ступени, по которым взбирались люди с тяжелыми ношами на спинах. Можно было подвигаться только гуськом. Эта была знаменитая «Человеческая Цепь». По краям дорожки на разных расстояниях были вырублены площадки, чтобы дать возможность обессилевшим выйти из цепи и передохнуть. Но если какой-нибудь изнуренный путник спотыкался и падал в одну из расселин, ряд быстро смыкался и никто не оглядывался на него. Люди надевали острые коньки, так что ноги их вонзались в скользкую поверхность. Многие из них имели палки, и все сгибались почти вдвое под своими мешками. Они не разговаривали, губы их были сурово сжаты, глаза неподвижно уставлены в одну точку и мрачны. Они наклоняли головы, чтобы укрыться от порывов резкого ветра, но в какую бы сторону они ни поворачивались, он неизменно дул им навстречу. Снег лежал толстым слоем на их плечах и покрывал их грудь, на их бородах блестели ледяные сосульки. Когда они поднимались со ступеньки на ступеньку, казалось, будто ноги их налиты свинцом, с таким трудом они переставляли их, и площадки для отдыха по пути никогда не пустовали. Видно было, как они шатались в ущелье, добравшись до вершины пути под порывами ветра, который, казалось, одним дуновением заметал все тропинки. Они ощупью находили ямы для припасов, вырытые лишь накануне и теперь покрытые глубоким снегом. Они спускались вниз с головокружительной быстротой, отгибаясь назад на свои палки, ибо спуск был похож на каток. В минуту они исчезали из глаз, но назавтра люди из Чайлькута появлялись вновь, и так повторялось каждый день. Крестный путь воистину был весь воплощен в муках этого подъема. Со своего места на вершине я видел, как людская цепь тянулась вверх звено за звеном, и каждое звено был человек. А когда они взбирались по безжалостной тропинке, на каждом человеческом лице можно было прочесть палимпсест его души.
О, что это было за зрелище, что за декорации! Путь 98-го года! Величайшее мужество, безумный ужас, властная алчность, самоотверженное жертвоприношение! Но над всем этим ― его жажда, его надежда, его страсть и мука ― властно царил отважный дух Открывающего Путь, отважного Пионера. Тогда я понял все до конца. Эти молчаливые, терпеливые труженики были завоеватели Великой Белой Страны, мужи Дальнего Севера, братья Полярного Хаоса. Ни одна сага не прославит их подвига, ни одно сказание не обессмертит их. Их имена будут записаны на снег, который растает и исчезнет под улыбкой весны. Но в делах своих они будут жить, и их неукротимый дух будет светить как маяк, озаряя мрачные своды Вечности.
Я провел эту ночь в бараке и на следующее утро снова наведался в палатку, где лежала Берна. На мой зов опять появилась мадам в пестром капоте, но на этот раз к моему удивлению, она была очень любезна:
― Нет, ― ответила она твердо, ― вы не можете увидеть девушку. Она совершенно лишилась сил. Мы дали ей сонный порошок, и теперь она спит. Но она очень больна, пришлось послать за доктором.
Делать было нечего. С тяжелым сердцем я поблагодарил ее, выразил свое сожаление и ушел. Я старался разобраться в том, что заставляло меня так беспокоиться за девушку. Я беспрерывно думал о ней с нежностью и тоской. Я так мало знал ее, но это «мало» так много значило для меня. Я находил грустную радость, вызывая в своем воображение ее образ. О, я может быть был глуп и молод, но я никогда еще не встречал девушки, которая нравилась бы мне, и это было очень, очень сладко.
Итак, я вернулся в ресторан и дал жирному малому записку, которую он обещал передать ей в руки. Я написал: «Дорогая Берна, не могу выразить вам, как глубоко я потрясен смертью вашего дедушки, как я сочувствую вам в вашем горе. Я свернул с другой дороги, чтобы повидать вас, но вы были слишком больны. Теперь я должен вернуться обратно. Если бы я только мог сказать вам слово, чтобы подкрепить вас! Я ужасно огорчен этим. Берна, дорогая, вернитесь, вернитесь обратно. Эта страна не для вас. Если я могу чем-нибудь помочь вам, Берна, дайте мне знать, если вы приедете в Беннет; я увижу вас там. Верьте мне, дорогая, мое сердце болит за вас. Будьте мужественны. Всегда преданный вам Этоль Мельдрум».
Затем я снова направился в Беннет.
Глава X
Наш последний груз был благополучно доставлен в Беннет, и путь закончен. Мы перетащили четыре тысячи фунтов снаряжения через тридцать семь миль расстояния, и это заняло почти месяц. Работая в среднем по пятнадцать часов в сутки, мы истощили вконец свои силы. Однако, оглядываясь назад, я думаю, что мы преодолели все скорее благодаря непоколебимой настойчивости и упорству, чем отчаянным усилиям и выносливости. Несомненно, что для огромного большинства путь означал только лишения, бедствия и страдания; но это была жалкая обольщенная толпа, которой никогда не следовало бы покидать своих плугов, конторок и прилавков. Были и другие, как мы, для которых все это в большей или меньшей степени было утомительно, но которые все же преодолевали препятствия вполне благополучно. Наконец, было меньшинство, для которого все это было лишь некоторым неудобством. Это были закаленные ветераны пути, для которых его испытания сводились к рабочему дню. Казалось, будто Великая Белая Страна испытывает нас, отделяет годных от негодных, свидетельствуя о себе, как о стране Сильного, стране Мужей.
И наша компания, действительно, вполне подходила для того, чтобы выдержать искус. Блудный Сын был полон непобедимого воодушевления и неистощимой изобретательности. Блаженный являлся кладезем предусмотрительности и знаний, тогда как Банка Варенья проявлял ненасытный аппетит к труду, и втроем мы справлялись в дороге лучше остальных.
Стоянка была расположена на узкой косе у воды между Линдеманом и Беннетом и, так как сено стоило двести пятьдесят долларов за тонну, мы первым делом закололи вола. Следующей заботой было соорудить лодку. Мы собирались было сами напилить доски, но строевой лес в окрестностях был редок или уже вырублен, так что в конце концов нам пришлось покупать его по двадцать центов за фут. Все мы были очень неопытные плотники, но все же, присматриваясь к другим, смастерили приличную лодку. Это были хлопотливые дни. Обе огромные чичакские армии соединились в Беннете, и вокруг озера расположились, должно быть, около тридцати тысяч человек. Ночь пылала бесчисленными кострами, день наполнялся жужжанием суетливой работы. Всюду раздавался грохот молота и визг пилы, всюду виднелись люди, с лихорадочной поспешностью мастерившие свои лодки. Много было прекрасных лодок, но еще больше корявых, сколоченных на скорую руку, любительских произведений. Некоторые из них имели форму упаковочного ящика и немалое число напоминало гробы. Все, что могло плыть и не пропускало воду, называлось «лодкой». О, как приятно было думать, что отныне нас понесет к цели быстрое, чистое течение. Не будет больше по колено замороженного наста, гниющего лошадиного мяса под ногами, слепящих вихрей и убийственных снежных заносов. Теперь синее небо осенит нас, ласковый ветерок обвеет нас, горячее солнце заключит нас в свои объятия. Конец жестоким заморозкам, зловещим зорям, тяжкому напряжению души и тела. Холмы оденутся изумрудной зеленью, дикий крокус будет радовать наш глаз, длинные ночи запылают закатами сказочного великолепия. Неудивительно, что в упоении переменой мы ликовали и трудились над своими лодками с переполненным сердцем. Впереди неотступно сверкал Золотой Магнит, вызывая в нас раздражение и злобу против крепкого льда, задерживавшего движение вперед. Дни стояли солнечные, и неистовая рать не спускала беспокойных глаз с тающего льда. Местами он был уже разрыхлен как медовые соты, местами разъедены и расщеплен на серебристые стрелы. То тут, то там он вздувался и раскалывался поперек, открывая зияющие щели. Потом он вновь внезапно оседал. На поверхности появлялись полосы воды и зеленоватые полыньи, слабо подмерзавшие за ночь. Огромными пылающими красными буквами озеро говорило об опасности. Оно готово было вскрыться и представляло сейчас смертельную западню; тем не менее смельчаки отправлялись через него, чтобы приблизиться к Золотой Цели. Много отчаянных игроков проиграли в этой игре, рассчитанной на слепое счастье. Много безрассудных так и не достигли берега. Никто никогда не узнает, сколько жертв поглотили эти черные бездонные воды. Это профессор открыл нам глаза на опасность переправы через озеро. Он не соглашался с банковским клерком насчет благоразумия отсрочки. Профессор утверждал, что опасности нет. Лед имеет четыре фута глубины. Обходите слабые места, и вы пройдете вполне благополучно. Он суетился, раздражался, доказывал и кричал. Они теряли драгоценное время ― время, от которого мог зависеть успех или неудача. Необходимо было опередить толпу. Он, по крайней мере, не трус; он все поставил на это путешествие. Он изучал записки полярных исследователей. Он надеется, что не одурачен, подобно другим. Если некоторые люди настолько трусливы, чтобы остаться ждать, ― он пойдет один.
Это кончилось тем, что в одно пасмурное утро он взял свою часть припасов и ушел один. Банковский клерк рассказывал, плача: «Бедный старина Понсбери. Несмотря на ругательства, которыми мы обменялись, мы все же расстались лучшими друзьями; мы пожали друг другу руки, и я пожелал ему удачи. Я видел, как он кружился и изворачивался между белыми и черными пластами льда. Долго я следил за ним со стесненным сердцем, но он, казалось, продвигался благополучно, и я начинал думать, что он был прав, и бранить себя дураком. Он уже сделался совсем маленьким вдали, когда вдруг исчез из моих глаз. Ни салазок, ни Понсбери не было. Бедный старый товарищ». Многие расставались таким образом на берегах Беннетского озера. Люди, пустившиеся в дорогу преданными друзьями, заканчивали ее врагами на всю жизнь. Характеры заострялись, сталкиваясь со злобой. Едва ли можно было винить их за это. Они не понимали того, что путь отнимал у человека все его благородство, терпение, снисходительность. Слабая человеческая природа немилосердно испытывалась и насиловалась, и самые любящие друзья превращались навеки в самых смертельных врагов.
Одним из примеров были близнецы:
― Послушай-ка, ― сказал мне как-то Блудный Сын, ― тебе следовало бы поглядеть на Ромула и Рома. Они дерутся, как кошка с собакой. Кажется, они порядком перессорились дорогой. Ты знаешь, как путь вызывает разлитие желчи в человеке, а они оба горячи, как Гадес. И вот, после одного особенно бурного вечера оба поклялись, что как только доберутся до Беннета, разделят имущество и пойдут каждый своей дорогой, совершенно самостоятельно. Тем не менее они кое-как помирились, когда добрались сюда и принялись за свою лодку. Теперь они, кажется, рассорились сильней, чем когда-либо. Ромул честит Рома и vice versa. Они выкапывают старые обиды детских дней и в результате снова порешили разделить свои припасы. Оба так взбешены, что готовы убить друг друга. Они собираются даже разрубить пополам лодку.
Эта была правда. Мы подошли, чтобы поглядеть на них. У обоих на лицах была жесткая решимость. Они пилили лодку пополам. Потом они все-таки кое-как наладили отношения и благополучно совершили переправу в Даусон. Лед шел быстро. Новые люди все прибывали с пути с потрясающими рассказами об ужасах. В Беннете царило возбуждение и кипучая деятельность. Тысячи неуклюжих лодок, плотов и плоскодонок ожидали спуска. Мелкие парусные суда начинали уже появляться из Линдемана, спускаясь по стремительному течению между двумя озерами. С места нашей стоянки мы следили за тем, как они проносились мимо. На пути их находились безобразные пороги и похожая на клык скала, о которую разбивалось много злополучных парусников.
Я не знаю более захватывающего зрелища, чем вид этих отважных аргонавтов, бросавшихся в водовороты, не зная, выйдут ли из них живыми. Взмах весла, несколько футов вправо или влево влекли за собой непоправимое несчастье. Бедные люди! Отчаяние, отражавшееся на их лицах, когда они, выбравшись на берег, промокшие насквозь, смотрели, как исчезали в яростной пене их драгоценные припасы, тронуло бы каменное сердце. Один из них как-то произнес с сердечной тоской:
― О, братцы, какой странный бог над нами!
Среди них был один человек, отправившийся через пролив в хорошей лодке с богатой экипировкой. Он протащил ее через всю тропу ценой бесконечного труда и утомления. Теперь сердце его было полно упований. Внезапно он очутился в водовороте. Потом перед ним выросла роковая скала. Его лицо помертвело от ужаса. Он прилагал неистовые усилия, стараясь миновать ее. Напрасно. Крах! Его хрупкая лодка разлетелась, как спичечная коробка. Но этот человек был мужествен. Он стиснул челюсти. Он еще раз проделал убийственный путь. Он закупил с большими издержками новое снаряжение и взял упаковщика, чтобы пронести его по дороге. Он сделал новую лодку и снова поплыл через узкий пролив. Лицо его было решительно и сурово. Внезапно, подобно железной Немезиде, перед ним вновь выросла зловещая скала. Он мужественно боролся, и снова течение как будто схватило его и бросило на этот убийственный клык. Снова он увидел, как с душу надрывающим трестом его запасы погрузились в бурлящую воду.
Сдался ли он? Нет. В третий раз он пробрался, усталый и истерзанный, через перевал. У него оставалось уже немного денег, и на это немногое он купил третью экипировку, жалкую трогательную тень двух прежних, но все же достаточную для отчаявшегося человека. Снова он переправил ее через путь, похожий теперь на сошествие в ад. Он добрался до реки и в третьей жалкой лодчонке снова поплыл через пролив. Перед ним были порывисто бурлящие пороги и безобразный клык скалы, окруженный обломками кораблекрушений. Еще мгновение, несколько футов, поворот весла ― и он благополучно миновал бы ее. Но нет. Скала, казалось, приворожила его, как глаза змеи привораживают птицу. Он смотрел на нее с ужасом, взглядом, полным смертельного страха и отчаяния, и затем в третий раз с ужасающим треском его хрупкая лодка была превращена в жалкие обломки. Теперь он был побежден. Он выбрался на берег и там, бросив последний взгляд на злобно рычащую воду и зубчатый силуэт зловещей скалы, всадил себе пулю в голову.
Лед растаял и вскрылся. Мы все готовились отплыть через несколько дней. Огромный лагерь был охвачен волнением. Все чувствовали необыкновенный подъем духа. Снова вперед, к Эльдорадо! Было около полуночи, но небо, на котором солнце только притаилось за гребнем гор, казалось светящимся зеленым морем, чарующе и странно гармонировавшим с унылой страной. В черном озере плескались волны, а скалистый высокий берег влево от меня казался мрачной твердыней теней. Я стоял один на берегу около нашей лодки в сумеречном свете и старался спокойно обдумать странные события, приключившиеся со мной. Очевидно, можно было еще найти немного романтики на этом старом свете, дав себе труд поискать ее. Вот я, загорелый, сильный, здоровый, прошедший через столько испытаний и стоявший на пороге новых приключений, которому между тем было предназначено прозябать на холмах Гленджайля, если бы не собственное закоренелое упорство. Могучая радость охватила меня, голос юности, честолюбия, стремление к победе. Я должен победить! Я вырву у молчаливого мрачного таинственного севера его сокровище, я должен победить! Молчаливо и задумчиво я смотрел на сияющее небо глазами, отуманенными грезами. Вдруг чья-то похожая на тень рука коснулась моего плеча. Я обернулся, сильно вздрогнув от неожиданности: Берна!
Глава XI
Плечи девушки были закутаны в тонкую черную шаль, но ледяной ветер, дувший с озера, заставлял ее дрожать, как ветку. Ее бледное восковое лицо имело удивительно одухотворенное выражение, и она смотрела на меня с прелестной, невыразимо жалкой улыбкой:
― Простите, что я испугала вас, но мне хотелось поблагодарить вас за письмо и за сочувствие. ― Это был тот же чистый голос, дрожавший от нежности. ― Видите ли, я теперь совсем одинока, ― голос задрожал, но мужественно продолжал: ― у меня нет никого, кто позаботился бы обо мне, и я была так несчастна, так несчастна, что не знаю, как осталась жива. Я знала, что вы забудете меня, и не сержусь на вас за это, но я не забывала вас никогда и мне хотелось еще раз повидать вас. ― Она говорила совершенно спокойно, без всякого волнения.
― Берна! ― воскликнул я, ― не говорите так, ваши упреки причиняют мне боль. Ведь я искал вас, но лагерь так велик… здесь столько тысяч людей. Время от времени я расспрашивал о вас, но никто не мог ничего сказать мне. Тогда я подумал, что вы, наверно, возвратились обратно, а тут подоспело такое хлопотливое время, постройка лодки и приготовления к отъезду. Но, Берна, я не забывал. Много, много ночей я провел без сна, думая, гадая, тоскуя по вас. Но, Берна, почему вы пришли сюда, вам следовало вернуться обратно?
― Вернуться обратно? ― повторила она. ― Я, конечно, сделала бы это. О, с какой радостью! Но вы не понимаете, ведь они не отпустили бы меня. Забрав все его деньги (а они забрали их, хотя и клянутся, что у него ничего не было), они заставили меня отправиться с собой. Они сказали, что я должна им за его похороны и за уход и за внимание, которое они оказывали мне во время болезни. Они сказали, что я должна ехать с ними и работать на них. Я протестовала. Я боролась, но это ни к чему не привело. Я ничего не могу сделать против них. Я слаба и ужасно боюсь ее.
Она вздрогнула, и в глазах ее отразился страх. Я положил руку на ее плечо и привлек ее к себе.
― Я просто убежала сегодня вечером. Она думает, что я сплю в палатке. Она стережет меня, как кошка, и едва позволяет с кем-нибудь разговаривать. Она такая большая и сильная. Я же такая незначительная и слабая. Она убьет меня когда-нибудь в припадке ярости. Она рассказывает всем, что я скверная, неблагодарная, все, что только можно придумать дурного. Однажды, когда я пригрозила, что убегу, она сказала, что обвинит меня в краже и упрячет в тюрьму. Вот какая эта женщина.
― Это ужасно, Берна, что же вы делали все это время?
― О, я работала, работала на них. Они открыли маленький ресторан, и я прислуживала у столиков. Я видела вас несколько раз, но вы были всегда слишком озабочены или погружены в мечты, чтобы заметить меня, а я не находила удобного случая заговорить. Но завтра мы спустимся по озеру, и потому я решила попрощаться с вами навсегда.
― Не говорите этого, ― сказал я, запинаясь, ― не говорите.
Ее голос звучал ровно, глаза были почти закрыты:
― Да, я боюсь, что должна сказать это. Когда мы уедем, это будет прощанье навеки. Чем меньше вы будете иметь дела со мной, тем лучше.
― Что вы хотите этим сказать?
― Я хочу сказать вот что: эти люди недостойные. Они подлые. Я должна идти с ними, я не могу уйти, и хотя я чиста, как была бы чиста ваша сестра, все же жизнь с ними запятнала меня в глазах всех. Я вижу это по тому, как относятся ко мне мужчины. Нет, идите своей дорогой и предоставьте меня той судьбе, которая ждет меня.
― Никогда, ― сказал я резко, ― за кого вы меня принимаете, Берна?
― За своего друга. Знаете, после его смерти, когда я была так несчастна, я хотела умереть. Потом я получила ваше письмо и решила, что должна еще раз увидеть вас, потому что я все время думала о вас. Но теперь это совсем почти прошло. Нам не следует больше думать друг о друге, и я хотела только передать вам кое-что, что бы напоминало иногда о Берне. (Это был жалкий маленький медальон с прядью ее шелковистых волос). Я знаю, что он ничего не стоит, но все же храните его ради меня.
― Конечно, Берна, я буду всегда хранить и носить его, но я не могу так отпустить вас. Подумайте, девочка, не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Что бы то ни было? Наверное, должен быть какой-нибудь выход! Берна, Берна, посмотрите на меня, послушайте меня, чем я могу помочь вам, скажите мне, скажите, моя девочка! ― Она ласково прильнула ко мне. Я право не знаю, как это случилось, но она очутилась в моих объятиях. Она казалась такой тонкой и хрупкой, что я боялся причинить ей боль; вдруг я почувствовал, что грудь ее стала тяжело подниматься и понял, что она плачет. Я дал ей немного поплакать, потом поднял ее белое личико, которое лежало на моем плече. Оно было мокро от слез. Я поцеловал ее раз, потом еще и еще. Она лежала покорно в моих объятиях, не стараясь вырваться или спрятать лицо, и, казалось, вся отдавалась мне. Я чувствовал на губах горечь ее слез. Но ее губы были холодны и не отвечали на мои поцелуи. Наконец, она заговорила и голос ее звучал, как слабый вздох.
― О, если б только это было возможно.
― Что, Берна, скажите мне, что?
― Если бы только вы могли отнять меня у них, защищать меня, заботиться обо мне. О, если б вы только могли жениться на мне, я была бы для вас самой преданной женой на свете. Я стерла бы до костей свои пальцы для вас. Я голодала бы и страдала бы для вас. Ради вас я обошла бы босая весь мир. О, дорогой мой, дорогой мой, пожалейте меня. ― Казалось, будто внезапно свет вспыхнул в моем мозгу, смущая и ослепляя меня. Я вспомнил о принцессе своих грез, вспомнил о маме и Гарри. Мог ли я привести ее к ним?
― Берна, ― сказал я сурово, ― посмотрите на меня? ― Она повиновалась. ― Берна, скажите мне, во имя всего, что для вас чисто и свято, любите ли вы меня? ― Она молча отвела глаза. ― Нет, Берна, вы не любите меня. Вы боитесь. Это не та любовь, о которой вы мечтали. Это не ваш идеал. Это будет благодарность и дружба, что-то вроде любви, но не тот могучий ослепительный свет, не та страсть, которая возносит до небес или низвергает в ад.
― Почем я знаю, может быть это придет со временем. Я очень хорошо отношусь к вам. Я всегда думаю о вас. Я буду вам верной и преданной женой.
― Я это знаю, Берна, но вы не любите, не любите меня. Видите, дорогая, это совсем другое. Вы можете прекрасно относиться ко мне до второго пришествия, но это не будет любовь. Это не будет та любовь, о которой я мечтал, которую я рисовал себе, по которой тосковал. ― В то время как я говорил все это, моя совесть язвительно шептала: «О, глупец, трус, лицемерный низкий трус. Эта девушка прибегает к тебе, к твоей чести, рыцарству, мужеству, а ты прячешься за стену условности». Тем не менее я продолжал: ― Вы, может быть, полюбите меня со временем, но нам следует немного подождать, крошка. Право, это будет благоразумней. Я очень, очень расположен к вам, но не знаю, люблю ли вас той великой любовью, какой любят люди. Нельзя ли нам немного подождать, Берна? Я буду смотреть за вами, дорогая. Не будет ли этого достаточно пока? ― Она освободилась из моих объятий.
― Да, я думаю, что этого будет достаточно. О, я никогда не прошу себе, что сказала вам это. Я не должна была делать этого, но я была в таком отчаянии. Вы не знаете, что это значило для меня. Пожалуйста, забудьте это, неправда ли?
― Нет, Берна, я никогда не забуду этого и всегда буду благословлять вас за то, что вы это сказали. Верьте мне, дорогая, все будет хорошо. Дела обстоят не так уж плохо. Я буду следить, чтобы никто не причинил вам вреда, и любовь придет к нам обоим. Та любовь, которая означает жизнь и смерть, ненависть и обожание, упоение и муку, величайшая сила в мире. О, дорогая, верьте мне. Мы так мало знаем друг друга, подождем только еще немного.
― Да, хорошо, еще немного. ― Ее голос был слаб и буззвучен. Она высвободилась. ― Теперь спокойной ночи, они могут спохватиться. ― Прежде чем я понял это, она исчезла между палатками, оставив меня во мраке, с сердцем, полным сомнений, угрызений и тоски. О, лицемерный, низкий трус!
Глава XII
Весна в Юконе! Величественные горы, увенчанные вечными снегами; страстные полуночные напевы птиц. От ласковых звезд до стеблей травы наполненный сиянием воздух; мир, насыщенный радостью; земля, сверкающая, как драгоценный камень, и девственно прелестная. После владычества долгой, долгой ночи весна врывается с внезапной пропитанной солнцем радостью и совершает по земле свое лучезарное шествие. Стыдливый изумруд облекает долины, окрыляет высоты, пушистые вербы трепещут у озер и рек. Дикий крокус наполняет ложбины фиолетовым сумраком. Волоча свои последние изорванные в лохмотья снежные знамена, зима угрюмо отступает. Быть может, я покажусь чересчур чувствительным, но у меня бывают минуты вдохновения, когда трава кажется мне зеленее, а небо глубже, чем всем другим людям. Я отдаю свое сердце восторгу и упоению. Я настраиваюсь созвучно торжественным гимнам Творенья. Я атом хвалы. Я живу, и потому ликую.
Только гиперболами могу я описывать эту золотую весну, когда мы плыли по залитым солнцем водам Беннетского озера. Никогда я не чувствовал такой радости. Вместе с нами плыла огромная веселая толпа, снова устремив глаза на Эльдорадо своих грез. Возбужденные умы беспорядочно бредили, сердца бились мужественно, надежды были крепки. Жестокий путь по Земле был забыт. Чистая светлая вода шаловливо плескалась о борт лодки. Приятный ветер дул сзади. Сильные люди открывали грудь и глубоко вдыхали его. Да, это были сильные. Те, которым север сохранил жизнь, закаленные, окрепшие, приспособленные, избранные в искусе, испытанные в пути. Песни радости звучали в ночном воздухе. Зоркие и осторожные люди распевали обрывки песен, работая на веслах; банджо, мандолины, скрипки и флейты смешивались в безумный хаос. Снова великая наступающая чичакская армия шумно устремилась вперед, но на этот раз с радостью и весельем. Величавая тихая ночь была всегда светла. Величавые голубые озера, безмятежно спокойные, величавые горы ― неизменно торжественны. В светлом небе прозрачная бледная луна извинялась за свое присутствие. Мир был великой совершенной симфонией, которую не мог нарушить даже надвигавшийся прилив Аргонавтов. Из тех, кто выехал с нами, лишь немногие добрались так далеко. Из них Мервин и Хьюсон успели значительно опередить нас. То были победители пути, достойные стать в ряды мужей Великого Севера, сынов долины Юкона. Где-то во флотилии находились банковский клерк, Маркс и Бульгамер. Винкельштейны же выехали на три дня раньше нас.
― Эти евреи умеют устраиваться как никто, ― комментировал Блудный Сын. ― Они открыли ресторан «Элит» в Беннете и заработали состояние на своих бобах, муке и свинине. Мадам готовила, старик составлял счета, а девочка прислуживала у столиков. Они наскребли кучу денег и теперь отправились в Даусон в славной крепкой маленькой плоскодонке.
Я всматривался вперед, надеясь, что мы не сегодня-завтра догоним их плоскодонку, ибо не переставал думать о Берне. Временами я бранил себя за то, что отпустил ее так легко, и потом вновь радовался, что не позволил сердцу закружиться с головой. Ибо я начинал задумываться над тем, не отдал ли я ей уже своего сердца, отдал легко, добровольно, безусловно? При одной мысли об этом меня охватывал необыкновенный трепет радости. В этой девушке слилось для меня все прекрасное, любимое и нежное.
Теперь мы неслись к озеру Тагиш. Подставив ветру свою седую голову, со стихами псалма на губах, Блаженный Джим правил рулем на сильном солнцепеке. Его лицо сияло радостью. В глазах светилось блаженное упование. Перегнувшись через борт, Блудный Сын волочил сеть с приманкой, чтобы поймать чудовищную форель, которая водится на этой глубине. Банка Варенья, как бы чувствуя отвращение к этому вынужденному бездействию, дремал на корме. Пока он спал, я рассматривал его породистые ноздри, его тонкие, горько сжатые губы и обнаженные загорелые руки, татуированные странными знаками. Как он следил за чистотой своих зубов и ногтей! На нем лежала печать происхождения. В каких дивных странах он успел побывать? Какие прекрасные, очаровательные женщины грустили о нем в далекой Англии?
О, эти волшебные дни, залитые солнцем, необъятное небо, гигантские горы, неистовая армия удальцов, непобежденных суровым величием!
Мы подплыли к Рукаву Ветров ― суровому, пустынному, полному уныния. Вдоль него, неся угрозу и ужас на своих крыльях, носится неистовый ветер, с треском гоня лодки и плоты на железные скалы. Ночью мы слышали крики; днем видели обломки крушенья, выброшенные кучами на берег, но продолжали плыть дальше. Двенадцать тяжелых часов мы работали на веслах, пока наконец не миновали грозившую нам опасность. Мы вошли в озеро Тагиш. Мертвое спокойствие, палящее солнце, жужжащие тучи комаров. Мы изнемогали от жары и налегали на весла израненными, покрытыми пузырями руками. Мы ругались и надрывались так же, как тысячи остальных участников этого своеобразного флота. Тут были лодки разных форм: четырехугольные, продолговатые, круглые, треугольные, плоские и закругленные ― все, что могло плавать. Они были большей частью сколочены из досок от 1/2 до 1 дюйма толщины, усердно выпиленных в лесах. Черный деготь покрывал сшивки неотесанного дерева. Они могли плыть боком так же хорошо, как и во всяком другом положении. И в таких нелепых скорлупах много тысяч лодочников-любителей безмятежно плыли вперед, хладнокровно встречая опасности и ночью у костра весело рассказывая о том, как избежали неминуемой гибели. Мы вошли в Пятидесятимильную Реку. Мы были в гигантской галерее. Грозные вершины поднимались уступами, ярус за ярусом, точно часовые. У входа в галерею маленькая речка извивалась, как серебряная проволока, и вниз по ней плыла стремительная армия. Люди разбивали тишину диким эхо. Они будили медведей от их оцепенелого сна. Лес пылал от их беспечных костров. Река была теперь нашим вьючным животным, неутомимым и ласковым. Плавно и спокойно она несла нас вперед, но в ее песне звучала зловещая нота. Нас предупреждали об ущелья и порогах и теперь, налегая на весла и сражаясь с москитами, мы старались угадать, близка ли опасность и как нам удастся миновать ее, когда она настанет.
И вот однажды вечером, когда мы скользили по тихой воде, течение внезапно ускорилось. Берега проносились мимо со страшной быстротой. Стремительно обогнули мы луку и очутились как раз у входа в ужасное ущелье. Прямо перед нами было что-то вроде массивной скалистой стены. Казалось, что река не имеет выхода, и, только приблизившись, мы увидели узкое отверстие в каменной поверхности, где с яростным ревом вздувалась и бурлила вода. Теперь течение бешено захватило нас; не было никакой возможности удержаться. Банка Варенья стоял на своем посту с напряженным оживленным видом человека, любящего опасность. Дрожь волнения охватила всех нас. С сосредоточенными лицами мы готовились к бою. Я был на носу и вдруг увидел, как раз перед нами плоскодонку, пытавшуюся причалить к берегу. В ней были три человека, две женщины и мужчина. Я увидел, как мужчина выскочил, держа в руке канат, которым он старался прикрепить челнок к дереву. Три раза попытки его кончались неудачей, и он метался по берегу, крича как безумный. Я увидел, как одна женщина успела выскочить на берег, но в ту же минуту канат сорвался и плоскодонка с оставшейся женщиной, крутясь, понеслась в ущелье.
Глава XIII
Все это я видел и был так захвачен зрелищем, что забыл о грозившей нам самим опасности. Я услышал пронзительный крик ужаса ― и увидел, как покинутая женщина забилась на дно лодки, закрывая лицо руками. Я увидел, как лодка взлетела, закачалась и нырнула вниз в зловещее чрево ущелья. Река несла нас неудержимо. Мы были уже в ущелье. С обеих сторон, так близко, что мы, казалось, могли дотронуться до них веслами, возвышались до головокружительной высоты мрачные древние скалы. Река металась и бурлила, как вепрь, изгибая спину в средине течения, которое поднималось на четыре фута выше, чем у берегов. Она вздымалась большими валами, зелеными, высокими, как горы, и ужасно крутыми, как жидкий каток тобогана. Мы нырнули вниз, взлетели вверх, и черные, запятнанные мхом скалы, мелькая, пролетали мимо. Приблизительно на середине ущелья находился огромный водоем, подобный древнему кратеру вулкана, отлого поднимавшийся водоворот и здесь-то, пролетая круг за кругом, метался умчавшийся челнок. Покинутая женщина все еще корчилась в нем. Свет почти померк и брызжущая пена ослепляла нас, но я прирос к своему месту на носу и внимательно следил.
― Сторонись лодки! ― услышал я чей-то крик, ― берегись водоворота.
Было уже поздно. Злополучный челнок закружился и налетел на нас. Еще мгновение и мы были бы разбиты и перевернуты, но я увидел, как Джим и Банка Варенья отчаянным усилием налегли на весла, и челн, кружась, промчался на расстоянии каких-нибудь двух футов от нас. Я снова посмотрел и в диком паническом ужасе узнал в скорченной фигуре Берну. Я помню, как выпрыгнул ― было должно быть футов пять глубины ― и направился к берегу по пояс в воде. Помню, как уцепился за него на мгновение и бросился к челну. Я слышал крики других, которых течение сметало в ущелье и помню, как, оглянувшись, послал проклятье, потому что оба весла были унесены за борт; помню, наконец, как, нагнувшись над Берной, крикнул ей в ухо: «Будьте спокойны, я с вами».
Если бы ангел слетел для ее спасения с высокого неба, я не думаю, чтобы девушка была более поражена. Мгновение она пристально смотрела, не веря глазам. Я стоял на коленях около нее, и она положила руки мне на плечи, как бы желая убедиться, что это был действительно я. Затем, полурыдая, полуплача от радости, она крепко охватила руками мою шею. Что-то в ее взгляде, что-то в прикосновении ее прильнувшей фигурки заставило возликовать мое сердце. Я снова прокричал над ее ухом: «Все благополучно, не бойтесь. Мы выберемся».
Нас снова вынесло в главное течение. Снова мы попали в ревущий поток с его ужасающими безднами и взлетами, с его вздымающимися стенами, разъединенными веками и пропитанными мраком вечных сумерек. Вода трепала и била нас, безжалостно кружила и хлестала тяжелой пеной. С закрытыми глазами, с бьющимися сердцами мы ждали. Затем внезапно свет опять стал ярче, предвечные скалы исчезли. Мы плыли спокойно, и по обеим сторонам от нас полого поднимались ус гулами к смеющемуся небу зеленые долины. Я разжал руку и посмотрел вниз, туда, где лежало ее лицо, наполовину спрятанное на моей груди.
― Хорошо что мне удалось настигнуть вас.
― Да, ― ответила она слабо, ― о, я думала, что все уже кончено. Я чуть не умерла от страха. Это было ужасно.
Но едва она успела выговорить это, как я понял с невыразимым ужасом, что опасность еще далеко не миновала. Мы беспомощно неслись бешеным течением, и я уже слышал рев бурных порогов. Вдали было уже видно, как они клубились и пенились, кроваво-красные в сиянии заката.
― Будьте молодцом, Берна, ― прокричал я снова, ― все будет хорошо. Верьте мне, дорогая!
Она тоже вглядывалась вдаль расширенными от ужаса глазами. Однако, услыхав мои слова, она сделалась удивительно спокойна, и на лице ее появилось светлое радостное выражение, от которого сердце мое преисполнилось гордостью. Она примостилась около меня. Плоскодонка была легка и очень крепка. Мы заметались и закружились, как пробка в мельничном колесе. Злобная щелкающая волчья стая реки подбрасывала нас в воздухе и разрывала, когда мы падали. Промокшие до костей, оглушенные, ошеломленные яростными, потрясающими нервы ударами, мы готовились каждый момент пойти ко дну. Мы были в огненном котле. Рев гибели раздавался в наших ушах. Гигантские руки с клещами из пены вонзались в нас, хлестали нас. Вопли ярости оглушали нас, когда один демон перебрасывал нас другому. Неужели этому не будет конца? Грохот, треск, рев, от которого замирали наши сердца… Нас накреняло, подбрасывало, било, перекидывало… Затем вдруг наступило спокойствие. Мы, должно быть, выбрались. Мы открыли глаза. Мы снова плыли спокойно, огибая излучину реки, в тени высокого мыса. Если б только можно было пристать! Но нет. Течение унесло нас снова. Я видел, как оно проносилось под скалистым берегом и понял тогда, что худшее еще впереди. Ибо здесь-то, на расстоянии приблизительно двести ярдов, находились грозные пороги Белого Коня.
― Закройте глаза, Берна, ― закричал я, ― ложитесь на дно и молитесь, как никогда не молились раньше!
― Мы были уже около них. Скалистые берега так сблизились, что, казалось, готовы были сомкнуться. Они образовали узкие скалистые ворота, и сквозь эти плотно стиснутые челюсти должна была прорываться река. Шумно корчась на своем устланном валунами ложе, усиливаясь ужасными толчками с каждым прыжком, она собирает силы для последнего отчаянного порыва к свободе.
Но тут как раз на дороге гигантский валун. Вода налетает с грохотом на него ужасающим приступом. Река разбита, сломлена, отброшена назад и с ревом побежденного вздымается высоко в воздухе, в неистовом аде пены и бури. На мгновение пучина превращается в поле битвы стихий, неистовой, титанической борьбы. Затем река, вырвавшись на свободу, падает в водоем по ту сторону порогов.
― Ложитесь, Берна, и держитесь за меня. ― Мы оба упали на дно плоскодонки, и она так крепко обхватила меня, что я удивился ее силе. Я чувствовал, как ее мокрая щека прижималась к моей, как губы ее льнули к моим.
― Теперь, дорогая, еще одно мгновение и все будет кончено.
Снова яростный рев воды. Плоскодонка доблестно держалась, рассекая их носом. Снова мы закружились, как перышко в вихре, подбрасываемые валами от бешенства к бешенству. Снова мы метались, качаясь, наклоняясь, надрываясь. Наши сердца висели обнаженные на острие смертельного ужаса. Воды плясали огненную сарабанду, каждая волна казалась демоном, бичующим нас, когда мы попадали в нее.
Это было стадо обезумевших от ужаса лошадей с развевающимися огненными гривами. Мы судорожно прижались друг к другу. Неужели это никогда, никогда не кончится? Тогда… Тогда… Казалось, настал конец. Мы взлетали все выше и выше. Мы как будто повисли, неуверенно качаясь, точно подвешенные на волоске над зияющей бездной. Душа моя заныла в предсмертной тоске. Но нет, мы снова выправились. С головокружительной быстротой мы перевалили и стремительно слетели вниз. О, это было ужасно! Мы были в пчелином гнезде разъяренных вод, и они жалили нас насмерть. Мы были в глубокой пещере, покрытые сводами шипящей пены. Взбесившиеся лошади топтали нас миллиардами копыт. Я потерял всякую надежду на спасение и чувствовал, что девушка лишается сознания в моих объятиях. Как долго это длилось! Я жаждал конца. Быстрые молоты ада дробили, дробили нас… Наконец, залитые водою от носа до кормы, наполовину перевернутые, потрясенные и разбитые, мы выплыли в мирный водоем реки по другую сторону порогов…
Глава XIV
На низинах, окружающих пороги Белого Коня, росло великое множество полевых цветов. Падучие звезды оживляли прогалину блеском золота. Синие колокольчики одевали лесные ложбины аметистом. Огненный бурьян заливал холмы розовым кораллом. Прелестно изгибаясь, как грозди жемчуга, покачивались чашечки орхидей, в роскошном изобилии цвели бегонии, фиалки и северные маки, и все это сверкало в оправе ярчайшего изумруда. Но над всем царила дикая роза, красуясь повсюду, насыщая своим ароматом ласковый ветерок. Вытащенные на берег лодки и плоскодонки тянулись на целые мили вдоль берега. На насыпях сушились на солнце пропитанные водой припасы. Мы также зачерпнули по пути много воды и должны были выждать несколько дней, пока просохнет груз. Таким образом на мою долю выпало несколько часов праздности, и я мог вдоволь наглядеться на Берну.
Я нашел мадам Винкельштейн удивительно любезной. Она сладко улыбалась мне, причем в зубах ее, белых как кварц, блестело вкрапленное золото. У нее были мягкие вкрадчивые манеры, которыми она обезоруживала вражду. Винкельштейн, казалось, забыл наш последний разговор и протягивал мне длань лицемерной дружбы.
Я волен был видеть Берну, сколько мне хотелось.
Мы бродили по лесам и холмам, собирая полевые цветы и радуясь почти детской радостью. За эти несколько дней я заметил в ней сильную перемену. Ее щеки, бледные, как лепестки дикой орхидеи, казалось, позаимствовали краски у шиповника, а глаза отражали сияние озаренного солнцем неба. Казалось, будто в бедном ребенке оживала долго подавленная способность радоваться.
Сотни лодок и плоскодонок прорывались через пороги, и мы следили за ними с неослабевающим волнением. Это было самое захватывающее зрелище в мире. Исходом его были жизнь или смерть, гибель или спасение, и от зари до темноты через каждые несколько минут повторялась роковая борьба. Лица участников были исполнены ужаса и волнения. Любопытно было следить за изменениями человеческого лица, с которого сорвана маска, перед безмерным страхом. Притом это была жизненная драма, драма радости и слез, всегда трепещущая и часто трагическая. Каждый день на берег выбрасывались трупы. Пороги требовали своих жертв. Люди Пути должны платить дань. Мрачная окровавленная река изрыгала свою добычу, и мертвецы без замедления и молитвы опускались в безыменные могилы. В первый же день у порогов мы встретили Метиса. Он собирался спускаться дальше по реке. А где же банковский клерк? О, да, они опрокинулись при переправе. Когда он в последний раз видел маленького Пинклюва, тот барахтался в воде. Как бы то ни было, они надеялись каждый час вытащить его тело. Он нанял двух человек, чтобы отыскать и похоронить его. Ему некогда было ждать.
Мы не осуждали его. В эти безумные дни упорной гонки и золотой лихорадки человеческая жизнь стоила немного. Еще один «пловец», замечал кто-нибудь и хладнокровно удалялся. Равнодушие к смерти, носившее почти средневековый характер, было в воздухе, и друзья покойного торопились еще больше других, обогатившись его припасами. Все это было мне странно, ново и чуждо. Жизнь срывала свои покровы, обнажая себялюбие и алчность.
На следующее утро тело было найдено ― жалкая, бесформенная, нелепая масса с совершенно раздавленным черепом. Мои мысли вернулись к миловидной девушке, которая так горько плакала, расставаясь с ним. Может быть теперь она думала о нем, мечтая о его возвращении, представляя себе блеск торжества в его ребяческих глазах. Сначала она будет ждать и надеяться, потом она станет ждать и отчаиваться. Потом это будет уже другая бледнолицая женщина, которая скажет: «Он отправился в Клондайк и больше не вернулся. Мы не знаем, что стало с ним». Воистину, путь к золоту был безжалостен.
Берна была со мной, когда его хоронили.
― Бедный мальчик, бедный мальчик, ― повторяла она.
Ящик из неотесанных плохо сколоченных досок заменил гроб. Люди собирались опустить его в могилу на крышку другого гроба. Я воспротивился так решительно, что они начали копать новую могилу. Берна была очень расстроена и, увидев этот грубый, бесформенный гроб, не выдержала и горько заплакала. Наконец, она осушила слезы и, взглянув на меня просветлевшим взглядом, попросила немного подождать, пока она вернется. Вскоре она возвратилась, держа в руке кусок черного сатина. Когда она начала кроить его ножницами, я заметил в куске глубокие складки. К тому же щеки ее ярко вспыхнули, встретив удивленный взгляд, которым я окинул ее значительно сузившееся платье. Потом она принялась натягивать и прилаживать черную материю на гроб.
Люди закончили новую могилу. Она имело всего три фута глубины, но выступившая вода помешала им рыть глубже. Когда мы опустили гроб в яму, он выглядел совсем прилично со своей черной покрышкой. Он держался на воде, но после нескольких брошенных комьев земли опустился с сильным бульканьем. Казалось, будто мертвец негодует на свои жалкие похороны. Мы увидели, как могильщики сбросили еще несколько лопат земли и ушли, насвистывая. Бедная маленькая Берна! Она все еще плакала. Наконец, она сказала:
― Нарвем цветов. ― Из шиповника она смастерила крест и венок, и мы с благоговением возложили их на кучу грязи, которая обозначала могилу банковского клерка.
О, жалкая ирония всего этого!
Глава XV
Вскоре я узнал, что мы с Берной должны расстаться, и спустя две ночи это случилось. Было еще совсем светло, хотя время приближалось к полуночи, и весь лагерь был на ногах. Мы сидели, я помню, у реки, несколько в стороне от лодок. На том месте, где село солнце, небо казалось подернутым вуалью восхитительного зеленого цвета, и в его прозрачном освещении лицо ее было полно нежной прелести и похоже на грезу. Печальный ветер прошумел в дрожащих ивах, и глубокая печаль охватила девушку. Все счастье немногих миновавших дней, казалось, отлетело от нее, унося с собой надежды. Когда она сидела так, молча стиснув руки, казалось, будто тени, рассеявшиеся немного, вновь охватили ее еще большей печалью.
― Скажите мне, Берна, что вас тревожит?
Она покачала головой, глаза ее были расширены, как будто она старалась прочесть будущее.
― Ничего, ― она говорила почти шепотом.
― Нет, я знаю, что-то есть, скажите мне. ― Она опять покачала головой. ― В чем дело, мой маленький друг?
― Это ничего, это только моя глупость. Если я расскажу вам, мне это нисколько не поможет. И потом это пустяки. Вы не обратите даже внимания на такие глупости.
― Все же вы должны сказать мне, Берна. Я буду мучиться, если вы не сделаете этого.
Она еще раз отказалась. Я ласково настаивал, я уговаривал, я умолял. Она очень упрямилась, но, наконец, согласилась.
― Хорошо, если я должна, ― сказала она. ― Но это все так низко, так подло. Я ненавижу себя, я презираю себя, за то, что мне нужно сказать вам это.
Она нервно мяла пальцами тонкий платочек.
― Вы заметили, как мадам Винкельштейн была мила со мной последнее время. Она покупала мне новые платья, дарила безделушки. Так вот, на это есть причина. Она имеет на примете мужа для меня.
Я вскрикнул от удивленья.
― Да, вы знаете, она нарочно позволяет нам гулять вдвоем, чтобы привлечь его. О, разве вы не заметили? Неужели вы ничего не подозревали? Вы не знаете, как горячо они ненавидят вас.
Я закусил губу.
― Кто этот мужчина?
― Джек Локасто. ― Я вздрогнул.
― Вы слышали о нем? ― спросила она. ― У него есть в Бонанце участок в миллион долларов.
Слышал ли я о нем? Кто не слыхал о Черном Джеке, его необыкновенной игре в покер, его метеорическом возвышении, его театральных выходках.
― Конечно, он женат, ― продолжала она, ― но это не имеет значения здесь. На это существует такой обряд, как клондайкская свадьба, и говорят, что он очень щедр со своими оставленными любов…
― Берна, ― прервал я ее гневно и раздраженно. ― Никогда не произносите при мне этого слова. Один звук его есть уже осквернение.
Она рассмеялась резко и горько.
― Что такое вся жизнь, как не осквернение? Во всяком случае, он хочет меня.
― Но вы не согласитесь на это, наверно не согласитесь?
Она порывисто повернулась ко мне.
― За кого вы принимаете меня? Я думала, что вы немного лучше меня знаете. О, вы заставляете меня почти ненавидеть вас.
Внезапно она прижала платочек к глазам и начала судорожно всхлипывать. Напрасно я старался успокоить ее шепча:
― О, дорогая моя, расскажите мне все это, я так огорчен, девочка, так огорчен.
Она перестала плакать и продолжала горячо и взволнованно:
Он приходил в ресторан в Беннете и смотрел на меня, не отрываясь, его глаза всегда следили за мной. Мне было страшно, и я дрожала, прислуживая ему. Ему нравилось, что я дрожу, он чувствовал в этом свою силу. Затем он начал делать мне подарки: бриллиантовое кольцо и медальон в форме сердечка. Дорогие подарки. Я хотела возвратить их, но она не позволила мне, отняла их и спрятала. Потом у него с ней начались длинные разговоры. Я знаю, что они говорили обо мне. Вот почему я пришла к вам в ту ночь и просила вас жениться на мне ― спасти меня от него. Теперь все идет хуже и хуже с каждым днем. Сеть стягивается вокруг меня, несмотря на мои усилия.
― Но он не может овладеть вами против вашей воли! ― воскликнул я.
― Нет, нет, но он ни за что не откажется от меня. Он будет преследовать, пока я стану сопротивляться. Я приятна ему только как забава и препровождение времени. Говорят, что он всегда добивается своего там, где замешана женщина. Я не могу передать вам, как я боюсь его. Он властный и безжалостный. В его улыбке холодное презрительное приказание. Его ненавидишь, но ему повинуешься.
― Это безнравственное чудовище, Берна, он не жалеет ни времени, ни денег, чтобы удовлетворить свои желания и он не знает жалости.
― Я знаю, я знаю.
― Он очень мужествен, красив яркой цыганской красотой: высокий, сильный и покоряющий, но грубый и развратный.
― Да, он такой, и разве можно удивляться, что мое сердце полно страха, что я встревожена, что я просила вас об этом. Он безжалостен и из всех женщин он желает меня. Он будет колесовать меня бесчестием! О, боже! ― Ее лицо было почти трагическим от отчаяния: ― И все против меня. Они все помогают ему. У меня нет ни одного друга, никого, кто постоял бы за меня, помог бы мне. Раньше я думала о вас, но вы не оправдали моих надежд. Разве удивительно, что я почти обезумела от этого ужаса. Разве удивительно, что я настолько отчаялась, что просила вас спасти меня. Я одинока, без друзей, жалкая слабая девушка. Нет, я не права. У меня есть друг ― смерть. И я умру, я умру; клянусь в этом, раньше чем позволю ему овладеть собой.
Слова вылетали стремительно, полузадушенные рыданиями. Трудно было успокоить ее. Я никогда не считал ее способной на такой порыв, такую страсть, и был ужасно огорчен, не зная как ободрить ее.
― Полно, Берна, ― уговаривал я, ― пожалуйста, не говорите таких вещей. Помните, что вы имеете во мне друга, человека, который сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам.
Она с минуту посмотрела на меня:
― Чем вы можете помочь мне?
― Жениться на вас. Хотите выйти за меня замуж? Хотите быть моей женой?
― Нет.
Я был поражен.
― Берна!
― Нет, я не вышла бы за вас, даже если бы вы были последним мужчиной, оставшимся на Земле! ― крикнула она запальчиво.
― Почему? ― Я старался сохранить спокойствие.
― Почему? Потому, что вы не любите меня, вы равнодушны ко мне.
― Нет, люблю, Берна, действительно люблю, так люблю, что прошу вас быть моей женой.
― Да, да, но вы не любите меня по-настоящему, не так сильно и глубоко, как нужно по-вашему. Не так, как вы говорили мне тогда. О, я знаю, это отчасти жалость, отчасти дружба. Другое дело, если бы я относилась к вам так же, а не гораздо, гораздо глубже.
― Это правда, Берна? Вы так любите меня?
― Почем я знаю? Как я могу сказать? Как может кто-нибудь из нас сказать это?
― Нет дорогая, я во всяком случае знаю одно, ― я встал на ноги: ― С той минуты, как я поднял на вас глаза, я полюбил вас. Я любил вас уже задолго до нашей встречи. Я только ждал вас, ждал. Сначала я не мог разобраться и не понимал, что это. Но теперь я уверен непоколебимо. Для меня никогда не существовало никого, кроме вас. Никогда не будет никого, кроме вас. С начала времен мне было суждено полюбить вас. А вы как относитесь ко мне?
Она встала, чтобы услышать мои слова. Она не позволяла мне дотронуться до себя, но в глазах ее зажегся яркий свет. Потом она заговорила, и голос ее дрожал от страсти, вся безучастность исчезла:
― Ах, вы слепец, трус. Неужели вы не увидели, неужели не почувствовали? В тот день, в лодке ко мне пришла любовь, такая, о какой я никогда не грезила, упоительная, вдохновенная, мучительная. Знаете, чего я желала, когда мы проезжали пороги? Чтоб это был конец, чтоб в эту высочайшую минуту мы пошли ко дну, прижимаясь друг к другу, чтобы в смерти я могла держать вас в своих объятиях. О, если бы вы остались таким же потом и встретили любовь объятиями любви! Но нет, вы снова перешли к дружбе. Теперь я чувствую между нами ледяную преграду. Я постараюсь никогда не вспоминать о вас. Теперь оставьте меня, оставьте, потому что я не хочу больше вас видеть.
― Нет, Берна, вы должны, должны. Я продам свою бессмертную душу, чтобы завоевать вашу любовь, моя дорогая, дорогая. Я проползу вокруг света, чтобы поцеловать вашу тень. Я так люблю вас, так люблю.
Я прижал ее к себе и страстно целовал ее, но она оставалась холодна.
― Вы ничего не можете сказать мне, кроме красивых слов?
― Будьте моей женой, будьте моей женой, ― повторил я.
― Теперь?
Я снова заколебался. Неожиданность этого подействовала на меня, как холодный душ. Видит Бог, что я горел любовью к девушке, но, как бы то ни было, условности продолжали опутывать меня:
― Теперь, если вы хотите, ― я запнулся, ― но лучше, когда мы будем в Даусоне. Лучше, когда я устроюсь там. Дайте мне год, Берна. Год и тогда…
― Целый год!
Внезапный свет надежды погас в ее глазах. В третий раз я обманывал ее ожидания, но мое проклятое благоразумие было сильней меня.
― О, это пройдет быстро, дорогая. Вы будете в безопасности. Я буду близко. Буду бодрствовать над вами.
Я успокаивал ее, горячо объясняя насколько будет ― лучше, если мы подождем еще немного.
― Целый год, ― повторила она, и голос ее показался мне беззвучным. Потом она повернулась ко мне с внезапной вспышкой страсти. Ее лицо было умоляюще взволнованно и скорбно: ― О мой милый, мой милый, я любила вас больше всего на свете, но я думала, что вы достаточно встревожитесь за меня, чтобы жениться сейчас. Верьте мне, так было бы лучше. Я думала, что вы поймете положение, но обманулась в вас. Хорошо, пусть будет так. Мы подождем год.
― Да, поверьте мне, доверьтесь мне, дорогая; я буду работать для вас, служить вам, думать только о вас и через двенадцать коротких месяцев отдам всю жизнь, чтобы сделать вас счастливой.
― Правда, милый? Впрочем, теперь все равно… Я люблю вас.
Всю эту ночь я боролся с собой. Я чувствовал, что должен жениться на ней сейчас же, чтобы защитить ее от обступившей опасности. Она казалась мне ягненком среди стаи волков, я старался успокоить свою совесть. Я был молод, и женитьба казалась мне ужасно ответственным шагом.
Но в конце концов мое лучшее восторжествовало, и прежде чем лагерь проснулся, я вскочил на ноги. Я решил обвенчаться с Берной в тот же день. Чувство облегчения охватило меня. Как могла мне показаться возможной отсрочка? Я чувствовал необыкновенный подъем духа. Я спешил сообщить ей свое решение и представлял себе ее радость. Я почти задыхался. Слова любви трепетали на кончике моего языка. Казалось, я не вынесу минутного ожидания. Я добежал до места, где они стояли, и остановился, не веря глазам. Ужасное чувство крушения и непоправимой ошибки придавило меня.
Плоскодонка ушла.
Глава XVI
Это случилось за три дня до того, как мы снова пустились в путь, и каждый день показался мне годом. Я горько сетовал на промедление. Неужели эти мешки с мукой никогда не просохнут? С тоской смотрел я вдоль по течению широкого голубого Юкона и проклинал течение, уносившее ее с каждой минутой дальше от меня. Чем объяснить ее внезапный отъезд? Я не сомневался в том, что он был вынужден. Я страшился опасности. Потом вновь успокаивал себя на мгновение. Глупо беспокоиться. Она в достаточной безопасности. Мы встретимся в Даусоне.
Наконец, мы пустились в путь и снова устремились вдоль изменчивой реки, то проносясь вихрем под круто нависшими скалами, то с трудом огибая песчаные мели. Вид казался мне безобразным. Глинистые уступы с торчащими на гребнях соснами, окаймленные ивами отмели, черные болота, уродливые коричневые холмы ― все это тянулось в бесконечном однообразии. Река изобиловала препятствиями и ловушками, коварными подводными деревьями, предательскими водоворотами. Она начинала разрастаться в моем воображении в наваждение. Наконец однажды моим восхищенным взорам открылось озеро Лабердж. Путь близился к концу. Снова мы поплыли с надутыми парусами. Снова мы очутились в аргонавтской флотилии, и теперь, когда цель была уже близка, каждый удваивал усилия. Лишь бы не успели разобрать лучшие участки, пока мы доберемся. Эта мысль могла свести с ума после того, что мы вынесли. Мы должны были спешить.
Во флотилии не было человека, который сомневался бы в том, что богатство ждет его с распростертыми объятиями. Глаза их горели жаждой золота. Они налегали на весла и багры. Быть побежденным в конце! О, это было непостижимо! Неистовство тигров наполняло их, панический страх и алчность подгоняли вперед.
Лабердж было сонное озеро, отражавшее в своих глубинах благородные вершины (ибо вскоре после того, как мы вошли в него, наступила мертвая тишь). Но мы не замечали его красот. Мы проклинали это безмятежное спокойствие, которое заставляло нас потеть на веслах; мы проклинали ветер, который, казалось, никогда не поднимется, течение, которое было всегда против нас. В этом бездыханном спокойствии мириады москитов осаждали нас, ослепляли, покрывали нашу пищу во время еды, превращая жизнь в сплошную пытку. Однако путь приближался к концу. Как легко мы вздохнули, когда поднялась буря. Белые шапки прыгали вокруг нас, а ветер гнал на утесистый берег, так что мы едва не погибли. Но и это кончилось наконец, и мы вошли в Тридцатимильную Реку. Это был бешеный ревущий поток, соперничавший своим неистовством с нашим безумным нетерпением. Но он был усеян скрытыми опасностями. Мы схватились за опостылевшие весла. Нужна была напряженная осторожность, чтобы лавировать между скалами, готовыми расщепить нас от носа до кормы. Среди них была одна, пользовавшаяся грозной славой, о которую челны разбивались, как яичная скорлупа под молотком, но мы миновали ее на расстоянии одного взмаха руки.
У меня замирало сердце при мысли о том, что было бы с нами, если бы мы наскочили на нее. Это была злая безобразная река, полная своенравных изгибов и водоворотов, и берега ее были высоки и отвесны. Хуталинква, Большой Лосось, Малый Лосось, ― все это сейчас лишь имена для меня. Я помню только длинные дни работы на веслах, борьбу с возрастающим наваждением москитов, непрерывное стремление к золотой долине. Беспрестанное напряжение начинало отзываться на нас. Мы страдали от ревматизма, кожа покрывалась корой, нас лихорадило. О, мы были утомлены, утомлены! И все же путь близился к концу.
Я хорошо помню один солнечный субботний вечер. Мы плыли вперед и вошли в прелестную прогалину, где маленькая речка впадала в большую. Это был зеленый бархатистый, искрящийся уголок, и на речке два человека пилили лес. Мы весело окликнули их и осведомились, не сделали ли они изысканий, не нашли ли они уже золота и не готовят ли лес для запруды. Один из них выступил вперед. Он был очень утомлен, очень спокоен, очень печален. ― Нет, ― сказал он, ― мы готовим гроб для нашего покойника. ― Тогда мы увидели в их лодке неясный предмет и поспешили вперед, смущенные и проникнутые благоговением. Река была теперь грязного цвета, бурлила большими водоворотами или судорожно низвергалась с внезапных подъемов. Подвигаясь по маслянистому течению, мы, казалось, были неподвижны, и только скользящие мимо берега свидетельствовали о том, что мы двигаемся. Страна казалась мне ужасной, мрачной, обреченной, покинутой богом. На горизонте зазубренные горы злобно впивались в небо. Река действовала на меня угнетающе. Иногда, пробегая под оком заходящего солнца, она казалась потоком крови, великолепным, но исполненным злых чар. Она расширялась, углублялась, и каждый день бесчисленные реки вздували ее водоем. На ней зеленели острова. Мы беспрерывно слышали ее пение, жужжащий, свистящий звук, производимый движением валунов на дне. Дни стояли нестерпимо жаркие, обильные москитами. Ночи холодные, сырые и полные москитов. Я смертельно страдал от невралгии. Пустяки, это скоро кончится! Мы были на последнем переходе. Путь близился к концу.
Да, нас недаром влекло вперед. Внезапно обогнув луку, мы издали крик радости. Перед нами был огромный багровый рубец на склоне горы ― «спуск» и, прильнув к нему внизу, как раковины на морском берегу, стояло множество палаток. Это был Золотоносный Город.
Дрожа от нетерпения, мы плыли к берегу. Наши мучения кончились. Наконец-то мы добрались в наш Эльдорадо.
Множество праздношатающихся вышло нам навстречу. Они были как-то странно спокойны.
― Как насчет золота? ― спросил Блудный Сын. ― Много ли земли осталось для заявок?
Один из них презрительно посмотрел на нас.
― Эй, вы, чичагцы, отправляйтесь-ка лучше домой. Здесь не осталось и фута земли для заявок. Все вокруг было занято в прошлый наплыв. Осталась лишь грязь. Делать совершенно нечего, и на каждую работу находится десяток желающих. Дело не стоит выеденного яйца. Вы, чичагцы, поезжайте-ка лучше домой!
Да, после всех трудов, всех терзаний нам лучше было вернуться домой. Многие уже готовились к этому. Что же будет с той огромной надвигающейся ордой, авангардом которой были мы? Что будет с неистовой ратью, войском Чичаго? На сотни миль озера и реки были белы от их причудливых лодок. За ними шли еще тысячи и тысячи других, пробивающихся через проклятие москитов, согбенных под своими безжалостными ношами. Без отдыха, не сдаваясь, одушевленные надеждой, они карабкались по тропинкам и бросались в стремнины. Они тонули в реках, они гибли в болотах. Ничто не могло остановить их. Золотой Магнит притягивал их. Жажда золота горела в их сердцах.
И это был конец! Для этого они заложили имущества и разбили сердца. Для этого они сталкивались с опасностями и переносили лишения, чтобы услышать совет вернуться. Страна выбирала своих людей. Все время она отбрасывала слабых. Теперь малодушные вернутся. Этот край был только для сильных.
Воистину жестоки испытания Золотого Пути.
Книга третья ЛАГЕРЬ
Глава I
Я всегда буду помнить свой первый день в золотом лагере. Мы были на самом фронте армии аргонавтов, но все же тысячи их успели опередить нас. На низине и у устья Бонанцы была куча хижин; лачуги и палатки лепились по склонам, рассыпались на высотах и снова скоплялись на отлогом спуске к Клондайку. Сильное оживление носилось в воздухе. Лагерь жил, бродил, кипел неукротимой динамической энергией. Город, собственно, состоял из одной улицы, тянувшейся вдоль берега. Она была необычайно запружена людьми, из стороны в сторону, из конца в конец. Они толпились у порогов странно не гармонировавших между собой зданий, толкались на заполненных тротуарах. Всевозможные лавки, салуны, игорные дома процветали в изобилии, и в одном только квартале помещалось до двенадцати танцулек. Тем не менее все они, казалось, благоденствовали.
Много учреждений помещалось в палатках. В огромном парусиновом сооружении находилась контора для обмена золотого песка. Большой бревенчатый амбар вмещал кафешантан. Невзрачные лачуги дерзко лепились около претенциозных трехэтажных гостиниц. Получалось впечатление причудливого стаккато.
Все носило характер гротеска, чего-то временного, случайного. За главной улицей находился квартал красных фонарей, а за ним снова черное болото ― родина лихорадки и москитов.
Толпа, оживлявшая улицы, поражала своим космополитизмом. Она состояла большей частью из рослых бородатых мужчин; одни из них имели вид полнокровных завсегдатаев ресторанов, а другие носили изменчивую бледную маску игроков. Встречал я также множество женщин, наглых, развязных, хищных существ ― шуршание шелка и струя духов. До полуночи я блуждал по большой улице, но темнота не спускалась, и крикливая жизнь не замирала. Я искал Берну, но найти ее в этой жужжащей толпе было так же трудно, как отыскать иголку в куче соломы. Эти люди с острым взглядом и оживленными разговорами о заявках и золотом песке не могли мне помочь; оставалось только ждать. Итак, с настроением, падающим к нулю, я стал ждать.
Мы убедились, что земли для заявок, действительно, было мало. Правила рудокопства были очень сбивчивы и часто менялись. Несколько ручьев были совершенно закрыты для работ. Но новые россыпи открывались то и дело, и горячка поднималась вновь. Так что после долгих споров мы решили сохранить наше право на заявку, пока не представится хороший случай. Это было горькое пробуждение. Как и все остальные, мы ожидали найти почву, содержащую золото от корней травы. Оказалось, что нужно было потрудиться, и мы хотели во что бы то ни стало сохранить бодрость духа. Банка Варенья уже покинул нас. Он работал где-то в Эльдорадо, копая в запруде золотой песок за десять долларов в день. Я решил последовать за ним. Джим также собирался искать работы, тогда как Блудному Сыну мы поручили блюсти наши интересы и занять или купить хороший участок.
Так мы порешили, сидя в нашей маленькой палатке близ берега. Мы были в скоплении палаток. Берег почти побелел от них. Быстро было трудно двигаться: спотыкаешься о веревки и колышки. Каждая вновь подъезжавшая партия должна была удаляться все дальше в поле, чтобы найти место для стоянки. А они приезжали ежедневно тысячами. Берег на протяжении мили был покрыт лодками в пять рядов. Лодки втаскивались повыше, высушивались на песке и превращались в жилища своих владельцев. Тысячи печей красноречиво свидетельствовали о бобах и свинине. Я встретил как-то человека, несшего домой добычу ― кусок мяса. Оно висело у него на руке, как полотенце, так как бумага была большой редкостью.
Но сколько их, прослонявшись по этой бесконечной улице с ее грязью, с ее бурлящей жизненной пеной, ревом граммофонов и блеском кафешантанов, начинало тосковать по своим южным родинам. Разочарование отражалось на их загорелых лицах. Здесь было совсем не то, что в пути. Казалось, будто после всех усилий они наткнулись на каменную стену. Делать было нечего, земли для заявок не оставалось, и только тяжкий труд, самый тяжкий в мире, ожидал их.
К тому же страна была во власти шайки развращенных чиновников, которые пользовались общественными учреждениями для собственного обогащения. Льготы давались фаворитам тех, кто находились у власти, концессии продавались, торговля спиртными напитками разрешалась, и на свободного рудокопа сыпались всякие злоупотребления. Всюду была продажность, несправедливость и взыскательность.
― Возвращайтесь, ― говорил кто-нибудь на улице, ― горные законы упразднены. Все участки забронированы. Даже если вам удастся найти что-нибудь хорошее, проклятые разбойники, правительственные акулы, выставят вас оттуда в два счета. Здесь нет настоящего дела. Они дерут с вас налоги за разработку приисков, налоги за срубленное дерево, за продажу рыбы, скоро они обложат нас налогом за то, что мы дышим. Возвращайтесь.
И многие уходили, многие из самых упорных в дороге. Они могли переносить лишения и опасности, вьюги и пороги, дикую разрушительную природу, но когда дело дошло до хитрости, мошенничества и лицемерия их товарищей, они пали духом, сдались.
― Ну, ребята, я, кажется, славно поработал, ― сказал Блудный Сын, с некоторым самодовольством входя в палатку. ― Я купил три полных снаряжения на берегу. Я заполучил их на 25 процентов дешевле, чем они стоят в Ситтле, и заработаю 100 процентов на этом дельце. Теперь как раз время скупать у возвращающихся. Они так скисли от всей этой истории, что готовы избавиться от своего груза в любую минуту. Все они стремятся уехать. Они жаждут положить несколько тысяч миль между собой и этой навозной кучей мира. Они не желают больше слышать название Юкон, разве только в качестве ругательства. Я намерен скупать их припасы. Увидите, ребята, если я не наживу кучу денег.
― Нехорошо наживаться на них, ― заметил я.
― Ничего тут нет нехорошего. Это дело. Ваша нужда ― моя удача. О, из тебя никогда не выйдет человек наживы в наш век, мой мальчик. И к тому же шотландец.
― Это пустяки, ― сказал Джим, ― дайте-ка я расскажу вам, какое я устроил сегодня дело. Вы помните, что я уложил со своими вещами утюг, и вы еще смеялись надо мной, называя меня домашним клопом. Но я соображал. Бывают ведь и там вечера в обществе, и славная выутюженная белая рубаха может очень пригодиться. Во всяком случае, думал я, если в этой глуши не для кого одеваться, я принаряжусь во славу всемогущего; вот почему я захватил свой утюг. ― Он посматривал на нас с искорками в глазах и продолжал: ― Так вот оказалось, что в лагере всего-навсего три утюга, кроме моего, и так как все франты желают носить крахмальные рубашки, а все размалеванные Иезавели требуют белье с иголочки, то прачки обезумели в поисках за утюгами. Я не собирался продавать своего, но одна старая раскрашенная леди, которая содержит фешенебельную прачешную (и сестра во господе) пришла ко мне со слезами на глазах, так что я в конце концов оказался вынужденным расстаться с ним.
― За сколько, Джим?
― Видите ли, я не хотел быть очень жестоким к старой деве и спустил его дешевле.
― Сколько?
― Видите ли, дело в том, что их всего три или четыре на весь лагерь, поэтому я спросил сто пятьдесят долларов, и она с быстротой молнии потащила меня в лавку и заплатила песком! ― И он помахал мешочком перед нашими смеющимися лицами.
― Это очень удачно, ― сказал я. ― Но здесь, кажется, все вверх дном. Сегодня я встретил человека, несшего ящик с яблоками. Толпа умоляла открыть его. Он распродал эти яблоки по доллару за штуку, и люди чуть не дрались за них.
Так было со всем. Цены стояли невероятные. Яйца и свечи продавались по доллару за штуку, а картофель по доллару за фунт. А в прошлом году гвозди для подков продавались по доллару за гвоздь.
Снова я блуждал по длинной улице с ужасной ноющей тоской в сердце. О, если б я только знал, что она в безопасности. Каждая стройная женщина издали казалась мне похожей на нее, и сердце мое начинало биться от волнений. Но всякий раз мне приходилось испытывать разочарование. Нигде не было и следа Берны.
В таком возбужденном и тревожном состоянии духа я взбирался по склону, который осеняет золотоносный город. Его называют Куполом. Поверхность его глубоко изрезана шрамами, как бы изрыта космическим вихрем. Здесь на самой вершине у каменного кургана я останавливался, проникнутый глубоким благоговением. Оттуда открывался обширный горизонт подавляющего величия. Подо мной протекал могучий Юкон, то извиваясь серебряной лентой, то расширяясь в озеро ртути. Он казался неподвижным, мертвым, как кусок зеркала на собольем покрывале. Огромная долина была сверхъестественно тиха и похожа на мантию, погруженную в тень долгой, долгой ночи. Край был безмолвный, пустынный, безжизненный, с закругленными очертаниями, изобилующий грубыми складками и дерзкими изгибами. Горы походили на спящих гигантов. Тут виднелась выпуклость женской груди, там след мужского бедра. А за этой грудой растянувшихся титанов далеко, далеко вдали поднималась, как ограждающий частокол, зубчатая линия скал.
Они, казалось, восставали внезапно против сияющего неба, чудовищные, ужасные, как вихрь, приводящие в смятение чувства. Их первобытные лики были фантастически высечены и вырублены. Тут они царили в вечном уединении, девственные вершины, неоскверненные долины, невыразимо унылые, полные дикого величия. А за их бурными гребнями в горне хаоса, несомненно, творился новый мир. Я смотрел туда, где извергалось устье Бонанцы, глубокое, как пропасть, залитое пурпурной сетью огней. Там была золотая долина, безмолвствовавшая веками и теперь звеневшая человеческими голосами и бурлившая человеческой борьбой.
За ней была лесистая котловина Клондайка, мрачно выраставшая в горы, говорившая о смерти. Эта бесконечная пустынность, неутолимая тоска подавляли меня. Я был рад снова вернуться туда, где подобно белым голышам на берегу, мерцали палатки золотоносного города.
Где-нибудь в этой груде парусины, в этом лабиринте лачуг была Берна. Быть может, она лежала сейчас с расширенными от ужаса глазами или обливала безотрадную подушку горячими слезами. Где-нибудь там… О, я должен найти ее. Я вернулся в город. Я снова прошел по его длинной улице с сотнями парусиновых вывесок. Это был город вывесок. Каждая торговля имела свое развевающееся знамя, и под этими знаменами сновала неугомонная толпа. Тут попадались люди с приисков в фланелевых рубахах и плисовых штанах, в стетсонах и высоких сапогах. Здесь были люди с пути в свитерах и макинтошах, в немецких чулках и шапках с лопастями. Все были загорелые и бородатые, сухощавые и гибкие. Меня удивляла серьезность их лиц, пока я не вспомнил, что перед ними была проблема жестокой борьбы, а не темного солнечного края. Здесь на севере было состязание Мужей, состязание Мужей в стране Мужей, где солнечный свет долгого, долгого дня всегда сменяется мраком долгой, долгой ночи. О, если бы только я мог найти ее! Край был величественной симфонией, а она главной темой ее. Я купил номер «Самородка» и вошел в Саурдафский ресторан, чтобы прочесть его. Я сидел там, потягивая кофе и равнодушно просматривая газету, когда одна заметка привлекла мое внимание и зажгла сердце внезапной надеждой.
Глава II
В ней было следующее:
«Джек Локасто проиграл девятнадцать тысяч долларов».
«Вчера вечером в салуне «Мула» состоялась самая крупная игра, какая когда-либо имела место в Даусоне. Джек Локасто из Эльдорадо, хорошо известный, как один из богатейших владельцев приисков в Клондайке, Клод Терри и Чарли Гау были главными участниками игры, которая обошлась первому из них в девятнадцать тысяч долларов. Локасто прибыл в Даусон со своих приисков вчера. Говорят, что перед отъездом из Форкса он проиграл около 5000 долларов. Вчера же вечером он начал игру в Муле с Гау и Терри, желая, как думают, вернуть свой проигрыш в Форксе. Игра длилась почти всю ночь и при расчете выяснилось, что Локасто, как указано выше, проиграл 19 000 долларов. Это, должно быть, самый крупный индивидуальный проигрыш в истории Клондайкской игры в покер, когда-либо сделанный в один присест».
Джек Локасто! Почему я не вспомнил о нем раньше. Конечно, если кто-нибудь мог знать о девушке, это был он. Я решил сейчас же расспросить его. Итак, поспешно допив кофе, я спросил у похожего на скопца слуги, где мне найти Клондайкского Короля.
― О, Черного Джека! ― сказал он, ― что же, в «Зеленом Дереве», или в «Тиволи», или в «Монте-Карло». Сейчас идет крупная игра в покер, и он, должно быть, там.
Снова я измерил жужжащую улицу. Было уже далеко за полночь, но чудесное сияние, горевшее на северном небе, заливало землю странным очарованием. Несмотря на поздний час, город казался оживленней, чем когда-либо. Партии с нагруженными мулами направлялись к ручьям, путешествуя ночью, чтобы избежать комаров и жары. Люди с худыми загорелыми лицами бодро шагали, перенося на своих дюжих плечах невероятные тяжести. Печь, одеяла, кухонные принадлежности, топор и лопата обыкновенно составляли лишь часть их разнообразной поклажи. Констебли конной полиции обходили дозором улицы. В темной толпе их малиновые мундиры выделялись ярким красочным пятном. Они двигались очень быстро, с сурово сжатыми ртами и зоркими глазами, глядевшими из-под полей стетсонов. Женщины сновали повсюду; они курили папиросы, смеялись, молчали, то входя, то выходя из широко открытых салунов. Их щеки были нарумянены, ресницы накрашены, глаза горели от вина. Они смотрели на мужчин, как хитрые животные, сладострастным манящим взглядом. Дух разврата, бесшабашная распущенность, испарение презренного порока насыщали воздух.
Я очутился у забора, окружающего полицейский участок. Вокруг были заметны следы недавнего половодья реки, превратившего улицу в судоходный канал. Местами еще оставались глубокие лужи, в которые лошадь могла бы погрузиться по брюхо. Один из констеблей, высокий стройный англичанин, с учтивыми манерами, дружески вызвался помочь мне в беде.
― Да, ― сказал он в ответ на мой вопрос. ― Я думаю, что могу найти вашего человека. Он где-то там в городе с несколькими тузами. Пойдемте. Мы достанем его из-под земли.
По дороге мы обменивались замечаниями, и он рассказывал мне о себе искренним дружеским тоном.
― Вы недавно из Старого Света? Я так и думал. Я сам уехал оттуда четыре года назад и поступил в армию в Регине. Там все совсем другое «по ту сторону», работа в патрулях, свободное житье в привольных прериях. Здесь же нас большей частью держат привязанными к баракам. Я провел теперь около шести месяцев на городском вокзале. Но все же я не раскаиваюсь. Это все чертовски любопытно. Ни за что не променял бы это на ферму. Когда я описываю это своим домашним, они думают, что я рассказываю им басни, «втираю очки», как они здесь выражаются. Отец, священник, послал меня в Харроу и собирался сделать из меня епископа, но я неугомонный, никогда не мог учиться. Мне кажется, я просто не способен к этому.
― Я узнал в нем тип свободного, искреннего, бодрого англичанина, который содействовал созиданию империи. Он продолжал:
― Да, как бы старик вытаращил глаза, если бы мне удалось притащить его в Даусон на денек. Он просто потерял бы способность разбираться в вещах и был бы начисто сбит со своей оси, на которой вертелся эти тридцать лет. Мне кажется, что все вертятся на оси в Старом Свете. Бесполезно вбивать им в голову, что существует больше, чем одна точка зрения. Если вы не видите вещи такими же, как они, значит, вы страдаете астигматизмом. Войдемте сюда!
Он проложил себе дорогу через запруженную людьми дверь. Я последовал за ним. Это был обычный тип соединения салуна с игорным притоном. В одном углу помещался разукрашенный бар, а вдоль стен обширной комнаты висели правила различных игр. Здесь были колесо фортуны, клондайкская игра, кено, покер, рулетка и приспособления для фараона. Помещение было битком набито грубого вида людьми, следящими за игрой или участвующими в ней. Крупье носили над глазами зеленые козырьки и их пронзительные крики «начинаем!» прорезали накуренный воздух. В углу я увидел, к своему удивлению, нашего старого друга Мошера, председательствовавшего за столиком покера. Он сдавал одной рукой, изящно держа колоду и ловкими движениями сбрасывая карты партнерам. Старатели покупали фишки у буфетчика, который взвешивал на золотых весах уплачиваемый песок. Мой спутник указал мне на внутреннюю комнату с закрытой дверью.
― Клондайкские короли сидят там безвыходно. Они играют уже 24 часа, и один бог знает, когда они кончат.
В этот момент из комнаты раздался нетерпеливый звонок и слуга бросился туда.
― Вот они, ― сказал мой друг, когда дверь открылась. ― Здесь Черный Джек и Вилли Усмиритель Вод, и Клод Терри и Чарли Гау.
Я с нетерпеньем заглянул туда. Игроки были измучены, их лица угрюмы и призрачно бледны. Ловко и спокойно они перебирали карты, но в их запавших глазах горела лихорадка игры; фишки заменяли золотых орлов, а тысячедолларовые котлы проходили незамеченными. Несомненно, уже были большие проигрыши и выигрыши, но на них это нисколько не отражалось. Какое это могло иметь «значение? В кучах, ждавших промывки, были еще сотни тысяч, а в почве лежали миллионы миллионов. Все, кроме Локасто, были среднего роста. Вилли Усмиритель Вод был во фраке. Он носил красный галстук, в котором блестела большая бриллиантовая булавка, и желтые дубленые сапоги, покрытые грязью.
― Почему его так прозвали? ― спросил я.
― Видите ли, говорят, что это был единственный человек, который курил, переваливая через Пороги Белого Коня. Это птица высокого полета.
Остальные два были менее замечательны. Гау был рыжеволосый человек с хитрыми беспокойными глазами; Терри ― тип бульдога, коренастый и могучий. Но все мое внимание было захвачено и приковано к Локасто. Это был громоздкий человек с большими руками, грубого сложения. В плечах косая сажень, и в каждом движении чувствовалось сознание силы. У него был тяжелый квадратный подбородок, жестокий, презрительный рот, ястребиный нос и черные глаза, холодные, как вода в заброшенном колодце. Его волосы были черны, как вороново крыло, а кожа выдавала примесь мексиканской крови. Он выделялся между остальными своей бросающейся в глаза повелительностью, и я, так или иначе, почувствовал мощь, исходившую от этого человека, его грубую силу и необузданность его желаний. Тут слуга вернулся с подносом напитков и дверь закрылась.
― Единственная возможность поговорить с ним ― это дождаться перерыва игры. Если ваше дело помешает покеру ― к черту ваше дело. Они не желают, чтобы их перебивали. Итак, старина, если вы не можете быть добродетельны, будьте хоть осторожны, и если я понадоблюсь вам, можете в любое время позвонить на городскую станцию. Счастливо оставаться.
Он удалился. Некоторое время я слонялся от столика к столику, наблюдая за выражением лиц игроков и стараясь заинтересоваться игрой. Но мои мысли были прикованы к запертой двери и слух напрягался, чтобы услыхать звяканье фишек. До меня долетал хриплый говор их голосов, случайные ругательства или усталые зевки. Как я желал, чтобы они вышли! Женщины подходили к дверям, осторожно заглядывали и поспешно отступали при звуках неистовой брани. Тузы были заняты, даже дамы должны были подождать своих развлечений! О, томительность этого ожидания! В своей тоске по Берне я довел себя до состояния, граничащего с помешательством. Казалось, будто в мозгу моем сидит гвоздь, который беспрерывно терзает меня. Я чувствовал, что должен опросить этого человека, хотя у меня перехватывало горло при одной мысли заговорить о ней в его присутствии. В этой атмосфере разврата воспоминание о девушке было невыносимо сладостно, как солнечный луч, проникший в зловещую темницу.
Заря уже занималась, когда игра прервалась. Воздух снаружи был чист, как промытое золото, внутри же мутен и смраден, как дыхание пьяницы. Люди с измученными бледными лицами выходили, жадно втягивая игривый, как шампанское, ветерок. Под ясной синевой весеннего неба река казалась фиолетовым сиянием, в которое берега окунались зеленью хризопраза. Мальчик уже подметал с пола грязные, запачканные никотином опилки (это был его доход; из золота, которое такому мальчику удавалось выбрать, он в конце концов скапливал достаточно, чтобы окончить колледж), когда внутренняя дверь открылась, и Черный Джек появился.
Глава III
Он был бледен и утомлен. Глаза его окружали шоколадного цвета впадины. Он был в сильном проигрыше и, коротко попрощавшись с остальными, вышел. В одно мгновение я побежал за ним и нагнал его.
― Мистер Локасто!
Он повернулся и смерил меня своими мрачными глазами. Они были бессмысленны, как у обессиленных от усталости.
― Мое имя Джек Локасто, ― проронил он небрежно.
Я пошел рядом с ним.
― Хорошо. А мое имя Этоль Мельдрум.
― Да на какой черт мне ваше имя? ― грубо оборвал он. ― Оставьте меня теперь в покое, я устал.
― И я также адски устал, ― ответил я. ― Но вас не затруднит услышать мое имя.
― Ладно, мистер Этоль Мельдрум, добрый день.
Его голос был холоден, а в обращении сквозила раздражающая пренебрежительность, и внезапная злоба загорелась во мне.
― Подождите только минуту. Вы можете очень легко оказать мне огромную услугу. Выслушайте меня.
― Ну, что вам нужно? Работы?
― Нет, ― ответил я, ― мне нужна только маленькая справка; я приехал сюда с некими евреями по фамилии Винкельштейн. Я потерял их из виду, и думаю, что вы могли бы сказать мне, где они находятся.
Теперь Локасто весь обратился в слух. Он сделал пол-оборота и пронизывал меня с упорным вниманием. Затем, с быстротой молнии, его грубость исчезла. Теперь это был вылощенный джентльмен, завсегдатай клуба в Сан-Франциско ― светский человек. Он потер щетину на своем подбородке. Его глаза были ласковы, голос мягок, как сливки.
― Винкельштейн? ― повторил он соображая, ― Винкельштейн? Кажется, я слышал это имя, но хоть убейте, не могу вспомнить где. ― Он следил за мной, как кошка, и делал вид, что напряженно думает. ― Не было ли с ними девушки?
― Да, ― сказал я поспешно, ― молодая девушка.
― Молодая девушка, а? ― Он, казалось, опять старался припомнить. ― Так вот, друг мой, боюсь, что не могу помочь вам. Я помню, что видел их по дороге сюда, но не имею понятия, что сталось с ними. Я обычно не обращаю внимания на такого рода людей. Итак, спокойной ночи, или скорее доброго утра. Вот мой отель. ― Он уже почти вошел, но вдруг остановился и повернулся ко мне. Лицо его было учтиво. Голос сладок до приторности, но в интонации мне почудилась легкая насмешка. ― Я хотел сказать, что если услышу что-нибудь о них, то дам вам знать. Ваше имя ― Этоль Мельдрум? Прекрасно, я дам вам знать. До свидания.
Он ушел, и я так-таки ничего и не добился. Я ругал себя дураком. Человек обошел меня. Я только повредил себе, дав ему понять, что ищу Берну. Теперь она казалась дальше от меня, чем когда-либо. Я вернулся домой, расстроенный и отчаявшийся. Я начал рассуждать сам с собой. Он должен знать, где они и, если он действительно имеет виды на девушку и старается скрыть ее, наш разговор встревожит его. Он воспользуется первой возможностью, чтобы предостеречь Винкельштейнов. Когда он сделает это? По всей вероятности, этой же ночью. Рассудив так, я порешил устроить за ним слежку. Я избрал салун, откуда мог видеть его отель, и стал ждать там. Я думаю, что наблюдал за гостиницей часа три, но помню, что это было томительное занятие, от которого меня тошнило. Тем не менее я упорно приклеился к своему стулу. Я начал уже думать, что он ускользнул от меня, как вдруг увидел, что он выходит один из отеля.
Было около полуночи: ни светло, ни темно, но скорее отсутствие того и другого, и северное небо было бледно и зловеще. На оживленной улице я увидел шляпу Локасто, которая возвышалась над всеми остальными, так что я мог без труда следовать за ним. Один раз он остановился, чтобы заговорить с женщиной, потом, чтобы закурить сигару. Затем он внезапно свернул в боковую улицу, которая проходила через освещенный красным квартал. Он шел быстро и свернул на тропинку, которая шла вдоль болота за городом. Я не сомневался в цели его прогулки. Мое сердце забилось от волнения. Узенькая тропинка, поросшая свежей зеленью и усеянная кабинками, поднималась на холм. Я увидел, как он остановился один раз и оглянулся. Я едва успел спрятаться за кустами и на минуту испугался, что он заметил меня, но он пошел дальше, быстрей прежнего. Я был уверен теперь, что угадал цель его странствий. Он был слишком озабочен тем, чтобы замести свои следы. Тропинка нырнула в чащу тонких виргинских тополей и закружилась так, что мне стоило невероятных усилий не потерять его из виду. Он все ускорял шаг, и я следовал за ним, задыхаясь. Вокруг было мало хижин. Место было очень пустынное, несмотря на близость города, тихое и плотно защищенное от взоров. Внезапно он, казалось, исчез и, опасаясь, чтоб мое преследование не окончилось впустую, я выскочил вперед и остановился в замешательстве. Никого не было видно. Он бесследно исчез. Тропинка круто взбиралась вверх, завиваясь, как пробочник. О, эти проклятые тополя, как густо они росли! Я слепо ринулся вперед и добежал до места, где тропинка разветвлялась. Тяжело дыша я остановился, размышляя, по какой дороге направиться, и в эту минуту тяжелая рука опустилась на мое плечо.
― Заблудились, мой юный друг? ― Это был Локасто. У него было лицо Мефистофеля, голос язвил иронией. Я не стану отрицать, что смутился, но все же я постарался найти благородный выход.
― Алло! А я как раз прогуливаюсь.
Его черные глаза пронизывали меня. Черные брови свирепо сошлись, тяжелая челюсть выдвинулась вперед, и человек, угрожающий и страшный, казалось, в одно мгновение вырос надо мной.
― Вы лжете! ― как взрыв газа, вылетели слова. И, как у волка, губы его сморщились, обнажая мощные зубы. ― Вы лжете! ― повторил он. ― Вы следили за мной? Разве я не видел вас от самой гостиницы, разве я не решил заманить вас подальше? Ах, вы дурак, дурак! Кто вы такой, чтобы противопоставлять вашу слабость моей силе, вашу простоту моей хитрости. Вы собираетесь мешать мне, не так ли? Намерены покровительствовать обиженным барышням? Вы круглый дурак, простофиля и пустомеля!
Внезапно, без предупреждения, он ударил меня по лицу ошеломляющим ударом, который заставил меня упасть на колени, как падает теленок под взмахом топора; я был оглушен и, покачиваясь, напрасно пытался подняться на ноги. Я протягивал к нему руки, сжатые в кулаки. Тогда он снова нанес мне жестокий грозный удар. Теперь я был в его власти, и он воспользовался ею. Это был злейший враг. Ярость, казалось, разрывала его. Он бил меня не переставая, свирепо, безжалостно, по ребрам, по груди, по голове. Не хочет ли он убить меня? Я прикрыл голову и стонал в смертельном ужасе. Неужели он никогда не кончит?
Потом я потерял сознание, чувствуя, что он продолжает колотить меня, и соображая, открою ли я снова глаза.
Глава IV
― Да здравствует рыбья порода! Да здравствуют слабые головы! ― Это говорил Блудный Сын: ― Скупка снаряжений забила вконец добычу золота. Я, например, за три недели приобрел больше, чем на 10 000 долларов добра, которое выбрасывалось, и каждый фунт его даст мне 100 процентов прибыли. Я начинаю смотреть на себя, как на второго Джона Рокфеллера.
― Вы убежденный мошенник, ― сказал я. ― Вы разыгрываете игру в блошки. Как ваше первое имя ― Исаак? ― Он перевернул свиную грудинку, которую поджаривал над огнем, и весело улыбнулся.
― Выхрапывай, что хочешь, старый шут. Пока я загребаю денежки, ты можешь называть меня каким угодно древним именем.
Он был очень весел и горд, но я совсем не чувствовал себя настроенным, чтобы разделить его оживление. Физически я уже успел вполне оправиться от ужасного рукоприкладства, но нравственно все еще терзался невыносимым оскорблением. И хуже всего было то, что я был совершенно бессилен. Закон не мог помочь мне, ибо не было свидетелей нападения, а силой я никогда не мог бы справиться с этим человеком. Почему я не был силачом? Если бы я был хотя бы так же высок и мускулист, как Гарри, например. Правда, я мог застрелить его, но тогда вмешалась бы полиция, и я попал бы в еще худшую историю. Казалось, ничего не оставалось другого, как только выжидать и молить о возмездии. Но как тяжело я переживал это! Временами в сердце моем зарождалось черное убийство. Я строил план мести, скрежеща зубами от бессильной ярости. К этим чувствам примешивалась еще гложущая тоска по Берне, которая никогда не покидала меня. Это была агония сердца, панический страх, желание, доходившее минутами до такого напряжения, что я готов был помешаться от причиняемого им страдания. Может быть, я лишь жалкое существо. Я часто задумывался над этим. Я или остаюсь совершенно равнодушным или переживаю слишком глубоко. Я жертва своих чувств. Я мученик своих настроений. Мне казалось, что кроме любви к Берне у меня до сих пор ничего не было. Так было и во все эти бурные годы; ничто другое не имело для меня значения. И теперь, когда я уже близок к концу своей жизни, я вижу, что все другое, действительно, не имело значения. Все, что случилось со мной, влияло на мою жизнь лишь, поскольку имело отношение к ней. Мне казалось, что я вижу весь мир сквозь призму любви к ней, и что все благородное, все прекрасное, все истинное было лишь оправой для любимой мной девушки.
― Пойдем-ка, ― сказал Джим, ― прогуляемся по городу.
Он называл его «Современная Гоморра» и не уставал обличать его беззаконие.
― Видишь того человека, ― сказал он, указывая мне на седого прохожего, беседовавшего с энергичным блондином. ― Это адвокат. У него прекрасный дом в Лос-Анджелесе и три прелестнейших дочери. Молодой человек должен был заручиться верительными грамотами от Комитета Невинности прежде, чем решиться стукнуться к нему. А теперь он выворачивает карманы, чтобы купить вина для Дези из Дедлайна. ― Седовласый Человек завернул в салун со своим спутником. ― Вот вам и Даусон. Мы теперь так далеки от дома. Добрые старые нравы не в ходу тут. Старый седой Юкон не выдаст нас. В течение десяти лет мы были надзирателями в воскресных школах для того, чтобы следующие пятьдесят лет вкушать от запретного плода. Каждый изворачивается вовсю.
Хотят попробовать, как это на вкус. Вино льется рекой. Деньги ― самое дешевое удовольствие. Распускайся вовсю. Напивайся. Оркестр гремит. Приглашай себе пару на славный, смачный тустеп. Живей ребята.
Он был сегодня особенно язвительным и в этом всеобщем поругании нравственных основ, действительно казалось, что цивилизация есть только покров лицемерия.
― Чего нам удивляться, ― сказал я, ― человеческой распущенности, когда мы сами были обезьянами лишь несколько тысячелетий тому назад.
Тут мы встретили Банку Варенья. Он только что вернулся с ручьев в этот день. Физически он выглядел превосходно, был черен, как черника, худ и полон сдержанной энергии, как погреб ячменного пива. В денежном отношении он также был хорошо снабжен. Умственно же и нравственно находился в состоянии вулкана перед извержением.
В порывистом дыхании и неутомимости этого человека чувствовалась скрытая энергия, искавшая себе выхода в буйстве и насилии. Его надменные голубые глаза свирепо блуждали, а губы судорожно подергивались. Это был атавизм. Он происходил из породы тех белокурых свирепых морских викингов, которые умели выпить и умирали в грохоте битвы. Он мог жить только в сверкающем свете возбуждения или погружался во мрак отчаяния. Я видел, как его тонкие ноздри трепетали, как у боевой лошади, чующей запах битвы, и понимал, что он должен был бы быть до сих пор солдатом, предводителем головорезов, товарищем отчаянных удальцов.
Пока мы прогуливались, Джим разглагольствовал больше всех на свою любимую тему о нравственности. Банка Варенья молчаливо попыхивал трубкой, тогда как я, очень рассеянный и подавленный, думал о своих собственных горестях. Вдруг на середине квартала, где находилось большинство мюзик-холлов, мы встретили Локасто.
При виде его мое сердце болезненно забилось, и, я думаю, лицо, должно быть, побелело, как бумага. Я много думал об этой встрече и страшился ее. Есть вещи, которые никто не в состоянии предвидеть, но, если бы даже это грозило мне смертью, я должен был сделать попытку рассчитаться с этим зверем.
Он был в сопровождении маленького лысого еврея по имени Шницштейн, и мы шли рядом, когда я выступил вперед и остановил их. Мои зубы были сжаты, я весь дрожал от гнева. Сердце неистово колотилось. Мгновение я стоял так, глядя на него в немом возбуждении. Он был одет в костюм рудокопа, который всегда придавал ему особенно внушительный вид. От своего большого стетсона до высоких сапог это был типичный большой сильный человек Аляски, Победитель Стихии. Но рот его был жесток, как гранит, и черные глаза тяжелы и отталкивающи, как у жабы:
― О, вы трус! ― закричал я, ― подлый низкий трус!
Он посмотрел на меня вниз с высоты своего могучего, величавого роста, очень холодно и очень цинично.
― Кто вы такой? ― протянул он. ― Я вас не знаю.
― Такой же лжец, как и трус! ― задыхался я. ― Скотина, трус, лжец.
― Послушайте, убирайтесь-ка с дороги, не то я проучу вас как следует.
Снова, прежде чем я успел защититься, он накинулся на меня. Опять этот ужасный прием правой рукой, и я покатился, как под ударом молота. Но в одно мгновение я был уже на ногах, как воплощение слепой ярости, отчаянной борьбы. Я сделал попытку броситься на эту человеческую башню мышц или мускулов, когда кто-то удержал меня сзади. Это был Джим.
― Полегче, мальчуган, ― сказал он. ― Ты не можешь драться с этим рослым молодцом.
Шницштейн смотрел с любопытством. С необыкновенной быстротой собралась толпа, жадная до драмы, а над всеми возвышалась свирепая повелительная фигура Локасто. Настала бездыханная пауза. Затем, в психологический момент выступил Банка Варенья.
Огонь, тлевший в его глазах, разгорелся в свирепую радость, его искривленный рот был теперь мрачен и суров, как дверь темницы. Долгие дни он сражался с призрачным неуловимым врагом. Здесь, наконец, было нечто человекообразное и определенное. Он приблизился к Локасто.
― Почему вы не ударите кого-нибудь более подходящего к вашему росту? ― спросил он. Его голос звучал напряженно, но совершенно спокойно.
Локасто измерил его с головы до ног удивленным взглядом. Лицо Черного Джека сделалось мрачным и грозным, в глазах его засверкали огненные искры.
― Послушайте, англичанин, ― сказал он, ― это не ваше дело. Чего вы суетесь?
― Да, не мое, ― сказал Банка Варенья ― и я увидел, как пламя борьбы радостно разгоралось в нем, ― не мое, но я скоро сделаю его своим. Вот!
С быстротой молнии он нанес тому удар по щеке, сильный удар, который обжигал, как взмах хлыста.
― Теперь деритесь со мной, трус!
Казалось, что Локасто вот-вот бросится на своего оскорбителя. Со стиснутыми кулаками и оскаленными зубами он пригнулся, как бы для прыжка. Потом неожиданно выпрямился:
― Ладно, ― сказал он тихо, ― Шницштейн, нельзя ли предоставить нам Оперный театр?
― Я думаю, что можно. Мы уберем скамьи.
― Скажите толпе, чтобы шли за нами; мы дадим им бесплатное представление.
Я думаю, что туда набилось около пятьсот человек. Огромный австралийский боксер был арбитром. Кто-то упомянул о перчатках, но Локасто не захотел и слышать об этом.
― Нет, ― сказал он, ― я хочу так отделать собачьего сына, чтобы мать никогда не узнала его.
Он сделался теперь откровенно грубым и с восторгом готовился к борьбе. Оба должны были драться в нижнем белье. Без одежды Банка Варенья казался значительно меньше своего противника не только ростом, но и весом и шириной. Тем не менее это был прекрасный тип борца: худощавый, хорошо сложенный, с гибкими членами, с телом, которое, казалось, суживалось от плеч к низу. Его светлые волосы блестели, глаза были зорки и холодны, губы крепко сжаты. В лице своего противника он сражался с невидимым, гораздо более страшным и грозным существом. Локасто казался почти слишком массивным. Его мускулы вздувались, жилы на руках налились, как веревки, огромная грудь была широка, как дверь, ноги напоминали статую по величине и силе. В этом городе сильных людей он был, наверное, самым могучим.
Нигде в мире ни один бой не ожидался с большим нетерпением. Все эти люди ― рудокопы, игроки, искатели приключений разного рода ― толкались и дрались за места. При мысли о предстоящем сражении их охватывала сильная радость. Насторожившаяся, тяжело дышавшая, трепещущая от ожидания толпа теснилась все ближе и ближе. Снаружи люди требовали, чтобы их пустили. Они взбирались на сцену и в ложи. Они висли на галереи. Всего их было, должно быть, тысяча человек.
Оба противника, стоя друг против друга, напоминали гибкого греческого атлета рядом со смуглым римским гладиатором.
― Три против одного за Локасто! ― закричал кто-то.
Затем наступила мертвая тишина, так что могло показаться, будто зал пуст и безлюден. Время было замечено, бой начался.
Глава V
Один прыжок тигра ― Локасто бросился на своего противника. Все предварительные церемонии были отброшены. Они сошлись здесь ради крови, и чем скорей они окунутся в нее, тем будет лучше. Вправо и влево Локасто наносил могучие удары, которые могли бы свалить быка, но Банка Варенья был слишком изворотлив для него. Дважды он пригибался как раз вовремя, чтобы избежать ужасного удара, и, прежде чем Локасто мог поправиться, успевал уже отпрыгнуть за пределы досягаемости. Огромный кулак рассекал пустой воздух. Локасто почти терял равновесие от силы напряжения и быстро перегибался назад, тогда как Банка Варенья стоял спокойно и настороженно, ожидая новой атаки. Лицо Локасто делалось все свирепей в зловещем гневе: Он испустил ужасное проклятие и неудержимо набросился на своего врага. На этот раз я подумал, что моему чемпиону пришел конец. Но нет. С изумительным проворством он увернулся, нырнул и отскочил в сторону. Еще раз удары Локасто посыпались впустую. В толпе послышались насмешки.
― Отвечаю в ровную на маленького молодчика! ― пропел чей-то голос, похожий на плоский скрип банджо. Локасто сверкнул глазами на толпу. Он привык господствовать над этими людьми, и насмешки язвили его, как бандерильи быка. Снова и снова он повторял свои стремительные нападения, но каждый раз его могучие руки рассекали пустой воздух, а противник насмешливо улыбался ему из середины арены. Ни один из его ударов молота не достиг цели, и круг так и закончился без единого удара.
В толпе зрителей раздался веселый хор насмешек. Маленький человек с голосом банджо размахивает мешочком песка.
― Кто отвечает столько же за маленького?
Послышался гул горячих споров.
Я был среди зрителей и чувствовал вначале смертельный страх за Банку Варенья. Глядя на обоих, казалось, что он едва ли может надеяться избежать ужасной кары в руках такого могучего, массивного противника, и каждый удар, полученный им, отзывался на мне так, как если бы я получил его сам. Но теперь я подбодрился и смотрел вперед с меньшей тревогой. Снова время было замечено, и Локасто выпрыгнул вперед, совершенно освеженный отдыхом. Снова он набросился на своего противника, но на этот раз я заметил, что движения его более сдержанны, сокрушающие удары более размеренны, а свирепые нападения более искусно рассчитаны. Я снова начал трепетать за Банку Варенья, но тот необычайно ловко работал ногами, устремляясь то туда, то сюда, балансируя руками, с насмешливой улыбкой на губах. Он был изящен, как учитель танцев. Он сверкал, как луч света, и среди этого жестокого града ударов был так же хладнокровен, как если бы боксировал в школе гимнастики. «Кто он такой?» ― начали перешептываться в кольце. Иногда казалось, что он прижат в угол, но всякий раз ему удавалось ускользнуть, извиваясь невероятным образом. Я удерживал дыхание, когда он избегал удара за ударом, из которых некоторые, казалось, пролетали ла волосок от его головы. Он рискует, подумал я, видя, как близко он позволяет ударам пролетать мимо. Я был весь прикован и возбужден до крайности, горя желанием, чтобы мой друг начал наконец драться и доказал, что он не только искусный тактик. Но Банка Варенья выжидал свое время.
Так кончился круг, и стало очевидно, что толпа держится такого же мнения, как и я.
― Почему он не приложится немного? ― сказал один.
― Погоди, дай срок, ― сказал другой, ― он совершенно прав; туг нужно действовать умеючи.
Локасто вышел на третий круг с сдержанным видом, владея собой, мрачно решительный. Он, очевидно, собирался заставить своего противника отказаться от тактики уклонения. Он был осторожен, как кот, начал сдержанно, но вскоре снова перешел в наступление, загоняя Банку Варенья в угол. Столкновение было неизбежно. Для моего друга не оставалось возможности увернуться. Огромная груда со своими размахивающими, как цепы, руками неотвратимо угрожала ему.
Внезапно Локасто схватился с ним. Он налетел на Банку Варенья, ухватил его и размахнулся правой рукой для удара, похожего на взмах сваебойной машины. Рука опустилась, но Банки Варенья там уже не было. Он ловко нагнулся, и большой кулак Локасто задел лишь его волосы. Затем с молниеносной быстротой оба сцепились. Ну, подумал я, теперь конец Банке Варенья. Я увидел, как глаза Локасто расширились от свирепой ярости. Он держал противника в своей руке великана; он мог раздавить его могучим объятием, объятием серого медведя, сплющив его, как яичную скорлупу, но быстрый, как щелканье западни, Банка Варенья сдавил его руки у локтей, так что он оказался беспомощным. С минуту он держал его, потом, неожиданно выпустив руки, перехватил его поперек туловища и, тряся его могучим боковым приемом, нанес ему удар по крестцу, и прежде, чем тот успел один раз замахнуться, подбросил его в воздух и пригвоздил к полу. «Перерыв!» ― крикнул арбитр. Это все произошло так быстро, что трудно было уследить глазами за их движениями, но в зале раздалось громкое ликование.
― Два против одного за маленького молодчика! ― закричал голос банжо.
Локасто поднялся на ноги. Он был пристыжен и невыразимо взбешен. Задыхаясь и весь дрожа, он отошел в свой угол и в глазах его появилось выражение, не предвещавшее ничего хорошего для противника. Снова время было замечено. С быстротой пантеры Банка Варенья прыгнул на середину круга. Он встретил Локасто ближе, чем на полдороге. Теперь, казалось, его намерением было скорей броситься на противника, чем избегать его. Я следил за каждым его движением, весь трепеща от восторга. Он снова начал свои змеиные движения, подвигаясь и отступая с быстротой тени, притворяясь, отпрыгивая в сторону, балансируя в воздухе, пока не запутал и не сбил с толку своего противника. Но все же он не наносил ни одного удара.
Все это как будто начинало действовать Локасто на нервы. Он держался еще довольно сдержанно, стараясь всеми силами заставить противника вмешаться.
Он поносил его самым оскорбительным образом.
― Стойте, как человек, эй вы, собачий сын, и бейтесь!
Улыбка исчезла с губ Банки Варенья и он приступил к делу.
Я увидел, как он стал подходить к Локасто. Он сделал несколько притворных шагов, чтобы сбить противника, потом подпрыгнул к нему вплотную и ударил Черного Джека по правой и левой щеке. Через мгновение он был уже на расстоянии шести футов с язвительной улыбкой на губах. С неистовым воплем ярости Локасто, забыв всю свою осторожность, бросился на него. Он размахнулся своей тяжелой правой рукой изо всех сил, чтобы ударить по лицу противника, но гибкий, как тетива лука, Банка Варенья отскочил в сторону и удар пришелся мимо. Тогда Банка Варенья сделал другой прыжок и изо всех сил ударил Локасто левой рукой по подбородку.
Этот неистовый торжествующий удар вызвал первый яркий луч крови, и толпа завизжала от возбуждения. В диком вихре бешенства Локасто бросился на Банку Варенья, размахивая руками, как ветряными мельницами. Каждый из его ударов, попав на живое место, повлек бы смерть, но его противник был достоин такого нападения. Нагибаясь, ныряя, отскакивая в сторону, увертываясь, он ослаблял противника с каждым кругом и как раз перед концом нанес сильный удар в живот этому огромному человеку, тяжелый полновесный удар, отозвавшийся во всем помещении. Снова объявили перерыв. У Банки Варенья были окровавлены пальцы, у Локасто выбито несколько зубов. Но помимо этого он выглядел таким же крепким, как всегда. Он преследовал своего противника с необузданной яростью и, казалось, готовился нанести ему смертельный удар, который закончил бы борьбу.
Было приятно смотреть на работу Банки Варенья. Он был изящен, как балетный танцовщик, когда, отпрыгивая из стороны в сторону, избегал ударов противника. Его руки балансировали по бокам, и он откидывал голову с невыносимо насмешливым и вызывающим видом. Затем он начал наносить Локасто легкие удары по корпусу, которые все учащались, так что казалось, будто он выколачивает на его ребрах настоящую зорю. Он прыгал, как пантера, извивался, как угорь. Лицо Локасто было теперь сдержанно, напряженно, тревожно, и он, казалось, выжидал с угрожающим видом подходящей минуты, чтобы нанести тот решительный удар, который положил бы конец бою.
Банка Варенья начал усиливать свои удары. Он вогнал левую в живот противника, затем ударил правой по подбородку. Локасто нанес смертельный, разящий удар Банке Варенья, который только задел его за челюсть и последний отплатил ему двумя молниеносными правыми и сильной левой ― все по лицу. Затем он отпрыгнул назад, потому что теперь он был возбужден. Он метался туда и сюда. Снова он нанес сильный удар левой по вздымавшемуся животу Локасто и потом стремительно осыпал его градом ударов. Это была бешеная схватка, кружащаяся буря ударов, свирепых, диких, смертоносных. Никакие борцы не могли бы выдержать этого на ходу. Они схватились, но в это время Банка Варенья вырвался, и, отделяясь, нанес смертельный удар в почку своему противнику. Когда объявили перерыв, оба человека тяжело дышали, избитые и покрытые кровью. Как ревела от восторга толпа! Все, что было звериного в этих людях, разгорелось теперь в их сердцах. Ничто, кроме крови, не могло бы утолить их. Их глотки пересохли, глаза дико блуждали. Шестой круг. Локасто прыгнул на середину кольца. Его лицо было отвратительно обезображено. В этой избитой окровавленной маске я узнал только черные глаза, горевшие смертельной ненавистью. Устремившись за Банкой Варенья, он завертелся с ним по кругу и снова напал на него, повалил его на пол, но не смог удержать.
Тут в Банке Варенья проснулся дух берсеркера. Он больше не страшился смерти. Он стал нечувствителен к боли. Он снова превратился в морского пирата, обезумевшего от жажды боя. Он бросился на Локасто, как враг, забыв все преграды, и погнал его по кругу стремительным градом ударов. Он был как тигр, и яростные удары Локасто только еще больше озлобляли его.
Теперь они сошлись в жестокой схватке и Локасто, внезапно обхватив его, попытался бросить его и раздавить на полу. Тут только проявилась необыкновенная ловкость англичанина. На расстоянии меньше двух футов от пола он вывернулся как кошка и, вскочив на ноги, был свободен. Обхватив Локасто за пояс корнуэльским приемом, он повалил его на пол, заставил его сделать мост и налег на него всей тяжестью. Могучим движением Черный Джек вырвался и вскочил на ноги. Это как будто окончательно разъярило Банку Варенья, потому что он бросился на противника, как взбесившийся бык, обхватил его с невероятной силой, поднял над собой в воздух и бросил на землю с убийственной мощью.
Локасто остался лежать неподвижно. Глаза его были закрыты. Он не двигался. Несколько человек устремились вперед.
― Он жив, ― сказал какой-то человек, похожий на врача, ― только оглушен. Я думаю, что вы можете объявить борьбу законченной.
Банка Варенья начал медленно одеваться. Еще раз в лице Локасто он успешно схватился с «стариной виски». Его тело было сильно избито, но не имело никаких серьезных повреждений. С содроганием я посмотрел на лицо Локасто, превращенное в массу, и на его тело, сине-багровое с ног до головы. И тут-то, когда они понесли его в госпиталь ― я понял, что отомщен.
― Знаешь ли ты, что этот Шницштейн брал по доллару за вход? ― спросил Блудный Сын. ― Факт! Паршивец собрал около тысячи долларов.
Глава VI
― Позволь тебе представить, ― сказал Блудный Сын, ― моего друга Пииту.
― Очень рад познакомиться, ― весело отозвался Пиита, протягивая мне влажную руку, ― я занят мытьем посуды, простите мой кухонный наряд.
На нем были бледно-голубая нижняя рубаха, белые фланелевые штаны, подвязанные у пояса красным шелковым платком, очень пестрые мокасины и изломанная панама с ленточкой шоколадного цвета с золотом.
― Садитесь, пожалуйста! ― Его глаза благодушно смотрели сквозь очки в золотой оправе, когда он указал мне на удобный с виду стул. Я сел на него, но он быстро сложился подо мной. ― Ах, простите, ― сказал Пиита, ― вы не знакомы с устройством этого стула. Я укреплю его. ― Он проделал с ним какие-то операции, сделавшие стул более устойчивым, и я снова осторожно уселся.
Мы находились в маленькой бревенчатой кабинке на холме, оттуда открывался вид на город. Сквозь бутылочные стекла окон пробивался тусклый свет. Стены обнажали полосы бревен, между которыми пестрели пятна мха. В углу находилась скамья; покрытая выделанной медвежьей шкурой, а на маленькой продолговатой печке блестел горшок с бобами.
Пиита кончил мытье посуды и присоединился к нам, натягивая старую токседскую куртку:
― Ффу! Я рад, что покончил с этим делом. Быть может, я покажусь вам привередником, но должен сознаться, что не могу есть на одной и той же тарелке больше трех блюд, не проведя по ней мокрой тряпкой. Вот скверная сторона утонченных привычек: они осложняют жизнь. Однако я не могу пожаловаться. В моем приюте есть какая-то монашеская простота, которая делает его очаровательным в моих глазах. А теперь, принеся себя в жертву на алтаре чистоты, я намерен усладить свою душу музыкой. ― Он снял со стены банджо и, настроив струны, начал петь. Эти песни оказались его произведением, скорей импровизациями, и он исполнил их с искусством и экспрессией, которые придавали им известную пикантность.
Время от времени он останавливался, чтобы сделать какое-нибудь остроумное пояснение.
― Вы никогда не слыхали о голубом снеге, Чичакцы? У кроликов бывает синий мех, а птармиганы окрашены в яркую лазурь. Вы никогда не пробовали коктейля из ледяных червей? Мы должны исправить это. Не употребляйте для салата ничего, кроме масла ледяных червей. О, я забыл дать вам свою карточку.
Я взял ее. На ней было напечатано следующее:
ОЛЛИ ГАБУДЛЕР
Эксперт в поэзии
Повернув ее, я прочел:
Магистр университета сильных впечатлений. Аккуратно и быстро исполняет заказы на всевозможные стихи. В случае неудовольствия клиента деньги возвращаются обратно. Прошу испытать. Специальность ― надгробные оды. Баллады, рондо и сонеты по умеренным ценам. Требуйте наши строки любовной лирики. Заказы направлять в салун «Комета».
Я с любопытством взглянул на него. Он курил папиросу и следил за мной наблюдательными зоркими глазами. Это был блондин, юноша-херувим с голубыми глазами и капризным ртом, который, казалось, все время молился, переходя от серьезности к шутке. Он весело засмеялся, встретив мой испуганный взгляд:
— О, вы думаете, что это дурачество? Вовсе нет. Я сделался привидением с тех пор, как научился водить пером. Вы знаете Вилли Вильдербуша, знаменитого романиста? Ну, так Биль умер шесть лет тому назад от слишком усердной обработки Джона Ячменное Зерно,[1] и об этом умолчали. Но каждый год из-под его пера выходит новый роман. Это призраки. Я был Биль номер третий. Не правда ли, сногсшибательно?
Я выразил свое удивление.
― Да, книжки-подделки великое дело. Очаровательное изображение девушки на обертке, которая что-то делает в середине, и счастливая развязка в конце ― вот рецепт. Все остальное должно быть сладострастно, как бархат. Подождите, пока выйдет мой новый роман «Три минуты». Заказы принимаются.
― Заказываю, ― сказал я.
Он внезапно стал серьезным.
― Если бы я мог как следует заняться литературным делом, из меня, пожалуй, вышел бы толк, но я слишком большой farceur. Ладно, когда-нибудь увидим. Может быть, Север вдохновит меня. Может быть, я сделаюсь теперь Гласом Ледяного Молчания, Воплощением Великой Белой Страны?
Он чванился, выпячивая грудь.
― Не состряпали ли вы какой-нибудь поэзии нынче? ― спросил Блудный Сын.
― Как же, не далее как сегодня утром, пока я ел свиную грудинку с бобами, я нацарапал несколько строк. Я всегда пишу лучше, когда ем. Не хотите ли послушать? ― Он вытащил из кармана старый конверт. ― Они написаны по заказу Билли Усмирителя Вод. Он желает преподнести их одной из сестер Лабелль. Знаете, этой полной пылкой блондинке, Бэрдай Лабелль? Оно короткое, но прелестное. Он собирается выгравировать этот стишок на золотой крышке ручного зеркала, которое дарит ей.
Когда в глаза твои взгляну, Я вижу неба глубину. Твое чело белее лилий, А щечки розу пристыдили. Мне в голосе твоем слышны Напевы радостной весны. Красот природы не ищу я — Я их обрел, тебя целуя.― Не правда ли, как это пойдет к ней? В Бэрдай столько естественной прелести.
― У вас много работы? ― спросил я.
― Нет, это скучно. Поэзия ― только приправка на здешнем рынке. Это лишь добавочное занятие. Для того чтобы жить, я чищу сапоги в парикмахерской «Элит». Я, который витал на солнечных склонах Парнаса и утолял жажду своей души в Геликонском источнике, должен был избрать специальностью чистку сапог.
― Выпустили ли вы когда-нибудь книгу? ― спросил я.
― Как же! Разве вы никогда не читали мои «Рифмы Шелестящего»? Один рецензент сказал, что я настоящий поэт, чистое золото, восемнадцать каратов проба, чудный предмет для торговли, другой утверждал, что я достойнейший из посвященных, когда-либо спускавшихся с высот. Они нашли, что я подражаю людям, о существовании которых я не подозревал. Меня обвиняли в том, что я подражаю больше чем двадцати писателям. Потом на меня накинулись педанты, утверждая, что я не подхожу под академические формулы, советуя мне погрузиться в традиции. Они толковали о форме, о классиках и т. д. Как будто это важно? Важно, когда вам удается сделать вещь так, чтобы люди поняли ее и ощутили бы, что она чувствует себя как дома в их сердце. Я могу писать стихи во всевозможных искусственных формах, но тогда они покрываются плесенью и превращаются в задние числа. Забудьте о них. Довольно изучать старые греческие вирши. Изучайте жизнь, бьющую красками, взывающую к экспрессии. Жизнь! Жизнь! Ее солнце сияло в моей груди, и я только, естественно, старался быть его певцом.
― Послушайте, ― сказал Блудный Сын со своей скамьи, где он растянулся в облаке табачного дыма, ― прочтите нам ту штуку, которую вы написали вчера. «Последний ужин».
Глаза поэта заблестели от удовольствия.
― Хорошо, ― сказал он и ясным голосом прочел следующие строки:
ПОСЛЕДНИЙ УЖИН[2]
Мари Во ― Подведенные Очи, Ты лукавой игрою лица Веселишь, увлекаешь, морочишь И, шутя, разбиваешь сердца. За тебя ― игрушку пустую, Отдал честь я и гордость мужскую И теперь напрасно тоскую. Но близка минута конца. Допивай же вино, если хочешь, Мари Во ― Подведенные Очи! Мари Во ― Подведенные Очи, Твои ласки уже не манят. Ты награды за прошлое хочешь? Так прими же ее от меня! Что мы сеем, ― жатвой вернется, И слезами смех отольется, Мы сегодня уснем ― и придется Нам спать до Судного Дня. Ты в вине больше уст не омочишь, Мари Во ― Подведенные Очи! Мари Во ― Подведенные Очи, На колени! Молись о нас. Молись горячей и короче. Пока смерть свою косу точит. Пока свет еще не погас. Молись о добре, не содеянном нами. Молись о покое, овеянном снами. Бледный призрак уже за плечами, И я слышу беззвучный глас, Нас зовущий во мрак вечной ночи. Мари Во ― Подведенные Очи!Как только он кончил, раздался стук в дверь, и в комнату вошел молодой человек с широким улыбающимся лицом актера и выпуклым лбом баптистского миссионера. Пиита представил его мне:
― Юконский Иорик!
― Алло, ― перебил его вновь пришедший, ― что поделывает компания? Пожалуйста, не смущайтесь. Как поживаете, Горацио? (Он называл всех Горацио.) Рад видеть вас. Только что с собрания кредиторов. Что это? Нет ли глотка виски? Это жестоко, старый дружище, жестоко. Не искушай меня, Горацио, не искушай меня. Не забывай, что я ― только бедная трудящаяся девушка.
Он, казалось, с восторгом принимал жизнь во всех ее проявлениях. Он зажег сигару.
― Скажите, ребята, не знаете ли вы старого Бингбатса, адвоката? Дело в том, что я только что встретил его на Фронт-стрит. Я сказал ему: «Горацио, вы дали нам славное представление в Зеро Клубе», Он посмотрел на меня и по спине у него забегали мурашки. Ха! Да. Он был польщен, как Понч. «Послушайте, Горацио, ― сказал я, ― я поймал вас, но не выдам. У меня дома есть книга, в которой ваши речи имеются от слова о слова». Он совсем обмяк. А у меня есть, ― ха! да ― словарь!
Он мягко вложил в рот сигару с множеством хихиканий и шутовскими подмигиваниями.
― Нет, не искушай меня, Горацио, не забывай, что я только бедная трудящаяся девушка. Спасибо, я сяду вот там на ящике из-под мыла. Я знавал когда-то человека, по имени Чарльз Альфред Джобкрофт, который сел за светским чаем на яблочный пирог. Он так смутился, что не хотел встать. Так и остался сидеть, пока не ушли все остальные. Все удивлялись, почему он не двигается. Так и просидел, как приклеенный.
― Извращенный человек, ― вставил Блудный Сын.
― О, Горацио, избавь меня от этого. Не забывай, что я лишь бедная трудящаяся девушка. Это жестоко, старый дружище. Послушайте, подкрепите меня глотком вина, живо поворачивайтесь, ребята, поворачивайтесь.
Он деликатно налил разведенный спирт, который заменял виски.
― Накачивайте меня легче, ребята, ― сказал он, когда они снова наполнили стакан. ― У меня уже нет такой выдержки, как несколько тех кому назад. Кстати, по поводу выдержки. Сильнее всех на этот счет был человек по имени Артур Фредерике Подстрек. Его невозможно было напоить. Он заливал просто удивительно. Он спаивал компанию молодцов до того, что они валились под стол, затем оставлял их и шел пить с другими. Он мог начать рано утром и продолжать до самой последней минуты ночи, и при этом даже никогда не делался навеселе; это, казалось, нисколько не действовало на него: он был так же сдержан после двадцатого стакана, как и вначале. Га! Но это было чудо! ― Остальные наклонили головы в восхищении.
― При этом он был красивый здоровый детина. Дядя Виски, казалось, не причинял ему вреда. Я никогда не встречал таких способностей. Я часто следил за ним, потому что подозревал, что он втирает очки, но нет. У него стакан всегда был полнее, чем у других, он всегда пил виски, всегда до дна, и всегда брал после этого стакан воды. Я спросил себя: «В чем его система?» и начал упорно изучать его. Наконец, однажды я понял это.
― Что же это было?
― Итак, однажды, я заметил кое-что. Я заметил, что он всегда держал стакан особенным образом, когда пил, и в то же время давил себе живот в том месте, где находится солнечное сплетение. В тот же вечер я отозвал его в сторону.
― Послушайте, Подстрек, ― сказал я, ― я раскусил вас. На самом деле я еще ничего не раскусил, но удар подействовал; он побелел.
― Ради бога, не выдавайте меня. Не то ребята расправятся со мной судом Линча.
«Ладно, ― сказал я, ― если вы обещаете бросить это».
Тогда он исповедовался мне начисто и показал, как он это делал. У него под рубахой был эластичный резиновый мешок и трубка, идущая вдоль руки вниз по рукаву и кончающаяся белой воронкой в манжете. Когда ему нужно было опорожнить стакан, он просто выдавливал воздух из резинового мешка, опускал воронку в стакан и оставлял ее втягивать весь виски. Ночью он обыкновенно опоражнивал мешок и продавал спирт хозяину салуна. О, это был ловкий пройдоха!
«Я был настоящим трезвенником в течение семи лет (тайно), ― сказал он мне.
― Да, ― ответил я, ― и вы будете им теперь явно следующие семь лет.
И он сделался им. Несколько человек вошли в комнату, пополнив этот кружок богемы. Некоторые принесли с собой бутылки. Среди них был художник, «посвященный» в степень бакалавра музыки, один экс-чемпион, любитель бокса, оратор-златоуст и дюжина других. Маленькая комната была переполнена, воздух пропитан дымом, разговор оживлен, хотя большей частью состоял из монологов неподражаемого Йорика. Неожиданно беседа перешла на тему о безнравственности города.
― У меня есть теория насчет близости возрождения Даусона. Вы знаете, что добро дочь зла, а добродетель отпрыск порока. Вы знаете, каким добродетельным бывает человек после кутежа? Надо согрешить, чтобы на самом деле почувствовать себя хорошим. Следовательно, грех должен быть сам по себе хорошим, чтобы служить средством для добра, чтобы быть сырым материалом добра, чтобы при выделке превращаться в добродетель, неправда ли? Кафешантан ― хорошая жатва для молитвенных собраний. Если бы мы все были добродетельны, то в добродетели не было бы добродетели, и если бы мы все были порочны, никто не был бы плох. И так как в нашем городе очень много зла, нам кажется, что добро неестественно хорошо.
Пиита завладел общим вниманием.
― У одного из моих друзей был прекрасный пруд, поросший водяными лилиями. Они радостно украшали воду и вызывали ликование в душе. Люди приходили из ближних и дальних мест, чтобы посмотреть на них. Но в одну зиму мой друг решил очистить пруд и велел убрать всю мокрую тинистую грязь, пока на поверхности не остался только блестевший серебристый песок. Но лилии с их обворожительной прелестью больше не вернулись.
― Ладно, что же вы хотите этим сказать, старый мечтатель?
― О, только то, что в липкой грязи и тине Даусона я видел девушку-лилию. Она живет в хижине на Спуске, в еврейской семье. Я только два раза мельком видел ее. Я не могу передать вам этого, но она прекрасна, чиста и нежна. Я заложил бы жизнь за ее чистоту. Она выглядит, как юная мадонна.
Его прервал циничный смех.
― Брось басни! Мадонна в Даусоне, ха, ха!
Он замолчал, пристыженный, но я уже поймал нить. Я подождал, пока ушел последний шумный хвастун. «Эта кабинка находится на Спуске?» ― спросил я. Он удивился и посмотрел на меня испытующе. «Вы знаете ее? Она очень близка мне». ― «О, я понимаю. Да, это длинная чудная кабина на вершине склона». ― «Спасибо, товарищ. ― Не стоит, желаю удачи».
Он проводил меня до двери, любуясь чудом обворожительной северной полуночи.
― О, если бы найти возможность выразить все это. Ваша педантичная поэзия недостаточно глубока для этого, проза также. Нам нужно что-то большее, чем могло бы отразить жизнь и взволновать великое сердце народа. Спокойной ночи.
Глава VII
Я осторожно приблизился к хижине, опасаясь в душе наткнуться на этих тюремщиков. Место было очень уединенное; длинная низкая хижина, молчаливая и темная, окруженная камнями, лепилась у основания горной ссадины, которая носила название Спуска. Я произвел тщательную рекогносцировку и к своей безмерной радости увидел, как еврейская пара вышла и направилась к городу. Девушка была одна. Как безумно колотилось мое сердце! Это была мрачная ночь, и хижина казалась унылой, мрачной и одинокой. В окнах не было света, а сквозь забитые мхом щели стен не проникал ни один звук. Я подошел близко. Откуда это безумное возбуждение всего моего существа? Что это? Тревога, радость, страх? Острие надежды над пропастью отчаяния? Я боязливо остановился, терзаясь нерешительностью, охваченный таким страстным желанием, что одна мысль о разочаровании превращалась для меня в невыносимую муку. Я знал теперь, что любил эту девушку, что она была мне дороже всего остального на свете и что любовь моя к ней будет длиться столько же, сколько и моя жизнь. Я постучал в дверь. Ответа не было.
― Берна! ― воскликнул я, дрожащим шепотом.
Послышался ответ: «Кто там?»
― Любовь, любовь, дорогая; любовь ждет.
Дверь открылась, и девушка очутилась передо мной. Она, должно быть, лежала, потому что ее мягкие волосы были слегка растрепаны. Но глаза ее были слишком ясны для человека, только что оторвавшегося от сна. Она стояла, глядя на меня, и маленькая дрожащая рука ее поднялась к сердцу, как бы для того, чтобы успокоить его биение.
― О, дорогой мой, я знала, что вы придете.
Великое сияние любви озарило ее.
― Вы знали?
― Я знала, да я знала. Что-то подсказывало мне, что вы несмотря ни на что, придете.
Я схватил ее нежную руку и покрыл ее поцелуями. В эту минуту я готов был целовать тень этой маленькой ручки, готов бы упасть перед ней в немом обожании, и готов был превратить свое сердце в скамеечку для ее ног. Я готов был отдать, о, с какой радостью, свою жалкую жизнь, чтобы избавить ее от минутного огорчения.
― Вверху и внизу я искал вас, любимая. Утром и в полдень, и ночью вы жили в моем мозгу, в моей душе. Я любил вас каждое мгновение моей жизни.
Как ярко горели ее серые глаза. Как невыразимо нежны были милые уста ее. Слабый румянец появился на ее щеках.
Она завернулась в шаль и уложила волосы в очаровательные волны и локоны.
― Пойдемте по тропинке немного. Они не вернутся раньше, чем через час.
Она пошла вперед по узкой тропинке, оглядываясь через плечо с ликующей улыбкой, иногда, как ребенку, протягивая мне назад руку.
Вдоль вершины горы тропинка извивалась головокружительным зигзагом, а далеко внизу неслась река в гигантском водовороте. Мы долго не произносили ни слова. Как будто наши сердца были чересчур полны для слов, наше счастье ― слишком велико, чтобы быть выраженным. Но как сладко было это молчание. Угрюмый Мрак осеребрился в блестящий свет, птицы снова запели свои страстные полуночные песни.
― Вы нашли меня, дорогой, ― сказала Берна. ― Я знала, я чувствовала, что вы не покинете меня. И я ждала, ждала. Время казалось безжалостно долгим. Мы жестоко расстались, почти не простившись друг с другом. Они увезли меня. Они начали опасаться вас, и он приказал им тотчас же уехать. Ранним утром мы отправились в путь.
― Я понимаю, понимаю. Расскажите мне об этом, детка. Он беспокоит вас?
― Не очень. Он уверен, что я в достаточной безопасности, и сижу в западне в ожидании его благосклонности. Он теперь увлечен какой-то женщиной там, в городе. Со временем он опять обратит внимание на меня.
― Ужасно, Берна. Вы разрываете мне сердце. Как вы можете говорить об этом таким деловым, положительным тоном? Это сводит меня с ума.
Странное жестокое выражение искривило углы ее губ.
― Не знаю, иногда я сама удивляюсь себе, как философски я начинаю относиться ко всему.
― Берна, но уверены ли вы, что ничто на свете не заставит вас покориться?
Она нежно прильнула ко мне и обвила моими руками свою шею. Она смотрела на меня, пока я не увидал в ее глазах своего отражения.
― Ничто на свете, милый, пока вы будете любить меня и помогать мне. Если же когда-нибудь вас не будет, ну, тогда уж безразлично, что станется со мной.
― Даже тогда, ― сказал я, ― это будет невыразимо ужасно.
― Я знаю, мой мальчик, знаю. Верьте мне ― и положитесь на меня. И пока у меня есть ваша любовь, я в полной безопасности. О, как тяжко было не видеть вас. Я тосковала по вас беспрерывно. Я ни разу не выходила с тех пор как мы здесь. Она не пускала меня и сидела сама дома. Теперь они почему-то ослабили надзор. Они собираются открыть ресторан там, в городе, и я должна буду прислуживать у столиков.
― Нет, не будете! ― воскликнул я, ― не будете, если я имею право голоса в этом деле. Берна, я не могу выносить мысли, что вы будете там, среди этой мусорной груды разврата. Вы должны выйти за меня замуж, теперь же.
― Теперь? ― повторила она с широко открытыми от удивления глазами.
― Да, дорогая, без промедления. Ничто не может помешать нам. Берна, я люблю вас, желаю, нуждаюсь в вас. Выйдите за меня замуж теперь.
В тоске неизвестности я ждал ее ответа. Она долго сидела молча, задумчивая и спокойная, с опущенными глазами. Наконец, она подняла их на меня.
― Вы сказали: год.
― Да, но я пожалел об этом. Я хочу вас сейчас. Я не могу ждать.
Она пристально смотрела на меня. Голос ее был очень мягок, очень нежен.
― Я думаю, что нам лучше подождать, дорогой. Это слепой внезапный порыв с вашей стороны. Я не должна пользоваться им. Вы жалеете меня, боитесь за меня и вы знали так мало других девушек. Это великодушие, рыцарство, а не любовь к бедной меленькой Берне. О, мы не должны, мы не должны желать этого. И потом вы может быть пожалеете.
― Пожалею? Я никогда не пожалею об этом, ― умолял я. ― Я всегда буду ваш, абсолютно, целиком ваш, девочка, душой и телом, на жизнь и на смерть, навсегда, навсегда, навсегда.
― Да, но ваша любовь кажется мне такой внезапной, жгучей, сильной, Мне страшно, мне страшно. Может быть, это не та любовь, которая может длиться. Быть может, вы скоро начнете тяготиться. Я только бедная невежественная девушка. Если бы здесь вблизи была другая, вы никогда не обратили бы на меня внимания.
― Берна, ― сказал я, ― если бы вы были среди тысячи прелестнейших в мире девушек, я прошел бы мимо них и с восторгом и благодарностью повернулся бы к вам. И если бы я был императором на троне, а вы самой смиренной из всей этой толпы, я поднял бы вас до себя и назвал бы «королевой».
― Королевой? Ах, нет, ― сказала она грустно. ― Вы были тогда благоразумны. Я убедилась в этом после. Лучше подождать год.
― О, дорогая моя, ― упрекнул я ее, ― однажды вы предложили мне себя без всяких условий. Почему вы изменились?
― Не знаю. Я горько стыжусь этого. Никогда больше не напоминайте мне об этом.
Она продолжала очень спокойно, полная ласкового терпения.
― Вы знаете, я много думала с тех пор. В долгие дни и еще более долгие ночи, когда я томилась здесь в тоске, не теряя надежды, что вы вернетесь ко мне, у меня было достаточно времени, чтобы подумать, взвесить ваши слова. Я точно помню их. Любовь это жизнь и смерть, великий ослепительный свет, страсть, которая возносит до небес и низвергает в преисподнюю. Вы разбудили во мне женщину. Мы нужна такая любовь.
― Она есть у вас, моя драгоценная, вы владеете ею воистину.
― Хорошо, тогда дайте мне время вкусить ее. Теперь июнь. В будущем июне, если вы не решите, что были глупы, слепы, неосмотрительны, я отдамся вам со всей любовью мира.
― Может быть, вы изменитесь? Она улыбнулась чудесной улыбкой.
― Никогда, никогда не бойтесь этого. Я буду ждать вас, тосковать по вас, любить вас все больше и больше с каждым днем.
Я был убит, подавлен, ошеломлен ее отказом.
― Сейчас я буду только бременем для вас. Я верю в вас. Я хочу, чтобы вы вышли на дорогу и приняли участие в битве жизни. Я знаю, что вы победите. Я буду только тяжестью для вас теперь, подождем, мальчик, только год.
Я почувствовал патетическую мудрость ее слов.
― Я знаю, вы боитесь, что со мной что-нибудь случится. Нет, я думаю, что все будет благополучно. Я могу противиться Локасто, Через некоторое время он оставит меня в покое. А если дело примет дурной оборот, я позову вас. Вы не должны уходить слишком далеко. Я скорее умру, чем позволю ему дотронуться до меня. До будущего июня, дорогой, ни одного дня дольше. Для нас обоих будет лучше подождать.
Я опустил голову.
― Хорошо, ― сказал я резко, ― а что я буду делать в это время.
― Что делать? Делайте то, что вы делали бы без меня. Не позволяйте женщине отклонять течение вашей жизни, заставьте ее плыть за вами. Ступайте на ручьи. Работайте. Для вас будет лучше уехать. Это облегчит положение мне. Здесь мы будем мучить друг друга. Я также буду работать, тихо жить и тосковать по вас. Время пройдет быстро. Вы будете иногда приезжать и навещать меня.
― Да, ― ответил я. Мой голос звучал глухо от волнения.
― Теперь мы должны идти домой, ― сказала она. ― Я боюсь, что они вернутся.
Она встала и я последовал за ней по узкой тропинке. Один или два раза она обернулась и послала мне сияющий нежный взгляд. Я боготворил ее больше, чем когда-нибудь.
Мы достигли хижины и на пороге она остановилась. Те еще не вернулись. Она протянула мне обе руки, и глаза ее заблестели слезами. «Будь мужественен, мой любимый; это все ради меня, если ты меня любишь». ― «Я люблю вас, моя дорогая. Все ради вас. Я уеду завтра». ― «Мы помолвлены теперь, не правда ли дорогой?» ― «Мы помолвлены, моя любовь».
Она прильнула ко мне и слилась с моими объятиями, как меч со своими ножнами. Она взяла мое лицо своими белыми руками и посмотрела на меня долго и вдумчиво.
― Я люблю вас, я люблю вас, ― прошептала она. ― Будущим июнем, мой любимый. Будущий нюнь.
Она мягко ускользнула от меня и я остался на месте, смущенно созерцая закрытую дверь.
― Будущий июнь! ― услышал я как эхо. Предо мной с улыбкой на лице стоял Локасто.
Глава VIII
Быть так грубо пробужденным от восторгов любви, внезапно отвернуться от того, кого любишь больше всего на свете и увидеть того, которого должен больше всего ненавидеть ― равносильно впечатлению оглушительного взрыва, но человеческая природа не в силах упасть, подобно ракете, с небесных высот любви. Я все еще находился в восторженном состоянии духа, когда, обернувшись, очутился лицом к лицу с Локасто. Ненависть была далека от моего сердца, и, увидев, что он также смотрит на меня без особенной неприязни, я почувствовал желание отложить на минуту в сторону враждебные чувства. Великодушие победителя пылало во мне.
Когда он подошел ко мне, его манеры были почти изысканны, полны достоинства.
― Вы должны простить мне, ― сказал он, ― что я подслушал вас. Но я проходил случайно и наткнулся на вас, прежде чем сообразил это.
Он протянул мне руку.
― Надеюсь, мои поздравления не покажутся вам слишком неприятными. Я знаю, что мое поведение в этом деле не может произвести на вас особенно хорошего впечатления. Я действительно взбалмошный человек. Будьте великодушны и предайте забвению прошлое? Хотите?
Я еще не спустился на землю. Я все еще парил в разреженных высотах любви и готов был объявить полную амнистию своим врагам. Когда он стоял так, искренний и привлекательный, в нем чувствовалось прямодушие и честность, которым трудно было противостоять. Я был убежден в чистосердечности его намерений и прямодушно протянул ему руку. Его пожатие заставило меня скорчиться.
― Да, я еще раз поздравляю вас. Я знаю ее и восхищаюсь ею. Она чистое золото. Это маленькая королева, и человек, которого она полюбит, должен быть горд и счастлив. Я поживший человек, я знаю свет и в общем отношусь цинично к женщинам, Я уважаю свою мать и сестер, а остальных… ― Он выразительно пожал плечами. ― Но эта девушка ― другое дело. Я чувствую себя в ее присутствии, как двадцать пять лет назад, когда я был юношей с непотускневшими идеалами и чистым сердцем; когда женщина казалась мне святыней.
Он вздохнул.
― Знаете ли, молодой человек, я никому еще не говорил этого, но я отдал бы все, что я имею, миллион чистоганом, чтобы вернуть эти дни. Я никогда не был счастлив с тех пор. Вы не должны думать, что я интересуюсь вашей возлюбленной. Я достаточно стар, видите ли, чтобы быть ее отцом, и она глубоко трогает меня. Забудьте недоверие. Я хочу быть вашим другом. Я хочу помочь вам быть счастливыми. Джек Локасто совсем не так уж скверен; вы убедитесь в этом, когда узнаете его поближе. Не могу ли я сделать что-нибудь для вас? Чем вы намерены заняться в этой стране?
― Я еще сам не знаю хорошенько, ― сказал я. ― Надеюсь занять хороший участок, когда представится случай. А пока я собираюсь искать работы на ручьях.
― В самом деле? ― сказал он задумчиво, ― вы знаете кого-нибудь?
― Нет!
― Ладно, я могу кое-что предложить вам. У меня в Эльдорадо работают арендаторы. Я дам вам записку к ним, если хотите.
Я поблагодарил его.
― О, не стоит, ― сказал он. ― Я жалею, что играл такую низкую роль в прошлом и сделаю все, что в моих силах, чтобы загладить это. Верьте мне, что я хочу этого. Ваш друг англичанин задал мне самую основательную трепку за всю мою жизнь, но через три дня я пошел и пожал ему руку. Он славный парень. Мы откупорили с ним ящик вина. О, мы большие друзья теперь. Я всегда сознаюсь в своем поражении и не выношу злопамятства. Если я могу чем-нибудь помочь вам и ускорить вашу свадьбу с этой маленькой девочкой, вы можете всецело рассчитывать на Джека Локасто ― вот и все.
Было раннее, ясное, холодное утро, когда мы отправились в Эльдорадо, Джим и я. У меня были письма от Локасто к арендаторам Рибвуду и Гоффману. Я показал их Джиму. Он нахмурился.
― Не хотите ли вы сказать, что поладили с этим дьяволом? ― сказал он.
― Он не так уж дурен, ― сказал я укоризненно. ― Он пришел ко мне как мужчина и предложил свою дружескую поддержку. Сказал, что он стыдится за себя. Что мне оставалось делать? У меня не было оснований сомневаться в его искренности.
― Остерегайтесь его искренности. Он так же искренен, как укрощенная гремучая змея. Бросьте это письмо в ручей.
Но я отказался послушаться старика.
― Ладно, идите своей дорогой, ― сказал он, ― но не говорите потом, что я не предостерег вас.
Мы шли по тропинке, протоптанной ногами рудокопов и переносчиков грузов. Внизу лепились хижины, из которых поднимались в золотистый воздух султаны лилового дыма. Лагерь был уже на ногах. Мужчины рубили дрова, таскали воду. Долгий, долгий день начинался.
Следуя по дороге, мы добрались до Бонанцы, маленькой грязной речонки в узкой лощине. Вдоль по руслу ручья мы могли, видеть все возрастающую деятельность рудокопов. На каждом участке были дюжины хижин и много высоких конусов сероватой грязи. Мы увидели людей, стоящих на возвышенных платформах, вертящиеся вороты. Мы увидели, как бадьи поднимались наверх с темно-серой грязью и она сбрасывалась через край платформы. Местами платформы стояли в центре этих темно-серых конусов на высоте двадцати футов.
С каждой милей кучи становились все более многочисленными, так что некоторые участки казались сплошь покрытыми ими. Они напомнили бесчисленные муравейники, а вокруг них кишели в неутомимой деятельности маленькие муравьи ― люди. Золотая долина открывалась перед нами прогалиной зеленых изгибов и щели ее были заполнены платками, хижинами, кучами и платформами, окутанными голубым газом костров.
― Взгляните-ка на эту большую стоножку, переползающую через долину, ― сказал я.
― Да, ― ответил Джим, ― это длинный ряд запруд. Видите, как блестит на солнце вода. Она напоминает большую гусеницу с золотой спинкой.
― Мне кажется, что река в конце концов унесет все золото, ― сказал я. ― Я знаю, что оно задерживается в зарубках, но думаю, что если бы эта грязь принадлежала мне, я устроил бы запруды на расстоянии мили и сделал бы около шестисот зарубок. Но, вероятно, эти люди знают свое дело.
Около полудня мы спустились к руслу ручья и подошли к Форксу. Это был Даусон в миниатюре, в котором все гнусные особенности последнего городки были бесконечно подчеркнуты. В нем так же были танцульки, игорные притоны и много салунов. Все помогало здесь рудокопу облегчить его полнокровные карманы. В этом грохоте, блеске, грязи мы немного замешкались. Затем, поев на скорую руку, двинулись в Эльдорадо. Здесь царила та же лихорадочная деятельность добывания золота. Каждый участок стоил миллионы и люди, которые раньше редко зарабатывали достаточно, чтобы купить себе приличное пальто, теперь горевали в салунах, что жизнь недостаточно длинна, чтобы позволить им растратить внезапное богатство. Они все же наносили ему основательную брешь.
В Форксе я справился относительно Рибвуда и Гоффмана.
― Работать собираетесь на них, что ли? Ну, они составили себе чертовски дурную славу. Если вы найдете работу себе в другом месте, не упускайте ее.
Джим оставил меня; он не станет работать на участке Локасто, заявил он. У него был здесь друг, тоже арендатор, славный человек, принадлежавший к Армии Спасения. Он попробует устроиться, у него.
Таким образом мы расстались.
Рибвуд оказался высокий худой корнуэлец с узкой вытянутой головой и мрачным видом. Гоффман ― дородный свекловичной окраски австралиец с выдающимся животом.
― Хорошо, мы поставим вас на работу, ― сказал Гоффман, прочитав письмо. ― Снимите ваше пальто и начните копать.
Таким образом я немедленно очутился в сброшенной куче; врезываясь лопатой в ценную грязь, я сбрасывал ее в запруду на пять футов выше моей головы. Работать так час за часом было не шутка, и если человек останавливался на минуту, жесткие глаза Гоффмана устремлялись на него, а мрачный Рибвуд вырывал лопату и со злостью швырял ее в грязь.
― Живей, ребята! ― кричал он, ― грязь должна летать. Не много таких мест на свете, где вы сможете заработать десять целкачей в день.
И надо сказать, что ни один рабочий не заслуживал так своего заработка, как те, которые промывали и копали в те долгие дни. Немногие могли выдержать это долго без передышки. Эти сбрасывающие и сгребающие люди были худы, как волки, и лица их были выдолблены и изрыты непрерывной работой.
Итак, в течение трех дней я заставлял грязь летать; но должен сознаться, что к концу моего рабочего дня полет ее становился очень неуверенным. Ко мне снова вернулись все муки, вызываемые переутомлением, старые муки и боли туннеля и песочной ямы. К вечеру каждая лопата грязи казалась мне такой же тяжелой, как лопата золота; словно грязь к вечеру превращалась в чистые самородки. Постоянное подбрасывание грязи в находившуюся выше головы запруду развивало мускулы, которые никогда не работали раньше, и я мучился ужасно.
По утрам боли были особенно жестоки. Как я стонал, пока мускулы не делались гибче. Я работал со скрежетом зубовным, но делал свое дело; надсмотрщик прилежно наблюдал за нами и, казалось, сердился даже за пропуск той минуты, когда мы вытирали пот с наших ослепленных глаз.
Я очень обрадовался, когда вечером на третий день Рибвуд подошел ко мне и сказал:
― Я думаю, что вам лучше будет работать завтра в шахте. Нам нужен человек, чтобы вертеть грязь.
На склоне была вырыта шахта. Работать приходилось на глубине сорока футов; туда сваливали грязь, сгоняя ее вниз по ряду досок, установленных на козлах и тянувшихся до кучи. Я схватил ручки тачки, наполненной до краев, и спустился с нею вниз по длинному неустойчивому проходу, полному неожиданных перекрестков и внезапных углов. Мой дух поднялся. Я был на пути к тому, чтобы сделаться настоящим рудокопом.
Глава IX
Ворот вокруг вала вертела маленькая, приземистая, грязная крыса, которая вызывала во мне живейшее чувство отвращения. Его звали Пат Дуган, но я буду называть его Червяком. Червяк был самое злоязычное существо, какое я когда-нибудь видел. У него был самый низкий лоб, какой только может быть у белого человека, и необычайно острая мордочка хорька. Его рыжеватые волосы были острижены по тюремному, а маленькие красноватые глазки горели хитростью и жестокостью. Я заметил, что он всегда смотрел на меня с особенно злой гримасой, которая морщила его щеки и открывала отвратительные черные зубы. Он сразу внушил мне отвращение, как будто предо мной был липкий гад. Однако Червяк старался подружиться со мной. Он рассказывал мне истории, в которых ужасное перемешивалось с гротеском. Одна мне особенно запомнилась.
― Хотите знать, как я потерял прежнюю работу? Я расскажу вам. Видите ли, это случилось так. Тут были два черномазых чудака, которые пришли в страну весной через Сан-Майкль; они были индусы. Один из них получил работу у старика Густавсена внизу в шахте ― черпать грязь и наполнять бадьи. Ладно, так вот черномазый находился внизу в глубокой яме, как раз в тот день, когда я пришел просить работы у старого Гуса. Заметив, что человек на вороте нуждался в отдыхе, он передал место мне; я согласился взяться за дело. Нужно сказать, что я чувствовал себя довольно скверно. Я только что закончил две недели пьянства и вы можете понять, что зелье здорово бродило во мне. Мне мерещились самые чудные вещи. Когда я вертел этот старый ворот, красные пауки начали ползать по моим ногам. Но я был благоразумен. Я не смотрел на них и старался не обращать на них внимания. Потом желтая крыса стала играть со мной и несколько раз задерживала мой ворот. Но я все еще не поддавался. Затем появились зеленые змеи, которые извивались на платформе, как светлые пятна на воде. Ясно, что мне это совсем не нравилось, но я сказал себе: «Здесь нет змей, в этой проклятой стране, Пат, и ты знаешь это. Это просто штуки белой горячки и все. Плюнь на них, дружище, не обращай никакого внимания».
Так продолжалось, пока я не начал весь трястись и корчиться, так что я очень обрадовался, когда настало время отдыха и ребята снизу дали мне сигнал поднять их наверх. Итак, я начал поднимать их, борясь с этими змеями и крысами, которые вертелись вокруг меня, как сумасшедшие, как вдруг увидел самого дьявола, подымавшегося из потрохов земли.
Его лицо было черно. Я видел белки его глаз, а вокруг головы у него было повязано большое грязное полотенце. Это был предел. При виде этого свирепого чудовища, идущего за старым Патом, я издаю вопль, бросаю ручку ворота и делаю стремительный прыжок в грязь. Я слышу ужасный крик ― и бадьи и дьяволы проваливаются и расплющиваются о дно шахты на глубине тридцати пяти футов. Но я продолжаю бежать. Я был так напуган.
Как мне было знать, что у них там внизу черномазый? Он уже окоченел, когда они вытащили его. Но откуда мне было знать? Так я потерял работу.
По другому поводу он рассказал мне:
― Послушайте, молодчик, вы не знаете, что со мной бывают припадки. Да, вот доктор говорит: эпилепсия. Вот этого-то я и боюсь. Видите ли, дело обстоит так: если приключится припадок, когда я поднимаю ребят на вороте, будет беда. Я, наверно, потеряю работу, как в тот раз.
Это был самый опустившийся человек изо всех, кого я встречал в своих странствиях, типичный дегенерат, грязный, пьяный, больной. У него были три перемены белья, которые он никогда не стирал. Он носил все три смены подряд и когда последняя делалась невыносимо грязной, он бросал ее под свой ящик и с грустью возвращался к первой, продолжая этот порядок, пока они все не изнашивались.
Однажды Гоффман сказал мне, чтобы я спустился в шахту и начал работать на штольне. Поэтому на следующее утро вместе с огромным славянином по имени Дулей Рилейвич были спущены вниз в темноту. Славянин учил меня. Каждый фут грязи нужно было оттаять при помощи костров. Мы складывали костер в дальнем конце штольни каждый вечер, работая с закрытыми лицами. Сперва мы раскладывали горючий материал, затем сухой ельник, располагая его вдоль, затем устраивая загородку из свежего дерева сверху, чтобы сохранить жар и не пропускать грязь, которая падала вниз со сводов. К утру наш костер уже догорал, растопив достаточное количество грязи, чтобы заставить нас разбирать ее целый день.
Я нашел эту работу внизу чрезвычайно тяжелой. Мы должны были следить за тем, чтобы дым вышел из отверстия прежде, чем мы спустимся в него, ибо рудокопы нередко погибали от удушья. Однако скверный воздух никогда не исчезал вполне. Он заставлял слезиться мои глаза и болеть горло. Любопытно, что пока мы находились внизу, этот воздух не так сильно действовал на нас. Только когда мы, выйдя из бадьи, вдыхали чистый наружный воздух, нас начинало качать и часто нам делалось дурно. Иногда за ужином мои глаза так слезились, что я должен был ощупью искать вокруг сахарницу и молочник.
В штольне было всегда холодно. Грязь постоянно капала на нас, и мы, собственно, спускались много глубже, чем позволяла безопасность, но арендатор мало беспокоился об этом. В конце штольни своды были так низки, что нам приходилось сгибаться почти вдвое и принимать самые всевозможные скорченные позы, таща при этом за собой бадьи. Для славянина это была лишь обыденная работа, но для меня это было тяжело.
Шахта имела почти сорок футов глубины. На протяжении первых десяти футов тянулась лестница, которая затем внезапно обрывалась, как будто копавшие вдруг решили забросить ее. Я часто смотрел на этот бесполезный кусок лестницы, стараясь угадать, почему она не была закончена.
Каждое утро Червяк спускал нас вниз в темноту и вечером поднимал наверх. Однажды он сказал мне:
― Неправда ли, будет жаль, если со мной приключится припадок, когда я буду поднимать вас наверх? Такой славный парнишка, как я посмотрю, и вдруг ― придется потерять место из-за вашей головы.
Я ответил:
― Бросьте это! Не то вы так напугаете меня, что я не захочу больше спуститься.
Он неприятно усмехнулся и не сказал больше ничего. Однако, все же он ужасно действовал мне на нервы.
Был вечер. Мы разложили костер и готовились подняться наверх. Дулей Рилейвич поднялся первым и я следил за тем, как он на мгновенье заслонил кусочек голубого неба своим телом. Затем бадья медленно спустилась за мной. Я полез, в нее. Вдруг мне стало не по себе и я от всей души пожелал быть где-нибудь в другом месте, только не в этой ужасной яме. Я почувствовал, как отделился от земли и стал подниматься. Стены штольни скользили мимо меня. Я поднимался все выше и выше. Кусочек голубого неба все больше и больше расширялся, на нем блестела звезда. Я слышал скрип, скрип ручки ворота. Почему-то звук его показался мне зловещим. Он как будто говорил: «Берегись, берегись, берегись!» Я был теперь на расстоянии десяти футов от поверхности. Бадья немного колыхалась, поэтому я протянул руку и схватился за нижнюю ступень лестницы, чтобы укрепиться.
Вдруг в одно мгновение мне показалось, как будто тяжесть бадьи, которую я чувствовал под ногами, внезапно отпала и рука моя оказалась почти выдернутой из плеча. Я висел в отчаянном положении на нижней перекладине лестницы, а бадья разбилась о дно с треском, от которого сжалось мое сердце. Наконец я понял: с Червяком приключился припадок.
Я быстро ухватился обеими руками и с большими усилиями начал подниматься со ступеньки на ступеньку. Я был охвачен ужасом, ослабел от страха; но какой-то инстинкт заставлял меня отчаянно цепляться. Я висел, полурыдая, дрожа, голова моя кружилась. Минута показалась мне годом. Я увидел лицо Дулея, смотревшего на меня вниз. Он видел, как я уцепился, и с беспокойством кричал мне, чтобы я поднимался наверх. Преодолевая охватившую меня дурноту, я поднимался, пока не почувствовал наконец его сильную руку вокруг себя, и тут я готов поклясться на ворохе библий, что этот грубый славянин показался мне одним из божьих ангелов.
Я снова был на твердой почве. Червяк лежал, вытянувшись без движения. Не говоря ни слова, славянин взвалил его на свои дюжие плечи. Ручей был над холмом на расстоянии пятидесяти ярдов. Прежде чем мы дошли до него, Червяк начал обнаруживать признаки возвращающегося сознания. Когда же мы приблизились к ледяной воде, он принялся охать и ворочать глазами самым невероятным образом.
― Оставьте меня в покое, ― сказал он Рилейвичу. ― Эй, вы, славянская свинья, пустите меня.
Но славянин не слушал его. Держа извивающегося, корчащегося человечка своей могучей рукой, он окунул его с головой в грязное течение ручья.
― Я думаю, что так или иначе я вылечу эти припадки, ― сказал он свирепо.
Отбиваясь, шумя, ругаясь, маленький человечек освободился наконец и вылез на берег. Он чрезвычайно выразительно проклинал Рилейвича. Он не успел еще заметить меня, и я услышал, как он сетовал:
― Наверно, парень окочурился. Вот мое везенье! Я потерял опять работу.
Глава X
― Возьми лучше расчет, ― сказал Блудный Сын.
Это было вечером в день моего приключения с бадьей, и он неожиданно приехал из города.
― Да, я тоже так думаю, ― ответил я. ― Я не согласился бы теперь спуститься даже за миллион. Я слаб как больной ребенок, я не мог бы выдержать еще одного дня.
― Ладно, дело решено! ― сказал он. ― Это как раз совпадает с моими планами. Я заберу также с собой Джима. Я реализовал снаряжение, которое скупал все время, взял на этом около трех тысяч чистой прибыли и приторговал участок на берегу выше Бонанцы; называется Золотой Холм. У меня есть сведения, что это недурное местечко. Во всяком случае мы пороемся там и увидим. Вы с Джимом получите по четвертой части для разработки, а я возьму лишнюю четверть за капитал, который вложил. Идет?
Я ответил, что согласен.
― Я так и думал и даже заготовил бумаги. Вы можете подписать хоть сейчас.
Итак я поднялся, и на следующий день мы втроем были уже на своем участке. Мы поставили палатку, но первой заботой было сооружение хижины. В стороне мы начали выравнивать землю. Работа была приятная и велась в такой дружеской обстановке, что время проходило незаметно. Теперь меня тревожила только Берна. Она никогда не переставала быть на первом плане в моих мыслях. Я уверял себя, что она в полной безопасности. Но, слава богу, каждая минута приближала ее ко мне.
Однажды утром, когда мы были в лесу, ― мы рубили деревья для хижины, ― я спросил Джима:
― Не пришлось ли вам услыхать что-нибудь еще об этом Мозли?
Он перестал рубить и опустил топор, остановившийся в воздухе.
― Нет, мальчик. Я совсем не получал почты. Подожди немного.
Через два дня после этого Блудный Сын сказал мне:
― Я видел сегодня вашего маленького друга.
― Правда? Где же? ― спросил я, потому что я часто вспоминал Червяка, вспоминал со страхом и отвращением.
― Он как раз получил величайшую встрепку, какую когда-либо на моих глазах получал человек. И знаете ли кто задал ему ее? Не кто иной как Локасто.
Он закурил папиросу и затянулся дымом.
― Я шел по дороге из Форкса, когда внезапно услышал голоса в кустарнике. Большой человек говорил: «Послушай-ка, Пат, если бы я только хотел сказать пару слов, ты отправился бы на каторгу на весь остаток дней».
Потом вкрадчивый голос маленького человека:
«Видите ли, я сделал что мог, Джек. Я знаю, что проморгал дело, но вы не сваливайте все на одного меня. Тут еще есть много других, которые заслуживают каторги. Знаете, горшок котлу говорил: ― ах, какой ты черный! Глупо ведь это было со стороны горшка? Не так ли?»
Тут Черный Джек пустил в ход руки. Вы знаете, что у него есть система рукоприкладства, которая близка к совершенству в этой области. Он повалил человека и начал выколачивать из него дух. Я думаю, он прикончил бы его, если бы я не появился. При виде меня он издал проклятие, вскочил на свою лошадь и помчался галопом. Я прислонил маленького человека к дереву; в это время подошли другие парни и мы дали ему немного бренди. Странная в общем история, правда?
Она и мне казалась странной.
― Кстати, ― сказал Джим, ― не видал ли кто Банку Варенья?
― О, да, ― ответил Блудный Сын, ― бедняга! Он приуныл и запутался. После боя он окончательно развалился, потому что все стали угощать его. Вы помните Бульгамера? Да! Так вот в последний раз я видел Банку Варенья чистящим дверные ручки в салуне Бульгамера.
Мы притащили бревна для хижины и заложили фундамент. Теперь мы возводили стены, забивая между бревнами толстый слой мха. Однажды вечером я заметил мрачного Рибвуда, карабкавшегося по склону к нашей палатке. Он окликнул меня:
― Послушайте, вы как раз нужны нам.
― Для чего? ― спросил я. ― Не для того ли, чтобы опять спуститься в шахту.
― Нет, нам нужен ночной сторож, чтобы охранять участок. Четыре часа в ночь. По доллару за час. За последнее время было много случаев ограбления запруд, и мы боимся, чтобы нас не почистили. У нас теперь в ходу две девятичасовые шахты и мы очищаем их каждые три дня. Однако каждую ночь бывает четыре часа, когда никто не работает, и Гоффман предложил взять вас в сторожа.
― Хорошо, ― сказал я. ― Если мои товарищи не будут иметь ничего против.
Они согласились. В следующую ночь я отправился на участок, где перед тем работал, и провел там самые темные часы, охраняя его. Так повторялось еще около дюжины ночей. Настоящая темнота никогда не опускалась в эту ужасную долину и лишь сумерки окутывали ее, делая все серым и неверным. Это была неясная туманная оболочка, в которой предметы смутно смешивались и сливались между собой. На расстоянии нескольких футов от того места, где мы работали, начинались кусты, а густо растущие ольхи и березы могли бы скрыть целый полк воров.
Был самый темный и неверный час из всех четырех. Я сидел на страже на своем посту. Так как ночь была холодная, я захватил с собой старое серое одеяло, походившее цветом на сыпь золотого песка. За день в куче успели вырыть настоящую пещеру, и я заполз туда и закутался в одеяло. Со своего места я мог видеть ряд запруд. Надо мной царило величественное безмолвие ночи. Рядом лежало заряженное ружье.
― Если какая-нибудь свинья придет, ― сказал Рибвуд, ― всыпьте ему свинца вместо золота.
Лежа там, я стал размышлять о кражах Все они, несомненно, совершались знатоком своего дела. В некоторых случаях песок был отделен и золото выграблено, в других же в верхнюю часть запруд вливали некоторое количество ртути, которая, проникая внутрь, собирала весь песок. Каждый раз воры уносили от двух до трех тысяч долларов ― и все это за последний месяц. Среди нас был какой-то таинственный воровской мастер, действовавший быстро и уверенно, не оставляя абсолютно никаких следов.
Странно, думал я. Какими нервами, какой ловкостью, какой хитростью должен обладать этот полуночный вор. Какому отчаянному риску он подвергается. Ведь в глазах золотоискателей кража из запруды равносильна краже из ямы с съестными припасами. Расчет короткий: веревка, привязанная к ближайшему «подходящему вору по росту дереву.
Некоторое время я лежал совершенно спокойно, сонно следя за темными тенями сумерек.
Тсс… Что это? Сомнения не было. Где-то ниже по склонам шевелились кусты. Я напряг зрение: это были воры.
Я весь превратился в напряжение и волнение. Мое сердце колотилось, глаза пронизывали темноту. Я осторожно протянул руку и схватил ружье. Я наблюдал и ждал. Человек раздвигал кусты. Он заколебался, остановился, снова оглянулся, стал на четвереньки, пополз немного вперед. Все вокруг было спокойно, как в могиле. Внизу в хижинах мирно спали усталые люди; тишина и безлюдье.
Осторожно, пресмыкаясь как змея, человек приближался к запрудам. Никто, кроме зоркого сторожа, не мог бы заметить его. Он то и дело останавливался, оглядывался, внимательно прислушивался. С большими предосторожностями, не спуская с него глаз, я поднял ружье.
Теперь он был в тени ближайшей запруды. Он прижался к помосту, прижался так тесно, что глаз едва мог отличить его от дерева. Он был похож на крысу, темный, настороженный и зловещий. Я медленно прицелился.
Я ждал. Как бы то ни было, мне было противно стрелять. Нервы дрожали от напряжения. Твердость, больше твердости, ― говорил я себе. Я увидел, как он начал торопливо работать, лежа плашмя вдоль запруды. Как ловок, как хитер он был. Он разобрал запруды, чтобы дать вытечь воде, и тогда там, в открытых зарубках будет его добыча. Стрелять… сейчас… сейчас… В полуночной тишине раздался выстрел. Вскрикнув, человек покатился вниз, увлекая за собой разобранную запруду. Вода стекала на землю проливным дождем.
В ледяном ручье я схватился со своим пленником. Мы перекатывались несколько раз. Он старался задушить меня. Он был мал и очень силен. Он опускал лицо. С яростью, я изо всех сил дернул его к свету. Это был Червяк. Я издал крик удивления и моя хватка должно быть ослабела, потому что в это мгновение он сделал отчаянное усилие, извернулся как кошка и высвободился.
Люди бежали, кричали, подходили к нам со всех концов.
― Держите его, ― крикнул я, ― вот он бежит!
Но маленький человечек мчался вперед как олень. Он был уже в кустах, прорывался через все препятствия, увертываясь и извиваясь, вверх, по холму. Справа и слева бежали его преследователи; они принимали в полутьме друг друга за вора и, возбужденные охотой за человеком, вопили как оглашенные, и среди всего этого я лежал в луже грязи и воды, с вывихнутой кистью и укушенной ногой.
― Почему вы не задержали его? ― кричал Рибвуд.
― Я не мог, ― ответил я. ― Я оберег вас от кражи, а он получил немного свинца. К тому же я знаю кто он. Это Пат Дуган.
― Присягнете на суде?
― Присягну.
― Ладно. Мы поймаем его. Я первым делом пойду утром в город и достану приказ об его аресте.
Он действительно поехал, но вернулся на следующий вечер с угрюмым и растерянным видом.
― Ну, как насчет приказа? ― спросил Гоффман.
― Не получил его.
― Не получил?
― Нет, не получил, ― выпалил Рибвуд. ― Послушай, Гоффман, я встретил Локасто. Черный Джек сказал, что Пат был спрятан, мертвецки пьяный, для всего мира в задней комнате салуна «Омега» всю ночь. Там есть двое каких-то забулдыг и буфетчик, которые готовы присягнуть в этом. Что мы можем сделать против этого? Послушайте-ка, молодой человек, я думаю, что вы обознались.
― Я уверен, что нет, ― возразил я твердо. ― Это был Пат.
Они оба посмотрели на меня с минуту, потом пожали плечами.
Глава XI
Время шло и постройка хижины спокойно подвигалась к концу. Крыша из жердей была уже на месте. Оставалось только покрыть ее мхом и оттаявшей землей, чтобы закончить наше будущее жилье. Мне кажется, что это были самые счастливые дни из всех проведенных мной на Севере. У нас было такое дружное трио. Каждый старался сделать больше другого и мы соперничали в мелочах взаимной предупредительностью. Я снова поздравил себя со своими товарищами. Джим, несмотря на охватывавший его временами проповеднический пыл, был олицетворением ласковой доброты, веселости и терпения. На меня действовало освежающее сознание, что среди такого множества людей, закосневших в грехе, есть один, который всегда звучит подлинно и чисто, как золото в тазу. Что касается Блудного Сына, то это был принц. Я часто думал, что Господь Бог при его рождении влил могучую пригоршню солнечного сияния в этого ребенка.
Я лично постоянно находился во власти своих настроений, легко возбуждался, быстро падал духом. Я всегда был ненормально впечатлителен, чувствителен к солнцу и теням. Я был истинно счастлив в те дни; в долгие вечера я находил время, чтобы подумать о несчастьях и горестях, свидетелем которых мне пришлось быть; я восстанавливал прошедшее и созерцал неотступно владевшие мною образы.
Предо мной неотступно был образ девушки, полный неуловимой прелести, почти не реальный образ, достойный того идеального алькова наших сердец, в котором хранятся святыни.
Много других видений осаждали меня. Пинклув, Глобсток, Пондерсби, Маркс, старик Вилович ― все покойники. Бульгамер, Банка Варенья, Мошер, Винкельштейны ныряли в водовороте золотоносного города. И, наконец, вырастало, как видение, над всеми ими ― красивое, дерзкое, мрачное лицо Локасто. Быть может, мне никогда не придется увидеть некоторых из них.
Часто по вечерам мы отправлялись в Форкс. Это было действительно очень оживленное место. Тут были в меньшем масштабе все беспокойство и разгул Даусона, но притом несравненно больше бесстыдства. Здесь были каскадные танцовщицы ― не ослепительные существа в бриллиантах и парижских туалетах, красотки Монте-Карло и Тиволи, а шлюхи, выделявшиеся своими грубыми одутловатыми лицами. Мужчины, только что с дневной работы, с едва просохшей на сапогах грязью, покупали вино на самородки, украденные из запруд, куч и штолен.
Здесь, в золотом лагере, процветала всеобщая торговля краденным. На многие заимки, хозяева которых слыли за доверчивых людей, рабочие охотно нанимались за маленькое вознаграждение, ради золота, которое им удастся стащить. С другой стороны, многие предприниматели платили своим рабочим песком, расценивавшимся по шестнадцати долларов за унцию, тогда как в нем было столько черной грязи, что в действительности он стоил только около четырнадцати. Все это вызывало глубокое падение нравственных устоев в лагере. Легкая нажива, легкое мотовство, безумное опьянение удачей, золото, которое выпирало из земли в течение дня и расточалось ночью в карнавале порока и сластолюбия.
Блудный Сын постоянно шнырял вокруг и подбирал новости из необычайно таинственных источников. Однажды вечером он подошел к нам.
― Ребята, приготовьтесь, живо! Начинается новая горячка, ― тяга на ручей Офира, где-то по ту сторону хребта. Один исследователь нашел пятьдесят процентов золота, углубившись на десять футов. Мы должны отправиться туда. Из Даусона идет орда, но мы доберемся туда раньше наплыва.
Мы быстро собрали одеяла, захватили маленькую мотыгу и, стараясь не попадаться никому на глаза, полезли вниз по холму под прикрытием кустарника. Вскоре мы достигли моста, откуда могли окинуть взглядом всю долину. Затем мы улеглись, ожидая дальнейших событий.
Был час сумерек. Полосы дыма дрожали над хижинами, внизу в долине. Вдруг я заметил ястреба, высоко взлетевшего на далеком откосе Эльдорадо. По всей вероятности, кто-то двигался между кустами. Один, два, дюжина человек поднимались осторожно, гуськом. Я указал на них.
― Это прилив, ― прошептал Джим. ― Мы должны перебить дорогу этой орде. Мы можем перерезать им путь у входа в долину.
Итак, мы пустились наперерез потоку неистовым отчаянным шагом, который заставлял ветер раздувать наши легкие, как мехи, и сотрясал в суставах наши кости. Мы прорывались через кусты и малорослый лес. Колючие ветки задерживали нас, раздирая нас до крови, болотистые топи мешали нам, но возбуждение тяги было в нашей крови и мы ныряли в речках, барахтались в болотах, карабкались на крутые гребни и прорывались через густые чащи зарослей.
― Бросьте ваши одеяла, ребята, ― сказал Блудный Сын. ― Оставьте только мотыгу. Эльдорадо был весь занят в одну тягу. Может быть, мы на пути к новому Эльдорадо. Мы должны нагнать эту компанию, хотя бы нам пришлось свернуть себе шею.
Лишь через несколько часов мы догнали их, около дюжины человек, охваченных безумной спешкой. Увидев нас, они чрезвычайно удивились. Один из них был Рибвуд.
― Алло! ― сказал он грубо. ― Есть еще кто-нибудь за вами, молодцы?
― Не приметили, ― ответил Блудный Сын, задыхаясь. ― Мы увидели вас и решили пристать к тем, кто уже поднялся. Нам пришлось устроить отчаянную гонку, чтобы поспеть. Джим совсем вывернулся на изнанку.
― Ладно! Становитесь в линию. Я думаю, там хватит на всех. Вы на хорошем пути. Идемте.
Таким образом мы снова двинулись. Предводитель шел, как одержимый. Мы плелись сзади. Мы перевалили уже через хребет и смотрели теперь на другую обширную долину. Какая это была великолепная страна. Какие восхитительные открытые пространства, пологие мягкие холмы, темно-голубые долины и серебристые извивающиеся ручьи. Это был настоящий сад богов, огражденный от мира чудовищным морщинистым частоколом скал.
Но нам некогда было любоваться. Мы шли все дальше, с той же безумной надрывающей сердце стремительностью, милю за милей, час за часом.
― Это будет самый замечательный ручей, ребята, ― перешептывались в линии. ― Нам повезло. Мы все сделаемся теперь клондайкскими королями.
Ободрительно? Не правда ли? И мы двигались дальше, стремительнее прежнего, с радостью следуя за железным человеком, который вел нас к девственному сокровищу.
Мы мчались всю ночь, то вверх на холмы, то вниз в долины. Солнце взошло. Настало утро. Мы все еще продолжали наш неистовый путь. Неужели наш вожак никогда не достигнет цели? Какой окольной дорогой вел он нас? Солнце взошло высоко на синем небе, зной дрожал. Был полдень. Мы шатались, изнемогая от зноя, истомленные, с израненными ногами. Возбуждение тяги поддерживало нас, и мы едва замечали бег времени. Мы были в пути около четырнадцати часов, но никто не колебался. Я был готов упасть от усталости; мои ноги превратились в груду волдырей и каждый шаг причинял мне невыносимую боль. Но наш вожак все не останавливался.
― Я надеюсь, что мы надули тех, кто собирался догнать нас, ― мрачно прохрипел Рибвуд.
Вдруг Блудный Сын обратился ко мне:
― Послушайте, ребята, вам придется идти без меня. Я совсем выдохся. Идите вперед! Я догоню вас, когда передохну.
Он опустился на небольшую кочку на землю и моментально заснул. Несколько других опустились тоже. Они засыпали там, где падали, совершенно измученные. Мы шли уже шестнадцать часов, а наш вожак все еще не останавливался.
― Вы здорово выносливы для своих лет, ― проворчал один из них, обращаясь ко мне. ― Потерпите еще, мы почти дошли.
Я с трудом тащился дальше; желание броситься на землю становилось все более властным. Как раз предо мной был Джим, полный бодрости. Число остальных сократилось до полдюжины.
Было около четырех часов пополудни, когда мы добрались до ручья. Наш вожак направился вверх по течению и привел нас к месту, где была грубо вырыта шахта. Мы столпились вокруг него. Это был типичный исследователь, дитя надежды, худощавый, смуглый, с ясными глазами.
― Вот тут, ребята, ― сказал он. ― Вот веха от моего открытия. Теперь вы, молодцы, отправляйтесь вверх или вниз, всюду, куда вам захочется, и ставьте свои вехи. Быть может, вы займете участок в миллион долларов, быть может, пустышку. Золотоискательство ― та же игра. Ну, вперед, ребята. Желаю вам счастья.
Итак, мы двинулись вперед и вместе с Джимом по очереди заняли номера семь и восемь.
― Семь ― счастливое число для меня, ― сказал Джим. ― У меня есть предчувствие, что это хороший участок.
― Мне безразлично все золото мира; я хочу только спать ― отдыхать и спать.
Таким образом я улегся на маленький бугорок мха и покрыл голову пальто, чтобы уберечься от москитов. Через минуту я был уже мертв для мира.
Глава XII
Меня разбудил Блудный Сын.
― Вставай, ― говорил он. ― Ты проспал весь циферблат. Мы должны вернуться в город и закрепить этот участок. Джим ушел уже три часа тому назад.
Было уже пять часов прозрачного юконского утра и мир был ясно очерчен и свеж, как на заре творения. Я чувствовал себя разбитым, члены мои затекли. Мучительная боль заставляла меня стонать при каждом движении, и свежий ночной воздух вызывал ревматические колотья. Я посмотрел на веху моего участка, около которого я упал.
― Я не в силах идти, ― сказал я, ― мои ноги отказываются.
― Ты должен, ― настаивал он. ― Ну-ка, подтянись, старина. Окуни руки в ручей и сразу почувствуешь себя бодрым, как боевой петух. Мы должны отправиться в город тотчас же. В золотой конторе сидит компания мошенников и мы можем потерять наши заявки, если опоздаем.
― Ты тоже занял участок?
― А как бы ты думал? Я занял номер тринадцать. Торопись. Из города идет огромная толпа.
Я тяжело застонал, но, окунувшись в ручей, почувствовал себя значительно свежее. Каждые несколько минут мы встречали толпы, спешившие из города. Они казались усталыми, изнуренными, но все же поспешно двигались вверх и вниз. Их было, должно быть, несколько сотен и все были охвачены безумным возбуждением тяги.
Мы оставили окольную дорогу, по которой шли накануне, и отправились по тропинке, сокращавшей расстояние миль на десять. Мы пересекли пустынную страну, переправляясь через неведомые ручьи, оказавшиеся впоследствии тоже золотоносными, и вскарабкались снова на высокий гребень водораздела. Затем мы опять спустились вниз, в бассейн Бонанцы, и к наступлению ночи добрались до своей собственной хижины. Там мы прилегли на несколько часов. Мне казалось, что моя усталая голова только что коснулась подушки, как неумолимый Блудный Сын уже разбудил меня.
― Вставай, дружище, мы должны прийти в Даусон к открытию конторы.
Мы опять устремились вдоль Бонанцы. Несмотря на быстроту, с которой мы шли, многие из тех, которые следовали за нами, оказались уже впереди. Север страна скороходов. В этом чистом бодрящем воздухе человек может уйти от самого себя. Каждый из нас считал пустяком конец в пятьдесят миль, а расстояние в восемьдесят едва удостаивалось внимания.
Было около десяти утра, когда мы добрались до Золотой Конторы. Толпа заявщиков уже ждала. Впереди всех я увидел Джима, Блудный Сын имел озабоченный вид.
― Послушай-ка, ― сказал он. ― Я думаю, что очень приятно впихнуться туда с этой толпой, но есть более гладкий путь для тех, кто стоит «ближе». Конечно, это не совсем чисто. Здесь есть маленькая боковая дверь, пройдя через которую можно очутиться впереди компании. Видишь того молодца, по прозвищу Джим-Десять-Долларов? Так вот, говорят, он может быть нашим благодетелем.
― Нет, ― ответил я, ― вы можете дать ему взятку, если хотите. Я постараюсь добиться своего в общем порядке.
Блудный Сын ускользнул от меня и вскоре я увидел его у бокового входа. Наверно, подумал я, здесь какое-нибудь недоразумение. Публика не «перенесла» бы такой вещи.
Предо мной было много народа, и я знал, что мне предстоит долгое ожидание. Я никогда не забуду этого. За три дня, за исключением двух коротких промежутков сна я беспрерывно находился в горячечном хаосе возбуждения, и не ел ничего питательного. Стоя в этой враждебной толпе, я шатался от слабости и ноги подгибались подо мной. Невидимые руки гнули меня книзу, забрасывали мне пылью глаза, гипнотизировали меня усыпляющими движениями. Внезапно я шагнул вперед и выпрямился. Впереди толпы я увидел Блудного Сына, искавшего меня. Увидев меня, он замахал бумагой.
― Иди сюда, козел! ― крикнул он. ― Наберись немного здравого смысла. Я уже закреплен.
Я покачал головой. Остаток порядочности мешал мне. «Я дождусь своей очереди», ― сказал я себе. Настал поддень, я увидел, как Джим вышел усталый, но торжествующий.
― Все благополучно! ― прокричал он мне. ― Я прошел. Теперь пойду отсыпаться всласть.
Как я завидовал ему! Я чувствовал как бы огромную «опухоль» сна, надвигавшуюся на меня. Я медленно подвигался вперед, шаг за шагом протискиваясь ближе к двери. Я видел, как люди один за другим проталкивались через заветный порог. Это все были рудокопы, мускулистые, с обросшими щетиной подбородками, молодцы с суровыми решительными лицами. Я был, наверно, самым молодым здесь.
― Что вам досталось? ― спросил плотно сбитый человек справа от меня.
― Восемь, ― ответил я. ― Нижний участок.
― Вам повезло.
― Что вы хотите за это? ― спросил высокий деловитого вида молодец слева от меня.
― Пять тысяч.
― Хотите две?
― Нет.
― Ладно, зайдите повидать меня завтра в «Доминион» и мы потолкуем об этом. Мое имя Гунсон. Принесите ваши бумаги.
― Хорошо.
Я почувствовал что-то вроде головокружения. Пять тысяч! Толпа показалась мне состоящей из ангелов и солнечный свет получил новую ослепительную силу. Пять тысяч! Взять ли? Может быть, участок мой не стоит и цента, но он может стоить и пятьдесят тысяч. Я парил на розовых крыльях оптимизма. Я пировал в мечтах. Мой участок! Мой! Номер восемь ― внизу. Другие купаются в богатстве. Почему бы не искупаться и мне?
Я больше не замечал течения времени. Я готов был ждать до Страшного Суда. Новый приток сил оживил меня. Теперь я был близок к окошку. Впереди были только два человека. Клерк закреплял их участки. Один имел тридцать четыре вверху, другой пятьдесят два внизу. Клерк выглядел растерянным, утомленным. Его тусклые глаза опухли от ночных кутежей; мускулы были дряблы. В противоположность чистым крепким рудокопам с ястребиными взорами, он выглядел угреватым и нездоровым.
Сердито он вырвал у двух других их свидетельства рудокопов, сделал записи в своей книге и дал им квитанцию. Теперь была моя очередь. Я порывисто выступил вперед, но остановился, ибо человек с мутными глазами захлопнул окошко перед моим носом.
― Три часа, ― прорычал он.
― Не могли бы вы принять мое заявление? ― пробормотал я. ― Я ждал здесь семь часов.
― Время закрывать, ― огрызнулся он еще более ядовито. ― Приходите завтра.
В толпе раздался ропот недовольства, и усталые разочарованные золотоискатели разошлись, понурив головы.
Тело и душа во мне жаждали сна. Я ничего не сознавал, кроме подавляющего желания отдыха. Мои веки были налиты свинцом. Я грустно побрел прочь. В гостинице я увидел Блудного Сына.
― Закрепил?
― Нет, было слишком поздно.
― Лучше бы ты воспользовался общей испорченностью и услугами Джима-Десять-Долларов.
Я упал духом и был полон отвращения и отчаяния.
― Я так и сделаю, ― сказал я.
Затем, бросившись на кровать, я погрузился в море сна, лишенного грез.
Глава XIII
Следующее утро застало меня у боковых дверей и высокий человек пропустил меня. Я просунул монету в десять долларов в его ладонь и тотчас же очутился у еще не открытого окошка. Снаружи я видел большую волну, собиравшуюся для унылого стояния. Я чувствовал подлое ощущение низости, но мне недолго пришлось копаться в своих низменных ощущениях.
Клерк-регистратор подошел к окошку. У него было очень красное лицо и слезящиеся глаза. Я невольно отвернул голову от его дыхания.
― Я хочу зарегистрировать восемь внизу по Офиру, ― сказал я.
Он посмотрел на меня с любопытством и заколебался.
― Ваше имя?
Я сказал. Он перелистал свою книгу.
― Восемь внизу, вы сказали? Но ведь этот участок уже закреплен.
― Не может быть! ― возразил я. ― Я только вчера пришел оттуда, поставив свои вехи.
― Ничего не могу поделать. Участок записан за другим, записан вчера утром.
― Послушайте! ― воскликнул я, ― вы, кажется, хотите морочить меня. Говорю вам, что я был там первый. Я один занял участок.
― Это странно, ― сказал он, ― здесь должно быть какое-нибудь недоразумение. Во всяком случае, вам придется отойти и допустить к окошку других. Все, что я могу сделать для вас, это рассмотреть дело, но теперь мне некогда. Придите завтра. Следующий пожалуйста.
Следующий человек, оттолкнул меня в сторону и я так и остался с раскрытыми глазами, едва переводя дух. Какой-то человек в очереди посмотрел на меня с сожалением.
― Ничего не поделаешь, юноша, вам лучше примириться с тем, что вы потеряли участок. Они вытурят вас оттуда так или иначе. Они послали кого-нибудь туда теперь, чтобы поставить вехи после вас. А если вы будете брыкаться, то они скажут, что вы не сами занимали его.
― Но у меня есть свидетели.
― Если бы вы призвали в свидетели самого архангела Гавриила ― это нисколько не повлияло бы на них, раз они намерены захватить ваш участок. Эти правительственные чиновники ― самая мошенническая компания, какая когда-либо поставляла горючий материал для адского огня. С ними честного дела не сварить. Они добиваются сала каким бы то ни было путем. Они заняли лучшие участки, а люди спешили, чтобы занять их при первой же возможности. Они славно устраивают свое гнездышко. Это стая прожорливых щук, выжидающих только, как бы проглотить все, что им попадется. Человек не может покупать вино по двадцати долларов за бутылку и подносить мамзелям из танцулек в подарок бриллиантовые балаболки на правительственное жалованье. А большинство из них делает это. Вино и женщины! А их жены и дочери там, дома, думают, что они маленькие оловянные божки. Как бы то ни было, а им придется когда-нибудь рассчитаться за это. О, это великая страна.
Единственно, что может помочь вам, ― продолжал он, ― это стакнуться с кем-нибудь из чиновников. У меня, например, есть друг, которому не приходится даже двигаться из города, чтобы занять участок.
― Но, несомненно, ― сказал я, ― где-нибудь, когда-нибудь должна быть справедливость. Несомненно, если бы доложить об этом в Оттаве и привести доказательства.
― В Оттаве? ― Он презрительно засмеялся. ― В Оттаве! Оттава и снимает сливки со всего этого. Мелочь, мелюзга только лижет остатки. Поглядите, какие огромные концессии они продают за понюшку табаку. Нет, хорошая золотоносная почва, которая дала бы кусок хлеба бедному рудокопу, крепко запечатана и навеки закреплена. Как это делается? Все дело тут в политике. Поглядите, как ведется торговля спиртом. Неочищенный спирт посылается в страну тысячами галлонов, разбавляется в шесть раз большим количеством воды и продается бедным рудокопам за виски по доллару за рюмку и при этом вам запрещают разливать свои собственные напитки.
― Хорошо, ― сказал я. ― Я не позволю выставить себя со своего участка. Хотя бы мне пришлось перевернуть небо и землю.
― Вы не сделаете ничего подобного. Если вы разбушуетесь, тут есть полиция, чтобы прикрыть вас колпаком, вы говорить вы можете, пока ваши жабры не покраснеют. Это никого не тронет. Они всех нас держат в руках. Нам остается только глотать пилюли. Бесполезно метаться, когда болит живот. Вы бы лучше отошли и присели.
Я так и сделал.
Глава XIV
Мне нужно было повидать Берну. Я уже побывал в ресторане «Парагон», новом блестящем заведении, открытом Винкельштейном, но ее не было на службе. Я увидел мадам, стоящую в своих фальшивых бриллиантах, со своими черными, как таракан, искусно причесанными волосами и широким, наглым, кокетливо размалеванным лицом. Она казалась олицетворением плотского процветания ― эта большая красивая еврейка с ястребиными глазами. В задней половине носился Винкельштейн, причем его маленькое сдавленное бледное лицо сияло от пота. Но он был великолепно одет и усы его были нафабрены еще лучше, чем обыкновенно.
Я смешался с толпой золотоискателей и благодаря своей грубой одежде и загорелому, обросшему бородой лицу не был узнан супругами. Когда я расплачивался, мадам кинула на меня острый взгляд. Но по глазам ее было заметно, что она не узнает меня. Вечером я вернулся снова туда и занял место в одном из завешенных кабинетов. За длинными закусочными стойками молодцы с грубыми затылками, взобравшись на трехногие сиденья, упивались едой. Зал был ослепительно освещен, украшен многочисленными зеркалами и аляповато расписан золотом и белым. Меню было изысканное и цены высокие. В кабинете передо мной седовласый адвокат занимал даму легкого поведения; в кабинете позади квартет из «Павильон-театра» задавал шумный кутеж. Не могло остаться никаких сомнений относительно характера заведения. Это было пристанище человеческих подонков, дворец позолоты и преступления.
Я чувствовал себя глубоко угнетенным, несчастным; все внушало мне отвращение. В первый раз я начал жалеть о том, что покинул дом. Там, на ручьях, я был счастлив. Здесь в городе бросающийся в глаза разврат бил по моим нервам. И в этом месте служила Берна. Она прислуживала этим распутникам; она подавала этим свиньям. Она слышала их развязные разговоры, их беспечные богохульствования. Она видела их мертвецки пьяными, бредущими неверной походкой на свои позорные свидания. Она знала все. О, это было безжалостно. Это надрывало мне сердце. Я сел и закрыл лицо руками.
― Что прикажете?
Я узнал нежный голос. Он пронзил меня и я сразу поднял глаза. Предо мной стояла Берна.
Она слегка вздрогнула, но быстро овладела собой. Выражение счастья появилось в ее глазах, горячего живого счастья.
― О как вы испугали меня. Я не ждала вас. О, как я рада увидеть вас опять!
Я посмотрел на нее. Я сознавал в ней какую-то перемену, и в сознании этом был оттенок какой-то острой боли.
― Берна! ― сказал я. ― Зачем у вас эта краска на лице?
― О мне очень жаль! ― Она отчаянно терла красное пятно на своей щеке. ― Я знала, что вы будете сердиться, но мне нужно было; они заставили меня. Они сказали, что я выгляжу, как привидение на празднике, с моим белым как мел лицом. Я отпугивала посетителей. Это только капля румян. Все женщины употребляют их. Это придает более веселый вид и нисколько не вредит мне.
― Я хотел бы видеть на ваших щеках, дорогая, румянец здоровья, а не пятна косметики. Но все равно, как вы поживаете?
― Хорошо, ― сказала она, запинаясь.
― Берна! ― прогремел грубый, неумолимый голос мадам. ― Пройдите к гостям.
― Ладно, ― сказал я, ― дайте мне что-нибудь. Я хотел только видеть вас.
Она убежала. Я увидел, как она скрылась за занавеской одного из закрытых кабинетов, неся поднос с блюдами. Я услышал грубые голоса, болтавшие с ней. Я увидел, как она вышла, причем щеки ее пылали на этот раз, однако, не от румян. Какой-то парень попытался задержать ее. Все это заставляло меня корчиться, волновало до того, что я едва мог усидеть на месте.
Наконец она торопливо подошла ко мне с какой-то едой.
― Когда я смогу увидеть вас, девочка? ― спросил я.
― Сегодня ночью. Приходите ко мне. Я освобождаюсь в полночь.
― Хорошо, я буду ждать.
Она была очень занята, и хотя пьяный кутила раз или два отпустил пару грубых шуток, но я все же заметил с возрастающим удовлетворением, что большинство сильных бородатых рудокопов обращаются с ней с рыцарским уважением. Она была на дружеской ноге с ними. Они называли ее по имени и, казалось, относились к ней с искренним расположением. В обращении этих людей сквозило покровительственное мужество, которое успокаивало меня. Таким образом, я проглотил свое блюдо и покинул заведение.
― Это славная девочка, ― сказал мне седой старик, энергично ковырявший в зубах у дверей ресторана. ― Прямая как струнка, а здесь немного найдется таких, про которых можно сказать это. Если бы кто-нибудь попытался обидеть ее, нашлась бы всегда дюжина ребят, готовых обработать его в лучшем виде для больничной палаты. Да-с, поискать надо такую девочку. Я хотел бы, чтобы она была моей дочуркой.
Снова я начал слоняться вверх и вниз по знакомой теперь улице, но острота впечатлительности уже притупилась и я больше не обращал внимания на ее достопримечательности. Она была многолюднее, шумнее, оживленнее обыкновенного. В игорном помещении салуна «Удача» восседал мистер Мошер, методически тасуя и сдавая карты. Повсюду я встречал возбужденных и разгоряченных золотоискателей; каждого со своим неизменным мешочком песка. Он был обыкновенно величиной с целую колбасу, и однако это были только его «карманные деньги». В банке на его счету хранилось с полдюжины таких мешков в десять раз большей величины.
Это были счастливые дни. Успех носился в воздухе. Люди были опьянены им и метались в исступлении. Деньга! Они потеряли цену. Каждый встречный был «овшивлен» ими, разбрасывал их обеими руками, и, как только опустошался один карман, они наполняли другой.
Я встретил большого Алека, одного из главных предпринимателей, спускавшегося по улице со своими людьми. У него в руках был винчестер, а за ним тащили ряд тюков, нагруженных золотом. В банке возбужденная нетерпеливая толпа требовала, чтобы ее мешки были взвешены. В ведрах, кувшинах для каменноугольного дегтя, во всевозможных вместилищах хранилась драгоценная грязь. Потеющие клерки обращались с золотом не более бережно, чем в мелочной лавке с сахарным песком.
Я увидел Хьюсона и Мервина. Они сильно разбогатели на участке, который заняли на Гункере. Счастье было в их руках.
― Пойдем выпьем, ― сказал Хьюсон. Он уже, очевидно, много выпил. Его лицо было дрябло, красно, и носило знаки разрушительного порока. В этом железном человеке неожиданный успех производил коварную работу, истощая его мощь. С Мервиком было то же. Я увидел его мельком в дверях «Зеленого Лавровишневого Дерева». Макаронник держал его на буксире; он покупал вино.
Я напрасно искал Локасто. Он здорово закрутил здесь, как мне сказали. Виола Ленуар «заставила его поплясать».
В полночь в лихорадочном нетерпении я ждал у дверей «Парагона».
― Я живу в хижине, ― сказала Берна, вышедшая наконец ко мне. ― Вы можете проводить меня домой. Конечно, если вам хочется, ― прибавила она кокетливо.
Она прижалась ко мне. Она, казалось, в значительной степени утратила свою прежнюю робость. Не знаю почему, но я предпочитал свою застенчивую скромную Берну.
― Знаете, эти грубые золотоискатели очень добры ко мне. Я королева для них, потому что они знают, что я ― порядочная. Мне было сделано несколько предложений выйти замуж, настоящих, хороших предложений от богатых владельцев приисков.
Да, молодой человек! Итак, вы намерены разбогатеть и увезти меня в Италию? О, какие я строю планы для нас обоих! Но мне безразлично, дорогой; если у вас не будет ни одного гроша, все равно я ваша, навсегда ваша.
― Прекрасно, Берна, но я намерен составить себе состояние. Я как раз потерял участок в пятьдесят тысяч долларов, но теперь у меня наклевывается больше. Первого числа будущего июня я приду к вам с шестизначным банковским счетом. Вы увидите, моя маленькая девочка. Я твердо намерен добиться этого.
― Ах, вы глупый мальчик, ― сказана она. ― Приходите хоть нищим в лохмотьях. Приходите только во что бы то ни стало.
― Как насчет Локасто? ― спросил я.
― Я почти не видела его. Он оставляет меня в покое. Я думаю, что он заинтересован в другом месте.
Она была чрезвычайно нежна, полна чарующих неожиданностей и при прощании заставила меня обещать, что я вернусь очень скоро. Да, это была моя девочка. Каждый взгляд ее, каждое слово, каждое движение выражали прекрасную, нежную, лучезарную любовь. Я был счастлив и в то же время встревожен. Я спросил ее:
― Берна, вы уверены, что вы в безопасности в этом месте, среди всего этого разгула, пьянства и порока? Дайте мне увезти вас, дорогая.
― О, нет, ― ответила она нежно. ― Мне хорошо. Я сказала бы вам сразу, мой мальчик, если бы у меня были какие-нибудь опасения. Это только то, что обычно приходится делать бедной девушке. Это то, что мне предстояло делать всю жизнь. Верьте мне, милый, я бываю удивительно глуха и слепа по временам. Не думаю, чтобы я была очень скверной, не правда ли?
― Вы чисты как золото.
― Ради вас я всегда стараюсь быть такой, ― ответила она.
Когда мы целовались на прощанье, она спросила робко:
― Как насчет румян, дорогой? Я должна перестать употреблять их?
― Бедная детка! О, нет, не думаю, чтобы это было важно. У меня очень отсталые понятия.
Я ушел, унося с собой солнечный свет, трепеща от радости, проникнутый любовью к ней, благословляя ее снова.
Но все же румяна врезывались в мои впечатления, как символ какого-то предательского падения.
Глава XV
Это было приблизительно через два месяца, по возвращении из краткой поездки в Даусон.
― Масса почты для вас обоих, ― восторженно воскликнул я, врываясь в хижину.
― Почта? Ура!
Джим и Блудный Сын, лежавшие на своих нарах, стремительно вскочили. Никто так не тоскует по письмам, как северные отшельники, а мы уже в течение двух месяцев не получали вестей «с той стороны».
― Да, я получил около пятидесяти писем на нас троих. Оказалось около дюжины для меня, полдюжины Для вас, Джим, и остальные для вас, старый шут.
Я протянул Блудному Сыну около двух дюжин писем.
Я со сладострастием растянулся на своих нарах и начал перечитывать письма. Некоторые были от мамы, некоторые от Гарри. Они были глубоко заинтересованы моими восторженными рассказами о стране, хотя все еще не могли примириться с жизнью, которую я вел. Однако теперь они были настроены менее строго. Я чувствовал себя подкрепленным, возбужденным, радостным, и, лежа на своих нарах, прислушиваясь к веселому потрескиванию огня, плавал в мурлыкающей дремоте полного довольства. Вдруг я вспомнил что-то.
― Послушайте, ребята, я забыл рассказать вам. Я встретил Мак Криммона у ручья. Вы помните его ― Полукровка. Он справлялся о вас обоих и сказал, что хочет повидать вас по выгодному для нас делу. Он придет сегодня вечером… Что случилось, Джим?
Джим был бледен и с ужасом смотрел на одно из полученных писем. Его лицо изображало муку. Не отвечая, он встал и опустился на колени около своей постели. Он глубоко вздыхал. Однако постепенно лицо его снова приняло спокойное выражение, и я заметил, что он молится. Когда он поднялся и вышел, я последовал за ним.
― Скорбные вещи, старина?
― Я получил письмо, которое перевернуло меня. Я в ужасном положении. Если когда-либо мне нужна была поддержка и указание, то это именно теперь.
― Вы узнали что-нибудь о том человеке?
― Да, это он, точно. Это Мошер. Я все время подозревал это. Вот письмо от моего брата. Он пишет, что Мошер без сомнения и есть Мозли.
Его глаза были грозны, лицо трагично в своей скорби.
― О, вы не знаете, как я боготворил эту женщину, верил ей, готов был прозакладывать свою жизнь за нее, а она, пока я добывал для нее деньги, порвала все и ушла с этим ползучим гадом. В прежние дни я разорвал бы его на куски, но теперь… ― Он застонал, как безумный.
― Что мне делать, что мне делать? Добрая Книга велит прощать врагам, но как я могу простить такое зло. А моя бедная девочка! Он бросил ее, толкнул на улицу. Уф я был бы способен убить его медленной пыткой и пожирать глазами его муки, но я не могу, неправда ли?
― Нет, Джим, вы ничего не должны делать. Отмщение принадлежит Господу.
― Да, я знаю, я знаю. Но это тяжело, о, как тяжело! О моя девочка, моя девочка!
Слезы оросили его щеки. Он опустился на бревно и зарыл лицо руками.
― О, боже, поддержи меня в этот час испытания!
Я не знал, как подбодрить его. В это время мы увидели Полукровку, поднимавшегося по тропинке.
― Войдите лучше, Джим, ― сказал я, ― и послушайте, что он скажет.
Глава XVI
Мы удобно усадили Мак Криммона. У нас не было виски, но мы угостили его горячем кофе, который он выпил с большим удовольствием, затем скрутил папиросу, зажег ее и значительно посмотрел на нас. На его смуглом лице отражались бесстрастие индейца и хитрость шотландца. Джим успокоился и спокойно наблюдал. Блудный Сын навострил уши, приготовившись слушать, и у всех нас было такое чувство, будто мы достигли поворотного пункта в нашей судьбе. Полукровка, не теряя времени, приступил к делу.
― Вы мне нравитесь, ребята. Вы честны и ничего не боитесь. Вы хорошие работники и притом не пьяницы. Это главное. Теперь перейдем прямо к делу. Я старательствовал, работал в Каесьяре и Карибу и смыслю кое-что в этом ремесле. Теперь я пронюхал славное дело. Не знаю, насколько именно оно выгодно, но готов поклясться, что это лакомый кусочек. Быть может в нем десять тысяч, а может быть, и сто десять. Это будет игра. И мне нужны партнеры, партнеры, которые работали бы, как молния, и держали языки за зубами. Подходит ли это вам?
― Это как будто с нас снято, ― сказал Блудный Сын. ― Мы то, что вы ищите. И, если предложение придется нам по вкусу, мы с вами.
― Так слушайте. Вам известно, что Полярная транспортная компания владеет участками на верхней Бонанце, месяц тому назад я работал на них. Мы спускались вниз приблизительно на двадцать футов и рылись там. Они поставили меня работать на штольне. Со стволов постоянно текло и это было очень опасно. До тех пор мы еще не находили золотоносного песка и заведующий промыслами хотел, чтобы мы спустились еще немного глубже. Было решено забросить шахты, если нам не удастся найти ценный песок через несколько футов.
Итак, однажды утром я спустился вниз и стал счищать пепел от костра. Первый удар моей кирки об оттаявшую почву заставил меня подскочить, вытаращить глаза, остолбенеть. Я с трудом мог собрать мысли, ибо здесь как раз предо мной была самая богатая россыпь, какую я когда-либо видел.
― Не может быть? Вы уверены?
― Так вот, ребята, как верно то, что я жив сейчас, так верно и то, что самородков там было как изюму в рождественском плум-пудинге. Я видел желтый блеск в том месте, где кирка дотронулась до них, и чем дольше я смотрел, тем большее количество их бросалось мне в глаза.
― Господи! Что же вы сделали?
― Что я сделал? Я отскочил назад и стал срывать крышу изо всех сил. Большой кусок земли упал вниз, покрывая мне лицо. Тогда я, как сумасшедший, начал долбить всюду где почва казалась неплотной, вдоль всей штольни. Большая куча грязи свалилась на меня. Я был оглушен, почти погребен, но добился своего. Теперь между мной и моей находкой тонны земли.
Мы затаили дыхание от изумления.
― Остальное было легко. Я поднялся наверх, бранясь и проклиная всех, сделал вид, что падаю в обморок. Я сказал им, что крыша штольни упада на меня. Действительно, она давно прогнила, и они знали это, а поэтому не решились заставлять меня рисковать жизнью. Я проклинал их, сказал, что предъявлю иск к компании, и ушел с видом человека, слишком разбитого для объяснений.
Руководителю это надоело, он спустился вниз и, бросив беглый взгляд, заявил, что бросает работу в этом месте. Почва ничего не стоит! Он так и доложил компании.
Полукровка с торжеством оглянулся вокруг.
― Теперь самое главное: мы можем снять этот участок. Один из вас, ребята, должен попросить об этом. Они не должны знать, что я с вами, иначе они заподозрят что-нибудь. Они и сами не очень-то щепетильны в своих делишках.
Он вопросительно умолк.
― Составьте договор о найме и добейтесь, чтобы он был подписан тотчас же. Мы отправимся туда и начнем работать. К весне у нас будет хорошая промывка. Я поведу вас прямо к золоту. Там тысячи и тысячи уютно лежат в земле, поджидая нас. Они в наших руках. О, это ловкая штука!
Полукровка был почти взволнован. Мы молча смотрели друг на друга, затаив дыхание.
― Хорошо, ― возразил я, ― но мы как будто надуваем компанию?
Джим молчал, но Блудный Сын живо воскликнул:
― Никакого надувательства тут нет, это честное предложение. Мы не знаем наверняка, что там есть золото. Быть может, это только дутые россыпи и мы останемся не солоно хлебавши после всех трудов. Мы идем навстречу всевозможным случайностям. Нам предстоит ужасно тяжелая работа, лишения и, может быть, горькое разочарование. Это игра. Игра рискованная. Ну, согласны вы, ребята?
Он почти кричал от возбуждения.
Мы кивнули, и он, достав чернила и бумагу, набросал условия товарищества.
― Теперь, ― сказал он… ― глаза его плясали… ― теперь от нас будет зависеть занять этот участок раньше Других. Ого! Но, однако, становится холодно и темно на дворе последнее время; снег идет. Все равно я должен лететь сейчас же в Даусон.
Он поспешно закутался в теплую, но легкую одежду, все время оживленно болтая об удаче, которую судьба бросила нам под ноги.
― Ну, ребята, ― сказал он, ― надейтесь, что мне повезет. Джим, прочтите молитву за меня. Ладно, увижу вас всех завтра. До свидания.
Он вернулся поздней ночью на следующие сутки. Мы сидели в хижине, в тревоге и ожидании, когда он открыл дверь. Он был утомлен, грязен, промок до костей, но в несокрушимо бодром настроении.
― Ура, ребята! ― закричал он. ― Я устроил это. Я видел мистера управляющего компании. Он был очень занят, очень величественен, очень снисходителен. Я был бедным рудокопом, ищущим заявки. Я ловко разыграл роль. Чтобы испытать меня, разжечь мою жадность, он начал с того, что не желает в настоящее время сдавать в наем участков. Я заговорил об их землях на Гункере. Он не реагировал. Тогда, наконец, как бы отчаявшись, я упомянул об этом кусочке у Бонанцы. Я заметил, что его так и зудит уступить мне, но он был слишком хитер, чтобы показать это. Он сказал, что эта исключительно богатый участок земли, прекрасно зная, что их же инженеры признали его негодным.
Глаза Блудного Сына прыгали от восторга.
― Так вот мы виляли вокруг да около, как два плутующих борца. Черт! Ну и хитер же он был, этот старый жид. Наконец он согласился сдать мне участок на условиях пятидесяти процентов. Не падайте в обморок, ребята. Это значит, что они получат половину всего, что мы добудем. О, старый плут! Разбойник! Мне пришлось сдаться и мы подписали договор. Теперь все оформлено. Ну и вздохнул же я легко, когда вышел оттуда. Он решил, что поймал дурака и посмеивался.
Он торжествующе возвысил голос.
― Теперь, ребята, участок за нами, начинайте действовать. Это наш первый верный шаг к богатству. Теперь уже мы отыграемся за те жестокие пинки, которые судьба раздавала нам прежде. Тут уж мы убьем бобра или же я потерял свою смекалку.
Готовы вы, ребята, работать изо всех сил и свыше этого?
― Готовы, ― закричали мы в один голос.
Глава XVII
Нельзя было терять время. Каждый час означал для нас большое количество драгоценной золотоносной грязи, лежавшей под замерзшим покровом. Зима накинулась на нас стремительно, жестокая, нетерпимая зима, превращавшая работу вне дома в безграничную муку. Но надежда на богатство возбуждала и подкрепляла нас, до того, что мы совершенно забывали думать о себе. Ни тяжелая болезнь, ни даже смерть не могли бы оторвать нас от нашего поста. С непоколебимым мужеством мы принялись за лежавшую перед нами задачу.
Она, действительно, была из тех, которые требуют всю энергию человека и полную самоотверженность с его стороны. Нам предстояло раздобыть дрова для оттаивания почвы, выстроить хижину на участке и, наконец, извлечь большие куски земли для весенней промывки. Мы так распределили работу, что никто не мог оставаться праздным ни на минуту, и действовали с таким расчетом, чтобы каждая унция истраченной силы принесла бы свои результаты.
Полукровка взял на себя руководство, и мы, признавая это его правом, повиновались ему беспрекословно. Он решил устроить две шахты и после долгих размышлений выбрал места. Это был вопрос, требовавший больших знаний и опыта, и мы были уверены, что он обладает и тем и другим.
Мы устроили маленькую хижину и окружили ее снежным валом почти до краев низкой крыши. Понемногу на крыше скоплялось все больше и больше снега, достигшего вскоре трех футов глубины, так что домик казался издали большим белым холмом. Только спереди, по низкой двери, в которую мы входили, согнувшись, можно было догадаться, что это хижина. Внутри были наши нары, крошечная печка, несколько ящиков для сиденья, несколько блюд, наши мотыги, вот и все. Мы часто жалели о нашей большой хижине на холме, с ее обитым коленкором «альковом» и отдельной кухней. Но в этом маленьком домике-ящике нам предстояло провести много томительных месяцев.
Не то чтобы время казалось нам долгим: мы были слишком заняты для этого. Напротив, мы часто желали, чтобы оно было вдвое дольше. Снег выпал в сентябре, и к декабрю мы очутились в полярном мире невероятной жестокости. День за днем градусник показывал от сорока до пятидесяти ниже нуля. Было отвратительно, опасно, холодно. Казалось, будто враг-мороз питал закоренелую вражду к нам. Это делало нас мрачными и осторожными. Мы мало говорили в те дни. Мы только трудились, и если обменивались замечаниями, то лишь о нашей работе, нашей беспрерывной работе.
Найдем ли мы богатые россыпи? Это все была игра, самая увлекательная игра в мире. Она наполняла возбуждением часы нашего дня. Она гнала наш сон. Она давала силу удару мотыги и мощь ручке ворота. Она заставляла нас забывать жестокий холод, пока кто-нибудь не издавал восклицания и не начинал кидать другому в лицо свежий снег.
Холод жег наши щеки, делал их пылающими, кирпично-красными и укусы мороза появлялись на них заплатками белой глины. Старые рубцы не заживали, чернели, как заплаты из сажи.
Но ни холод, ни усталость не могли удержать нас вдали от шахты и штольни. Мы спустились к каменным породам и рыли туннель, чтобы найти отверстие, которое Полукровка зарыл. До сих пор мы не находили ничего. Каждый день мы исследовали образцы грязи, почти всегда получая следы золота, иногда пятидесятицентовую грязь, но ни разу не находили того, о чем мечтали, на что надеялись.
― Подождите, ребята, пока мы добудем двухсотдолларовый слой, тогда мы начнем немного радоваться.
Однажды директор компании приехал к нам на собачьей упряжке. Он осмотрел нашу шахту. На нем была енотовая шуба, бобровая шапка и огромные меховые рукавицы, висевшие на шнурке вокруг шеи. Он был массивен и представителен. Острые сосульки блестели вокруг его рта.
― Как дела, ребята? ― Его дыхание вырывалось, как пар.
― Ничего покамест, ― ответили мы ему уныло, и он скрылся в морозном тумане, высказав надежду, что мы скоро откроем россыпи.
― Подождите немного.
Мы работали по двое на шахте, нагревая почву в течение ночи. Блудный Сын и я работали на воротах, тогда как старые рудокопы спускались в штольню. О, как невыносимо холодно был стоять там на этой грубо сколоченной платформе, вертя ручку ворота. Задолго до рассвета мы были уже на местах и спускали своих товарищей в шахту. Там внизу воздух был теплее, но работа тяжелее, труднее, опаснее.
В полдень солнце еще не показывалось и лишь слабый сиреневый свет заливал небо. Мертвая тишина царила в долине, нельзя было уловить ни малейшего движения, никакого трепета листа или былинки. Снег расстилался спасительным ровным саваном, через который пробивались лишь погребальные сосны. В этом напряженном холоде, в этой содрогающейся тоске запустения казалось, что природа смеется над нами космическим смехом.
Мы наспех варили и проглатывали пищу, ропща на каждую минуту, задерживавшую работу. Ночью мы часто были слишком утомлены, чтобы раздеться. Мы перестали заботиться о чистоте и пренебрегали собой. Мы беспрестанно говорили о результатах дневного исследования и о возможностях завтрашнего. Несомненно, мы скоро откроем россыпи.
― Подождите немного.
Наконец в один полдень случилось нечто. Избранником был Джим. Около трех часов он подал сигнал к подъему и появился, держа в руках драгу с грязью.
― Позови остальных, ― сказал он.
Мы столпились все вместе в маленькой хижине, пока Джим промывал песок в снежной воде, растопленной на нашей печке. Я никогда не забуду, с каким нетерпением мы следили за песком и за проворными ловкими движениями старика. Наконец мы увидели в грязной воде желтые блики. Дрожь радости и надежды пробежала в нас. Наконец мы добыли эту штуку, великую штуку!
― Поторопись, Джим, ― сказал я, ― или я умру от неизвестности.
Он терпеливо продолжал свое дело. Наконец на дне таза мы увидели то, что показалась нам слаще, чем женщине вид ее первенца. Оно лежало перед нами ― блестящее сверкающее золото, прекрасное золото, проклятое золото, золото в самородках.
― Теперь, ребята, вы можете порадоваться, ― сказал Джим спокойно, ― потому что там внизу, в штольне, есть великое множество таких драг.
Но мы совсем не чувствовали ликования. Что приключилось с нами? Когда счастье, к которому мы так горячо стремились наконец пришло, мы не встретили его даже весельем. О, мы были мучительно молчаливы!
Мы торжественно пожали друг другу руки.
Глава XVIII
― Теперь взвесим это, ― сказал Блудный Сын.
Мы высыпали песок на чашку крошечных весов. Там оказалось девяносто пять долларов.
Это было хорошее начало, и нами овладело безумное желание, поскорее спуститься вниз в штольню. Я пополз вдоль туннеля. Там, на его поверхности, я увидел блестевшее золото, и чем дольше я смотрел, тем казалось больше видел его. Оно было там в изобилии, изобилии. Я вырыл и протер самородок величиной с большой лесной орех. Таких там было множество. Да, это были россыпи. Вопрос был в том, как велики они? Полукровка скоро разрешил наши терзания по этому поводу.
― Нужно предположить, что россыпи тянутся от того места, где я впервые нашел золото, до того, где мы теперь открыли его. Уж одно это сулит порядочный заработок для каждого из нас. Знаете, ребята, если бы покрыли все это расстояние золотыми монетами в двадцать долларов на шесть футов в ширину и уложили бы их вплотную, я не променял бы на них нашу прибыль с этого кусочка земли. Я уже вижу большую красивую ферму в Манитобе на свою долю и рабочих, помогающих работать на паях. Единственное, что у меня стоит поперек горла, это пятьдесят процентов Компании.
― Ладно, мы не можем брыкаться теперь, ― сказал я. ― Если бы они не наживались на этом, мы никогда не получили бы участка. Черт! В каком они будут отчаянии.
Как и следовало ожидать, новость распространилась через несколько дней, и директор спешно примчался.
― Вы, кажется, открыли богатые россыпи, братцы?
― Такие богатые, что нам, кажется, нужно будет прибавлять песок с берега перед промывкой, ― сказал Блудный Сын.
― Не может быть! Мне придется поставить своего человека на участке, чтобы следить за нашими интересами.
― Прекрасно, это будет славное дельце для вас.
― Да, но оно было бы еще лучше, если бы мы разрабатывали участок сами. Во всяком случае, вы, ребята, заслуживаете вашей удачи.
― Алло, черт!
Обернувшись, директор увидел Полукровку. Он издал долгий свист и удалился с задумчивым видом.
Мы удвоили энергию и снова взялись за тяжелый беспрерывный круг работ. Однако теперь разница была большая. Каждое ведро грязи увеличивало количество денег в наших карманах, каждый удар мотыги означал лишний доллар.
Не то, чтобы это все было так же обильно, как первая пригоршня, которую мы извлекли. Это были колеблющиеся, приводящие в тупик россыпи. Один день превосходил богатством наши мечты, а другой оказывался слишком беден, чтобы оправдать нашу работу. Мы колебались на маятнике надежды и отчаяния. Быть может, это-то и придавало нам еще больше возбуждения, подстрекая нас со сверхъестественной силой. Мы беспрерывно проклинали примитивный метод добывания золота, при котором каждое ведро грязи доставалось ценой бесконечного труда.
С каждым днем обе наши кучи увеличивались, ибо мы нашли уже россыпи и в другой шахте, а вместе с ними вырастали и наши уверенность и возбуждение.
Когда я оглядываюсь назад, мне все кажется, что в этих сумеречных днях таились какие-то чары, что-то непостижимое, какая-то нереальность, смутность, как в страшном лихорадочном сне. За три месяца я не видел в зеркале своего лица. Не то, чтобы мне хотелось этого, но я упомянул об этом в доказательство, как мало мы думали о самих себе.
Точно также у меня никогда не было минуты времени, чтобы разглядеть в зеркале сознания свое внутреннее я. Кончился умственный анализ, долгие часы самосозерцания, разговоры tete a tete с душой Временами мне казалось, что я утратил свое тождество. Я был рабом гения золота, освобождающим его из темницы замерзших недр земли. Я был автоматом, вертящим ручку в морозной тишине долгой, долгой ночи. Это была жизнь принудительно внешняя и теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что я никогда не переживал ее. Я как будто гляжу в длинную трубу и вижу маленькую машину-человека, носящего мой внешний облик, терпеливо, устало, упорно вертящего ручку ворота в ясном пронизывающем холоде тех мрачных безмолвных дней.
Я сказал «носящего мой внешний облик», и, однако, я иногда задумываюсь даже над тем, похоже ли хоть немного на меня это грубо обросшее бородой существо в тяжелой шерстяной одежде? Я носил толстые свитеры, непромокаемые панталоны, грубые немецкие чулки и мокасины. От частого отмораживания мои щеки покрылись язвами. Я был отчаянно худ, и глаза мои приобрели дикое выражение, благодаря расширенным от долгой темноты зрачками. Да, морально и физически я был так же мало самим собой, как каторжник, влачащий свое существование в гнусных условиях темницы.
Дни удлинялись чудесным образом. Мы отметили это с притуплённой радостью. Это означало ― больше света, больше времени, больше песка в насыпях. Вскоре от десяти часов работы мы перешли к двенадцати, четырнадцати и, наконец, шестнадцати и напряжение это истощало нас, превращая нас в кожу и кости.
Мы все чувствовали себя несчастными, переутомленными, истощенными, и Блудный Сын только выразил общую нужду, заметив однажды:
― Кажется, мне придется уйти на пару дней. Мои зубы держатся на ниточке, и я собираюсь в город, чтобы зайти к дантисту.
― Дайте-ка мне взглянуть на них, ― сказал Полукровка. Он посмотрел. Десны распухли и имели нездоровый вид.
― Это цинга, дружище. Еще немного и вы начнете выплевывать зубы, как апельсиновые корочки; ваши ноги почернеют и, когда вы сотрете себе палец до кости, дыра не заживет. Вы сгниете, потом омертвеете и умрете. Но это самая легкая болезнь для лечения. Ничто гак не поддается уходу.
Он приготовил большое количество настоев из зеленых шишек канадской сосны, который мы все начали принимать, и через несколько дней Блудный Сын снова был в состоянии работать.
Стояла половина марта, когда мы закончили разработку участка. Мы славно потрудились; результаты были, может быть, и не совсем так хороши, как мы надеялись, но все же блестящи. Никогда люди не работали усердней, никогда так не боролись за успех. Перед нами были две насыпи ― пирамиды пропитанной золотом грязи, о ценности которых мы могли только догадываться. Мы вырвали наши сокровища из когтей вечного холода. Теперь оставалось только, ― о, сладость этой мысли, ― собрать жатву наших трудов.
Глава XIX
― Вода пошла, ребята, ― сказал Полукровка. ― Еще несколько дней, и мы сможем начать промывку.
Эта новость озарила нас потоком солнечного света. Мы уже несколько дней устанавливали запруды и приводили все в готовность. Солнце сильно ударяло в снег, который почти у нас на глазах, казалось, отступал перед нами. Ослепительная белая поверхность делалась рыхлой и пористой, а вокруг древесных стволов появлялись неровные ямы. То тут, то там пробивалась обнаженная коричневая земля. Горные ручейки делались полноводней с каждым днем.
Мы работали у устья ручья, по которому весной стекал обильный маленький поток. Мы перехватили его несколько выше и отвели часть воды вдоль нашей линии запруд. Они тянулись между насыпями так, что нам было легко сбрасывать песок с двух сторон. Это было чрезвычайно удобно.
Наконец после теплого солнечного дня мы увидели свежую струю, спускавшуюся между запрудами, прыгавшую и плясавшую в утреннем свете. Я помню, как бросил в нее первую лопату грязи и с радостью увидел, что светлая река изменила цвет, когда наш друг вода начала свою волшебную работу. Четыре дня мы сбрасывали песок, а на пятый сделали выемку.
― Я думаю, что уже время, ― сказал Джим, ― иначе зарубки будут совершенно забиты.
И действительно, когда мы спустили воду, некоторые из них были полны желтым металлом, мокрым и блестящим, ярко горевшим в утреннем свете.
― Тут десять тысяч долларов, как одна унция, ― сказал человек, поставленный от компании, и взвешивание показало, что он был прав. Таким образом золото было упаковано в два длинных мешка из оленьей кожи и отправлено в город для помещения в банк.
День за днем мы заполняли запруды и два раза в неделю делали выемку. Прошла половина мая, а через запруды была пропущена только треть нашего песка. Мы ужасно боялись, что нам не хватит воды, и потому работали усерднее обыкновенного. Действительно, трудно было решить, когда кончать работу. Ночи теперь ― никогда не темнели, дневной свет длился более двадцати часов.
Солнце описывало эллипс, восходя немного к востоку от севера и садясь несколько к западу от него. Мы копали до тех пор, пока чувствовали себя не в силах сбросить еще одну унцию от усталости. Тогда мы сваливались, не снимая одежды, и засыпали, как только прикасались к подушке.
― У нас уже восемьдесят тысяч на счету в банке, а только треть насыпей промыта. Ура, ребята! ― сказал Блудный Сын.
Около часу утра начинали петь птицы, и вечерняя заря не успевала еще побледнеть на небе, как восход уже оживлял его к новой жизни.
Однажды в полдень я работал на насыпи, стараясь сбросить столько песка, сколько только можно успеть до ужина, как вдруг, подняв глаза, увидел Локасто, приветствовавшего меня. Со времени нашего последнего разговора в городе я не встречал его, и это неожиданное появление почему-то произвело на меня неприятное впечатление. Однако он подошел ко мне с очень сердечным видом и протянул свою большую руку. Я не имел желания ссориться с ним и потому подал ему свою.
Он был верхом. Его большое красивое лицо казалось бронзовым, черные глаза были ясны и блестящи, белые зубы сверкали, как клыки мамонта. Он, несомненно, представлял собой великолепный образчик мужчины-повелителя, и, наперекор самому себе, я невольно залюбовался им. Его приветствие звучало тепло, почти обворожительно.
― Я как раз объезжал некоторые из своих участков на ручьях, ― сказал он, ― и услышал, что вы, ребята, сделали славное открытие. Поэтому я решил заехать и поздравить вас. Правда ли, что россыпи так богаты?
― Да, ― ответил я, ― не совсем так богаты, как мы ожидали, но все же нам удается выручить порядочную сумму.
― Я рад. На этот раз вы, наверно, соберетесь домой?
― Нет, я думаю остаться здесь. У нас, видите ли, есть еще участок на Золотом Холме, который кое-что обещает, и две заимки на Офире.
― О, Офир! Не думаю, чтобы вы когда-нибудь извлекли состояние из Офира. Я купил там участок недавно. Человек надоедал мне, и я дал ему пять тысяч, чтобы отделаться. Это номер восемь внизу.
― Черт возьми, это участок, который я занял, и из которого был вышиблен.
― Не может быть? Это ухудшает дело. Я купил его у человека по имени Спанмиллер; его брат служит клерком в Золотой конторе. Вот что, я уступлю его вам за пять тысяч, которые сам заплатил.
― Нет, ― ответил я, ― не думаю, чтобы он был нужен мне теперь.
― Ладно, поразмыслите об этом во всяком случае и, если перемените решение, сообщите мне. Ну, я должен ехать. Мне необходимо попасть в город сегодня вечером. Вон на дороге моя свита мулов. Я собрал там около десяти тысяч унций.
Я взглянул и увидел мулов с мешками золота, подвешенными на спинах. Четыре человека охраняли этот поезд, и мне показалось, что в одном из них я узнал маленькую чахлую фигурку Червяка.
― Да, я славно поработал, ― продолжал он, ― но это не составит разницы. Я трачу их так быстро, как добываю. Месяц тому назад у меня не хватало наличных денег, чтобы оплатить счет за сигару, а между тем я мог бы пойти в банк и занять сто тысяч. Они лежали здесь в грязи. О, золотоискательство ― чудная штука! До свиданья.
Он повернулся было, чтобы уехать, но вдруг остановился.
― Да, кстати, я видел вашего друга перед отъездом. Нет нужды называть имени. Вы ― счастливая собака! Когда же состоится великое событие? Я снова должен поздравить вас. Она выглядит прелестней, чем когда-либо. До свиданья, до свиданья.
Он уехал, оставив меня под очень тяжелым впечатлением. В его прощальной улыбке мне почудился насмешливый оттенок, который сильно встревожил меня. Я много думал о Берне за последние несколько месяцев, но по мере того, как золотая лихорадка охватывала меня, я все меньше и меньше отдавался мыслям о ней. Я говорил себе, что вся эта борьба ведется только ради нее и успокаивал свои тревожные опасения мыслью, что она в полной безопасности. Но после слов Локасто вся прежняя тоска и сердечная боль воскресли с новой силой. Против воли я делался жертвой возрастающего беспокойства. Мои взгляды значительно изменились с тех пор, как удача посетила меня. Я не мог выносить мысли, что она продолжает работать в этом сомнительном заведении, соприкасаясь с его непотребными посетителями. Я удивлялся тому, как мог когда-то убедить себя, что это допустимо. Ввиду этого я нанял вместо себя огромного шведа и снова отправился по горной тропинке к городу.
Глава XX
Я нашел город более чем когда-либо оживленным, улицы многолюдными, веселье непринужденным. Повсюду были признаки полнокровного процветания. Беспокойный Чичакуа исчез со сцены и на его месте водворился торжествующий старатель. Он чванился, разгуливая на весеннем солнце, олицетворяя собой превосходный тип мужчины, бронзового, худощавого, мускулистого. Здоровье и сила били в нем через край. Он был в городе, чтобы «пожить», чтобы обратить эту желтую пыль в счастье, вкусить вина жизни и прильнуть к устам страсти.
Это был праздник человека с мешочком. Он царил над всем. Его откровенный анимализм проявлялся в полуночных кутежах, вакхических пирах, в дебошах среди человеческих отбросов.
Каждый ждал его, чтобы обокрасть, ограбить, ободрать. Это был также праздник человека за стойкой, игрока, гарпии.
Мои странные бесформенные опасения за Берну скоро улеглись. Она ждала меня и выглядела лучше, чем когда-либо. Она приветствовала меня с пылкой радостью, воспламенившей восторгом мое сердце.
― Подумай только, ― сказала она, ― еще две недели и мы будем вместе навсегда. Это кажется слишком прекрасным, чтобы быть правдой. О, дорогой, когда же наконец я смогу любить тебя вволю? Как счастливы мы будем! Не правда ли?
― Мы будем счастливее всех других возлюбленных, живших до сих пор, ― уверял я.
Мы перешли через Юкон на зеленые прогалины Северного Даусона и там уселись друг около друга на маленьком холме. Как мне хотелось передать словами восторг, наполнявший мое сердце. Никогда не было юноши счастливее меня. Но я говорил мало, потому что молчание любви сладостнее слов. Я хорошо, хорошо помню, как она выглядела в эту минуту, совсем как картина: ее руки были сложены на коленях, ангельски прелестные, матерински нежные глаза сияли, как звезды. Она ласково дотронулась до моих волос, я стал целовать ее пальцы, целовал их еще и еще. Тут она поднесла мою руку к губам, и я почувствовал ее поцелуй. Какой чудесный трепет охватил меня при его прикосновении. Моя рука, казалось, перестала принадлежать мне ― это был священный предмет.
О, как я был счастлив и горд.
― Да, ― начала она, ― неправда ли, это похоже на сон? Знаешь, мне всегда казалось, что это греза, но теперь она начинает превращаться в действительность. Ты увезешь меня отсюда, не правда ли, мальчик? Я скажу тебе теперь, дорогой: я переносила все только ради тебя. Знаешь, я думаю иногда, что всякая девушка, как бы она ни была чиста, скромна и нежна в начале, должна постепенно опуститься в этой обстановке.
Я согласился с ней, ибо сам хорошо замечал, что становлюсь равнодушным к окружающему злу.
― Не делал тебе Локасто новых предложений?
― Да, около месяца назад он начал снова осаждать меня, не давая мне покоя, делал всевозможные предложения и обещания. Он собирался развестись со своей женой, «по ту сторону», и жениться на мне. Он хотел положить сто тысяч долларов на мое имя. Он испробовал все, что было в его власти, чтобы подчинить меня своей воле. Затем, увидев, что это бесполезно, он отступил и просил меня позволить ему быть другом. Он так тепло отзывался о тебе. Но я почему-то не доверяю ему.
― Ну, моя драгоценная, ― уверял я ее, ― все опасности, сомнения, отчаяния, скоро будут позади. Локасто и все остальные превратятся в тени, чтобы никогда больше не путать мою маленькую девочку. Великий мрачный Север исчезнет, растает в солнечном краю цветов и песен. Ты забудешь его.
Вдруг она встревоженно сказала мне:
― Посмотри, посмотри на радугу. Не правда ли, как прекрасно! Как великолепно!
Я залюбовался зрелищем. На реке выпал ливень и облака, внезапно рассеявшись, открыли двойную радугу несравненной красоты. Ее двойная арка гак стройно изгибалась над городом, как будто была нарисована там. Каждый обруч был безукоризненно очерчен, прелестен по оттенкам, нежно лучезарен, совершенен по чистоте. Мне никогда не приходилось видеть двойной радуги такой безупречной расцветки. Опираясь концами в реку, она взлетела над золотоносным городом, как видение, полное небесной прелести.
Берна положила голову на мое плечо; губы ее касались моих и слабо шевелились.
― Милый, до первого июня. Не обмани меня, любимый, не заставь меня ждать.
Я вернулся на заимку. Все шло хорошо, но я чувствовал мало желания приняться за работу. Я был как-то странно утомлен, как бы обессилен, но все же снова взялся за свою лопату, хотя тело мое противилось каждым мускулом. Я никогда так не чувствовал себя раньше Что-то со мной было неладно. Я был слаб, сильно потел по ночам, мне не хотелось есть.
― Ну, ― сказал Блудный Сын, ― все кончено, нам осталось только ликовать. По моим вычислениям мы промыли двести шестьдесят тысяч долларов. Это составит сто три тысячи на нас четырех. Около трех вам стоила добыча золота; так что в общем на каждого придется по двадцати пяти тысяч.
Какой ликующий вид был у всех, у всех, кроме меня. Я чувствовал, что деньги потеряли для меня всякий интерес теперь, потому что я был болен, болен.
― Ну, в чем дело? ― спросил Блудный Сын, пытливо уставившись на меня. ― Ты выглядишь, как привидение.
― Я и чувствую себя так же, ― отвечал я. ― Боюсь, что со мной творится что-то неладное. Мне хочется прилечь на минутку, ребята… Я устал… Первое июня у меня есть дело первого июня. Я должен сдержать слово, я должен… Не давайте мне спать слишком долго, братцы. Я не должен пропустить. Это вопрос жизни и смерти! Первое июня.
Увы, первого июня я лежал в госпитале, метался и бредил в когтях тифозной горячки.
Глава XXI
Я лежал в постели и сильная тяжесть давила меня, так что, несмотря на все усилия, я не мог двинуться. Мне было жарко, невыносимо жарко. Кровь кипела, пробегая по моим жилам. Мускулы горели. Мозг отказывался работать. В нем царили мрак, застой и паутина, как в склепе. По временам у меня были странные проблески, полные ужаса и отчаяния. Кроваво-красные огни и пурпурные тени сменялись в моем сознании. Потом начались галлюцинации.
В них всегда была Берна. Сквозь множество гримасничающих, искаженных смехом лиц, постепенно вырисовывался и постоянно парил прелестный задумчивый образ. Мы были оба в странных костюмах, я и она. Они напоминали платье времен первых Георгов. Мы бежали, спасаясь от кого-то. Я был полон страха и тревоги за нее. «Мы убегаем», думал я.
Нам надо было перейти через болото, отвратительную трясину, и наши преследователи были за плечами. Мы пробовали идти по трясущейся почве, но тут я вдруг замечал, что она начинает погружаться. Я бросался к ней на помощь и тонул тоже. Мы были положены по шею в мягкую тину, а там, на берегу, не спуская с нас глаз, стоял наш главный преследователь; он смеялся над нами, он радовался, видя нашу гибель. И в бреду лицо этого человека казалось мне странно похожим на лицо Локасто.
Мы были в беседке из роз, она и я. Это было все еще в глубине истории. Мы, казалось, находились в дворцовом парке. На мне были чулки и камзол, а на ней длинное развевающееся платье. Воздух был полон благоуханий и солнечного света. Птицы распевали. Фонтан рассыпал в воздухе дождь сверкающих бриллиантов. Она сидела на траве, а я прижимался к ней, положив голову на ее колени. Я видел над собой ее лицо, склонившееся как лилия. Нежными пальцами она обрывала розу, и лепестки, подобно снежинкам, падали на меня. Потом меня неожиданно схватывали и отрывали от нее люди в черном, грубо старавшиеся заглушить ее крики. Меня увлекали прочь, бросали в зловонную темницу. Затем, однажды ночью, меня потащили снова, привели в залу, полную мрака и ужаса, и поставили перед свирепым судилищем. Они произнесли мой приговор ― смерть. Главный инквизитор поднял маску, и в этих крупных чертах я узнал Локасто.
Затем наступила новая фаза моего бреда, в которой я боролся, чтобы добраться к ней. Ока ждала меня, томилась, надрывала себе сердце в тоске по мне.
«О, Берна, я должен увидеть тебя, должен, должен. Пустите меня к ней… сейчас… дорогая. Она зовет меня. Она в тревоге. О, ради бога, пустите меня, говорю вам… Она в селе. Вы не смеете держать меня. Я сильнее вас всех, когда она зовет… Пустите… пустите… О, о, о, вы делаете мне больно. Я слаб, да слаб, как ребенок… Берна, дитя мое, моя бедная девочка, я ничего не могу поделать. Гора давит меня. Слиток золота лежит на моей груди. Они сжигают меня. Мои жилы в огне. Я не могу прийти… Не могу, дорогая… я устал…»
Затем ― лихорадка, бред, дикое метание по подушке, все миновало, и я остался лежать слабый, обессиленный, беспомощный, покорный своей судьбе.
Я был на солнечном склоне выздоровления. Блудный Сын оставался со мной до тех пор, пока была опасность, но теперь, когда я повернул за угол, он возвратился на ручьи, и я остался только в обществе своих мыслей. Я корчился и извивался на своей узкой койке. Мне казалось, что время никогда не пройдет. Я желал только одного: скорее поправиться и снова выйти. Потом, думал я, я женюсь на Берне и уеду «в ту сторону». Мне опротивели и страна, и все остальное.
Я лежал, думая обо всем этом, как вдруг заметил, что человек на соседней койке старается привлечь мое внимание. Его принесли в это утро, и он объяснил, что ушиблен лошадью. У него было сломано ребро и сильно разбито лицо. Он очень страдал, но был в полном сознании и делал мне слабые знаки.
― Послушайте, товарищ. Я узнал вас, как только уставил свои буркалы. Вы не узнаете меня?
Я с удивлением посмотрел на забинтованное лицо.
― Неужели вы не признаете человека, который чуть не спустил вас в шахту?
Тогда с содроганием я увидел, что это был Червяк.
― Это не лошадь так отделала меня. Это человек, ― сказал он хриплым шепотом. ― Вы знаете этого человека, самого ужасного дьявола во всей Аляске, Черного Джека: Будь он неладен! Он повалил меня и исколотил. Но я рассчитаюсь с ним когда-нибудь. Я только подстерегаю его. Я не хотел бы быть в его шкуре за самый богатый участок в Клондайке.
Глаза его горели мщением между белыми перевязками.
― Это все из-за маленькой девочки. Вы знаете, о какой девочке я говорю. Она пронзила Черного Джека на смерть, и чем дольше она станет сопротивляться, тем больше он будет лезть из кожи, чтобы заполучить ее. Вы не знаете этого человека. Ему еще никогда не приходилось получать холодное мясо.
― Расскажите мне, ради бога, в чем дело?
― Ладно, когда вы не пришли, девочка начала тревожиться. Я в это время делал стойку вокруг ресторана и она попросила меня отнести вам записку. Я обещал. Но в этот день я выпил и целую неделю после этого не дохнул трезвым воздухом. Когда я вернулся снова, я сказал ей, что видел вас и передал записку и что вы тотчас же придете.
― Прости вас небо за это.
― Да, это то, что я повторяю себе теперь. Да только поздно. Ну, неделя прошла, вы не показывались, а в это время Локасто жестоко преследовал ее. Она вся как будто заострилась, побледнела, и я видел: что она плачет почти все ночи. Тогда она дала мне другую записку и заплатила мне сто долларов, чтобы отнести ее вам. Я сказал, что на этот раз она может положиться на меня. Я обратился в скачущего козла и пустится в путь. Черный Джек, должно быть, подслушал, потому что он встретил меня за городом и обвинил в том, что я взял поручение. Затем он накинулся на меня, как дикий зверь, и отделал здорово и чисто. Но я прищемлю его теперь.
― Где записки? ― закричал я.
― В кармане моего платья. Прикажите сиделке принести мое платье и я дам их вам. ― Сиделка принесла платье, но маленький человек был слишком слаб, чтобы двинуться. ― Пощупайте во внутреннем кармане.
Там лежали записки, очень мелко сложенные и написанные карандашом. Я почувствовал в сердце странную слабость и мои пальцы задрожали, когда я вскрывал их.
Тут была первая.
«Мой любимый мальчик, почему ты не пришел? Я была готова для тебя. О, это было такое ужасное разочарование. Я плакала с тех пор каждую ночь, пока не засыпана. Не случилось ли с тобой чего, дорогой? Молю тебя, напиши или пошли весточку. Я не могу вынести этой неизвестности. Твоя любящая Берна».
Смутно понимая, тупо, почти механически я прочитал вторую.
«О, приди, мой дорогой мальчик. Я в серьезной опасности. Он сделался отчаянным. Клянется, что, если не сможет овладеть мной честным путем, то добудет подлостью. Я ужасно боюсь. Почему тебя нет здесь, чтобы защитить меня?
Почему ты не пришел? О, дорогой мой, сжалься над своей бедной маленькой девочкой. Приди скорее пока еще не слишком поздно…»
Она не была подписана.
Боже, я должен тотчас же пойти к ней. Я достаточно хорошо чувствую себя. Я совершенно здоров. Почему бы им не отпустить меня к ней. Я поползу на четвереньках, если будет нужно. Я силен, так силен теперь.
Ха, у меня осталась одежда Червяка. Это было после полуночи. Сиделка как раз кончила свой обход. В палате все было так тихо.
Чувствуя дурноту, я встал и натянул на себя потертое, засаленное платье. Тут были больничные туфли.
Я должен надеть их. Обойдусь без шляпы.
Я вышел на улицу и смешался, с толпой, ловя на себе взгляды; ни никто не задержал меня. Я пришел в ресторан. Но ее там не было. Ах, хижина на холме! Я был слабее, чем думал. Несколько раз, почти теряя сознание, я останавливался и удерживался на ногах, цепляясь за молодое деревцо. Но ужасное предчувствие грозившей ей опасности вновь охватывал меня и придавало новые силы. Много раз я спотыкался, ушибался об острые камни. Один раз я пролежал довольно долго в полуобмороке, не зная, буду ли в состоянии встать. Я качался, как пьяный. Дорога казалась бесконечной, но все же, спотыкаясь, падая, я наконец добрался до хижины.
В передней комнате горел свет. Кто-то во всяком случае был дома. Еще только несколько ступенек. Но я снова упал. Я помню, что ударился лицом об острый камень. Потом на руках и на коленях подполз к двери.
Я поднялся и заколотил сжатыми кулаками. Внутри была тишина, потом послышалось оживленное движение. Я постучал снова. Откроют ли они когда-нибудь дверь? Наконец она поддалась внутрь с неожиданностью, которая заставила меня влететь в комнату.
Растянувшись я увидел над собой мадам. Она узнала меня и вскрикнула. Удивление, страх, ярость боролись на ее лице. «Это он», ― закричала она. «Он». Из-за ее плеча выглядывало страшно испуганное, очень бледное лицо ее дрожащего мужа.
― Берна, ― хрипло задыхаясь, произнес я. ― Где она? Я хочу Берну. Что вы делаете с ней, вы дьяволы? Отдайте ее мне. Она моя, моя нареченная невеста. Пустите меня к ней, говорю я.
Женщина загородила дорогу.
Я сразу почувствовал, что воздух был насыщен странным запахом, запахом хлороформа. Обезумев от страха, я ринулся вперед.
Тогда амазонка пришла в себя. С криком ярости она ударила меня. Они оба неистово набросились на меня. Я боролся, дрался; но я был слаб, они начали оттеснять меня и выбросили за дверь. Я услышал, как щелкнул замок. Я был снаружи… Я был бессилен. Но за этими бревенчатыми стенами… О, это было ужасно, ужасно. Неужели такая вещь могла случиться на свете? И я ничего не мог сделать. Я снова почувствовал себя сильным и побежал кругом, к задней стене хижины. Она была там, я знал это. Я бросился к окну и налег на него. Зимняя рама еще не была выставлена. Крах. Я прорвался сквозь два стекла. Я жестоко порезался и кровь сочилась из множества ран, но зато я был наполовину в комнате. Там, в грязном мутном свете, я увидел лицо, враждебное, искаженное яростью лицо моего бреда. Это был Локасто.
Он обернулся на треск. С проклятием он бросился ко мне. Затем, пока я висел наполовину по ту сторону окна, он схватил меня за горло. Напрягши всю свою силу, он втащил меня в комнату, затем безжалостно выкинул наружу на камни.
Я поднялся, шатаясь, обливаясь кровью, ослепленный, изнемогающий, лишенный речи, и слабо поплелся прочь. Силы оставили меня. О, боже поддержи меня. Помоги мне спасти ее.
Тут я почувствовал, что свет затмился. Я покачнулся и уцепился за стену: я упал.
Я так и остался лежать призрачной бессознательной грудой.
Я проиграл.
Книга четвертая В ВОДОВОРОТЕ
Глава I
Нет, нет, я совсем здоров. Прямо, здоров. Пожалуйста, оставьте меня одного. Вы хотите, чтобы я смеялся? Ха! Ха! Вот так, хорошо?
― Нет, совсем не хорошо. Очень далеко до хорошего, мой мальчик, и тут-то именно вам придется собраться с духом, для сердечного разговора с вашим дядюшкой.
Это происходило в большой хижине на Золотом Холме, и Блудный Сын обращался ко мне. Он продолжал:
― Теперь послушайте, дитя. Когда дело касается до выражения чувства, я достоин детского сада; когда приходится держать высокопарные речи, я то и дело сбиваюсь. Но когда нужно быть верным товарищем, опорой, тогда нечего искать меня ― я тут. С той самой минуты, как мы отправились в путь, я сильно привязался к вам. Вы всегда были отзывчивы ко мне и не будет дня, чтобы вы не могли поесть по моему обеденному талону. Мы вместе проделали путь треволнений. Вы всегда были готовы поднять самый тяжелый конец бревна. И когда бог старался как мог растереть человека в желток, вы оставались белым насквозь. Послушайте, дружище, мы побывали вместе в тяжелых местах, прошли через тугие времена и теперь пусть у меня отнимется язык, если я буду стоять рядом и смотреть, как вы катитесь вниз, а дьявол смазывает рельсы.
― О, я вполне здоров теперь, ― запротестовал я.
― Да, вы вполне здоровы, ― повторил он мрачно. ― Вы олицетворенный «вполне здоровый человек». Это зацепка для вас. Я видел уже таких «вполне здоровых людей», попадавших по кратчайшему пути в костяной склад. Вы вполне здоровы. Однако за последние два часа вы сидели с этим вашим видом: «передайте последний привет моей матери» ― и не обращали на веселое пламя моей болтовни ни малейшего внимания. Вы едите не больше больного воробья и часто по ночам не закрываете ни одного глаза.
Вы выглядите хуже дьявола в бурю. Вы потеряли свою хватку, мой мальчик. Вас не интересует больше, идут ли в школе занятия, и, право, не будь ваших друзей, вы бы очень охотно совершили кратчайший переход через Великий Перевал.
― Вы немного торопитесь, старина.
― О, совсем нет. Вы сами знаете, что равнодушны ко всему. Вы вбили себе в голову, что жизнь есть род каторги, которую вам осталось только отбывать. Вы не ждете больше от нее никакой радости. Посмотрите на меня. Каждый день для меня солнечный. Если небо голубое, оно нравится мне, если оно серое ― я люблю его не меньше. Я никогда не терзаюсь. К чему это? Вчера умерло, завтра всегда будет завтра. Все мы имеем «сегодня» и наше дело прожить его так, как только мы умеем. Вы тратите столько же пара на квадратный дюйм терзаний, сколько понадобилось бы на квадратный ярд тяжелой работы. Выкиньте тоску и вы получите несравненную программу.
― Вам легко проповедовать, ― сказал я. ― Вы забываете, что я был очень болен.
― Да, это не бредни сиделки. Вы чуть-чуть не сковырнулись. Тиф ― серьезная штука даже в лучшем случае. Но, когда в самый разгар его, вы впадаете в бешенство, проделываете ночную вылазку из больничной палаты и попадаете на Спуск в таком виде, как если бы прошли через молотилку, что же! ― тогда вы можете быть уверены, что лезете прямо в пасть смерти. И вы сдались, вы не захотели бороться, вы уклонились, но молодость и крепкий организм боролись за вас. Они залечили ваши раны, они смягчили ваш бред, они охладили вашу лихорадку. Это была славная запряжка, и она вывезла вас. Казалось, они тащили вас сквозь щелку, но они знали свое дело, а вы не проявили им самую малость благодарности, как будто думали, что не их дело вмешиваться.
― Мои страдания глубже физических.
― Да, я знаю. Тут еще замешана девушка. Вы кажется были уверены, что это единственная девушка во всей этой сметенной богом зеленой куче. Пока я стоял лагерем у вашей постели, прислушиваясь к вашему бреду, и превращаясь в душителя, как только вы забирали себе в голову подурачиться, вы выболтали всю историю. О, сынок, почему вы не рассказали этого раньше, вашему дядюшке? Почему вы не вразумили меня? Я мог бы дать вам верное направление. Разве вы когда-нибудь видели, чтобы я брался за дело, не приведя его к хорошему концу? Да ведь я настоящая брачная контора, воплощенная в одном человеке. Я давно заставил бы вас прогуляться под звуки свадебного марша. Но вы молчали, как мумия. Не хотели довериться даже своему старому товарищу. Теперь вы потеряли ее.
― Да, я потерял ее.
― Вы не встречали ее с тех пор, как вышли из больницы?
― Раз, только один раз. Это было в первый день. Я был худ как рельса, бел, как подушка, с которой только что поднял голову. Отсрочка смерти была написана на мне. Я устало плелся, опираясь на палку. Я думал о ней, думал, думал беспрестанно. Всматриваясь в лица толпы, запрудившей улицы, я рисовал себе только ее лицо. И вдруг я увидел ее перед собой. Она выглядела, как привидение, бедная малютка, и одно короткое мгновение мы всматривались друг в друга, она и я, два бледных изнуренных призрака.
― Ну, что же она сказала?
― Сказала? Она не сказала ничего. Она только посмотрела на меня. Лицо ее было холодно, как лед. Она смотрела на меня, как будто хотела пожалеть. Потом в глазах ее появились горечь и отчаяние, какие могут омрачить лишь взор погибшей души. Это мучительно действовало на меня. Мне, казалось, что она смотрит на меня почти с ужасом, как будто я что-то вроде прокаженного. Когда мы стояли так, она, казалось, готова была лишиться чувств. Одну минуту мне почудилось, что она покачнулась, затем она испустила сильный прерывистый вздох и, повернувшись на каблуках, исчезла.
― Она сразила вас.
― Да, сразила на смерть, старый дружище. Моей единственной мыслью была любовь к ней, вечная любовь. Но я никогда не забуду выражения ее лица, когда она повернулась, чтобы уйти. Казалось, будто я ударил ее хлыстом.
― И вы ни разу не видели ее с тех пор?
― Нет, никогда, Разве этого не довольно? Она не хочет больше говорить со мной. Не хочет больше поднимать на меня глаз. Я вернулся обратно в больницу, затем спустя немного перебрался сюда. Мое тело жило, но сердце было мертво. Оно никогда не оживет снова.
― О, ерунда, вы не должны так поддаваться обстоятельствам. Это убьет вас в конце концов. Подбодритесь! Будьте мужчиной. Если не хотите жить для себя, живите для других. Как знать, может быть все к лучшему. Быть может, любовь ослепила вас. Быть может, она не была действительно хорошей. Поглядите, как она теперь открыто живет с Локасто. Ее называют Мадонной, говорят, что она больше похожа на деву-мученицу, чем на любовницу развратного человека.
Я встал и посмотрел на него, чувствуя, что лицо мое исказилось от муки при этой мысли.
― Послушайте, ― сказал я, ― никогда Бог не вкладывал дыхания жизни в лучшую девушку. Здесь была подлая игра. Я знаю эту девушку лучше, чем кто-либо другой на свете, и, если бы все живущее стало уверять меня, что она скверная, я сказал бы им, что они лгут. Я сгорел бы на костре, защищая эту девушку.
― Тогда почему же она так жестоко оттолкнула вас?
― Не понимаю, не могу постигнуть. Я так мало знаю женщин, но я не поколебался ни на минуту, и сегодня, в своей тоске и одиночестве, я томлюсь по ней больше, чем прежде. Она всегда здесь, вот тут в моей голове и никакие силы не могут изгнать ее оттуда. Пусть говорят, что угодно, я женился бы на ней завтра же. Это убивает меня. Я состарился на десять лет за последние несколько месяцев. О, если бы я только мог забыть!
Он посмотрел на меня задумчиво.
― Скажите, старина, вы получаете вести от вашей старушки?
― С каждой почтой.
― Почему бы вам не вернуться домой? Это лучший выход для вас: вернитесь к матери. Она нужна вам. Вы порядком накренились. Небольших денег хватит там надолго, а вы можете рассчитывать на тридцать тысяч. Вы будете обеспечены, вы посвятите себя старой леди и снова будете счастливы. Время ― тот же паровой каток, когда нужно сглаживать шероховатые места в прошлом. Вы забудете все это, этот край и эту девушку. Все это будет казаться вам чем-то вроде последствий Валлийского сыра, съеденного на ночь. У вас было умственное несварение. Мне тяжело видеть ваш отъезд и, право, грустно потерять вас. Но это ваше единственное спасение. Поэтому, пожалуйста, поезжайте.
Мне никогда не приходило это в голову раньше. Дом! Как сладко звучало это слово. Мама, да мама утешит меня, как никто другой. Она поймет. Мама и Гарри.
― Да, ― сказал я, ― чем скорее это будет, тем лучше; я уеду завтра утром.
Итак, я встал и начал собирать мои немногочисленные пожитки. Рано утром я отправляюсь. Нет смысла тянуть с отъездом. Я попрощаюсь с этими двумя товарищами пожатием руки и слезой в глазах; хриплое «поберегите себя». Вот и все. По всей вероятности, я никогда больше не увижу их.
Джим вошел и спокойно уселся. С некоторых пор старик сделался очень молчаливым. Надев очки, он вынул свою изрядно потертую Библию и раскрыл ее. Там, в Даусоне, был человек, которого он ненавидел ненавистью, кончающейся только со смертью, но, ради мира своей души, он старался изо всех сил победить ее. Эта ненависть дремала, но по временам начинала шевелиться, и тогда в глазах старика появлялся взгляд тигра, делавший его некогда сильным и грозным. Горе врагу, если тигр когда-нибудь проснется!
― Я обдумываю план, ― сказал вдруг Джим. ― Я намерен вложить все свои двадцать пять тысяч обратно в землю. Ведь мы, старые рудокопы, остаемся игроками до конца. Дело не в золоте, а в добывании его; волнение, надежда, предвкушение удачи ― вот что нам дорого. Мы бойцы, и нам остается только продолжать сражаться. Мы не можем успокоиться. Перед нами земля, а в ней драгоценный металл, который она старается скрыть от нас. Наше дело ― вытащить его наружу. Это делается ради блага человечества. Рудокоп и фермер никого не обирают. Они сами спускаются в эту старую землю, умасливают ее, бьют ее, терзают ее, пока она не сдастся. Они трудятся на благо человечества ― фермер и рудокоп.
Старик многозначительно умолк.
― Так вот я не могу оставить золотоискательство. Я буду продолжать до тех пор, пока хватит здоровья и сил. Я собираюсь снова бросить в песок все, что получил. Я сделаю большое дело или выпущу свой заряд на воздух.
― В чем же вам план, Джим?
― А вот в чем. Я поставлю гидравлическую машину на своем Офирском участке. У меня большие надежды на этот участок. Никому еще не приходило в голову предположение работать с водой. Там есть маленький ручеек, стекающий по склону горы, как раз в том месте, где она очень крутая. Там около ста футов водопада и весной довольно могучая струя скатывается кубарем вниз. Вот я и намерен задержать ее плотиной наверху, провести вниз по желобу, установить там аппарат «маленький гигант» и опять освободить ее, чтобы разорвать и взрыть почву. Это откроет новую эру в клондайкском золотоискательстве.
― Молодчина, Джим.
― Ценности лежат там, в земле, и мне надоел старый, медленный способ добывания их. А этот мне очень нравится. Во всяком случае, я измерен сделать опыт. Это только начало, вы увидите, как другие переймут это приспособление. Одиночке рудокопу время уйти; это только вопрос времени. В один прекрасный день вы увидите, что вся страна будет разрабатываться большими сильными черпаками, как в Калифорнии. Помяните мое слово, ребята, старомодный рудокоп должен сойти.
― Что же вы предпринимаете?
― Видите ли, я написал, чтобы мне прислали машину и надеюсь, что в следующую зиму машина будет в ходу. Штука уж в пути теперь. Алло! Войдите!
Посетители были Мервин и Хьюсон. Они зашли к нам по дороге в Даусон. Оба преуспели свыше всех мечтаний. Казалось, что они просто находят деньги, так старательно судьба подсовывала их им под нос. Они оскорбительно процветали. Они испускали пары удачи. В обоих произошла сильная перемена, перемена чрезвычайно типичная для золотого лагеря. Они как будто растаяли. Они были непобедимо веселы; однако вместо выдержки, когда-то отличавшей их, теперь замечалась предательская слабость, вялость, подчинение расслабляющим порокам города. Мервин был заметно худ. Темные впадины окружали его глаза и странная нервность искривляла рот. Он был «грозой женщин», как говорили. Он мотал на них деньги быстрее, чем делал их. Он был значительно более общителен, чем раньше, но чувствовалось, что его мужество, его боевые качества исчезли. В Хьюсоне перемена была еще заметнее. Его железные мускулы растянулись в ровное тело, щеки втянулись, глаза были мутны и налиты кровью. Тем не менее он изображал славного малого, говорил без хвастовства о своем богатстве и принимал покровительственный вид. У него было около двухсот тысяч долларов и он выпивал ежедневно бутылку бренди. Этим двум людям, так же, как и многим другим в золотом лагере, легкое неожиданное богатство шло на погибель. В пути они были великолепны; в болотах, в лесах, на высотах и равнинах они были господами среди людей, боровшимися с природой неукротимо, с упоением. Но когда битва была окончена, их руки бездействовали, мускулы опустились, они предались чувственным удовольствиям. Казалось, будто для них победа в самом деле означала поражение. Я был занят своими сборами и едва прислушивался к их разговору. Какой интерес могла теперь иметь для меня эта болтовня о грязи и песке, об участках и промывке? Я собирался оттолкнуть это все от себя, навсегда вычеркнуть из памяти, начать жизнь сызнова. Я буду жить для других. Семья, мама! Как восхитительно разгоралось снова мое сердце при мысли о них.
Но вдруг я насторожился; они говорили о городе, о мужчинах и женщинах, которые прославляли, или, вернее, бесславили его. Вдруг кто-то произнес имя Локасто. «Он уехал, ― говорил Мервин, ― уехал на большое дело. Он подружился с несколькими индейцами с реки Пиль и узнал, что они открыли слой высокого качества золотоносного кварца, где-то в западной части «по ту сторону». У него был образец породы, в котором ясно было видно золото, блестевшее насквозь. Это богатейшая почва. Джек Локасто последний человек, чтобы отказаться от такого случая. Он самый отчаянный игрок на Севере, ему не хватит никакого богатства. Теперь он ушел с одним индейцем и со своим товарищем, этим маленьким ирландским телохранителем Патом Дуганом. Они взяли с собой на шесть месяцев припасов и пробудут там всю зиму.
― Что сталось с его девочкой? ― спроси Хьюсон. ― Последней, с которой он жил. Помните, она ехала с нами на пароходе? Бедная малютка! Попалась-таки этому человеку. Мало ему женщин, как он, нужно еще захватить в свои когти лучших из них. Это была славная девчурка, пока он не принялся за нее. Если бы она была моей подругой, я всадил бы пулю в его отвратительное сердце.
Хьюсон рычал, как разозленный медведь, но Мервин улыбался своей циничной улыбкой.
― О, вы говорите о Мадонне, ― сказал он. ― Она поступила в кафешантан.
Они продолжали разговаривать о других вещах, но я больше не слушал их. Я был в трансе и очнулся только, когда они встали, чтобы уйти.
― Попрощайтесь-ка лучше с этим парнем, ― сказал Блудный Сын, ― он отправляется завтра в Старый Свет.
― Нет, я не еду, ― ответил я мрачно. ― Я отправляюсь не дальше Даусона.
Он вытаращил на меня глаза, попробовал убеждать, но я решился. Я буду бороться, бороться, бороться до конца.
Глава II
Берна в кафешантане! Слова не могут выразить всего, что эта простая фраза значила для меня. Два месяца я жил в тоскливой апатии страдания, но эта весть наэлектризовала меня к немедленному действию.
Когда Блудный Сын начал убеждать меня, я засмеялся горьким, нерадостным смехом.
― Я иду в Даусон, ― сказал я, ― и, если бы это был самый ад, я отправился бы туда за девушкой. Мне безразлично чужое мнение. Семья, общество, даже честь, пусть все это провалится; теперь они потеряли значение. Я был дурак, когда думал, что смогу когда-нибудь оставить ее, дурак! Теперь я знаю, что до тех пор, пока в теле моем есть жизнь и силы, я буду бороться за нее. О, я уже не чувствительный юноша, каким я был шесть месяцев тому назад. Я жил с тех пор. Я могу постоять за себя теперь. Я могу сталкиваться с людьми как равный. Я могу бороться, я могу победить. Я ничего не боюсь после того, что пережил. Я не придаю особой ценности жизни и намерен отчаянно бороться за эту девушку. Если я проиграю, значит не будет больше «меня» для того, чтобы бороться. Не старайтесь убеждать меня. К черту рассудок! Я иду в Даусон, и сотня человек не удержит меня.
― У тебя как будто появились новые трюки в репертуаре, ― сказал он, глядя на меня с любопытством, ― ты ставишь меня в тупик. Иногда мне кажется, что ты кандидат в сумасшедший дом, иногда же я снова начинаю думать, что ты в своей тарелке. Теперь твой рот принял угрюмое выражение, а в глазах появился жесткий взгляд, которого мне не приходилось еще видеть. Что ж, может быть ты добьешься своего. Ну, во всяком случае, желаю удачи.
Итак, попрощавшись с большой хижиной и обоими моими товарищами, грустно глядевшими мне вслед, я направился вдоль Бонанцы. Была половина октября. Жестокий ветер пронизывал меня до мозга костей. Страна лежала опять скованная под покровом снега, и небо было бледно и зловеще. Я шел быстро, полный мучительной тревоги, терзавшей меня до того, что я едва замечал дорогу; я думал только о Берне и о Даусоне.
Я пришел как раз во время, чтобы увидеть отплытие последнего парохода. Река уже «несла лед» и с каждым днем его зубчатые края ползли все дальше к середине течения. Огромная унылая толпа стояла на пристани, когда маленький пароход повернул в канал. На палубе было шумное общество; много городских женщин кричали на прощанье своим друзьям. Там было непринужденное экстравагантное веселье; на пристани же ― печальная попытка к самоутешению. Последняя лодка. Они следили за тем, как весло ее у кормы разрезало замерзающую воду. Они следили за тем, как она медленно прокладывала себе путь через все более утолщающиеся полосы льда. Они продолжали следить за ней, когда она была уже далеко, борясь с клондайкским течением. Тогда, грустные и упавшие духом, они возвращались в свои одинокие хижины. Никогда уединение не казалось им таким горьким. Еще несколько дней и река будет натянута так же туго, как барабан. Долгие, долгие ночи опустятся на них и почти на восемь томительных месяцев они будут отрезаны от внешнего мира.
Однако скоро, очень скоро, дух примирения поправит дело. Они начнут извлекать из жизни, что можно. Чтобы кормить этот великий город-осьминог, рудокопы станут стекаться с ручьев с сокровищами, скопленными в жестянках для муки. Кафешантаны и игорные дома засосут их, и веселье пойдет полным ходом.
Проходя по тротуару, я удивлялся росту города. Появились новые улицы. Лавки выставляли дорогие предметы и кичились ценными товарами. В салунах были великолепные зеркала и лепные украшения. Рестораны предлагали европейские деликатесы, все поднялось на новую ступень экстравагантности, показного блеска, наглой роскоши. Повсюду на виду был человек с толстым «мешком». Он приходил в город обросший, с диким видом, часто одетый в лохмотья, но всегда с ненасытным голодом в глазах. Этот взгляд переносил вас в темноту, грязь и, тяжкую работу на заимке. Перед вами вставали безотрадные месяцы труда, грубая хижина с ее леденцами из льда за дверью, тускло горящим сальным светильником и прокисшим запахом застоявшейся еды. Вы видели, как он лежит, куря свою крепкую трубку, смотрит на этот кувшин с самородками на грубой полке и мечтает о том, что он даст ему там, где блестят огня и ревут граммофоны. Несомненно, что если терпение, выносливость, суровое неуклонное стремление, тяжкая, отчаянная работа заслуживают вознаграждения, этот человек имеет право на полную меру удовольствий.
И всюду этот жадный голодный взгляд. Женщина с накрашенными щеками знает этот взгляд; хозяин бара со своими одурманивающими напитками тоже знаком с ним. Они ждут его, это их «мясо».
Однако через несколько дней наш дикий, обросший шерстью человек перерождается, перестает вызывать к себе ваше сочувствие. Он выбрит, острижен, одет в шелковое белье, модные тонкие ботинки и платье по нью-йоркской моде. Вы бы ни за что не узнали в нем вашего друга в мокасинах и непромокаемом пальто. Он курит долларовую «Ларанаго», у него с полдюжины стаканчиков с виски «за поясом», а попозже у него назначено свидание с певичкой из Павильона. О, ему предстоит «кит» удовольствий, говорит он вам… Вы задумываетесь над тем, насколько его хватит. Не надолго. Это остро, коротко и сладко. Он разоряется в конец и королева шантана, для которой он покупал столько вина, по двадцати долларов бутылка, больше не узнает его своими блестящими глазами. Он «спущен по нитке», «разобран в конец» мастером своего дела. Горестно он выворачивает свои кармана наружу ― ни одной «фишки». Он не может даже заказать покаянную порцию в три пальца водки. Таково одно из обычных явлений в золотом лагере.
Проходя по улицам, я встретил много знакомых лиц. Я увидел Мошера. Он очень растолстел и разговаривал с тщедушной женщиной с тяжелыми белокурыми волосами. По-моему, она весила около девяносто пяти фунтов. Они отправились вместе. Острый, как нож, ветер несся с севера, и люди в раздувающихся енотовых шубах наполняли тротуары. На углу «Авроры» я толкнулся с Банкой Варенья. На нем была куртка из летней фланели, и как бы для того, чтобы подчеркнуть исключительную жару, он отвернул свой узкий воротник. В дрожащих пальцах он держал тонкую папиросу, которой жадно затягивался. Он выглядел жалким, истощенным голодом и исколотым стужей; но при виде меня он тотчас же подтянулся в некоторое подобие благополучия. Однако через короткое время поник опять, и глаза его приняли тоскливое и униженное выражение. Нужна была чрезвычайная деликатность, чтобы заставить его принять маленькую ссуду. Я знал, что это поможет ему лишь глубже погрузиться в болото, но был не в силах вынести вида его страданий.
Я пришел в Парижский ресторан. Там было светлее, многолюднее, шумнее, чем обыкновенно. Я увидел служителей в обычной ливрее лакеев и Мадам ― еще более грубую, хищную. Невольно рождался вопрос, есть ли у этой женщины душа и в чем цель ее существования. Она восседала там, как олицетворение хищничества и низкой алчности. Я подошел прямо к ней и спросил резко:
― Где Берна?
Она сильно вздрогнула. В ее наглых глазах появилось что-то вроде страха, но вслед затем она засмеялась жестоким искусственным смехом.
― В Тиволи, ― сказала она.
Я все еще был слаб после болезни, и долгий путь утомил меня. Поэтому я вошел в салун и заказал виски. Я почувствовал, как неразбавленный виски обжигал мое горло. Я весь дрожал с ног до головы от необычно приятной теплоты. Вдруг бар со своими медными прутьями показался мне очень приятным местом, сияющим, теплым, полным комфорта и хорошего общества. Как ласково все улыбались. В самом деле, некоторые даже смеялись от искренней радости. Большой, весело настроенный рудокоп потребовал еще порцию, и я присоединился к нему. Куда девалась теперь моя горечь? Куда исчезла эта смертельная боль сердца? Пока я пил, все это казалось прошло. Волшебная перемена! Каким дураком я был! Стоило ли поднимать такой переполох? Бери жизнь легко. Смейся одинаково над хорошим и дурным. Ведь все здесь только фарс. Какое значение это будет иметь через сотню лет? Неужели мы посланы в этот мир только на мучения? Я, по крайней мере, не согласен на это. Я не намерен больше корчиться в смирительной рубашке существования. Здесь был выход, радость сердца, счастье ― здесь, в этой закупоренной чертовщине. Я выпил снова.
Я был пьян, безнадежно пьян, когда я направлялся к Тиволи.
Глава III
Когда я вышел, шатаясь, из салуна, я находился в особенно возбужденном настроении. Я больше не сознавал щиплющего холода, и мне казалось, что я мог улечься в глубоком снегу так же уютно, как в пуховой постели. Особенно великолепны были огни. Они как будто приветливо подмигивали мне. Они блестели радостной оживленностью. Каким завидным местом был все-таки мир!
Чувствуя в себе кипящий поток красноречия, необычайный ораторский талант, я стремился найти сочувственное ухо.
Граммофоны ревели во всевозможных тональностях. Бесстыдные женщины подмигивали мне. Заманчивые игорные притоны и кафешантаны манили меня. Город, как гигантский паук, завлекал свою жертву, и жертвой этой, казалось, был я. Тут было множество других людей с алчными глазами, но кто же был здесь тревожнее, алчнее меня? Однако это меня ничуть больше не беспокоило. Греми музыка! Начинайте танцы! Нам дана лишь одна жизнь! А, вот наконец Тиволи! Справа от входа был пышный бар, украшенный полированной медью, гранеными зеркалами и сверкающими разноцветными пирамидами дорогих ликеров. В баре пьянствовали, и лакеи в белых куртках смешивали напитки с мастерской ловкостью. Тут была пестрая толпа. В ней попадались люди в дорогих платьях и тонком белье, люди в синих рубахах и одеревеневшей от грязи одежде, седобородые старики и безбородые юноши. Это была шумная толпа, хохочущая, горланящая, ругающаяся, поющая. Это была пена жизни, совершенно скрывавшая грязный осадок на дне.
Передо мной была двойная колеблющаяся дверь, расписанная белым и золотом. Толкнув ее, я впервые очутился в даусоновском кафешантанном танцевальном зале. Я помню, что был ошеломлен его пышностью, блеском и великолепием. Кто мог бы ожидать, что найдет на этом мрачноликом Севере такое сказочное место? Зал был расписан золотой и белой краской и освещен гроздьями ламп. Повсюду была лепка и нарядные украшения. С каждой стороны, на высоте приблизительно десяти футов, находились на золоченых подпорках маленькие отдельные кабинеты, завешанные драпировками из лилового шелка. В глубине зала была сцена, на которой шло представление.
Я занял место на самом конце зала.
На эстраде, женщина солидной комплекции, распевала резким носовым голосом патетическую балладу. Она пела без выражения, делая руками однообразные движения в такт дыханию. Ее приземистая, расплывчатая фигура выглядела необычайно нелепо в коротком платье. Лицо было очень накрашено, рот широко, добродушно улыбался, а глазки подмигивали публике из-за похожих на щелки век.
― Замечательно! ― сказал высокий, похожий на бобовую жердь, человек справа от меня, когда пение окончилось под аплодисменты публики. ― У нее чувствуется умение в работе.
Он смотрел на меня с доверчивым видом, и его бледно-голубые глаза были полны восторженного восхищения. Потом он сделал нечто, поразившее меня. Он развязал свой мешочек и, запустив в него руку, вытащил большой самородок. Завернув его в бумагу, он поднялся, длинный, сухой, неуклюжий, и, старательно прицелившись, бросил его на сцену.
― Вот тебе, Лулу, ― просвистел он пронзительным голосом.
Певица, направлявшаяся к выходу, обернулась, подняла подарок, и послала своему поклоннику широкую, обнажившую золотые зубы, улыбку и выразительный поцелуй. Когда он уселся, рот его был искривлен от возбуждения, а водянистые голубые глаза сияли от восторга.
― Клянусь богом, колоссальный талант, не правда ли? Много бутылок вина я откупорил для этой девочки. То-то, должно быть, обрадуется, когда узнает, что старый Генри в городе. Генри мое имя. Звонкая-Кастрюля-Генри, мое прозвище, и у меня есть участок на Хункере. Много толстых кошельков я перетаскал в город и промотал на эту девчонку, и я вполне уверен, что этот пойдет по той же дорожке. Ладно, говорю я, что же тут удивительного? Приятно провожу время за свои деньги. Когда они уходят, там есть еще куча других в земле. Ног у них нет, не убегут. ― Он захохотал и взвесил в мозолистой руке свой мешочек. За гелиотроповыми занавесками произошло движение, и лицо Лулу очаровательно заулыбалось ему над плюшевым краем ложи. С новым радостным смехом поклонник пошел к ней.
― Вот старый дуралей! ― сказал молодой человек слева от меня.
Он выглядел так, как будто его жилы были переполнены здоровьем; кожа его была чиста, как у девушки, глаза честны и бесстрашны. На нем была непромокайка и меховая шапка с наушниками.
― Это самый большой олух в стране. Бог отпустил ему мозгов не больше, чем гусю. Все девчонки виснут на нем. Пока он повернется, эта старая летучая мышь там успеет отделать его до чиста. Она освободит его от мешочка, и завтра он отправится на ручей, смеясь и клянясь, что он прекрасно провел время. Это самый покладистый человек на земле.
Юноша остановился, чтобы посмотреть на новую певицу. Возбуждение от ликера улеглось, и от жары и дыма в зале меня стало клонить ко сну. Я успел задремать, когда кто-то тронул меня за плечо. Это был негр-лакей, которого я видел входящим и выходящим из лож, известный под кличкой Черный Принц.
― Там леди в ложе желает говорить с вами, сэр, ― сказал он вежливо.
― Кто такая? ― спросил я удивленно.
― Мисс Лабель, сэр. Мисс Байрди Лабель.
Я был изумлен. Кто в Клондайке не слыхал о Байрди Лабель, старшей из трех сестер, которая вышла замуж за Билля Усмирителя Вод? У меня мелькнула мысль, что она сможет сообщить мне что-нибудь о Берне.
― Хорошо, ― сказал я, ― я приду.
Я последовал за ним наверх и через минуту очутился в присутствии знаменитой субретки.
― Алло, мальчик, ― воскликнула она, ― садитесь. Я увидела вас в публике и мне понравилось ваше лицо. Как поживаете?
Она протянула унизанную драгоценностями руку. Это была полная приятная блондинка с задорной улыбкой и льняными волосами. Я приказал слуге подать бутылку вина.
― Я много слышал о вас, ― сказал я, нащупывая почву.
― Да, надеюсь, что так, ― ответила она. ― Большинство знает меня. Это что-то вроде отраженной славы. Я думаю, что если бы не Билль, я бы никогда не попала в свет рампы.
Она задумчиво потягивала свое шампанское.
― Я приехала сюда в 97-м и встретила тогда Билля. Он был при деньгах, как полагается. Мы быстро сошлись с ним, но он такой дурак, что скоро опротивел мне. Тогда я начала водиться с другим франтом. Тут как раз настал яичный голод. Во всем городе было только девятьсот образчиков куриных произведений и то в одной только лавке. Я пошла купить немного. Боже, как мне хотелось яиц! Я все время мечтала о том, как приготовлю их. Как вдруг предо мной вырастает никто иной, как Билль. Он видит, чего я хочу, и с быстротой молнии покупает весь запас по доллару за штуку. Теперь, говорит он мне, если вы хотите яиц на завтрак, приходите в тот дом, которому вы принадлежите.
― Хорошо, ― говорю я. ― Мне просто до смерти хочется яиц, и я отправляюсь в молочную.
― Я пошла домой с Биллем.
Она грустно покачала головой, и я еще раз наполнил ее стакан.
Из соседней ложи доносился визгливый смех Генри Звонкой-Кастрюли и назойливые взвизгивания его возлюбленной. Визиты Черного Принца в их ложу были часты и стремительны; но вдруг я услышал, как женщина закричала ноющим голосом:
― Послушай, мне надоел этот черный человек, который так часто входит сюда. Почему ты не закажешь сразу ящик вина?
В ответ раздался старческий хохот.
― Прекрасно, Лулу. Все что ты хочешь, будет исполнено. Послушайте. Принц, тащите сюда ящик.
«Несомненно, подумал я, нет дурака, равного старому дураку».
На эстраде пела маленькая девочка, милая девчурка с прелестным детским голоском и невинным лицом. Как мало подходила она к этому дворцу греха. Она пела простую старинную песенку, полную непосредственной нежности. Во время пения она смотрела вниз на морщинистые лица, и я видел, что много глаз затуманились слезами. Грубые люди внимали в восторженном молчании звукам детского дисканта.
Дорогая, становлюсь я стариком. Перевилось золото мое серебром. Светом будь моим на склоне дней; Жизнь уходит все быстрей, быстрей…Затем из-за сцены присоединился чистый альт, и оба голоса, сливаясь в превосходную гармонию, продолжали:
Об одном, любимая, прошу — Оставайся ласкова со мной! Лишь об этом, милая, прошу — Оставайся ласкова со мной!Когда замер последний отзвук, вся публика поднялась, как один человек, и дождь самородков посыпался на сцену. В этом было что-то трогавшее их сердца, оживлявшее в них странные воспоминания о нежности, вызывавшее в памяти полузабытые картины счастья у очага.
― Какой срам позволять этому ребенку работать в шантанах, ― сказала мисс Лабелль. В ее глазах тоже стояли слезы и она поспешно старалась вытереть их.
Занавес опустился, мужчины очищали паркет для танцев. Поэтому, попрощавшись со своей леди, я спустился вниз.
Глава IV
Юноша ждал меня.
― Знаете, товарищ, ― сказал он. ― Я начал уже немного беспокоиться, не поймала ли эта красавица вас на удочку, чтобы высосать. Я намерен остаться с вами, и вы не заставите меня уйти. Вот!
― Прекрасно, ― сказал я, ― пойдем смотреть на танцы.
Мы пробрались в первый ряд зрителей, тогда как позади нас люди теснились как спички в коробке. Шампанское, которое я выпил, снова оживило во мне чувство радости, силы, яркости. Снова огни казались лучезарными, музыка чарующей, женщины божественными. Так как я немного покачивался, мне приходилось слегка цепляться за юношу. Он с любопытством смотрел на меня.
― Подтянитесь, старина, ― сказал он. ― Должно быть, вы не часто бываете в городе. Вы не слишком-то привыкли к треску шантанов.
― Нет, ― подтвердил я.
― Ладно, ― продолжал он, ― это самая гнилая штука. Я встречал гораздо больше бедняков, выбитых из строя шантанами, чем всеми салунами и игорными домами вместе. Штука здесь в том, чтобы выжать сок, когда плод вполне созреет, а это не удается только в очень редких случаях.
Он заметил, что я слушаю внимательно, и снова вернулся к этому предмету.
― Видите ли, ребята приходят сюда после шести месяцев, проведенных кряду на участке, и город кажется им очень привлекательным. Музыка звучит, необыкновенно хорошо, а женщины, ну, они кажутся просто ангелами. Парни в полном порядке, но в них сидит сумасшедшая тоска по женскому образу, какая бывает в человеке, после жизни в пустыне, а эти женщины довели искусство закабаления мужчин до тонкости. Если какая-нибудь из них примется за вас, со своими глазами, которые так и въедаются в душу, белыми ручками и милыми ласковыми ужимками, тут уж трудно удержаться. Мужчины глупы, что приближаются к таким местам с мешочками… исключая таких как я, которые знают в чем штука, и уверены в себе.
Юноша излагал все это с чрезвычайно самодовольным видом. Он продолжал:
― Эти девочки работают на процентах. Вы можете заметить, что каждый раз, как вы угощаете их вином, лакей дает вам чек. Это означает, что, когда ночь пройдет, они предъявят их и получат двадцать пять процентов. Вот почему они прибегают к всевозможным хитростям, чтобы заставить вас заказать вино. При расплате вы, обыкновенно, швыряете ваш мешочек, а они зарабатывают и на этом. Вы думаете, что они станут церемониться из-за четверти унции или чего-нибудь в этом роде? Нет, сэр, и вам всегда достается меньшая часть. Протестовать против этого еще хуже.
Юноша посмотрел на меня, как бы гордясь превосходством своих суждений. Паркет был очищен. Девицы теперь начинали выходить из-за кулис, прихорашиваясь и болтая с толпой. Оркестр играл какой-то ликующий рэгтайм, от которого плясало сердце, а каблуки сами собой начинали притоптывать в такт. Свет в зале казался ярче, чем всегда. Белизна и позолота стен еще ослепительнее. Некоторые из девиц слегка покачивались в ритм вальса. Движения их были полны обворожительной грации, и юноша не спускал с них глаз. Он смотрел вниз на свои ноги, обутые в мокасины.
― Ги! Мне хотелось бы повертеться разок, ― сказал он, ― только раз, прежде чем я покину эту проклятую старую страну навсегда. Я всегда был помешан на танцах и готов проскакать тридцать миль, чтобы попасть на бал.
Глаза его приняли очень задумчивое выражение. Вдруг музыка остановилась и дирижер танцев выступил вперед. Это был высокий брюнет с богатым вибрирующим баритональным голосом.
― Это лучший дирижер во всем Юконе, ― сказал Юноша.
― Начинайте, ребята, ― возгласил дирижер, ― поворачивайтесь живее! Не заставляйте дам ждать! Выньте руки из карманов и приступите к делу! Сейчас начнем мечтательный вальс или славный, смачный тустеп, ― что вы предпочитаете. Гей, профессор, жарьте-ка вальс!
Снова раздалась музыка.
― Как вам это понравится, ребята? Неужели ваши ноги еще не превратились в перья? Вперед, ребята! Перед вами славный лощеный паркет, прелестные пушинки ― барышни. Так! Так! Правильно, выбирайте себе дам. Закружите ваших возлюбленных! Потарапливайтесь-ка. Сейчас начнем. Что с вами, молодцы? Проснитесь, не стойте, как стадо баранов. Девочки красивы, грациозны, как феи, музыка гремит, зал сияет. Начинайте, ребята!
В его голосе была принудительная сила, и множество пар уже кружилось в вальсе. Женщины были восхитительны в своей грации и упругой легкости. Они болтали, танцуя, бросая своему минутному кавалеру томные взгляды и улыбки сирен. Те из них, которые не успели еще заполучить кавалера, выуживали себе индивидуумов из толпы, ласково маня их выйти вперед. Какой-то пьяный молодец вышел, шатаясь, на середину и облапил девицу. Она была молода, нежна и красива, но не проявила при этом никакого отвращения. Он топтался по кругу, орал и пел, напоминая какое-то дикое заколдованное существо. Но вдруг он споткнулся и упал, увлекая ее за собой. Толпа загоготала. Но девица добродушно подняла его и повела в бар.
Человек в грязном парусиновом костюме и моклоках[3] вышел в круг. Его волосы были длинны и всклокочены. Неровная борода растрепана. Он неистово плясал и в глазах его сверкал огонь дикого возбуждения. Он выглядел так, как будто не принимал ванны целые годы, но и тут я не мог уловить гадливости на лице красивой брюнетки, с которой он вальсировал. Они танцевали танец за танцем в объятьях друг друга.
― Это «прожигатель», ― сказал юноша. ― Он только что прибыл из Доминиона с сотней унций, и ему не хватит этого на одну ночь. «Янтарь» здесь все у него подцепит. Она не позволит другим девицам даже подойти близко. Это ее добыча.
Между танцами мужчины наведывались в бар, угощая своих дам напитками. Все они одинаково легко и доверчиво бросали свои мешочки хозяину бара, который отвешивал цену. Танцы были очень коротки, а возлияния очень часты.
Веселье становилось все разнузданнее и разнузданнее. Запах пачулей смешивался с запахом съестного и испарениями алкоголя. Мужчины, обливаясь потом, кружились в неистовом водовороте. Некоторые из них танцевали прекрасно, некоторые просто топтались на полу. Девицам это было все безразлично. Они были очень мускулисты и приучены к напряженным усилиям новичков. После визита в заднюю часть бара они возвращались обратно в зал, облизывая губы, и начинали плясать с новой энергией.
Теперь не было надобности просить толпу. Волна возбуждения, казалось, затопила всех. Теперь они требовали танцев. «Прожигатель» гикал и прыгал галопом в то время как Янтарь спокойно лавировала с ним через толпу вальсирующих. Певичка по прозвищу Нелли-нажми-кнопку разговаривала с высоким человеком с белокурыми усами.
Вдруг она остановила его и направилась через зал к нам. Она подошла к юноше. Ее красивые темные волосы были разделены посредине и приподняты за ушами. В ее больших, голубых, как фиалки, глазах лежало выражение, от которого лихорадочно забился бы пульс у святого. Она заговорила с юношей с особенно обворожительной улыбкой.
― Послушайте, милый, не хотите ли пойти потанцевать со мной тустеп? Я смотрю на вас уже полчаса и жду, чтобы вы пригласили меня.
Юноша советовал мне: «Если какая-нибудь из них станет приглашать вас, пошлите ее к черту». Но теперь, при взгляде на нее, его мальчишеское лицо загорелось.
― Я не танцую, ― сказал он мужественно.
― О, пойдем, ― просила она, ― право, голубчик, я прогнала другого кавалера ради вас. Вы не откажете мне, не правда ли? Пойдем, только разок, миленький.
Она держала лацканы его пиджака и мило тянула его вперед. Я видел, как он кусал губы в замешательстве.
― Нет, благодарю, мне очень жаль, ― бормотал он. ― Я не умею танцевать. К тому же у меня нет денег.
Она сделалась еще более ласковой.
― Не беспокойтесь о монетах, душечка. Ну, потанцуйте со мной. Не отказывайте мне, вы мне так нравитесь; пойдемте же, только один круг.
Я следил за лицом юноши. Его глаза заволоклись от волнения и я понял психологическую подкладку этого. Он думал:
«Только один тур. Это не может повредить. Несомненно, я достаточно тверд, чтобы остановиться, когда надо. О, господи, как будет приятно снова обнять рукой талию женщины. Один вид их уже так сладок мне. Конечно, это пустяки. Один круг, и я стряхну ее и пойду домой».
Это колебание было роковым для него. Неодолимым магнетизмом юношу влекло к этой женщине, занятием которой всегда было обольщать и распалять. Она покорила его своей силой сирены, как покорила многих других, и на лице ее сияло торжество, когда она уводила его. Бедный юноша! Когда танец окончился, он не пошел домой и не «стряхнул» ее. Он протанцевал еще один крут, потом еще один, потом еще, и еще. Возбуждение начинало окрашивать его щеки, вино зажигало дикие огни в его глазах. Стоя в одиночестве, я старался привлечь его, оттянуть обратно. Но он больше не замечал меня.
― Я не вижу сегодня Мадонны, ― сказал маленький субъект в очках. Он, почему-то, напоминал мне репортера.
― Ее нет, ― сказала одна из девиц. ― Она не работает, потому что больна. Во всяком случае, она не особенно охотно занимается делом. Она как будто не слишком-то легко привыкает к этому. Она странная, бедняжка!
Они беззаботно начали говорить о других вещах, в то время как я стоял, едва переводя дыхание, с остановившимися глазами и тоской в сердце. Винный угар рассеялся, оставив после себя угрюмый измученный человеческий обломок, разочарованный и несчастный до края ― чего? Я содрогнулся. Огни внезапно показались мне тусклыми и мрачными. Зал мишурным, вульгарным, дешевого вкуса. Женщины, за минуту перед тем представлявшиеся мне олицетворением изящества и очарования, превратились в раскрашенных кривляющихся одров, а их соблазнительный смех в гримасу бесстыдного порока.
Я стал проталкиваться к двери и остановился там, дрожа и качаясь, не знаю от вина ли или от слабости. На горланящей и пылающей улице до меня долетали хриплые голоса игроков, пляшущие звуки оркестров, треск костяных шаров, щелканье пробок, грубый животный смех людей, визгливое пустое хихиканье женщин. День и ночь игра длилась без устали, игра, игра в обирание.
Я был на краю водоворота. Воспоминание о Гленджайле, смех серебристо-чешуйчатого моря, здоровые молодые рыбаки с их честными глазами, сельди, сверкающие, как драгоценности в коричневых сетях, женщины с круглыми пышущими здоровьем щеками и материнским взглядом. О, Родина, не можешь ли ты спасти меня от этого с твоим миром и тишиной?
И когда я стоял там, полный скорби, робкая маленькая рука тронула мое плечо.
Глава V
Я смотрел на нее, а она на меня, и мне кажется, ни один из нас не проявил при этом никакого волнения. А между тем оба должны были быть бесконечно взволнованы. В ней произошла перемена, печальная, горькая перемена. Вся прежняя прелесть осталась, та трогательная прелесть, которая заставила рудокопов прозвать ее Мадонной, но, увы, навсегда поблек душистый цветок девичества. Ее бледность была чрезмерна и нежность исчезла с ее лица, оставив на нем только черты страдания. Горе зажгло в ее серых глазах духовный светоч, сияющий бесслезный блеск. О, как безмерно тяжела была для меня эта перемена!
Она смотрела на меня долгим и ровным взглядом, в котором я не мог заметить ни любви, ни ненависти. Ясные серые глаза были чисты и равнодушны, а сжатые, скорбные губы не дрожали. И, глядя на нее, я чувствовал, что прошлое никогда не вернется. Ее губы зашевелились.
― Как вы изменились.
― Да, Берна, я был болен. Но вы, вы тоже изменились.
― Да, ― произнесла она медленно, ― я была мертва.
В ее голосе не слышалось дрожи, никакого трепета. Это был голос человека, отказавшегося от всякой надежды, голос вышедшего из могилы. На этом холодном лице-маске я не мог заметить никакого отблеска прежней радости, радости тех времен, когда цвели дикие розы. Мы оба молчали, два жалких холодных существа, в то время как вокруг нас жужжал и волновался вопящий бедлам искателей наслаждений.
― Пойдемте наверх, мы сможем поговорить там, ― сказала она.
Мы уселись в одной из лож, и глубокая мрачная тень спускалась на нас, окутывая нас холодом. Это молчание между нами казалось таким странным! Мы были похожи на два бледных привидения, встретившихся в туманных безднах по ту сторону могилы.
― Почему вы не пришли?
― Не пришел… я старался прийти.
― Но вы не пришли…
Ее голос звучал ровно, лицо было опущено.
― Я продал бы свою душу, чтобы прийти. Я был болен, опасно болен, близок к смерти и лежал в госпитале. Две недели я был в горячке, бредил вами, старался пробраться к вам, ухудшая этим во сто раз свое состояние. Но что я мог поделать? Ни один человек не был никогда более беспомощен. Я был без сознания, слаб, как дитя, боролся за свою жизнь. Вот почему я не пришел.
Когда я начал говорить, Берна вздрогнула, затем стала слушать с неослабевающим внимание и, когда я кончил, вся она совершенно изменилась. Глаза ее смотрели остановившимся взглядом, голова опустилась, руки впились в кресло; она, казалось, была близка к обмороку. Когда она заговорила, голос ее был похож на вздох.
― А они лгали мне. Говорили, что вы слишком увлечены добычей золота, чтобы думать обо мне, что вы влюблены там в другую женщину, что вы забыли меня. Они лгали мне. Ну, все равно ― теперь уже поздно.
Она засмеялась, и ее некогда мелодичный голос звучал резко и горько. Ее глаза все еще были полны скорби. Она продолжала шептать:
― Слишком поздно. Слишком поздно…
Я сидел, спокойно наблюдая за ней, но в моем сердце бушевала смертельная тоска. Мне хотелось утешать ее, целовать ее лицо, такое бледное, измученное, полное тоски, вызвать слезы на эти безнадежные глаза. В моем сердце разгорались больше прежнего страсть к этой девушке и горячее желание снова вернуть ей радость, заставить ее забыть. Разве все это могло иметь значение? Я все еще любил ее; я скорбел за нее. Мы оба перестрадали, оба прошли через горнило. Из этого, несомненно, родится новая любовь, превосходящая разум. Мы не будем больше возводить стен из лилий, из наших мук мы выстроим себе прочное жилище, которое переживет могилу.
― Берна, ― сказал я, ― еще не поздно.
На лице ее появилось выражение безнадежной горечи.
― Нет, нет, слишком поздно, вы не понимаете. Вы все тот же. Вы безупречны… Но я…
― Вы также безупречны, дорогая. Мы оба были жалко обмануты. Забудьте это, Берна. Мы забудем все. Я люблю вас, о, как сильно. Я никогда не смогу передать вам этого, девочка.
Казалось, каждое мое слово впивалось в нее кинжалом. Прелестное лицо было трагически искажено.
― О, нет, ― ответила она, ― этого никогда не будет. Вы думаете, что это возможно, но это невозможно. Вы не могли бы забыть. Мы оба будем помнить. Вечно, вечно мучить друг друга. Для вас эта мысль будет, как удар ножа, и, чем больше вы меня любите, тем глубже вонзится его лезвие. А я? Разве вы не можете понять, с каким ужасом я буду смотреть на вас, зная всегда, что вы думаете об этом, и какой мукой будет для меня следить за вашими страданиями. Наш дом станет жилищем привидений. Никогда больше не может быть радости между мной и вами. Слишком поздно, слишком поздно.
― Берна, я никогда не оставлю вас. Я говорю вам открыто и ясно. Не знаю, любите ли вы меня еще ― вы ни одним словом не показали этого, ― но я знаю, что люблю вас и буду любить до тех пор, пока длится жизнь. Я никогда не оставлю вас. Послушайте меня, дорогая. Уедемте отсюда, далеко, далеко. Вы забудете, я забуду. Между нами, может быть никогда не будет того, что было, но будет нечто лучшее, более глубокое, чем прежде. Пойдем со мной, о моя любовь. Сжальтесь надо мной, Берна, сжальтесь. Выйдите за меня. Будьте моей женой.
Она только отрицательно качала головой, сидя так, холодная, как камень.
― Тогда, ― сказал я, ― если вы называете себя обесчещенной, я тоже сделаюсь бесчестным. Если вы предпочитаете опуститься в болото, я также опущусь туда. Мы пойдем вниз вместе, вы и я. О, я скорее соглашусь потонуть с вами, дорогая, чем вознестись ангелом. Вы выбрали? Прекрасно. Я выбираю тоже. Мы стоим у бездны, и теперь погрузимся в нее. Вы увидите, как глубоко я окунусь в позор, и когда я буду на сто теней чернее, чем вы надеетесь когда-либо быть, мой ангел, вы нагнетесь и пожалеете меня. О, мне все равно теперь. Я слишком долго разыгрывал дурака. Пора начать разыгрывать дьявола, а вы будете стоять рядом и следить за мной. Иногда приятно заставлять страдать тех, кого любишь, не правда ли? Я готов сломать себе руку, чтобы заставить вас погоревать обо мне. Теперь вы увидите меня в водовороте. Мы пойдем ко дну вместе, дорогая. Рука об руку мы очутимся в аду, мы спустимся!
Она испуганно смотрела на меня. В меня как будто вселилось безумие.
― Берна, вы в кафешантане. Вы во власти первого гнусного проходимца, у которого есть унция золота в грязном кармане. Он может купить вас, как покупают белое мясо повсюду на Земле. Вы должны плясать с ним, петь с ним, уходить с ним. Берна, я могу купить вас. Потанцуйте со мной, пейте со мной. Мы будем жить, жить. Да здравствуют танцы. Да здравствует радость жизни. Если вы не хотите быть моей любовью, будьте хоть миражем любви… Пойдем, Берна, пойдем.
Я остановился. Положив руки на обложенный подушками край ложи, она плакала. Плюш был исполосован ее слезами.
― Пойдете вы? ― спросил я снова.
Она не двигалась.
― Тогда, ― сказал я, ― там есть другие, и у меня есть деньги, много денег. Я могу купить их. Я спускаюсь в водоворот. Смотрите и следите за мной.
Я оставил ее плачущей.
Глава VI
Со стыдом пишу я следующие страницы… О, если бы я мог вычеркнуть их из своей жизни. До сегодняшнего дня, должно быть, многие помнят мою метеорическую карьеру по небесной тверди разгульной жизни. Это длилось недолго: меньше, чем в неделю я умудрился промотать маленькое состояние.
Это были дни, когда Даусон мог справедливо быть прозван распутным. Это было царство кафешантанных девиц, и оттенок хулиганства окрашивал город.
Даусон был в то время Меккой игрока и блудницы. По крайней мере, две трети его населения начинали день, когда другие уже кончали его. Город просыпался вполне лишь к наступлению ночи, когда разгорались лихорадочная погоня за развлечениями. Все было заражено духом разврата. На лицах многих деловых людей стояло клеймо пути, по которому они шли. Дела в судах откладывались из-за кутежей адвокатов. Банковские счетчики входили в клетки, не сомкнув за ночь глаз после оргий. Правительственные чиновники открыто жили с распутными женщинами. Верхи и низы были одинаково заражены порчей.
В казино около рулетки собираются люди. Они стоят в три ряда. Женщина выбегает из танцевальной залы и прокладывает себе дорогу через толпу. Она очень молода, очень красива и полна жизни. Мужчина толкает ее, голубые глаза мечут на него взгляд, и с милых, как у ребенка, уст срывается замечание:
― Черт вас дери! Будьте осторожней.
Люди очищают ей дорогу, и она бросает мешочек с песком на красное. «Сто долларов отсюда», ― говорит она. Крупье кивает головой; колесо вертится; она проигрывает. «Дайте мне еще на двести фишек», ― кричит она. Крупье протягивает их ей и опускает ее мешочек в ящик. Она играет еще, и еще, ставя фишки вокруг всего табло. Иногда она проигрывает, иногда выигрывает. Наконец перед ней оказывается целая груда фишек. Она радостно смеется.
― Теперь, я думаю, можно спрятать их, ― говорит она, ― этого достаточно на сегодняшний вечер.
Крупье протягивает ей обратно мешочек, пишет чек на ее выигрыш, и она уходит, счастливая, как дитя.
― Кто это? ― спрашиваю я.
― Это? Цветок. Красотка, не правда ли? Хотите познакомиться? Пойдемте в танцевальную залу.
Я снова встречаю юношу. Его капитал близок к истощению. Он занимает несколько сот долларов у меня.
― Еще одна ночь, ― говорит он с горькой усмешкой, ― и свинья снова отправится валяться в грязи. Они поймали вас тоже? О, господи! Это великая игра. Ха, ха!
Он удаляется нетвердой походкой. Потом из сверкающего тумана появляется Банка Варенья. Он смотрит на меня с тревогой.
― Бросьте это, старина, ― говорит он, ― пойдемте в мою хижину отдохнуть.
― Прекрасно, ― отвечаю я. ― Еще только один стакан.
Еще один влечет за собой еще один. Бедный старый Банка Варенья! Это слепой, который ведет слепого.
Мошер преследует меня своей блестящей лысой головой и крысиными глазками. Он живет с маленькой девяносто пяти фунтовой женщиной, той, у которой копна волос.
О, я спустился в гадес жизни. Я пью и пью. Мне чудится, что я пью беспрестанно. Я редко ем. Я один из полдюжины «отчаянных». Весь лагерь говорит о нас. Мне кажется, что я веду галопом всю братию к гибели. Мне хотелось бы знать, что думает об этом Берна. Было ли когда-нибудь более щепетильное создание. Откуда в ней эта непреклонная гордость? Дитя горя! Она напоминала мне нежную китайскую вазу среди грубой мазни трактира.
Блудный Сын спешит в город, чтобы вразумить меня.
― Ты с ума сошел? ― кричит он. ― Мне безразлично, если ты строишь из себя осла, но сорить деньгами так, как это делаешь ты, просто отвратительно. Меня тошнит от этого. Возвращайся немедленно домой.
― Не хочу, ― говорю я. ― Пусть я сумасшедший. Разве это не мои деньги? Я никогда не бесился до сих пор и я хочу наверстать потерянное, вот и все. Когда деньги выйдут, я брошу. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Не приходи, пожалуйста, отравлять мне ее своими наставлениями. Сколько веселого я прозевал, оставаясь добродетельным. Пойдем вкусить последнее слово человеческой мудрости ― выпьем.
Он уходит, качая головой.
За него бояться нечего! Он, со своей солнечной улыбкой, заставит неудачу заплатить. Это катящийся камень, который, не покрываясь мхом, умудряется прильнуть к зелени на каждом повороте.
Я в ложе Гранд-Паласа. Заведение битком набито буянящими людьми и распутными женщинами. Я, в зените своего позора, покупаю вино направо и налево. Как ястребы на пир, они стремятся в мою ложу. Как мухи, слетающиеся на падаль, они жужжат вокруг меня. Вот что я думаю о самом себе ― падаль.
Как я ненавижу себя! Но я вспоминаю о Берне и мысль эта подстрекает меня к новым безобразиям. Я буду продолжать, пока кровь и тело не смогут более выдержать этого, пока я не свалюсь на своем пути. Я знаю только, что должен как-то заставить ее сжалиться надо мной, должен разбудить в ней ангела-хранителя, живущего в каждой женщине. Только таким путем я могу сокрушить барьер ее гордости и оживить любовь, скрытую в ее сердце.
В ложе полдюжины девиц, собрание красоток, и я покупаю ящик вина для каждой, больше чем на тысячу долларов. Взвизгивая, они бросают бутылки вниз своим друзьям в публике. Это картина безудержного разгула. Публика гогочет, девицы визжат, оркестр старается покрыть гул. Все безумнее и безумнее делается веселье. Неистовая лихорадка его обжигает мои жилы. Я обезумел от желания растратить, расшвырять деньги, превзойти всех остальных отчаянной, безудержной расточительностью. Я швыряю золотые двадцатидолларовые монеты певичкам. Я откупориваю вино, бутылку за бутылкой. Девицы поливают им публику, пол ложи залит им; я обмакиваю перо, чтобы подписать счет и, опустив глаза, вижу, что оно плавает в шампанском.
Затем настает последнее. Танцы начались. Мужчины в меховых шапках, непромокаемых пальто и моклоках, вальсируют с женщинами в парижских туалетах, сверкающих бриллиантами. Зал кишит людьми. При мне большой мешок в сто унций песка. Внезапно, с сумасшедшим криком, я рассыпаю его содержимое по залу. Ливень золотого дождя падает на женщин и мужчин. Поглядите, как они ползают за ним, животные, вампиры. Как они дерутся, толкаются и барахтаются, чтобы получить его. Как они визжат, вопят, бранятся. Это напоминает арену диких зверей. Это Пандемониум. О, как я презираю их! Горло мое сжимается, но ― до конца! Я должен доиграть свою роль.
Повсюду среди этого безумного карнавала порока порхает силуэт Цветка, Цветка ― с ее детским личиком ослепительной красоты, ее глазами цвета голубой эмали, ее круглыми атласными щечками. Какая разница с бледным исхудалым лицом Берны.
Во всем этом неистовом безумии, я все же, благодарение Богу, сохранил свою честь. Они обольщали меня, они старались заманить меня в свои комнаты; но последнюю минуту, когда нужно было войти, я отступал. Казалось, будто невидимая рука протягивалась поперек двери и загораживала мне вход.
Цветок также усиленно старалась соблазнить меня, и сопротивление только больше разжигало ее. Полудьявол, полуангел была Цветок; девочка по возрасту, но прискорбно умудренная; нежная сирена, когда ее ублажали, дьяволица в раздражении. Она избрала меня своей добычей. Она сражалась за меня. Она отогнала всех остальных девиц. Мы болтали вместе, пили вместе, вместе играли у столиков, но ничего больше. Она обольщала меня чарующими нежностями и соблазняла обворожительными ласками; но, когда я твердо противился ей, она приходила в ярость и осыпала меня гнустостями проститутки. Она была прекрасна, но рождена для зла. Никакие силы неба и земли не могли бы спасти ее. Но в своей скверне она была чистосердечна, естественна и невозмутима, как дитя.
Это происходило в одном из коридоров кафешантана в ранний утренний час. Место было безлюдно, покрыто следами ночных кутежей. Воздух был нечист и из игорных зал снизу поднимались вверх крики игроков. Мы были там, наверху, Цветок и я. Я находился в странном состоянии духа, граничащем с бредом. Я чувствовал, что не могу больше выносить этой скачки. Что-то должно случиться, и скоро. Она обвила меня руками. Я чувствовал, как ее щека прижималась к моей. Я видел, как поднималась и опускалась ее грудь.
― Пойдем, ― сказала она.
Она повела меня к своей комнате. Я был не в силах сопротивляться дольше. Моя нога была уже на пороге и я сам почти внутри, когда…
― Телеграмма, сэр.
Это был нарочный. Я смущенно взял тонкий конверт и вскрыл его. С ужасом глаза мои остановились на написанных строчках. Я не мог оторваться от них, как во сне. Теперь я был совершенно трезв.
― Вы не идете? ― сказала Цветок, обнимая меня.
― Нет, ― ответил я хрипло, ― оставьте меня, пожалуйста, оставьте меня. О, боже!
Ее лицо изменилось, стало мстительным ликом фурии.
― Будьте вы прокляты, ― прошептала она, скрежеща зубами. ― О, я знаю, вы любите ту, другую, эту белолицую куклу. Посмотрите на меня. Разве я не лучше ее? А вы презираете меня! О, я ненавижу вас! О, я отомщу и вам и ей. Проклятый, проклятый!
Она схватила пустую бутылку от вина, раскачав ее за горлышко, она ударила меня прямо в лоб. Я почувствовал ошеломляющий удар, горячую струю крови. Потом я упал, и все огни, казалось, сразу потухли.
Я лежал там, как груда, и кровь, лившаяся из моей раны, пропитывала маленький клочок бумаги. На нем было написано:
«Мама скончалась сегодня. Гарри».
Глава VII
― Где я?
― Здесь, со мной.
Голос был тих, сладостен и нежен.
Я лежал в постели; моя голова была сильно забинтована и марля давила на веки. Я с трудом мог смотреть и был слишком слаб, чтобы подняться, но мне казалось, что я нахожусь в полутьме. Лампа, горевшая на маленьком столике возле меня, была низко закручена. Кто-то сидел около моей постели, и мягкая ласковая рука держала мою.
― Кто здесь? ― спросил я слабо.
― Это моя хижина, успокойтесь, дорогой.
― Это вы, Берна?
― Да, пожалуйста не разговаривайте.
Я затрепетал от внезапной прелести счастья. Поток солнечного света залил меня. Значит, все миновало: тревоги, буря, кораблекрушение? Я плыл по мирному океану благополучия. Я закрыл глаза. О, я был счастлив, счастлив.
В ее хижине, с ней ― и она ухаживает за мной ― что случилось? Какой новый поворот событий вызвал эти чудесные перемены? Пока я лежал тут в тишине, стараясь вспомнить это что-то, что было прежде, мой бедный больной мозг лишь ощупью разбирался среди мрака зловещих теней.
― Берна, ― сказал я, ― я видел скверный сон.
― Да, дорогой, вы были больны, очень больны. У вас был приступ лихорадки, воспаление мозга. Но не нужно думать, отдыхайте спокойно.
Я лежал еще мгновение, пронизываемый необычайной новой радостью, утопая в невыразимом блаженстве ее присутствия, чувствуя себя лучше и крепче с каждым дыханием. Постыдные воспоминания начали оживать толпой, заставляя меня морщиться, корчиться и содрогаться. Но все же мысль, что она со мной, была как святое благословение. Несомненно, все было хорошо, раз кончилось так. Однако тут было что-то другое, какое-то воспоминание мрачнее остальных, какая-то тень теней, смущавшая меня. В то время как я боролся с возрастающим ужасом и неизвестностью, все вдруг прояснилось: телеграмма, мой обморок! Сильное горе охватило меня и в тоске я обратился к девушке:
― Берна, скажите мне, правда это? Моя мать умерла?
― Да, правда, дорогой, вы должны постараться перенести это мужественно.
Я всегда буду помнить те дни, когда медленно начал поправляться. Кровать, на которой я лежал, стояла в гостиной домика, и из окна я мог видеть весь город. Выпал снег, дни стояли сверкающие, как бриллианты, и дым круто поднимался в прозрачном воздухе. Маленькая комната была оклеена обоями, разрисованными букетами шиповника, напомнившими мне пороги Белого Коня. На стенах висели маленькие картинки в рамках; пол был затянут темно-коричневым и маленькая печка распространяла приятное тепло. Через дверь, завешанную занавеской, я мог видеть, как Берна хозяйничала в маленькой кухне.
Иногда она читала мне те немногие книги, которые я возил за собой во всех своих странствиях: страницу, другую моего излюбленного Стивенсона, поэму моего великодушного Генри, блестящую страницу моего Торо. Как эти чтения напоминали времена, когда, устав бродить по нашим прудам, я усаживался на берегу маленького кипучего источника и зачитывался до тех пор, пока не спускались серые тени. Я был так счастлив тогда и не сознавал этого.
Существовало ли когда-нибудь более странное положение? Она спала в маленькой кухне и нас разделяла только занавеска. Малейшего усилия было бы достаточно, чтобы отдернуть ее. Я с каждым днем становился все здоровее и крепче. Но за все сокровища мира не согласился бы я переступить за эту маленькую занавеску. Она была в такой же безопасности за ней, как если бы ее охраняли мечи. И она знала это. Однажды в тоске я позвал ее ночью, и она пришла ко мне. Она подошла с материнской нежностью, с восхитительной лаской, с великой любовью, сиявшей в глазах. Она склонилась надо мной, она целовала меня. Когда она нагнулась, я обнял ее; так мы оставались в темноте. Ее поцелуи горели на моих губах, ее волосы касались моих бровей, великая страсть пожирала нас. О, это было тяжело, но я выпустил ее, отодвинул от себя, попросил уйти.
По мере того, как я поправлялся и выздоравливал, она утрачивала свою жизнерадостность. С лица ее теперь не сходило тревожное, напряженное выражение. Однажды из кухни до меня долетел звук, похожий на сдерживаемое рыдание; ночью я снова услышал ее плач. Наконец наступило время, когда я оказался достаточно здоровым, чтобы встать и выйти.
Я одевался с видом мертвеца, каким я и чувствовал себя. Она сидела в кухне, спокойно поджидая меня.
― Берна, ― позвал я. Она появилась с лицом, освещенным улыбкой.
― Я ухожу.
Улыбка исчезла, и на месте ее появилось знакомое, высокомерное, гордое выражение. Но за ним таился страх.
― Уходите? ― пробормотала она.
― Да, ― сказал я резко, ― ухожу.
Она молчала.
― Вы готовы? ― продолжал я.
― Готова?
― Да, вы пойдете со мной?
― Куда?
Я порывисто заключил ее в свои объятая.
― Ну, дорогая, венчаться, конечно! Идем, Берна, мы отправимся в ближайший приход. Не будем больше терять драгоценного времени.
Обильный поток слез хлынул из ее глаз, но она все еще упорствовала. Она покачала головой.
― Ну, Берна, в чем же дело? Вы не хотите идти?
― Думаю, что нет.
― Господи помилуй! Что случилось, дорогая? Вы не любите меня?
― Нет, люблю. Вот потому-то я и не хочу идти.
― Разве вы не хотите выйти за меня?
― Нет, нет, я не могу. Вы помните, что я говорила раньше. Я не изменилась с тех пор. Я все та же ― обесчещенная девушка. Вы не можете дать мне свое имя.
― Вы чисты, как только что выпавший снег, маленькая.
― Никто не думает этого, кроме вас, и в этом-то вся разница. Все знают другое. Я никогда не смогу выйти за вас, носить ваше имя, привязать вас к себе.
― Хорошо, что же нам делать?
― Продолжать жить так. О, почему мы не можем жить так же, как жили до сих пор? Это было так уютно. Не оставляйте меня, дорогой. Я не хочу связывать вас. Я хочу быть только немного полезной вам, помогать вам, быть всегда с вами. Любите меня все же немножко, а потом, когда я надоем вам, вы сможете уйти. Но теперь не надо.
Я не соглашался, но она настаивала на своем.
― Хорошо, ― сказал я, ― мы поживем так еще немного. Но при одном условии, что со временем вы выйдете за меня замуж.
― Да, хорошо, хорошо, я обещаю. Если не надоем вам, если вы будете несомненно уверены, что никогда не пожалеете об этом, тогда я выйду за вас.
Так случилось, что я остался.
Глава VIII
Какая адская ирония, что в жизни желанные мечты всегда осуществляются тогда, когда у нас пропадает аппетит, чтобы наслаждаться ими. Тот год, который я и Берна прожили по-семейному, был не из счастливых. Так или иначе, мы просто утратили что-то. Нам пришлось слишком много выстрадать, чтобы теперь легко было вернуть равновесие. Мы были больны не телом, а душой. Воспоминание об ужасном испытании преследовало ее. Она была чувствительна, как нежный цветок, и я часто замечал, как дрожали ее губы и в глазах появлялось страдальческое выражение. Тогда я знал, о чем она думала. Я знал и страдал также.
Я старался заставить ее забыть, но не мог добиться этого. И даже в самые счастливые минуты передо мной всегда стояла тень, тень Локасто, всегда был страх, страх его возвращения. Иногда казалось, что мы двое несчастных, что наше счастье пришло слишком поздно, что наши жизни потерпели непоправимое крушение. Локасто… Где он был? Прошло уже около года с тех пор, как он ушел куда-то в пустынную страну, на край «той стороны». Где-то между дикими утесами и долинами он вел отчаянный бой со стихиями. Носились зловещие слухи о двух одиноких золотоискателях, погибших в этой дикой стране, о двух трупах, гнивших там, полупогребенных под обвалом. Во мне проснулась внезапная надежда, что один из них, может быть, мой враг. Ибо я ненавидел его и был бы рад его смерти.
По мере того, как проходили месяцы, догадка о постигшей его судьбе укрепилась почти в уверенность, и я начал дышать свободней. Я заметил также огромную перемену в Берне. Она сделалась веселей, много пела и смеялась. Солнечный свет опять засиял в ее глазах и тени редко застаивались в них.
― Почему вы не пойдете окрутиться, как полагается, ― сказал раз Блудный Сын, ― если вы любите ее?
― Я так и сделаю, ― отвечал я спокойно, ― подождите немного. Потерпите, пока мы наладим дела.
Я поставил себе целью сделать сто тысяч долларов и, судя по ходу вещей, казалось, мог надеяться достигнуть через год-два этой цели.
― Тогда, ― говорил я Берне, ― мы поедем путешествовать вокруг света и сделаем это как следует.
Она была глубоко заинтересована моими описаниями Гленджайля и никогда не уставала расспрашивать о нем. Особенно нравились ей рассказы о Гарри, хотя она и подтрунивала немножко над моими восторженными отзывами.
― О, этот твой необыкновенный брат. Послушав тебя, можно подумать, что это маленький божок; я заявляю, что почти боюсь ого. Как ты думаешь, понравилась бы я ему?
― Он полюбил бы тебя, маленькая детка. Всякий сделал бы это.
― Не говори глупостей, ― пожурила она меня. Потом притянула к себе мою голову и поцеловала.
Я думаю, что у нас был самый красивый домик во всем Даусоне. Большие бревна были гладко выстроганы, концы их тщательно выпилены, щели замазаны известью и все окрашено в темно-малиновый богатый цвет. Крыша была покрыта листовым железом и также выкрашена в малиновый цвет. К ней был приделан глубокий портик. Это был самый прелестный, самый уютный домик в целом мире.
Окна, завешанные хорошенькими кружевными занавесками, глядели сквозь гроздья дикого винограда, но самой большой нашей гордостью был садик. В нем было удивительное разнообразие цветов. Мне помнятся левкои и гвоздики, северные маки, маргаритки, астры, ноготки, вербена, мальвы, анютины глазки и петунии, росшие в роскошном изобилии. Даже самые грубые рудокопы останавливались полюбоваться на них, прогуливаясь по тротуару. Это была радость и гордость Берны. В летние вечера, когда на могучем Юконе пылал и томился в буйном великолепии грандиозный закат, я присаживался на крыльцо и следил, как она работала среди цветов. Звездчатые листья винограда завешивали крыльцо, повсюду висели качающиеся корзинки из серебристой березы, наполненные нежной зеленью смилакса или окутанные аметистовым туманом лобелии. Я как сейчас вижу маленькую гостиную с ее роялем, множеством подушек, полками книг, с ее индийским уголком, изящными обоями, картинами и цветами, цветами повсюду и всегда. Воздух был насыщен их благоуханием, они украшали самые неуютные места, превращая наш дом в уголок сказки. Я помню один вечер. Она подошла ко мне в то время, как я читал. Никогда не видел я ее такой счастливой. Она сияла от радости, как ребенок. Она присела на ручку моего кресла и посмотрела на меня. Потом обвила меня руками.
― О, я как счастлива, ― сказала она со вздохом.
― Правда, любимая? ― спросил я, лаская мягкий шелк ее волос.
― Я хотела бы только, чтобы мы могли жить так вечно. ― И она любовно прижалась ко мне.
Может быть, именно глубина чувства и вызывала во мне иногда страх, и нередко, в экстазе момента, я задерживал дыхание и задумывался над тем, как долго это может длиться. А когда тополя стали золотистыми и над долиной снова повис судорожный вздох отчаяния, мои страхи возросли. Небо все сплошь сверкало зимними звездами. Их блестки мерцали ясно и холодно. И я знал, что где-то под этими звездами спит Локасто. Но был ли то сон живого или мертвого? Вернется ли он?
Глава IX
Два человека пробирались по скованной зимой равнине. В подавляющей обширности ее очертаний они казались маленькими черными муравьями. Один из них, руководитель, отличался крепким сложением и могучей силой, в то время как другой был мал ростом и сухопар, из той породы, которая цепляется за жизнь, как вошь, в то время, когда лучшие люди погибают.
По обеим сторонам замерзшего озера, по которому они шли, тянулись холмы, поросшие суровыми соснами, поднимавшимися с погребальным видом к прорезанным скалами снегам. Над ними застыло бурное фантастическое море гор, вздымавших множество грозных утесов-клешней к пустым небесам. Небо было воскового серого цвета, холодное, как труп. Снег расстилался девственным покровом, на котором не было заметно следа зверя или птицы. Отмеченная смертью страна простиралась в безотрадном одиночестве и безмолвном величии.
Маленький человек прокладывал дорогу, и с каждым шагом погружался в снег почти по колено, однако, всякий раз снова с трудом вытаскивал ногу и нырял вперед. Ремни лыж, зазубренные льдом, жестоко впивались в него. Мускулы ног ныли, не переставая, как бы зажатые в клещи. Он устало подвигался вперед, так что казалось, будто он спотыкается на каждом шагу и с трудом удерживает равновесие.
― Шевелись что ли, проклятый карлик, двигайся! ― рычал большой человек из-за морозной бахромы своей дохи. Маленький человек вздрогнул, как бы оживленный электрическим током. Его дыхание дымилось и почти свистело, вырываясь на ледяной воздух. При каждом мучительном вздохе его грудь вздымалась. Он хлопал себя по груди руками в варежках, чтобы уберечь их от замерзания. Под капюшоном его дохи образовались большие сосульки, свисая до волос бороды, как у моржа, а глаза, густо запорошенные инеем, выглядывали с пугливым страхом загнанного животного.
― Будь ты проклят, будь ты проклят, ― охал он, однако снова вытащил свои свинцовые лыжи и поплелся дальше.
Большой человек свирепо стегал собак и жестоко смеялся, когда они повизгивали под его ударами. Они надрывались в своей упряжи, стремясь вперед, их брюхо почти волочилось по земле, мускулы были натянуты, как китовый ус. Это были крепкие поджарые животные, ребра их напоминали бочарные дуги, а берцовые кости были остры, как вехи. Их пушистые шкуры побелели от мороза, хитрые маленькие глазки были прикрыты льдом, а ноги так сильно стерты, что оставляли кровавые следы при каждом шаге.
― Пошевеливайтесь, проклятые, не то я расколю вас на двое, ― бушевал большой человек, и тяжелый кнут снова опустился на воющую упряжку. Они тащили изо всех сил, опустив головы, напрягая спины. Дыхание их вырывалось прерывисто, красные языки пылали, белые зубы сверкали. Они боролись, боролись за жизнь, боролись, чтобы умилостивить своего жестокого господина в этом мире, где царили лишь жестокость и насилие.
Ибо здесь, в зимнем хаосе, милосердие не было известно, даже по имени. Это была борьба за жизнь, отчаянная и бесконечная. Пустыня ненавидела вес живое, ненавидела все эти атомы горячности и стремительности среди своего торжествующего безмолвия. Пустыня стремилась сокрушить дерзких пигмеев, оспаривавших величие ее ненарушимого покоя.
Одна из собак отставала в своей упряжи. Она выла, когда же жестокий погонщик стегнул ее, она завиляла и упала. Большой человек с загоревшимися от ярости глазами издал проклятие. Размахнувшись несколько раз тяжелым хлыстом, он опустил его на извивающееся животное. Затем, обмотав ремень вокруг руки, он стал колотить его запавшие ребра кнутовищем. Животное визжало некоторое время, потом замолкло. Оно только слегка стонало. Блестя клыками, навострив уши, смотрели остальные собаки на своего павшего товарища. Они горели желанием прыгнуть на него, отделить его худые члены, разорвать его трепещущее мясо. Но тут был большой человек с его смертоносным кнутом и они дрожали перед ним. Большой человек продолжал пинать упавшую собаку. Маленький человечек приостановил свое мучительное шествие и апатично наблюдал:
― Вы расщепите ей ребра, ― заметил он, наконец, ― и тогда нам никак не удастся добраться к ночи до леса.
Большой человек ничего не добился своими усилиями поднять собаку. В этом пронизывающем холоде, в исступлении ярости и отчаяния, он остановился над ней.
― Кто просит тебя совать нос? ― зарычал он. ― Кому принадлежит эта упряжка, тебе или мне? Я переломаю им ребра, если пожелаю, а тебя привяжу к саням и заставлю тоже выпустить кишки.
Маленький человек не сказал больше ни слова. И, так как собака все еще отказывалась встать, большой человек перепрыгнул через упряжь и вскочил обеими ногами на животное… Послышался крик мучительной агонии и хруст ломающихся костей. Но большой человек поскользнулся и упал. Он растянулся и вся свора накинулась на него. На минуту собаки и хозяин смешались в одну груду. Это был момент, которого ждали эти свирепые полуволки. Он бил их, морил голодом, был для них хуже дьявола, и вот теперь он был повержен и находился в их власти. Они свирепо накинулись на него и их белые клыки впились как клещи в его лицо. Они старались ухватить его за горло, они рвали его доху. О, если бы только им удалось вонзить свои белые зубы в его теплое тело! Но, увы, они были связаны упряжью, а человек боролся, как богатырь. Он поймал передовую за горло и пользовался ею, как щитом, против других. Его правая рука размахивала кнутом, как цепом, нанося неистовые удары. Отброшенные и смущенные собаки начали драться между собой и человек победоносно вскочил на ноги.
Теперь он напоминал исчадие ада и неистовствовал среди рычащей своры, раздавая пинки, колотя и ругаясь, пока не принудил всех до одного к трусливой покорности.
Он все еще не мог отдышаться после борьбы. Лицо его было смертельно бледно, глаза сверкали. Он ринулся к маленькому человечку, который все это время тупо созерцал зрелище.
― Почему ты не помог мне, грязный щенок? ― прошипел он. ― Тебе хотелось посмотреть, как они станут жевать меня. О, я знаю, что тебе хотелось этого! Ты был бы рад, если бы они разорвали меня на куски. Ты не шевельнул бы пальцем, чтобы спасти меня. О, я знаю, знаю. Я достаточно нагляделся на тебя за это путешествие, хватит на всю жизнь! Ты все время подводил меня. Будь проклята твоя грязная душонка! Я ненавижу тебя и постараюсь превратить твою жизнь в ад, пока мы не кончим путь. Ну, сейчас я начну.
Маленький человек был испуган; он, казалось, сделался меньше, в то время как над ним вырастал другой, темный, свирепый, злобный. Маленький человек был в отчаянии. Он скорчился, чтобы защититься, но через мгновение был опрокинут и, когда он растянулся на снегу, большой человек начал хлестать его кнутом. Раз за разом он наносил удары, пока крики его жертвы не превратились в один долгий тягучий вопль агонии. Тогда он остановился, встряхнул его, поставил снова на ноги и приказал прокладывать дальше дорогу. Свет начинал меркнуть и мозг их сверлила лишь одна мысль: достигнуть того темного пояса леса, пока не наступила тьма. Вокруг не слышно было других звуков, кроме визга их лыж, прерывистого дыхания собак, скрипа салазок. Когда они останавливались, тишина окутывала их, точно одеялом. В этом смертельном покое было что-то ужасное. Казалось, будто нечто материальное, нечто протяженное расстилалось над ними, смыкалось вокруг них, душило их, перехватывало горло.
И люди и собаки были утомлены, но душевные переживания маленького человека заглушали в нем ощущения телесных страданий. Черное убийство бушевало в его сердце.
Собаки, напрягая мускулы и хрустя костями, сгибались для сильного толчка, и, при малейшей попытке какой-нибудь из них уклониться, безжалостный кнут со свистом опускался. А большой человек, как бы гордясь своей силой, окидывал пустыню вызывающим взором. Он был у себя, в этой стране, мрачной стране волков, такой жестокой, заскорузлой. Разве сам он не был жесток? Конечно, страна трепетала перед ним. Ее суровость не могла подавить его, а ужасы ― заставить упасть духом. Подгоняя вперед своих собак с окровавленными ногами, он торжествующе ликовал. Из всех мужей Крайнего Севера разве не он был королем?
Наконец, они достигли опушки леса и после нескольких грубых окриков маленький человечек стал устраивать привал. Вся его мрачность исчезла. Собирая хворост и набивая им юконскую печурку, он мурлыкал себе под нос веселую мелодию. Он поставил вскипятить воду и вскоре в маленькой палатке распространился аромат чая. Затем маленький человек достал кислого хлеба (который он поджарил на свином сале) и немного сушеного оленьего мяса. Это был пир для путников. Они ели с жадностью, но не разговаривали. Тем не менее маленький человечек был необъяснимо весел. Время от времени большой человек подозрительно поглядывал на него. Снаружи была стальная ночь с ледяной луной. Холод свирепо накидывался на каждого. Выйти из палатки было все равно, что окунуться в ледяную воду; но за этими парусиновыми стенами люди сидели в тепле и уюте. Печка выкрякивала свое веселье, сальный светильник разбрызгивал свет, и, при его лучах, маленький человечек чинил свои обледеневшие мокасины. Он напевал себе под нос ирландскую песенку и, казалось, был погружен в какую-то мысль, пришедшую ему в голову.
― Кончай эту песню, ― проворчал большой. ― Заткнись, если ты не знаешь ничего другого. Она мне осточертела.
Маленький человек кротко умолк. Снова наступило молчание, прерванное визгом и царапаньем снаружи. Это было пять собак, скуливших о своем ужине, скуливших о замороженной рыбе, которую они так честно заслужили. Их удивляло то, что она не появляется. Получив ее, они улягутся на нее, чтобы отогреть ее теплом своего тела, затем начнут грызть оттаявшие места. Они были очень благоразумны, эти собаки. Но сегодня рыбы не было и они скулили по ней.
― Еда для собак вышла вся?
― Да, ― сказал маленький человек.
― Черт, как бы то ни было, я заставлю замолчать этих животных.
Он подошел к двери и начал дубасить их, пока они не отпрянули в темноту, но они не зарывались в снег и не засыпали. Они продолжали рыскать вокруг палатки, отчаявшись и обезумев от голода.
― У нас осталось провизии только для себя, ― сказал большой человек, ― да и то не слишком много. Я думаю посадить тебя на половинную порцию.
Он расхохотался, как будто это была забавнейшая шутка, затем, завернувшись в шкуру, улегся и заснул.
Маленький человек не спал. Он все еще перебирал мысль, пришедшую ему в голову. Снаружи, в ужасном холоде, воющие псы подбирались все ближе и ближе. Выращенные индейцами и зачатые волками, они были дики и свирепы. И теперь в муках голода они требовали пищу, не получая в ответ ничего, кроме пинков и брани. О, это был мир адской жестокости. Они выли свои жалобы бледной луне.
― Половинная порция? Как бы не так! ― бормотал маленький человек. Он заполз в свой спальный мешок, но не смыкал глаз. Он выжидал.
Перед рассветом он встал. То была злая заря, бледная, зловещая, язвительная. Маленький человек выбрал для своей надобности кнут с тяжелым кнутовищем. Он заботливо ощупал его ручку, затем ударил. Удар был сильный, ― чистая работа, ― ибо маленький человек когда-то занимался этим делом. Удар упал на голову большого человека и тот скорчился. Тогда маленький человек взял ременные плетки и связал ими свою жертву. Теперь большой человек лежал связанный и беспомощный, с кровавой запекшейся раной в черных волосах. Маленький человечек собрал последние остатки припасов. Потом заботливо оглянулся вокруг, как бы боясь оставить что-нибудь после себя, и, связав провизию в узел, взвалил его себе на плечи. Теперь он мог уйти. Ему было известно, что в пятидесяти милях к югу находится жилье. Он был вне опасности. Он повернулся в ту сторону, где лежало бесчувственное тело товарища и начал пинать его ногами, поносить, плевать на него. Наконец бросив ему последний взгляд уничтожающей ненависти, он ушел и предоставил большого человека его судьбе.
Наконец-то, после долгого ожидания, Червяк рассчитался.
Глава X
Собаки! Собаки смыкались вокруг. Они подходили все ближе и ближе, предводительствуемые свирепой сукой с реки Мекензи. Они недоумевали, почему их господин не просыпался. Они не могли понять, почему в маленькой палатке было так тихо, почему из тонкой трубы печурки не поднималось перо дыма. Все было странно спокойно и безжизненно. Никто не приветствовал их бранью; ничей хлыст не впивался в них, ничьи сильные руки не втискивали их в упряжь. Быть может, врожденный инстинкт толкал их вперед, придавая им необычайную дерзость. Быть может, это было отчаяние голода, боли пустого брюха. Все плотнее они смыкались вокруг безмолвной палатки.
Локасто открыл глаза. На расстоянии фута от его лица были клыки псов. При его слабом движении они с рычанием отступили и попятились к выходу. Локасто увидел остальных собак, припавших к земле и пристально смотревших на него. Что все это могло означать? Что приключилось с животными? Где был Червяк? Где были припасы? Почему палатка была открыта и печурка холодна, как камень? С зарождающейся догадкой о предательстве Локасто пробормотал проклятье и попытался встать.
Сначала он подумал, что закоченел от холода, но упавший вниз взгляд объяснил ему состояние. Он был беспомощен. Ему стало тошно до глубины утробы, и он сверкнул глазами на собак. Они подбирались к нему. Они, казалось, внезапно сплотились, сделались свирепыми и угрожающими. Их сверкающие зубы щелкали перед его лицом. Он представил себе, как эти зубы будут вырывать мясо из его тела, глодать ею кости слюнявыми челюстями, и содрогнулся. Он должен попытаться освободить себя настолько, чтобы иметь, по крайней мере, возможность бороться.
Червяк жестоко сделал свое дело, но он вряд ли учел силу этого человека. Охваченный страхом, Локасто старался освободиться. Все больше и больше натягивались ремни; они напрягались, они впивались в его кожу, но не разрывались! Однако, когда он приостановился, ему показалось, что они уже не так тесны; тогда он решил отдохнуть для нового усилия.
Снова сухопарая серая сука стала подбираться к нему. Он вспомнил, как часто морил ее голодом и колотил до тех пор, пока она едва могла держаться на ногах. Теперь она собиралась отплатить ему. Она будет хрустеть его шеей, вырвет дыхательное горло, погрузит свои клыки в его кровоточащее мясо. Он по-старому принялся бранить ее. Одним прыжком она снова отскочила назад и стала с другими. Он сделал еще гигантское усилие и почувствовал, что ремни натягиваются все больше и больше. При передышке ему снова показалось, что они стали свободней.
Собаки, казалось, потеряли всякий страх. Они стояли полукругом в нескольких футах от него и пристально следили за ним. Они чуяли запах крови, шедший от его головы и слюна сбегала с их челюстей. Он снова начал кричать на них, но на этот раз они не двинулись с места. Они, казалось, понимали, что он не может причинить им вреда. Своими злобно поблескивающими глазами они следили за его усилиями. Странные, умные, жуткие животные выжидали свое время, чтобы броситься на него, одолеть его.
Он снова сделал попытку освободиться. Теперь ему показалось, что он может немного двигать рукой. Он должен торопиться, потому что псы с каждой минутой делаются наглее. Новое усилие и сдвиг. Ха! Теперь он был в состоянии выпростать свою правую руку из-под ремней.
Он уже чувствовал на своем лице нечистое дыхание собак и быстро нанес им удар. Они отпрыгнули назад, затем точно по сигналу снова выскочили вперед. Нельзя было терять времени. Они не на шутку начинали нападение. Он быстро вытащил вторую руку; было как раз время, ибо собаки висели уже на нем.
Локасто боролся на коленях, защищая голову руками. Он неистово накинулся на ближайшую собаку и ударил ее прямо в морду; она тотчас же отскочила, как бы задетая пулей.
Но остальные набросились на него. Они повалили его, рыча и завывая в неистовом брожении ярости. Две из них нацелились на его лицо. Лежа на спине, он схватил их обеих за горло. Его руки были истерзаны и окровавлены, но он держал их крепко. Они напрасно старались вырваться из его стальной ухватки. Они пятились, извивались, изгибались в дугу. Своими огромными руками он душил их, душил на смерть, пользуясь ими, как щитом, против трех остальных. Постепенно ему удалось принять сидячее положение. Он отшвырнул одну из собак к выходу палатки. Она умчалась с визгом и воем. Он все еще держал суку с реки Мекензи. Упершись коленом в ее тело, он согнул ее почти в круг и сгибал до тех пор, пока спина ее не переломилась с хрустом.
Тогда он встал и освободился от оставшихся пут. Он был истерзан и окровавлен, но зато торжествовал.
― О, дьявол, ― прорычал он, скрежеща зубами. ― Он хотел, чтобы псы разодрали меня в клочья.
Он оглянулся вокруг.
― Он забрал все, сволочь; оставил меня умирать с голоду. Ха! Одну вещь он все-таки позабыл ― спички. Я смогу по крайней мере согреться. ― Он поднял ящичек со спичками и снова зажег печку.
― Я убью его за это, ― бормотал он. ― День и ночь я буду преследовать его, пойду по его следам, пока не поймаю его, а тогда я замучаю его, обдеру и брошу голым в снег.
Он надел свои лыжи, бросил последний взгляд вокруг, чтобы еще раз убедиться, что ничего съестного не было оставлено, и с заключительным рычанием ярости пустился в преследование.
Перед ним, вспахивая путь по девственному снегу, тянулся след длинных лыж. Локасто рассмотрел его и убедился, что он был остр и зазубрен по краям.
― У него добрых пять часов передо мной. Да и задал же он ходу, судя по дайне следов.
Ему пришла мысль поймать собак и запрячь их. Но, сильно испуганные, они убежали в лес. Чтоб нагнать этого человека, утолить свою жажду мести, он должен рассчитывать только на свои собственные силы, на свою выносливость.
― Ну, Джек Локасто, ― мрачно сказал он себе, ― тебе предстоит борьба, такая борьба, какой тебе никогда еще не приходилось вести. Приступи же к ней прямо.
Итак, нагнув голову и наклонив вперед плечи, он бросился по следам Червяка.
― Ему приходится прокладывать путь, этому гаду, вот на чем я выигрываю. Я могу двигаться вдвое скорей. О, подожди только, маленький дьявол, подожди только.
Он мстительно стиснул зубы и растянул свой шаг еще на дюйм. Он спускался по длинной открытой долине, казавшейся от века безжизненной и проклятой, благодаря своим нетронутым снегам. Черные, похожие на ведьм, ели охраняли склоны, еще более подчеркивая ее пустынность. И над всем царило безмолвие пустыни, тот сгущенный раствор тишины, рядом с которым всякая другая тишина кажется разжиженной и разреженной. Однако, когда он оглядывался вокруг, в этом беспредельном одиночестве, в сердце его не было страха.
― Я могу победить эту проклятую страну, покорить ее во всякое время, ― ликовал он. ― Она не в силах одолеть меня.
Было холодно, так холодно, что казалось почти невозможным представить себе вновь наступление тепла. Обнажить тело значило сейчас же почувствовать острый укол, ― извещение об обмораживании. При быстром беге глоток ледяного воздуха заставлял сжиматься его легкие. Глаза болели и застилались слезами. Ресницы плотно примерзли. В ноздрях образовался лед и из носу пошла кровь.
Локасто ничего не ел, и ледяной воздух возбудил в нем волчий голод. Он мечтал о еде, особенно о свинине, жирной, сальной свинине. Как славно было бы теперь отведать сырой жирной свинины. У него не было ничего съестного. У него не будет ничего, пока он не нагонит Червяка. Вперед, вперед!
Он подошел к месту, где Червяк сделал привал. Там был пепел костра.
― Проклятый! У него все-таки есть спички, ― пробормотал он с горьким сожалением. Он стал рыться в снегу, надеясь найти хоть крошки пищи, но там ничего не было. Он двинулся дальше. Настала ночь, и он должен был сделать привал.
О, как он был голоден. Ночь стояла ослепительно лучезарная, расточительная ночь, раскидывающая повсюду блеск своих звезд. Холод приобрел свойства хрусталя, и деревья странно звенели, взрываясь в тишине. Локасто разложил большой костер. По крайней мере, эту роскошь он мог себе позволить. И в течение восемнадцати часов темноты он корчился около него, боясь уснуть из страха перед холодом.
― Если бы только у меня был котелок, чтобы вскипятить воду, ― пробормотал он. ― Здесь много оленьего мха и я мог бы стушить один из моих моклоков. А я попробую поджарить кусочек.
Он вырезал полоску из индейских сапог, которые были на нем, и стал поджаривать ее над костром. Волосы опалились, а углы скорчились и обуглились. Он положил это в рот. Кожа была приятно горяча, но даже его крепкие зубы отказывались разжевать ее. Тем не менее он разорвал ее на мелкие кусочки и проглотил их.
Наконец, взошла заря, злобная, скупая, похожая на труп, заря, и Локасто снова устремился по тропе. Теперь он уже не чувствовал себя таким бодрым. Голод и потеря крови ослабили его. Шаг его стал незаметно сокращаться, походка утратила упругость. Тем не менее он настойчиво подвигался вперед, как воплощение ненависти и мести. Снова он исследовал след лыж, тянувшийся беспрерывно вперед и заметил как неровны и тверды были его края. Он не двигался с такой быстротой, на какую рассчитывал. Червяк должно быть значительно опередил его.
Однако он все еще не терял надежды. Маленький человечек не мог позволить себе день отдыха или проспать, или растянуть сухожилие, и тут Локасто с дикой радостью рисовал себе ужас Червяка, видящего себя пойманным при пробуждении. О, гадина, змея! Вперед, вперед!
Несомненно, он ослабевал. Один или два раза он споткнулся и в последний раз пролежал несколько минут, прежде чем подняться. Он не хотел отдыхать. Холод был пронзительней, чем когда-либо. Он был безжалостен, он был мучителен, и у Локасто не хватало больше сил выдерживать это. Мороз колол и жалил повсюду, где было не защищенное тело. Локасто низко надвинул капюшон дохи, так, что одни лишь глаза выглядывали из-под него. Так он двигался по полярной пустыне, темная закутанная фигура, дух мщения, свирепый и грозный.
Он остановился на обширном безмолвном плато. Небо напоминало огромную ледяную пещеру. Страна была погружена в истомную апатию страдания, безгласного, безнадежного, ужасающего. Ледяное небо и ледяная земля казалось соединились в ловушку, которая крепко держала его, и над всем этим парил подавляющий, титанический грозный дух пустыни. Он смеялся над ним жестоким грубым смехом жадного торжества. Локасто содрогнулся. Снова настала ночь, и он опять разложил гигантский костер.
Снова он проглотил немного поджаренной кожи. Над головой его мстительно сверкали звезды. Среди них были зеленые, красные, голубые, у них были колючие, похожие на морские звезды, лучи, на которых они плясали. Ночью ему приходилось употреблять невероятное усилие, чтобы не заснуть. Несколько раз он склонялся вперед и чуть не падал в огонь. Когда он садился поближе к пламени, его борода опалялась, лицо обугливалось, но спина казалась погруженной в лед. Часто он поворачивался и грел ее у огня, но недолго. Ему было жутко сталкиваться лицом к лицу с ужасом безмолвия и мрака, созерцать тени, в которых подстерегала смерть. Насколько отрадным казалось потрескивающее веселье елового пламени.
На рассвете небо сделалось свинцовым и холод менее жестоким. Впереди бесконечно тянулся унылый след лыж. Локасто был в недоумении.
― Куда, однако, черт возьми, направляется этот маленький дьявол, ― говорил он, хмуря брови. ― Я думал, что он идет прямо в Даусон, но он или переменил намерение, или пошел неверной дорогой. Клянусь небом, так и есть! Маленькая гадина сбилась с пути.
Локасто обладал безошибочным индейским чутьем местности.
― Кажется, я не могу больше позволить себе следовать за ним, ― рассуждал он. ― Я и так уже слишком далеко зашел и совершенно выдохся. Мне следует пока оставить его. Дело обстоит так: спасайся сам Джек Локасто, пока еще есть время. Я ― в Даусон.
Он повернул почти под прямым углом к тропе, по которой следовал, и направился через ряд низких холмов. Идти было тяжело, и, проходя по насту одну томительную милю за другой, он чувствовал, как делается все слабее и слабее.
― Подтянись, старина, ― горячо заклинал он себя. ― Тебе нужно бороться, бороться.
В воздухе стояла страшная тишина, не обычная тишина пустыни, а болезненная; как бы отчего-то нависшего, тишина какой-то пустоты, задержанного дыхания. Это было необычайно, полно ужаса. Он все больше и больше чувствовал себя пойманным зверем, пойманным в огромную клетку. Небо к северу было зловеще мрачно. С каждой минутой горизонт делался черней, грозней, и Локасто смотрел на него с дрожью в сердце.
― Вьюга, клянусь чертом, ― задохнулся он. Гуще и гуще становился мрак. Уже слышался рев, как бы от сильного ветра. Королева Вьюга совершала свое шествие.
― Кажется, пропал, ― прошипел Локасто сквозь стиснутые зубы. ― Но я буду бороться до конца и умру доблестно.
Глава XI
Теперь все накинулось на него с неистовством и ревом. Он был в гуще грязно-серой тьмы, тяжелой, ошеломляющей тьмы, полной крутящихся воздушных быстрин и могучих снежных шквалов. Он не мог видеть дальше нескольких футов перед собой. Жалящие хлопья ослепляли его, угольно-черная ночь поглощала его; в этом жужжащем вихре стихий он был беспомощен, как дитя.
― Думается, что ты на последнем пути, Джек Локасто, ― пробормотал он угрюмо. Тем не менее он нагнул голову и отчаянно ринулся в самое сердце бури. Он был очень слаб от недостатка пищи, но отчаяние придало ему новые силы, и он нырнул в вихрь и шквал с яростью раздраженного быка. Наступила мрачная ночь, как колодезь. Он был в безмерности темноты, которая тесно льнула к нему, сжимала его в своих объятиях, обволакивала как покрывало. А в черной пустоте ветры неистовствовали с безумной яростью, вздымая в воздух целые горы снега, перебрасывая их через равнины и долины. Леса пронзительно кричали от ужаса, создания пустыни трепетали в своих берлогах, но одинокий человек шагал вперед и вперед. Как будто чудом вырастали перед ним груды снега и, пробиваясь через них, он утопал почти до плеч. У ветра было режущее лезвие, которое пронизывало одежду и жестоко терзало его. Он понимал, что ему остается только беспрерывно двигаться, спотыкаться, шататься. Это была борьба за жизнь.
Он забыл свой голод. Необузданные мечты о еде покинули его. Он забыл свою жажду мщения, забыл обо всем, кроме ужасной опасности.
― Двигайся, двигайся же, ― понукал он себя хрипло. ― Ты замерзнешь, если остановишься на минуту. Не сдавайся, не сдавайся.
Но как тяжко было это беспрерывное движение. Все мускулы его тела казалось молили об отдыхе, но дух снова принуждал его к работе. Это была безумная скачка вперед, все время вперед. Он не сомневался, что обречен, но инстинкт заставлял его бороться, пока оставался хоть атом силы.
Он погрузился до подмышек в сугроб, но пробился сквозь него и снова вышел, шатаясь. В неистовом шутовстве режущего ветра он едва мог держаться прямо. Его доха затвердела от холода, как доска. Он чувствовал, как руки его немеют в рукавицах. От пальцев ледяной холод поднимался все выше и выше. Он уже давно потерял всякую чувствительность в ногах. Книзу от колен они были как деревянные сапоги. Ему казалось, что они отморожены. Он поднял их и стал смотреть, как они снова погрузились и исчезли в липнущем снегу. Он принялся хлопать по груди онемевшими руками. Это было бесполезно ― он не мог вызвать в теле чувствительности. Желание лечь в снег овладевало им.
Жизнь была так прекрасна! Перед ним носились видения городов, банкетов, театров, блестящих празднеств, сладостных волнений, женщин, которых он любил, покорил и отбросил в сторону. Никогда больше он не увидит света. Он умрет здесь, и его найдут окоченевшим и хрупким, таким замерзшим, что придется оттаять его, прежде чем похоронить. Он видел себя окоченевшим в причудливой позе.
В самой глубине его сердца, того сердца, которое так горячо пылало жаждой жизни, будут куски льда. Да, жизнь была прекрасна! Огромная жалость к себе охватила его. Но он сделал, что мог; больше он не в силах бороться.
Но он все же боролся еще один, два часа, три часа. Куда он шел? Может быть, кружился на одном месте. Теперь он действовал как автомат. Он не думал больше, он только продолжал идти. Его ноги двигались вверх и вниз. Он поднимался из снежных колодцев, плелся несколько шагов, падал, полз на четвереньках в темноте, потом, под завывание бешеных ветров, снова поднимался на ноги. Ночь была бездонна. Все крепче и крепче охватывала она его. Ветер накидывался на него со всех сторон, дурачась, как веселое чудовище, повергая его вниз. Снег кружился вокруг него в тесном вихре. Локасто пытался вырваться из его лап, но был не в силах. О, он был измучен, измучен.
Он должен сдаться. Это было слишком тяжело. Он был так силен и способен на столько зла или добра. Увы, все ушло на зло. О, если бы ему была предоставлена возможность начать сызнова! Он заставил бы свою жизнь рассказать другую повесть. Однако он не намерен жаловаться или трусить. Он умрет доблестно.
Его ноги отморожены, руки также. Теперь он ляжет здесь и отдохнет. Скоро все кончится. Говорят, что это приятная смерть. Он бросил еще один взгляд, сквозь крутившийся ужас темноты, последний взгляд ужасу Величайшей Тьмы, прежде чем закрыть глаза.
Ха! Что это такое? Ему почудилось, что он видит тусклый свет, как раз перед собой. Это было невозможно. Это было одно из тех обманчивых видений, которые посещают умирающего человека, иллюзия, насмешка. Он закрыл глаза, потом открыл их. Свет все же держался. Несомненно, он должен быть реален. Он был непоколебим. Когда Локасто нагнулся вперед, он как будто усилился. На руках и ногах он пополз к нему. Свет делался все ярче и ярче. Он был теперь на расстоянии нескольких футов. О, боже, неужели это было возможно? Буря стихла на момент, и с последним остатком сил Локасто бросился вперед, по направлению к лампе, горевшей в окне, и упал у закрытой двери маленькой хижины.
* * *
Червяк жестоко страдал от сильного холода. Он проклинал его, свойственным ему плодовитым и исчерпывающим образом; он проклинал свинцовую тяжесть лыж и ремни, врезывавшиеся в его нога; проклинал узел, который нес на спине и который, казалось, делался все тяжелее; проклинал страну. Затем, после всеобъемлющего разгула богохульства, он решил, что пора поесть.
Он собрал несколько сухих веток и разложил костер на снегу. Червяк торопился, потому что мороз начинал пробирать его до костей, и он был испуган. Все было готово. Оставалось только зажечь спичку.
Куда к черту запропастились спички? Без сомнения, он не мог оставить их там, на стоянке. С лихорадочной торопливостью он перерыл свой узел. Нет, там их не было. Неужели он обронил их по дороге? Ему пришла дикая мысль вернуться назад, но он вспомнил о Локасто, оставшемся лежать в палатке. Он никогда не решился бы взглянуть на это. Но он должен добыть огонь, иначе он замерзнет на смерть сейчас же. Его пальцы уже коченели.
Уф, быть может, у него найдется немного спичек в карманах. Нет… да, у него были: одна, две, три, четыре, пять. Пять тонких фосфорных спичек, выпавших из пачки и застрявших в углу его пиджачного кармана. Он нетерпеливо чиркнул одну. Ветки загорелись, пламя вспыхнуло. О, это было чудесно! У него был костер, огонь.
Он сварил чаю и поел немного хлеба и мяса. После этого он почувствовал, что силы и мужество снова вернулись к нему. У него оставались еще четыре спички. Четыре спички значили еще четыре костра, а это обеспечивало еще четыре дня путешествия. За это время он достигнет Даусоновского округа.
В эту ночь он разложил большое пламя, свалив несколько деревьев. Лежа в своем спальном мешке, он хорошо отдохнул и на ранней заре снова был на ногах.
Был ли когда-нибудь такой ужасный, вымораживающий душу, холод? Он проклинал его с каждым дыханием. В полдень он почувствовал сильный соблазн разложить новый костер, но удержался. Ночью ему не повезло, потому что одна из его драгоценных спичек оказалась всего на всего лучинкой, чуть окрашенной розовым на конце. Несмотря на все его старания, она никуда не годилась, и он был вынужден употребить другую. У него оставалась только одна ― последняя спичка.
Ладно, он должен двигаться с исключительной быстротой. Итак, на следующий день в паническом страхе он сделал большой конец. Он должен быть близко от одного из золотых ручьев. Поднимаясь на гребни хребтов, он всякий раз ожидал увидеть голубой дым огней над хижинами. Но вокруг было все то же пустое безлюдье. Настала ночь и он приготовился к ночлегу. Снова он свалил несколько деревьев и сгреб их в кучу. Он был очень утомлен, голоден, ему было очень холодно. Какое чудесное пламя он разведет сейчас! Как славно взлетят и запрыгают огненные языки. Он собрал сухого мха и хвороста. Никогда холод не казался ему таким жестоким. Становилось темно. Небо над ним мерцало крупными факелами и на снегу блестели странные тревожные огни. Это был волшебный зловещий свет, выжидавший в союзе с темнотой. Он содрогнулся и его пальцы задрожали. Затем все также бережно он вытащил самое драгоценное из сокровищ ― последнюю спичку. Он должен торопиться. Его руки дрожали, замерзали, почти коченели. Он ляжет на снег и быстро чиркнет ее…
― О, боже.
Маленькая тонкая спичка выпала из его онемевших пальцев. Вот она лежит на снегу. Он осторожно поднял ее с безумной надеждой, что она не испортилась. Он чиркнул ею, но она согнулась вдвое. Он снова чиркнул, головка отскочила. Он погиб.
Он упал вперед на лицо. Руки его онемели, были мертвы. Он лежал, опираясь на локти, тупо устремив глаза на незажженный костер. Прошло пять минут. Он не двигался, не вставал. Он казался ошеломленным, отупевшим, пораженным ужасом. Ему чудилось, что он коченеет, деревенеет, а темнота все сгущалась вокруг. Ему пришло в голову, что нужно выпрямиться, чтобы те, кто найдет его, смогли бы опустить тело в гроб. Он не хотел, чтобы ему ломали руки и ноги. Да, он выпрямится. Он попробовал, но не смог и остался так, как был.
Пустыня, казалось, смеялась над ним, жестоким, насмешливым, утонченно-злобным смехом.
В пятнадцать минут холод умертвил его. Когда его нашли, он лежал, как бы отдыхая, опираясь на локти, уставившись полными ужаса глазами на свой незажженный костер.
Глава XII
― Что за дьявольская ночь, ― сказал Полукровка. Мы с ним были в гостях у Джима, в хижине, которую он выстроил на Офире. Джим торопился закончить свои гидравлические сооружения к наступающей весне, и мы изредка навещали его. Старик очень беспокоил меня. Это был уже не тот веселый оптимист Джим, которого я знал в дороге. Он стремился жить один, сделался угрюмым и необщительным. Он интересовался только своей работой, а если и брался чаще обыкновенного за библию, то лишь для того, чтобы зачитываться все с большим увлечением суровыми древними пророками. Было очевидно, что Север странно влияет на него.
― Господи! Ну, и дует же. Как будто ветер имеет зуб против нас и старается вывести нас из строя. Это напоминает мне вьюги там на северо-западе, но только в десять раз хуже.
Полукровка начал рассказывать нам о снежных бурях, которые ему пришлось вынести, тогда, как мы, собравшись вокруг печки, прислушивались к чудовищным завываниям ветра.
― Почему вы не закупориваете основательней свою хижину, Джим? ― спросил я. ― Снег залетает кое-где в нее.
Джим стал подкладывать дрова в печку, пока она не запылала, ярко вызвездивая маленькими искрами, то появлявшимися, то исчезавшими.
― Снег с таким ветром пробьет всякую стену, ― сказал он. ― Это ужасная страна. Говорю вам, что на ней лежит проклятие. В далекие, далекие времена ее населяли безбожные народы. Они жили здесь, грешили и погибли. И за их скверну в прошлом Господь наложил свое проклятие во веки веков.
Я испытующе посмотрел на него. Его глаза были расширены, лицо искривлено в узел отчаяния. Он снова уселся и погрузился в мрачное молчание.
Как ревела буря! Полукровка спокойно курил свою папироску, а я прислушивался, содрогаясь, исполненный благодарностью за то, что нахожусь в безопасности и тепле.
― Хотелось бы мне знать, есть ли сейчас кто-нибудь там ― в этой сумасшедшей ночи?
― Если есть, помоги ему бог, ― сказал Полукровка, ― он продержится не дольше, чем снежный ком в аду.
― Да, представьте себе только, как он бродит там снаружи, ошеломленный, полный отчаяния, представьте себе, как ветер опрокидывает его и засыпает снегом, представьте себе, как он подвигается все дальше и дальше в темноте, пока не замерзнет окончательно. Уф!
Я снова вздрогнул. Затем, в то время как двое других сидели молча, мои мысли обратились в другую сторону. Больше всего я думал о Берне, совершенно одинокой в Даусоне. Я стремился поскорей вернуться к ней. Я вспомнил о Локасто. Куда он забрался в своих неугомонных странствиях? Вспомнил о Гленджайле и о Гарри. Как жилось ему после смерти мамы? Почему он не женился? Раз в неделю я получал от него письмо, полное нежности и уговоров вернуться домой. В своих письмах я никогда не упоминал о Берне. Было еще достаточно времени для этого. Боже! Ужасный порыв ветра налетел на хижину. Он безумно выл и всхлипывал среди бурной ночи. Затем настала тишина, странная глубокая тишина, казавшаяся мертвой после могучего вихря. И в наступившем спокойствии мне почудился чей-то глухой крик.
― Тсс. Что это? ― прошептал Полукровка. Джим также напряженно прислушивался.
― Мне послышался стон.
― Похоже на вопль отверженной души. Может быть, это дух какого-нибудь несчастного дьявола, заблудившийся в ночи. Не хотелось бы открывать зря двери. Это превратит комнату в ледяной дом.
Мы снова стали внимательно прислушиваться, затаив дыхание. Вот опять послышался тихий слабый стон.
― Там кто-то есть снаружи, ― прошептал Полукровка. Охваченные ужасом, мы переглянулись, затем бросились к дверям. Ветер сильным порывом накинулся на нас.
― Пошевеливайтесь, ребята, протяните руки. Это, кажется, человек.
Мы порывисто втащили бесчувственную массу, заставившую странно похолодеть наши сердца, и с тревогой нагнулись над ним.
― Он не умер, ― сказал Полукровка. ― Только сильно обморожен: руки, лицо и ноги. Не кладите его близко к огню.
Он копошился в капюшоне его дохи, потом вдруг обернулся ко мне.
― Ну, будь я проклят, ― это Локасто.
Локасто! Я отпрянул и остановился, тупо глядя перед собой. Локасто! Вся прежняя ненависть воскресла в моем сердце. Много раз я желал его смерти и даже мертвому не мог бы никогда простить ему. Я отскочил от него, как от гада.
― Нет, нет, ― сказал я хрипло, ― я не дотронусь до него. Будь он проклят, проклят. Пусть умирает.
― Будет, ― сурово сказал Джим. ― Вы не оставите человека умирать. Не правда ли? На вас песье клеймо, если вы способны на это. Вы будете немногим лучше убийцы. Мне все равно, какое зло он причинил вам. Ваш долг человека помочь ему. Ведь это человеческая душа, и он так или иначе умрет. Ну же, подойдите, снимите варежки с его рук.
Я механически повиновался ему. Я был поражен. Казалось, будто меня увлекает воля более сильная, чем моя собственная. Я начал стаскивать рукавицы и, засучив рукава, увидел что отвратительная белизна ясно поднималась по руке. Это было ужасно.
Джим и Полукровка разрезали его моклоки и сняли носки. Перед нами были вытянуты две голых ноги, белых как глина почти до колен. Я никогда не видел ничего более страшного. Сняв с него платье, мы уложили его на кровать и силой влили ему в рот немного бренди.
Постепенно тепло снова начинало возвращаться в замерзшее тело. Он застонал и открыл дико глядевшие глаза. Он не узнавал нас и все еще боролся с вьюгой. Он привстал.
― Продолжай идти, продолжай идти, ― задыхался он.
― Ну-ка, пусть пойдет это ведро, ― сказал Полукровка. ― У нас, слава богу, есть немного воды. Нужно оттаять его.
Тут началась для этого человека ночь мучений, какие мало кому выпадали на долю. Мы посадили его на стул и погрузили одну из этих белых, как глина, ног в воду. Он вскрикнул от прикосновения к ней, и я видел, как лед стал скопляться по краям ведра. Я забыл свою ненависть к этому человеку и думал только об этих отмороженных ногах и руках, о том, как снова вернуть им жизнь. Наша борьба началась.
― Кровь начинает приливать обратно, ― сказал Полукровка. ― Я думаю, что эта вода кажется ему теперь кипятком. Нужно будет удержать его в ней. Уф, держите, ребята, изо всех сил.
Он предупредил нас вовремя. В ужасном приступе боли Локасто стремительно отбросил нас. Мы снова схватили его. Теперь мы боролись с ним. Он дрался, как черт. Он проклинал нас, молил оставить его в покое, бредил, кричал. Мы угрюмо продолжали свое дело и хотя нас было трое, едва могли удержать его.
― Можно подумать, что мы убиваем его, ― сказал Полукровка, ― держите его ноги в ведре. Жаль, что у нас нет никакой ванны. Теперь по его жилам течет кипящий свинец. Держите его, ребята, держите!
Это было трудно, но все же мы удерживали его, несмотря на то, что его тоскливые крики оглушали нас в эту ужасную ночь, а наши мускулы вздувались от напряжения. Час за часом мы держали его, погружая то ногу, то руку в ледяную воду и удерживая их там. Как долго он боролся, как силен он был! Но настала минута, когда он перестал сопротивляться. Он был как дитя в наших руках. Наконец все было сделано. Мы завернули оттаявшее тело в куски одеяла и положили его, стонущего, на постель, затем, измученные долгой борьбой, бросились на пол и заснули, как бревна.
На следующее утро он все еще был без сознания. Он жестоко страдал, и Джим или Полукровка должны были постоянно находиться при нем. Я, со своей стороны, отказывался подходить близко и следил с возрастающей ненавистью за его выздоровлением. Я был огорчен, огорчен. Я желал, чтобы он умер.
Наконец, он открыл глаза и слабо осведомился, где он находится. Когда Полукровка ответил ему, он с минуту лежал тихо.
― Я был близок к концу, ― вздохнул он, потом продолжал с торжеством. ― Кажется, пустыня на этот раз не накрыла меня. Я еще постранствую по ней.
Он начал быстро поправляться. Я сидел в нескольких футах от него и следил за тем, как он делается крепче с каждой минутой. Должно быть, лицо мое отражало горькую ненависть, ибо я часто замечал, что он наблюдает за мной сквозь полуопущенные веки. Казалось, он понимал мои чувства, и сатанинская усмешка кривила его губы. Я снова и снова думал о Берне. Страх и отвращение заставляли меня корчиться, и по временам во мне вспыхивала такая ярость, что я готов был убить его.
― Ну, кажется, все заживает, кроме этой руки, ― сказал Полукровка. ― Я думаю, что тут дело зашло слишком далеко. Началась гангрена. Послушайте, Локасто, похоже на то, что вы потеряете ее.
Локасто как раз удостоил меня особенно ироническим взглядом, но при этих словах насмешка угасла и в глазах его отразился ужас.
― Потеряю руку? Не смейте говорить мне этого, убейте меня сразу. Я не хочу быть калекой! Потерять руку! О, это ужасно, ужасно!
Он смотрел на обесцвеченное тело. Нам начинало уже делаться дурно от его зловония, да и сама по себе рука с ее гниющими тканями была невыносимо отвратительна.
― Да, ― сказал Полукровка, ― вот линия гангрены и ее границы. Скоро омертвение распространится на всю руку и тогда вы умрете от заражения крови. Локасто! Лучше дайте мне отнять руку. Я прежде проделывал такие штуки. Я ловкий человек, право. Ну, позвольте мне отнять ее.
― Боже! Вы хладнокровный убийца! Вы сговорились между собой убить меня, вы в заговоре против меня, и этот длиннорожий дурак, вон там, зачинщик всего. Будьте вы прокляты! Ну, что ж, начинайте и делайте, что хотите!
― Вы не слишком-то благодарны, ― сказал Полукровка. ― Прекрасно, оставайтесь лежать и гнить так.
При этих словах Локасто переменил песню. Он был испуган до ужаса. Он понимал, что рука его обречена и лежа глядел на нее, глядел, не отрываясь. Затем он вздохнул и изрыгнул нам в лицо свои богохульства.
― Ну же, ― прорычал он. ― Сделайте мне что-нибудь, эй, вы, дьяволы! Иначе я сам проделаю это.
Нельзя было медлить с операцией. Полукровка приготовил свой большой карманный складной нож. Он спилил лезвие, пока оно не сделалось положим на грубую пилу. Он надрезал кожу у кисти, как раз над линией гангрены и снял ее кверху на дюйм или около того. Тут Локасто обнаружил всю свою необыкновенную выдержку. Он набрал полный рот табаку и упорно жевал, в то время как его зоркие черные глаза следили за каждым движением ножа.
― Торопитесь, отхватите проклятую штуку поскорей, ― рычал он.
Полукровка снял мясо до кости и начал пилить ее зазубренным ножом. Я был не в состоянии смотреть на это. Я слышал скрип, скрип зазубренного лезвия. Я буду помнить этот звук до самой смерти. Как невыразимо долго это тянулось! Никто не мог бы вынести такой пытки. Стон вырвался из уст Локасто. Он повалился навзничь на постель. Его челюсти больше не работали и тонкая струйка коричневой слюны стекала по подбородку. Он был в обмороке. Полукровка быстро кончил свою работу. Рука упала на пол. Он стянул опять лохмотья кожи и сшил их.
― Как вам понравится эта домашняя хирургия? ― засмеялся он.
Он был чрезвычайно горд своим успехом. Взяв ампутированную руку на лопату, он подошел к выходу и отшвырнул ее далеко в темноту.
Глава XIII
― Почему бы вам не поехать обратно? ― спросил я Банку Варенья. Я только что извлек его после одного из периодических погружений в сточную яму разврата. Он был бледен, истощен и полон раскаяния. Он невнимательно устремил на меня долгий взгляд тоскливых пустых глаз, взгляд только что воскрешенного.
― Я думаю, ― сказал он, наконец, ― что сижу здесь по той же причине, которая удерживает многих мужчин ― из гордости. Я знаю, что Юкон должен мне одно из двух: прииски или могилу, ― и ему придется заплатить.
― Мне кажется, судя по вашему образу жизни, что вы скорей получите второе.
― Да, ну что ж, ― это будет прекрасно.
― Послушайте, ― настаивал я, ― не будьте тряпкой. Вы мужчина. Великолепный мужчина. И могли бы добиться всего, сделаться кем угодно. Ради бога, перестаньте скользить в пропасть и займитесь делом.
Его худое красивое лицо внезапно горько ожесточилось.
― Не знаю, иногда мне кажется, что я ни на что не способен. Иногда я задумываюсь над тем, стоит ли все это труда. Иногда я почти склоняюсь к тому, чтобы кончить все разом.
― О, не говорите глупостей.
― Это не глупости. Это правда. Я редко говорю о себе. Не важно, кто я, и чем я был. Я прошел через многое. Испытал гораздо больше других людей. Годами я был чем-то вроде человеческого отщепенца, переносимого семью океанами из гавани в гавань. Я барахтался в их болоте, питался их мерзостью, валялся в их засасывающей варварской тине. Время от времени я опускался до дна, но как бы то ни было, никогда не доходил до дна. Что-то всегда спасало меня в конце.
― Ваш ангел хранитель.
― Может быть. Каким-то образом выходило так, что я никогда не был раздавлен окончательно. Я немного борец, и каждый день был для меня борьбой. О, вы не знаете, не можете представить себе, как я страдаю. Я часто молюсь и моя молитва всегда такая: О, дорогой Боже, не давай мне думать. Бичуй меня своим гневом, взвали на меня бремя, но не давай мне думать. Говорят, что там есть ад после жизни. Ложь: он тут, по эту сторону.
Я был поражен его горячностью. Лицо его исказилось страданием, глаза наполнились тоской угрызения.
― Я верю в вас и не сомневаюсь, что вы выкарабкаетесь. Позвольте мне одолжить вам немного денег.
― Благодарю вас тысячу раз, но не могу принять их. Тут опять моя гордость. Быть может, я глубоко заблуждаюсь. Быть может, я погибшая душа и мой удел быть просто шалопаем. Нет, нет, благодарю. Через денек-другой я буду снова способен к борьбе. Я не стал бы утомлять вас разговором, но я ослабел и мои нервы распустились.
― Сколько у вас денег? ― спросил я.
Он вытащил из кармана жалкую серебряную монету.
― Достаточно, чтобы просуществовать, пока подвернется работа.
― Что это за билеты у вас в руке?
Он пренебрежительно засмеялся.
― А! Ставка на подвижку льда. Забавная штука! Я не помню, как я купил ее. Должно быть был пьян.
― Да, у вас целая куча их, и на всех трех один и тот же срок: семь минут, семь секунд второго, девятого числа. Это сегодня. Теперь двенадцать. Льду придется поторопиться, если вы намерены выиграть. Представьте, если бы вам посчастливилось! Вы заработали бы больше трех тысяч долларов.
― Да, представьте себе, ― повторил он насмешливо, ― один шанс против пяти тысяч; столько же шансов, сколько бобов в стручке.
― Ну, лед может двинуться каждую минуту. Он основательно подтаял.
Со странным очарованием смотрели мы вниз вдоль могучей реки. Вокруг нас было сияние весеннего солнца, над нами возрождение синего неба. Клочья снега все еще поблескивали на холмах и черная земля, как бы стыдясь своей наготы, выгоняла поскорей зелень. На откосах, осеняющих Клондайк, девушки собирали дикий крокус. Повсюду была теплота, яркость, пробуждающая жизнь.
Несомненно, лед на реке не мог держаться еще долго. Он был весь в заплатах, исчерчен трещинами, вздут гребнями, испещрен грязными лужами, разъеден до дна. Решительно, он прогнил, прогнил. Однако он все еще упорно держался. Клондайк дробил его могучими глыбами, черными и тяжелыми как дома. Они быстро спускались по течению, с треском, скрежетом, ревом, и ударялись в броню Юкона. И на берегу, следя так же, как мы, толпились тысячи других. На всех устах был вопрос:
― Лед ― когда же он тронется?
Ибо для этих отшельников Севера вид освобожденной воды показался бы раем, после восьми месяцев изоляции. Он означал бы лодки, свободу, дружеские лица и еще шаг по направлению к «той стране» их грез.
Приблизительно в центре этой огромной массы льда, опоясывавшей город, стоял столб, и к этому одинокому столбу постоянно обращались тысячи взоров. Он соединялся с городом электрическим проводом, благодаря которому при перемещении столба на известное расстояние, городские часы отмечали точное время. Итак, многие не спускали глаз с этого одинокого столба, думая о заключенных ими пари и стараясь угадать, не попадут ли они в число счастливых. Эти ставки на лед ― своеобразный обычай Даусона. Обыкновенно заключается множество таких пари, крупных и мелких, причем, как женщины, так и мужчины, бьются об заклад почти с детским увлечением и волнением.
Я сидел на скамье на верхней дороге, лицом к городу, и следил за Банкой Варенья, спускавшимся вниз по склонам к своей хижине. Бедный малый! Его лицо было измождено и бледно, а длинная четкая фигура казалась худой и усталой. Мне было жаль его. Что станется с ним? Он был великолепным неудачником. Если бы только ему еще раз повезло. Я почему-то верил в него и горячо надеялся, что ему удастся снова вступить на славный чистый путь.
Как прозрачен был воздух! Казалось, будто смотришь сквозь хрустальное оптическое стекло, так четко вырисовывался каждый лист. Звуки долетали до меня с удивительной ясностью. Наступало лето и с ним вера в новую благодать. Там, внизу, виднелся дом и на его веранде качалась в гамаке белая фигурка Берны. Как дорога была она мне. С какой тревогой я лелеял ее. Но иногда, именно сила моей любви заставляла меня тревожиться, и в экстазе момента я задерживал дыхание, спрашивал себя, как долго может это длиться. И всегда при этом вставало мрачной тенью воспоминание о Локасто. Он отправился «по ту сторону» с сильно надорванным здоровьем, отправился, хрипло проклиная меня и дав обет вернуться. Вернется ли он?
Кто из знающих Север усомнится в его чарах? Где бы вы ни были, он будет неотразимо манить вас. На томном Юге вы услышите его зов и начнете тосковать по хрустальному звону его серебряных дней, подавляющему великолепию его усеянных звездами ночей. В сердце города он будет преследовать вас, пока не разбудит голода по своим огромным чистым пространствам, своим бурным рекам, своим пурпурным тундрам. Его голос проникнет к вам в жилище богача и вы станете томиться по своему одинокому костру на стоянке, по солнечному закату, пышно погружающемуся в золотую смерть, по ночи, когда безмолвие окутывает вас и небеса извергают белое пламя. Да, вы будете беспрестанно слышать его, пока безумие не овладеет вами, пока вы, не покинете этих ползающих по мощеным тротуарам людей, чтобы снова отправиться на поиски сапфиров его сверкающих озер, светлой печали его утесов под мириадами звезд. Тогда, как дитя возвращается домой, так вернетесь домой и вы.
И я знал, что настанет день, когда Локасто также возвратится в страну, где он царил некогда, как завоеватель.
Глядя вниз на город, я поразился его необычайному росту. Какая перемена по сравнению с путаницей палаток и хижин, унизанной лодками рекой, снующими толпами аргонавтов. Где были черные болота, грязь, беспокойство, безумная горячка 98-го года? Я искал их и находил вместо этого красивые дома, разукрашенные сады, благоустроенные улицы.
Но как ни была велика внешняя перемена города, дух его изменился еще больше. Дни владычества кафешантана миновали. Порок действовал исподтишка. Теперь уже нельзя было, не привлекая внимания, беседовать на улице с дамами легкого поведения.
Публичные дома были изгнаны за Клондайк, где в поселке, к которому вел шаткий цепной мост, их красные огни блестели как семафор греха. Кафешантаны существовали и поныне, но живописная непринужденность прежних дней, дней моклоков, исчезла навеки. Напрасно стали бы вы искать теперь жестоких сцен, где разыгрываются необузданные страсти и человеческая природа проявляется в полной наготе. Героизм, жестокость, блестящие достижения, разнузданная вольность… Север, казалось, выбивал наружу все лучшее и худшее в человеке. Он пробуждал бьющую через край энергию, безумную жажду деятельности ― все равно хорошей или дурной.
В городе жизнь начинала принимать более скромную окраску. Стосковавшись по морали ночных туфель, люди выписывали своих жен и детей. Старые идеалы семьи, любви и общественной нравственности торжествовали вновь. С появлением добродетельной женщины кафешантанная девица была обречена. Город постепенно организовывался. Общество разделилось на кружки. Наиболее претенциозные носили название Пинг-Понг, тогда как большинстве облюбовало себе прозвище Грубых Затылков. Злоупотребления в почтовых отделениях были устранены, мошенники уволены из правительственных учреждений. Золотой Лагерь быстро модернизировался.
Когда я размышлял об этом, весь трагизм положения открылся мне. Где теперь эти клондайкские короли, задававшие бани из шампанского? Эти тузы золотого лагеря? Многие ли из тех, кто стоял у рампы в 98-м году, расскажут теперь об этом. Их истории наполнили бы тома. И когда я сидел на тихом склоне, прислушиваясь к сонному жужжанию пчел, внутренний смысл всего этого открылся мне. Великая девственная страна еще раз просеивала и испытывала своих избранников. Ее месть настигала всюду, и пути ее были многообразны. Она обрушивалась на них так же, как обрушивалась на их братьев на тропе. Под видом удачи она подготавливала их конец. Со своих суровых безмолвных снегов она толкала их к собственной гибели. Это снова была страна Сильного. Прежде всего она требовала силы, физической и нравственной силы. Я вспомнил слова старого Джима: «Где один выигрывает девяносто девять погибают». Великая суровая страна отбрасывала, как сорную траву, недостойных, вознаграждая тех, кто мог понять ее.
Полный подобных мыслей, я поднял глаза и посмотрел вдоль реки по направлению к Музхайдским утесам. Алло! Там, как раз ниже города, виднелась большая полынья воды, и, пока я смотрел, она все расширялась и расширялась. Люди кричали, выбегали из домов, спешили к берегу. Я почувствовал дрожь волнения. Вода простиралась уже от одного берега до другого, распространяясь все дальше. Она продвигалась вперед к одиночному столбу. Теперь она была уже почти там. Вдруг столб начал двигаться ― обширное поле льда скользило вперед. Медленно, спокойно оно ползло все дальше и дальше. Вдруг сразу загудели все пароходные гудки, зазвенели колокола и из черной массы людей, толпившихся на берегу, раздалось восторженное ликование.
― Лед проходит! Лед проходит!
Я посмотрел на часы. Мог ли я поверить глазам? Семь секунд семь минут второго! Его ставка выиграла! Его ангел хранитель вмешался ― Банка Варенья получил возможность начать новый путь.
Глава XIV
Воды обезумели от радости. Солнце освободило их из горных снегов. Вдоль холмов и долин они сверкали, стекая с валунов, капая из мшистых расселин, бурля маленькими ручейками. Затем, прыгая и смеясь, в буйном экстазе свободы, они разбивались о плотины.
Это было нечто непонятное для них, какая-то выдумка тирана-человека, чтобы покорить их, усмирить, превратить в своих рабов. Воды бесились. Они угрожающе омрачались. Чем выше они вздымались в широком водоеме, тем сильнее разгоралась их ярость. Они бились о стены своей тюрьмы, они набрасывались и лизали крепкий берег. Все выше и выше вырастали они, усиливаясь с каждым подъемом. Все более жестоко злобились воды на свое заточение. За ними теснились другие, как и они, неистово жаждущие освобождения. Они хлестали и извивались в дикой злобе. Эти стойкие стены не могли больше противостоять их ярости. Что-то должно было случиться. Это «что-то» был человек. Он поднял шлюзные ворота и перед ними наконец открылся выход. Как радостно буйные воды устремились в него. Они прыгали и метались, безумно спеша вырваться. Они пенились, выгибались и ревели у узкого отверстия.
Но что это? Они попали в деревянную коробку, отбрасывавшую волну так же упруго, как лук стрелу. Это была новая выдумка тирана-человека. Тем не менее они толкались и тискались, чтобы попасть туда. С минуту они приостанавливались на краю ее, потом низвергались все глубже и глубже.
Как водопад устремлялись они вниз, постоянно усиливаясь. Хо! Теперь это было движение, это была энергия, крепость, мощь. Низвергаясь по крутому склону, они кричали от неудержимой радости. Свобода, свобода, наконец-то! Довольно медленно капать со снежных сугробов, довольно сверлить извилистые желоба в топкой глине, довольно коснеть во враждебных пластах; они были бодры, стремительны, сильны, грозны. Они ликовали в своей мощи. Они ревели грубую песню свободы и нападали все сильнее и сильнее.
Теперь они гремели, точно скачущее стадо взбесившихся лошадей. Какая сила на Земле могла бы остановить их? «Мы должны быть свободны, мы должны быть свободны!» ― кричали они. Внезапно они увидели перед собой черное отверстие большой трубы, пустую стальную щель. Она напоминала тюрьму… снова какая-нибудь выдумка тирана-человека? Они охотно перепрыгнули бы через нее, но было уже поздно. Другие бесчисленные воды теснились позади их, давя их вперед с непреодолимой силой, и они все стремительнее и стремительнее врывались в стальную щель. Они были пойманы, жестоко пойманы, заключены, стиснуты и вгонялись все дальше могучим, безжалостным давлением. Однако как раз впереди было отверстие. Это был узкий просвет, выход. Они должны протиснуться сквозь него. Они были скованы и раздавлены в этой стальной темнице и тщетно старались прорвать ее. Но это было невозможно, оставалось только отверстие. Они должны пройти через него. Наконец, подгоняемые сзади этой великой силой, измученные, обезумевшие, отчаявшиеся воды прорвались через стальную щель, чтобы служить воле человека.
Человек стоит у своей водяной пушки, жерло которой изрыгает сверкающий ужас. Сначала показалась только тонкая струя света, плотная и крепкая, как стальная стрела. Попытка разбить ее раздробила бы в куски острейший меч. Это был лишь стержень воды, круглый, блестящий, гибкий, но в своей могучей силе ― чудовище разрушения.
Человек направлял эту струю то туда, то сюда по лицу горы. Она летела, как стрела, пущенная из лука, и куда он ни обращал ее, склоны, казалось, колебались и содрогались от потрясения. Песок взлетал грандиозными фонтанами. Лавины глины скатывались сверху, огромные валуны подбрасывались в воздух, как груды пушистой шерсти.
Да, воды обезумели. Они напоминали разъяренного быка, бодающего гору. Гора, казалось, таяла и растворялась перед ними. Ничто не могло противостоять их нападению. В несколько минут они превратили бы самую стойкую твердыню в груду жалких развалин.
Там, где воды прорывались яростно вперед, стоял их победитель. Он был один, но делал работу сотни людей. Разрушая этот глиняный вал, он ликовал в своем могуществе. Маленький поворот рычага ― и огромная масса песчаника крошилась, превращаясь в ничто. Он буравил глубокие дыры в замерзшей глине, он прокладывал себе путь и выметал его начисто как пол. Таким образом, пользуясь несокрушимой силой тарана, он пробивался в сердце горы.
Рев оглушал его. Он внимал треску падающих скал, но был так погружен в свою работу, что не услышал приближения другого человека. Внезапно он поднял глаза и увидел…
Он сильно вздрогнул, затем сразу снова успокоился. Это была встреча, которой он опасался, к которой стремился, против которой боролся и которую желал. Первобытные инстинкты бушевали в нем, но внешне он не подавал вида. Почти свирепо, со странным блеском в глазах, он изменил направление покоренного им гиганта.
Он махнул рукой другому человеку.
― Уходите! ― закричал он.
Мошер отказывался двинуться. Сладкое житье в Даусоне сделало его жирным, почти похожим на кабана. Его свиные глазки блестели, и он снял шляпу, чтобы вытереть несколько бусинок пота с огромного лысого лба. Он поглаживал свою черную, как уголь, бороду пухлой рукой, на которой сверкал большой бриллиант. Его манера держаться казалась олицетворением наглости. Он как будто говорил:
― Я заставлю этого человека поплясать под мою дудку.
Его звучный, резкий голос прорезался через рев гиганта.
― Эй вы! Закрутите ваш кран. Я хочу поговорить с вами, сделать вам деловое предложение.
Джим все еще оставался немым.
Мошер подошел вплотную и заорал ему в ухо. Оба они сохраняли полное спокойствие.
― Послушайте, ваша жена в городе. Она здесь с прошлого года. Вы не знали этого?
Джим покачал головой. Теперь он был особенно заинтересован работой. Перед ним была большая глыба глины, которую он смывал, как бы волшебством.
― Да, она в городе и живет вполне прилично.
Джим свирепым поворотом изменил направление гиганта.
― Я, видите ли, немножко филантроп и чудак, ― продолжал Мошер, ― и ничто не может быть мне больше по сердцу, как вернуть домой заблудшую жену. Мне кажется, что я мог бы убедить вашу маленькую женку возвратиться к вам.
Джим бросил на него быстрый взгляд, но тот продолжал.
― Сказать вам правду, она немного втюрилась в меня. Само собой разумеется, я тут не при чем. Что же мне делать, если девочка просто с ума сходит по мне? Но все-таки я думаю, что сумею препроводить ее к вам, если вы захотите, как следует, оценить мою услугу. Это деловое предложение.
Он усмехался теперь с откровенным цинизмом, Джим не отзывался.
― Что вы скажете на это? Вот славный кусочек земли у вас. Дайте мне половинную долю и я ручаюсь, что верну вам вашу половину. Вот мое предложение.
Снова прекрасный луч великодушия засиял на лице человека. Снова Джим сделал ему знак уйти, но Мошер не двинулся. Он понял этот жест, как отказ, и лицо его приняло угрожающее выражение.
― Хорошо же, если так, ― проговорил он. ― Но берегитесь! Я знаю, что вы все еще любите ее. Так помните, что эта женщина принадлежит мне душой и телом и я постараюсь превратить ее жизнь в ад. Я буду мучить вас через нее. Да, я поймал блошку. Измените-ка лучше свое решение.
Он попятился, как бы собираясь уходить. Тогда, была ли то случайность, никто никогда не узнает, ― но струя повернулась и настигла его.
Она подняла его на воздух, подбросила его как камень из катапульты, с ужасающим треском переметнула его на насыпь в пятидесяти футах оттуда. И тут струя продолжала дробить и колотить его, пока он не утратил всякое подобие человека.
Воды мстили.
Глава XV
― Что-то случилось с Джимом, ― протелефонировал мне Блудный Сын из Форкса, ― он бросил хижину на Офире и ушел по направлению к горам. Несколько старателей только что вернулись и рассказали, что встретили его шедшим по направлению к долине Белой Змеи. Он был как будто не в себе, говорят они, и не хотел разговаривать. Они думают, что он на верной дороге к сумасшествию.
― Он болен со времени происшествия, ― ответил я. ― Нам нужно будет пойти за ним.
― Хорошо, приезжайте сейчас же. Я раздобуду Мак Криммона. Это полезный человек в лесах. Мы сможем тронуться в путь, как только вы явитесь.
Итак, следующий день застал нас троих по дороге к Офиру. Мы шли налегке, взяв с собой очень мало провизии, ибо думали раздобыться дичью в лесу. К вечеру следующего дня мы добрались до хижины.
Джим, должно быть, ушел внезапно. На столе были остатки еды и Библии его не было на месте. Не оставалось ничего иного, как пойти за ним и попытаться нагнать его.
― Миновав главные воды Офира, ― сказал Полукровка, ― мы перевалим через хребет в долину Белой Змеи и там, надеюсь, настигнем его.
Итак, мы оставили дорогу и погрузились в девственную пустыню. О, как тяжело было двигаться. Часто нам приходилось идти просто по руслу ручьев, погружаясь по колено в лужи, преодолевая усыпанные валунами преграды. Чтобы обогнуть большой изгиб реки, пришлось продираться сквозь кустарник. Каждый ярд имел, казалось, свои препятствия. То перед нами был сваленный лес и спутанные заросли кустарника, презиравшие наши сверхъестественные усилия проникнуть в них; то вязкие трясины, из черной глубины которых с трудом поднимались пузыри и точно ноги пауков торчали серые корни деревьев, цепляясь за липкую грязь его берегов; то тинистое дно, густо поросшее тростником, то прокаженные топи, усеянные невидимыми камнями. Обливаясь потом, мы прокладывали себе путь под жгучим солнцем. Колючие ветки цеплялись и задерживали нас. Упавшие деревья, казалось, с наслаждением преграждали нам дорогу. Не останавливаясь, мы трудились без передышки и, тем не менее, к концу дня результаты были довольно жалкие.
Нашим главным бичом были москиты. Днем и ночью они не переставали терзать нас. На нас были вуали и перчатки на руках, и мы могли презрительно смеяться над ними под своими доспехами. Но по другую сторону этой сетки они жужжали злобной, серой тучей. Когда мы поднимали вуаль, чтобы напиться, они свирепо накидывались на нас. Когда мы шли, они мешали нам двигаться, так что казалось, будто прокладываешь путь через сплошные стены их. Когда мы отдыхали, они налетали такими миллиардами, что мы в одно мгновение оказывались буквально окутанными мелкими атомами насекомых, тщетно старающихся прорвать сетку нашей одежды. Обнажить руку значило увидеть ее через мгновенье окровавленной, и мысль, что мы находимся в их власти, была мучительно ужасна. Днем и ночью их жужжание сливалось в сильный гул, и нам приходилось есть, пить и спать под нашими вуалями. Среди всевозрастающего запустения мы не встречали никаких признаков жизни, хотя бы кролика. Все было пустынно и покинуто богом. К наступлению ночи мешки становились очень тяжелыми, ноги очень уставали. Три дня, четыре дня, пять дней прошли. Ручей стал мельче и нерешительней, поэтому мы оставили его и начали переправляться через горы. Вскоре мы добрались до того места, где чаща леса уже не так мешала нам двигаться. Склон был крут, местами почти вертикален и покрыт необычайно глубокими порослями мха. По временам мы проваливались в него по колено, нащупывая под ними выступы острых камней. Карабкаясь, мы погружали руки в прохладные подушки мха и едва поднимались наверх. Он напоминал восточный ковер, покрывающий каменные ребра склона, ковер причудливой расцветки, странного рисунка, то малиновый и янтарный, то изумрудный и цвета слоновой кости. На нем росли березы нежной серебристой красоты, помогавшие нам взбираться.
Наконец, после утомительного путешествия, мы достигли черного мрачного, покрытого валунами, плато. Оно находилось выше линии леса и было устлано необычайно глубоким мхом пестрой окраски. Внезапно мы увидели перед собой два огромных каменных столба, торчавших среди унылой пустоты. Они имели должно быть около двухсот футов вышины и, как чудовищные часовые, обозревали в тоскливом одиночестве огромную тундру. Они поразили нас. Мы не могли постигнуть, какая странная прихоть природы водрузила их здесь.
Затем мы спустились вниз, в обширную долину, полную безмолвия, не нарушавшегося казалось с начала времен. Это место было так странно и тихо, что казалось населенным духами. То была зримая тоска, то была тишина, изваянная из камня и дерева. Я не решился бы спуститься в эту долину один, но даже теперь, когда мы втроем погружались в ее обитаемый смертью сумрак, я содрогался от ужаса.
Индейцы почитали эту долину. Они рассказывали, что издавна здесь совершались странные дела: долина наполнялась шумом, дымом и огнем, земля раскрывалась, изрыгая больших драконов, уничтожавших людей. И, действительно, все здесь напоминало огромный кратер потухшего вулкана: повсюду пузырились горячие источники, и серый пепел пробивался сквозь поверхностный слой почвы.
Дичи там не было и следа. В середине долины лежало уединенное озеро, черное и бездонное, обитаемое гигантской белой водяной змеей, неповоротливой, слепой и очень старой. Скитающиеся старатели клялись, что видели ее в час сумерек и что ее незрячие, широко открытые глаза были слишком ужасны, чтобы изгладиться из памяти.
В эту мертвую, как бы окутанную паутиной, пещеру, мы спускались, спускались почти отвесно, по склонам сухих тощих гор, оберегавших ее уединение. Здесь, окруженные унылыми высотами, мы были так же далеки от мира, как если бы находились в бледном одиночестве луны. Иногда долина казалась открытым ртом и губы ее были мертвенно серы. Иногда она напоминала чашу, в которую закат изливал золотое вино и наполнял трепетом до краев. Иногда она представлялась серой могилой, полной безмолвия. И гам-то, в этой обители теней, где трупы душили деревья и мох под ногами заглушал шаги, где мы говорили шепотом и веселье казалось бы насмешкой, где каждый ствол и камень вопили об отчаянии, там, в этой Долине Мертвых Существ, мы нашли Джима.
Он сидел у потухшего костра, весь сжавшись, обняв колени, устремив глаза на угасающую золу. Когда мы подошли ближе, он не двинулся, не проявил никакого удивления, даже не поднял головы. Его лицо было очень бледно и изрезано складками страдания. Это было самое странное выражение, какое мне когда-либо приходилось видеть на человеческом лице. Оно заставило меня сжаться. Его глаза пугливо следили за нами. Мы молчаливо окружили его костер и с минуту не произносили ни слова. Затем наконец Блудный Сын заговорил:
― Джим, ты вернешься обратно с нами, не правда ли?
Джим посмотрел на него.
― Тише, ― сказал он, ― не говори так громко. Ты разбудишь всех мертвых молодцов.
― Что ты хочешь сказать?
― Мертвых молодцов. Лес полон ими, теми, которые не могут успокоиться. Они кишат вокруг, привидения. Ночью, когда я сижу у костра, они выползают в темноте, подбираются ко мне все ближе и ближе и начинают нашептывать мне всякие вещи. Тогда мне делается страшно, и я отгоняю их.
― Что же они нашептывают, Джим?
― О, они рассказывают мне о многих вещах, эти молодцы в лесах. Они говорят о тех временах, когда жили здесь в долине; о том, как они были великим народом, имели женщин и рабов, как они воевали, пели и напивались, и какое у них здесь было королевство, вот тут, где теперь смерть и запустение. И как они покоряли все другие народы вокруг, убивали мужчин и брали в плен женщин. О, это было давно, давно, задолго до Потопа.
― Ладно, Джим, не обращай на них внимания. Собери свой узел. Мы сейчас отправимся домой.
― Домой? У меня больше нет дома. Я беглый и бродяга на Земле. Кровь моего брата вопиет ко мне из земли. Я должен скрыться от лица Господа, и каждый, кто найдет меня, обязан умертвить меня. У меня нет дома, кроме пустыни. Туда я пойду с молитвой и постом. Я убил, я убил.
― Полно, Джим, это был несчастный случай.
― Так ли, так ли? Один бог знает. Я знаю, что мысль об убийстве омрачала мое сердце. Она была там всегда и неизменно. Как я боролся с ней! И как раз в ту минуту все казалось воскресло с новой силой. Я не помню, чтобы желал того, что сделал, но я думал об этом.
― Пойдем домой, Джим, и забудь об этом.
― Я забуду это, когда реки перестанут стекать с горных вершин. Нет, они не дадут мне забыть, ― привидения. Они нашептывают мне все время. Тсс… Тсс… Разве вы не слышите их? Они шепчут мне теперь: ― Ты убийца Джим, убийца, ― говорят они. ― Печать Каина на тебе, Джим, печать Каина. Затем маленькие листочки на деревьях подхватывают шепот, и воды журчат его, и сами камни вопиют против меня, и я не могу заглушить этих звуков. Не могу, не могу.
― Полно, Джим.
― Нет, нет, дьявол очищает мне место в золе. Я не могу больше вернуться к Господу. Он отверг меня, и свет его благодати померк для меня. Никогда больше, о, никогда!
― Вернись, Джим, ради своих старых товарищей, вернись домой!
― Хорошо, ребята, я пойду, но из этого не будет добра. Я раздавлен и кончен.
Мы медленно собрали его немногие пожитки. Он питался хлебом, которого оставалось уже очень немного. Если бы мы не настигли его, он умер бы с голоду. Он пошел за нами, как дитя, но, казалось, весь был во власти острой меланхолии.
И в самом деле, невеселая компания спускалась по этой печальной мертвой долине. Деревья были завешаны мрачными серыми покровами и пепельным мох окутывал наши ноги. Я думаю, что это было самое мертвое место, какое я когда-либо видел. Самый воздух казался мертвым и застоявшимся, как будто был недвижим от века и никогда не приводился в колебание никаким ветром. Пауки и странные пресмыкающиеся существа покрывали деревья, и при каждом шаге, будто белый газ, поднимался туман москитов. Дорога казалась бесконечной.
Великое уныние охватило нас. Ноги спотыкались, плечи гнулись. На лицах друг друга мы читали необычайную усталость, холодное серое отчаяние. Наши голоса звучали пусто и необычно, и мы редко перекидывались словом. Казалось, будто долина, подобно вампиру, высасывает жизнь и силы из наших жил.
― Боюсь, что старик собирается сыграть с нами штуку, ― прошептал Блудный Сын.
Джим беспомощно тащился сзади, и мы с тревогой следили за ним. Он, казалось, сознавал, что задерживает нас. Его усилия подтянуться были трогательны, мы делали вид, что также утомлены, чтобы не приводить его в отчаяние, и двигались медленно, медленно.
― Похоже, что нам придется идти на половинном пайке, ― сказал Полукровка. ― Чтобы выбраться отсюда, нужно будет затратить гораздо больше времени, чем я думал.
И вправду долина напоминала большую тюрьму, и эти утесы, пестревшие в огне заката, казались решетками, поставленными, чтобы охранять нас. С каждым днем шаг старика становился все медленней, так что мы едва ползли. Мы поднимались по западному склону долины, проходя не более нескольких миль в день, и с каждым шагом, уносившим нас из этой темницы богов, казалось, сбрасывали с себя тяжесть. Мы были утомлены, утомлены и в бледном свете, пробивавшемся сквозь свинцовые облака, наши лица казались прозрачными и измученными.
― Кажется, придется перейти на четверть пайка теперь, ― сказал Полукровка спустя несколько дней. Он постоянно бродил вокруг, отыскивая дичь, но не находил нигде и следа ее. Однажды мы услышали выстрел. С нетерпением ожидали мы его возвращения, но ему удалось добыть лишь большую серую сову, которую мы сжарили и уничтожили с жадностью.
Глава XVI
Наконец-то, наконец мы перевалили через хребет и навсегда оставили за собой долину-вампира. О, как мы были рады! Но подступали уже другие тревоги. Настал день, когда наши последние запасы провизии были израсходованы. Я помню, как торжественно мы съели их. Мы были уже почти на три четверти заморены голодом, а пищи на каждого пришлось не больше глотка.
― Ничего, ― сказал Полукровка, ― теперь мы не можем быть далеко от Юкона. Мы увидим его, по всей вероятности, в долине, лежащей за этой. Тогда мы в несколько дней выстроим плот и поплывем к Даусону.
Это подбодрило нас. Мы снова взвалили наши мешки и отправились в путь. Джим не двигался.
― Идем, Джим!
По-прежнему никакого движения.
― В чем дело, Джим? Идем же.
Он повернул к нам серое лицо, отмеченное смертью.
― Идите, ребята, не обращайте внимания на меня. Мое время пришло. Я старик. Я только задерживаю вас. Без меня у вас есть надежда выбраться, со мной ― никакой. Оставьте меня здесь с ружьем. Я могу стрелять и раздобыть себе пищу. Вы можете потом придти за мной. Вы найдете старого Джима бодрым и сильным, ожидающим вас с веселой улыбкой на лице. Теперь ступайте, друзья. Отправляйтесь в дорогу.
― К черту дорогу, ― сказал Блудный Сын. ― Вы знаете, что мы никогда не оставим вас, Джим, Вы знаете законы Тропы? За кого вы принимаете нас? За подлецов? Пойдем же. Мы понесем вас, если вы не можете идти.
Он жалобно покачал головой; но снова пополз за нами. Мы сами теперь не слишком спешили. Недостаток пищи начинал сказываться на нас. Наши желудки были мучительно стянуты и пусты.
― Как вы себя чувствуете? ― спросил Блудный Сын. Лицо его вытянулось и исхудало, но замороженная улыбка не покидала его.
― Недурно, ― сказал я, ― только ужасно слаб. По временам болит голова, но я не чувствую страданий.
― Я также. Вся эта трескотня о муках голода один вздор. Это смертельно легко. Что за ерунду болтают о гложущих болях голода и голодных людях, жующих свои сапоги. Это легко. Никаких страданий. Я даже не чувствую голода больше.
Никто из нас уже не чувствовал его. Как будто наши желудки, отчаявшись получить пищу, впали в апатию. Однако не было сомнений в том, что мы ужасно ослабели. Мы проходили теперь всего несколько миль в день, но даже это требовало усилий. Расстояние казалось эластичным и вытягивалось под нашими ногами.
Через каждые несколько ярдов нам приходилось помогать Джиму при переправе через какое-нибудь тяжелое место. Его тело было изнурено и он чрезвычайно ослабел. Тревожный огонь горел в его глазах. Полукровка утверждал, что за этими горами лежит долина Юкона и по ночам будил нас.
― Ну, братцы, я слышу свисток парохода. Еще денек, другой, и мы доберемся туда.
Пересекая долину, мы наткнулись на маленькую речку. Она была грязного цвета, и рыба не водилась в ней. Мы нетерпеливо бродили вокруг, надеясь выудить несколько миног, но безуспешно. Отправляясь то туда, то сюда на поиски пищи, я думал, что меня побуждает к этому не голод, а инстинкт самосохранения. Я знал, что если ничего не пропущу в желудок, но, наверное, умру. Мы уныло брели вдоль реки. Мы не ели уже неделю. Джим до сих пор держался мужественно, но теперь сдал.
― Ради бога, оставьте меня, братцы. Не заставляйте меня чувствовать на себе вину за вашу смерть. Разве у меня и так уже недостаточно лежит на душе? Ради любви к богу, ребята, спасайте себя. Оставьте меня умереть здесь.
Он несвязно молил нас. Его ноги как будто отнялись. Каждую минуту мы останавливались, потому что он засыпал на ходу. Блудный Сын и я поддерживали его, но нам было уже тяжело поддерживать самих себя, и, по временам, мы изнемогали и падали втроем смешанной, беспомощной грудой. Блудный Сын все еще хранил свою деланную усмешку. Его лицо было почти лишено плоти и, через, пробивающуюся бороду, напоминало мне иногда усмехающийся череп. Джим беспрестанно стонал и молил.
― Оставьте меня, дорогие мои, оставьте меня.
Он был, как пьяный, и каждый шаг стоил ему мучений.
Мы бросили наши мешки, ибо у нас уже не хватало сил нести их. Последней вещью, с которой мы расстались, было ружье Полукровки. Несколько раз оно выпадало из его рук, и он поднимал его с растерянным видом. Оно падало снова и снова, пока, наконец, настало время, когда он больше не поднял его. Он тупо посмотрел на него с минуту, затем поплелся дальше.
По ночам мы проводили долгие часы вокруг костра. Мы часто продолжали отдыхать до позднего утра. Джим лежал, как труп, и беспрерывно охал, в то время, как мы разговаривали обрывками, глядя друг другу в призрачные лица. Надо было употребить усилия, чтобы заставить себя продолжать путь.
― Эта река, несомненно, вливается в Юкон, друзья, ― говорил Полукровка. ― Теперь недалеко. Нужно сделать еще несколько миль, и все будет хорошо.
Ночью, во время сна, я находился во власти необычайных галлюцинаций. Люди, которых я когда-то знал, приходили беседовать со мной. Они были так реальны, что, просыпаясь, я с трудом мог поверить, что видел их во сне. Берна часто являлась мне. Она подходила совсем близко и смотрела мне в глаза огромными полными жалости очами. Ее губы двигались.
― Будь мужествен, мой мальчик, не падай духом, ― молила она. В моих снах она постоянно так просила меня, и, кажется, что не будь ее, я бы не выдержал.
Полукровка была самый мужественный из нас. Он никогда не терял головы. По временам мы все начинали бредить немного, или смеяться, или плакать, но Полукровка всегда оставался хладнокровным и мрачным. Он то и дело отправлялся на поиски пищи. Однажды он нашел гнездо тетеревиных яиц и, разбив их, увидел там полусформированных птиц. Мы съели их такими, как они были, пережевывая их распухшими деснами. Нам часто приходилось питаться улитками, травяными корнями и мхом, который мы сдирали с деревьев. Но самым большим лакомством оказались испорченные тетеревиные яйца.
Однажды, в ранний полдень, когда мы все отдыхали у костра, на котором варился мох, Полукровка внезапно указал нам нечто. Там на лугу, по нижнему течению реки, стояли самка оленя и молодой олень. Они пили. Мы тупо посмотрели на них. Я увидел, как рука Полукровки вытянулась, как бы за ружьем, но, увы, пальцы его сомкнулись вокруг пустого воздуха. Они были так близко, что мы могли бы попасть в них камнем. Взяв в рот свой складной нож, Полукровка пополз к ним на животе. Он успел сделать всего несколько ярдов, как они заметили его. Они бросили один взгляд и через несколько минут были уже на расстоянии миль. Тут я впервые увидел Полукровку вне себя. Он упал лицом вниз и долго лежал так.
Мы часто натыкались на болота, которые не могли перейти, и должны были обходить кругом. Мы пробовали строить плоты, но были слишком слабы, чтобы управлять ими. Мы боялись, что скатимся в глубокую черную воду и легко утонем. Поэтому мы обходили их кругом, что один раз заставило нас сделать лишних десять миль.
Однажды Полукровка выстроил из ивы мост через топь, в несколько ярдов длины, и мы переползли на четвереньках на другую сторону.
Наше путешествие вспоминается мне, как кошмар. Я могу вызвать в памяти только отдельные моменты его то тут, то там. Мы шатались, как пьяные. Иногда мы рыдали, иногда молились. Теперь Джим не произносил ни слова, не издавал стонов, когда мы полуволокли, полунесли его. Наши глаза были расширены лихорадкой, руки превратились в клещи, лица обросли длинными неровными бородами. Наше платье превратилось в лохмотья, на нас завелись вши. Мы потеряли всякое представление о времени. В последние дни мы проходили не больше полумили и находились уже должно быть дней двадцать без настоящей пищи.
Полукровка пополз вперед на полмили и вернулся обратно к тому месту, где мы лежали. Голосом охрипшим до шепота, он сообщил нам, что наша река впадает в большую и в устье виднеется старая индейская стоянка. Быть может, там кто-нибудь найдет нас. Сделав последнее отчаянное усилие, мы добрались до нее. Должно быть, индейцы останавливались там совсем недавно. Мы порылись вокруг и нашли несколько гниющих рыбьих костей, и из них сварили суп.
Мы увидели там могильное сооружение на высоких подпорках и в нем тело, покрытое парусиной. Полукровка содрал с трупа парусину и смастерит из нее лодку в восемь футов длиной и шесть шириной. Парусина была слишком гнилая, чтобы выдержать его, и ему пришлось бросить ее на берегу рукава. Я помню, что это было ужасное разочарование для нас, и мы горько плакали. Я думаю, что к тому времени мы все были полусумасшедшими. Мы лежали на этом берегу, как будто были уже мертвецами, без всякой надежды на спасение.
Затем Джим совершил переход к праотцам. Ночью он позвал меня.
― Мальчик, ― прошептал он, ― мы с тобой были добрыми друзьями?
― Да, старина.
― Мальчик, я в агонии. Я терплю ужасные муки; достань ружье, ради бога, и освободи меня от страданий.
― У нас нет ружья, Джим, мы оставили его на дороге.
― Тогда возьми свой нож.
― Нет, нет.
― Дай мне свой нож.
― Джим, ты с ума сошел. Где твоя вера в Бога?
― Пропала, пропала. Я больше не имею права смотреть на него. Я убил. Я отнял жизнь, которую он даровал. Отмщение принадлежит мне, ― сказал он, ― а я вырвал его из его рук. Теперь божье проклятие тяготеет на мне. О, дайте мне умереть, дайте мне умереть.
Я просидел около него всю ночь. Он стонал в агонии, и его отход был тяжел. Было около трех утра, когда он заговорил снова.
― Послушай, мальчик, я ухожу. Я бесполезный старик, я жил в грехе, раскаялся и упал опять. Господь больше не хочет старого Джима. Послушай, милый, посмотри, чтобы моя маленькая девочка, там, в Даусоне, получила деньги, которые будут причитаться мне. Скажи ей, чтобы она жила по правде, и скажи, что я любил ее. Передай ей, что я никогда не переставал любить ее все эти годы. Ты запомнишь это, мальчик, не правда ли?
― Запомню, Джим.
― О, это северное золото ― ловушка! Посмотри-ка, что оно принесло нам всем. Мы пришли, чтобы ограбить землю, а она мстит за это. Она проклята. Она свалили меня, наконец, но может быть, я смогу помочь вам, братцы, теперь победить ее. Позови остальных.
Я позвал их.
― Ребята, ― сказал Джим, ― я ухожу. Я уже давно близок к этому. Я умирал по дюймам, но теперь, кажется, кончу дело достаточно гладко. Так вот, друзья, я в полном разуме и хочу, чтобы вы знали это. Я был помешан, когда мы отправились в путь, но теперь все прошло. Мои мысли ясны, товарищи. Это я завлек вас в ловушку. Я ответствен за все, и мне кажется, что я умру счастливей, если вы обещаете мне одну вещь. Живой я не могу помочь вам, но мертвый сумею ― вы знаете как. Так вот я хочу, чтобы вы обещали мне исполнить это. Это разумная мысль. Пусть чувства не останавливают вас. Я хочу этого. Это мое предсмертное желание. Вы умираете с голоду, и я могу помочь вам, могу дать вам силы. Обещаете ли вы мне сделать это, если дойдете до последнего предела?
Мы боялись взглянуть друг на друга.
― О, обещайте мне, обещайте!
― Обещайте ему, все равно, ― сказал Полукровка. ― Он умрет спокойней. ― Мы склонили головы, и он отвернул лицо, удовлетворенный. Вскоре он позвал меня опять.
― Мальчик, дай мне руку. Помолись за меня. Может быть, это поможет немного, молитва за бедного старого грешника, который оступился. Я никогда не смогу больше молиться.
― Напротив, постарайся молиться, Джим, постарайся. Ну, повторяй за мной. Отче наш…
― Отче наш.
― Иже еси на небеси.
― Иже еси на…
Голова его поникла.
― Будь благословен, мой мальчик… отче, прости, прости.
Он опустился назад очень спокойно.
Он был мертв.
На следующее утро Полукровка поймал миногу. Мы разделили ее на три части и съели сырой. Позднее мы нашли мокриц под камнем. Потом, когда снова наступила ночь, одна мысль проникла в наши головы и застряла там. Это была ужасная мысль, но она все росла и росла. Сидя кругом, мы смотрели в лицо друг другу и читали там все ту же отвратительную мысль. Однако в конце концов она перестала казаться нам такой ужасной. Как будто дух умершего сам принуждал нас осуществить ее. Мысль делалась такой настойчивой. Это была наша единственная надежда на жизнь. Это могло дать нам силы и энергию, чтобы построить плот и спуститься вниз по реке. О, если бы только ― нет, нет. Мы были не в силах сделать это. Лучше, в сто раз лучше, умереть.
Но жизнь была прекрасна и мы голодали уже двадцать три дня. Перед нами была возможность выжить и покойник убеждал нас воспользоваться ею. Вы, не голодавшие в жизни ни одного дня, осудите ли вы нас? Жизнь сладостна также и для вас. Что бы вы сделали? Покойник побуждал нас, а жизнь манила.
Но мы боролись, один Бог знает, как мы боролись. Мы не сдались без мучений. В наших безнадежно расширенных глазах был страх великого соблазна. Мы смотрели друг на друга мертвыми лицами. Мы сжимали руками скелетов наши ослабевшие ноги и качались, стараясь сидеть прямо. Вши ползали на нас. Мы были полупомешаны и бормотали себе в бороды.
Полукровка заговорил первый, и голос его был едва слышным шепотом:
― Это наша единственная надежда, братцы, и мы обещали ему. Боже, прости меня, но у меня есть жена, дети, и я должен сделать это.
Он был слишком слаб, чтобы встать, и, взяв нож в рот, пополз к трупу.
* * *
Все было готово, но мы не ели. Мы ждали и ждали, надеясь, наперекор надежде. И вот, когда мы ждали, Бог сжалился над нами. Он избавил нас от этого.
― Послушайте, быть может мне чудится, но я вижу двух человек, которые плывут на плоту вниз по реке.
― Закричи им. Я не могу, ― сказал Блудный Сын.
Я попробовал крикнуть, но голос мой был не громче шепота.
Полукровка также попробовал закричать. Но звук был едва слышен. Люди не видели нас, так как мы лежали на покрытой валунами отмели. Они плыли все быстрее и быстрее. С безнадежной, беспомощной тоской мы следили за ними. Мы не могли ничего поделать. Через несколько минут они минуют нас. Полными ужаса глазами мы следили за ними, стараясь привлечь их внимание. О, Боже, помоги нам.
Вдруг они заметили нашу нелепую лодку из парусины и ив. Они подтолкнули свой плот к берегу, и тут один из них заметил три странных существа, беспомощно извивавшихся на песке. Это были скелеты, они были в лохмотьях и покрыты червями.
Мы были спасены. Слава Богу, мы были спасены.
Глава XVII
― Берна, мы должны повенчаться.
― Да, дорогой, когда хочешь.
― Тогда завтра.
Она улыбнулась сияющей улыбкой. Потом лицо ее сделалось вдруг очень серьезным.
― Что мне надеть? ― спросила она жалобно.
― Надеть? О, что бы там ни было. Это белое платье, в котором ты сейчас ― я никогда не видел тебя такой прелестной. Ты напоминаешь мне изображение святой Цецилии. Та же тонкость черт, тот же чистый колорит, та же прелесть выражения.
― Глупый, ― упрекнула она, но голос ее был необычайно нежен и глаза сияли любовью.
― О, нет, это правда, правда. Иногда я хотел бы, чтобы ты не была так прекрасна. Это заставляет меня беспокоиться до страдания. Иногда я хотел бы, чтобы ты была некрасива, тогда я был бы более уверен в тебе. По временам я боюсь, боюсь, чтобы кто-нибудь не похитил тебя у меня.
― Нет, нет, ― воскликнула она, ― никогда никто не сможет сделать этого. Для меня никогда не будет никого, кроме тебя.
Она подошла и стала на колени у моего кресла, нежно обняв меня. Чистое милое лицо смотрело вверх на меня.
― Мы были счастливы здесь, не правда ли, мальчик? ― спросила она.
― Безмерно счастливы. Однако я всегда боялся.
― Чего, дорогой?
― Не знаю, мне почему-то кажется, что это слишком хорошо, чтобы длиться долго.
― Ну, завтра мы будем повенчаны.
― Да, нам следовало сделать это год назад. Я не считал это важным вначале. Никто не обращая внимания на это, никто не смущался. Но теперь дело другое. Я вижу это по тому, как замужние женщины смотрят на нас. Кроме того, есть другие причины?
― Какие?
― Гарри толкует о том, чтобы приехать сюда. Ты не хотела бы, чтобы он застал нас живущими так.
― Ни за что на свете! ― воскликнула она в тревоге.
― Этого и не будет. Гарри старомоден и ужасно любит условности, но ты сразу пленишь его. В нем удивительное очарование. Он очень добродушен на вид, но в то же время умен. Я думаю, что он может покорить любую женщину, если пожелает, но он слишком честен и искренен для этого.
― Хотелось бы мне знать, что он подумает обо мне, такой жалкой и невежественной. Мне кажется, что я боюсь его. Я предпочла бы, чтобы он не приезжал и оставил нас одних. Но, ради тебя, дорогой, я хотела бы, чтобы он был хорошего мнения обо мне.
― Не бойся, Берна. Он будет гордиться тобой. Но есть и еще причина?
― Какая?
Я притянул ее ближе к себе на большое кресло.
― О, моя любимая, быть может мы не всегда будем одни, как теперь. Быть может, когда-нибудь с нами будут другие, маленькие… ради них.
Она не отвечала. Я чувствовал, как она теснее прижалась ко мне.
― Почему ты плачешь, дорогая?
― Потому, что я так счастлива.
― Жена, дорогая жена, я тоже.
Слова были лишни. Наши губы сливались в страстных поцелуях, но через минуту мы отскочили друг от друга. Кто-то шел по дорожке сада ― высокая мужская фигура. Я вздрогнул, как если бы это было привидение. Возможно ли? Я бросился к двери.
На крыльце стоял Гарри.
Глава XVIII
Когда он снова стал передо мной, казалось, будто годы исчезли, и мы оба опять сделались мальчиками. Поток нежных воспоминаний нахлынул на меня, воспоминаний тех дней, полных грез и великих решений, когда жизнь казалась правдивой, мужчины доблестными, а женщины чистыми. Снова я стоял на скалистом берегу, а пенящееся море подо мной наполняло ревом откликающиеся эхом пещеры. Чайки золотились на солнце, рыбаки расстилали свои сети около коричневых крытых соломой домиков, наверху в саду я видел маму, нежащуюся среди цветов. Все это воскресло во мне, солнечный берег, белые коттеджи, старый серый дом среди берез, возвышенности усеянных овцами пастбищ, и над всем этим мрачная чернота поросших вереском холмов.
Все это окружало меня три года назад. Как изменилась жизнь! Сколько событий произошло с тех пор. Но, увы, я больше не смотрел радостно вперед; сок жизни больше не казался мне сладким.
Теперь это был другой «я», которого я увидел в зеркало в тот день, «я» с исчерненным печалью лицом, с седыми нитями в волосах, с грустными, полными горечи, глазами. Неудивительно, что Гарри с такой грустью глядел на меня.
― Как ты изменился, дружище, ― сказал он наконец.
― Разве? Ты так же, Гарри.
И действительно, он также изменился, сделался красивее, чем я мог представить себе в самых восторженных мечтах. Он как будто внес с собой в комнату свежее чарующее дыхание Гленджайля, и я смотрел на него с восторгом.
С холода его румянец был ослепителен, как у женщины; темно-голубые глаза блестели; белокурые шелковистые волосы под давлением шляпы улеглись по форме его прекрасной головы. О, он был красив, мой брат, и я гордился, гордился им.
― Это, право, невероятно! Как ты попал сюда?
Его зубы заблестели в доверчивой, тонкой улыбке.
― В дилижансе. Я приехал всего несколько минут назад и сразу поспешил сюда. Разве ты не рад видеть меня?
― Рад? О, конечно. Не могу выразить, до чего я рад. Но меня поразило твое неожиданное появление. Ты мог бы предупредить меня.
― Да, это было внезапное решение; мне следовало телеграфировать тебе. Но я подумал устроить сюрприз. Как поживаешь, старина?
― Я? О, прекрасно, благодарю!
― Но что случилось с тобой, дружище? Ты выглядишь на десять лет старше. Ты выглядишь старше своего большого брата теперь.
― Да, надеюсь. Это сделала жизнь, страна. Жестокая жизнь и жестокая страна.
― Почему ты не уезжаешь?
― Не знаю, не знаю. Я постоянно строю планы на счет отъезда, но в это время что-нибудь подворачивается, и я опять откладываю его на некоторое время. Я думаю, что мне следовало бы уехать, но я связан делами приисков. Мой компаньон отправился на Восток и я обещал ему остаться и следить за работами. Я делаю деньги, видишь ли.
― А не жертвуешь ли ты на это свою молодость и здоровье?
― Не знаю, не знаю.
На его открытом лице появилось выражение глубокого удивления, мне же было почему-то очень не по себе. При всей своей радости, я чувствовал какую-то тревогу, даже страх. Как раз теперь я не хотел, чтобы он приехал и застал меня таким образом. Я не был готов к встрече с ним. Я предполагал, что это выйдет иначе.
Он пронизывал меня ясным проницательным взором. На мгновение его глаза, казалось, сверлили меня, затем с молниеносной быстротой очарование снова вернулось на его лицо. Он засмеялся своим звонким смехом.
― Видишь ли, мне надоело слоняться по старому дому. Дело теперь хорошо налажено. Я скопил немного денег и решил, что могу позволить себе маленькое путешествие. Вот как я попал сюда, чтобы повидать своего странствующего брата и его волшебный Север.
Его взгляд бродил по комнате и вдруг упал на кусок вышивки. Он слегка вздрогнул, и я увидел, как сощурились его глаза и сжался рот. Его взор перешел на пианино с этажеркой для нот. Он снова посмотрел на меня, удивленным, недоумевающим взглядом… Он продолжал говорить, но в его манерах чувствовалась некоторая принужденность:
― Я намерен пробыть здесь около месяца, а потом хочу забрать тебя с собой. Вернись домой и нагуляй немного прежних красок на щеки. Эта страна не по тебе, но мы живо поправим дело… Мы заставим тебя опять вспенивать пруды с форелями и бродить с ружьем среди вереска. Ты помнишь, как ― упррр! ― поднимались тетерева из-под самых ног? Их развелось очень много за последние два года. О, мы снова воскресим доброе старое время. Ты увидишь ― мы живо поправим тебя.
― Ты очень добр, Гарри, что так заботишься обо мне. Но я боюсь, боюсь, что не могу поехать именно теперь. У меня так много дел. На меня работают тридцать человек рабочих. Я должен остаться.
Он вздохнул.
― Что ж, если ты останешься, я останусь также. Мне не нравится твой вид. Ты слишком много работаешь. Может быть, я смогу помочь тебе.
― Прекрасно, хотя я боюсь, что это покажется тебе отвратительным. Никто не остается здесь на зиму, если имеет возможность избежать этого. Но первое время это заинтересует тебя.
― Да, я думаю. ― И снова глаза его устремились на кусок вышивки, натянутой на маленьких пяльцах.
― Как бы то ни было, я ужасно рад видеть тебя, Гарри. Не стоит говорить, слова не могут выразить таких вещей между нами. Ты знаешь, что я думаю. Я рад видеть тебя и постараюсь сделать твое пребывание как можно приятнее.
Между занавесями, закрывавшими дверь в спальню, я видел Берну, стоявшую без движения. Я старался угадать, видит ли он ее также. Его глаза последовали за моими. Они остановились на занавесях и строгое суровое выражение снова появилось на его лице. Но он опять прогнал его улыбкой.
Я встал. Я не мог больше откладывать.
― Извини меня минутку, ― сказал я, и, раздвинув занавески, вошел в спальню.
Она стояла там, белая до губ и дрожащая. Она жалобно посмотрела на меня.
― Мне страшно, ― пробормотала она.
― Будь мужественна, маленькая, ― сказал я, увлекая ее вперед. Затем я одернул занавеси.
― Гарри, ― сказал я, ― это ― это Берна.
Глава XIX
Гарри, Берна ― они стояли лицом к лицу, наконец. Я давно уже рисовал себе эту встречу и желал ее, хотя и страшился. Теперь она произошла совершенно внезапно.
Девушка овладела собой, и я должен сказать, что она держала себя хорошо. В обтянутом простом белом платье ее фигура была стройно-грациозна, как у лесной нимфы, а прелестная посадка головы напоминала лилию на стебле. Белокурые волосы были откинуты назад изящными волнами с красивого лба и, когда она смотрела на моего брата, в ее взоре были гордость и достоинство.
А Гарри ― его улыбка исчезла. Лицо было холодно и строго. В его обращении чувствовалась явная враждебность. Он, несомненно, видел в ней существо, губившее меня, вредно влиявшее, неоспоримый обвинительный акт греха и преступления против меня. Все это я прочел в его глазах; но Берна подошла к нему с протянутой рукой.
― Здравствуйте! Я так много слышала о вас, что мне кажется, будто я знаю вас давно.
Она была так привлекательна. Я заметил, что он застигнут врасплох.
Он взял маленькую белую руку и посмотрел с высоты своего великолепного роста в милые глаза, глядевшие на него. Он поклонился с ледяной холодностью.
― Я очень польщен, что мой брат говорил вам обо мне.
Он бросил на меня мрачный взгляд.
― Садись, Гарри, ― сказал я. ― Мы с Берной хотим побеседовать с тобой.
Он подчинился, но неохотно. Мы уселись втроем и тяжелая принужденность водворилась между нами. Берна нарушила молчание.
― Как вы проделали путешествие?
Он проницательно посмотрел на нее. Он увидел простую девушку, скромную и милую, смотревшую на него с лестным интересом.
― О, не плохо. Хотя проезжать по шестидесяти миль в день на трясущейся телеге ― несколько однообразно. Станционные дома, однако, в общем очень приличны, хотя в некоторых местах отвратительны. Тем не менее это было все ново и интересно для меня.
― Вы пробудете с нами некоторое время, не правда ли?
Он удостоил меня новым угрюмым взором.
― Это будет зависеть… я еще не решил окончательно. Я хочу увезти с собой домой Этоля.
― Домой? ― в ее голосе послышалась патетическая спазма. Глаза ее окинули маленькую комнату, которая была «домом» для нее.
― Да, это будет очень хорошо, ― пробормотала она. Затем мужественным усилием она начала оживленный разговор на тему о Севере. Он слушал ее напряженно, с очевидным любопытством. Его враждебность постепенно уступала место вниманию.
Но я мог заметить, что он не столько слушал, сколько изучал ее. Его внимательный взгляд не отрывался от ее лица.
Потом я вступил в разговор. Сумерки окутали нас, и лишь угли в открытом камине освещали комнату розовым пламенем. Я не видел его глаз, но чувствовал, что он все еще зорко наблюдает. Он отвечал «да» и «нет» на наши вопросы, и голос его звучал очень сдержанно. Через некоторое время он поднялся, чтобы уйти.
― Я провожу тебя до гостиницы, ― сказал я. Берна бросила на меня незаметно встревоженный, умоляющий взгляд. На щеках ее горели красные пятна, глаза блестели. Я видел, что ей хочется плакать.
― Я вернусь через полчаса, дорогая, ― сказал я, в то время как Гарри церемонно пожимал ей руку.
По дороге мы не разговаривали. Когда мы вошли в комнату, он зажег свет и обернулся ко мне.
― Брат, кто это девушка.
― Она ― она моя хозяйка, вот все, что я могу сейчас сказать, Гарри.
― Повенчаны?
― Нет.
Он взволнованно зашагал по комнате, в то время как я очень спокойно следил за ним. Наконец он заговорил.
― Расскажи мне о ней.
― Сядь, Гарри, зажги сигару. Нам лучше потолковать об этом спокойно.
― Прекрасно. Кто она?
― Берна, ― сказал я, закуривая свою сигару, ― еврейка; она родилась от невенчанной матери и выросла в нищете и разврате.
Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Его рот ожесточился, брови нахмурились.
― Но, ― продолжал я, ― я хочу сказать следующее. Помнишь, Гарри, мама любила рассказывать нам о нашей сестренке, которая умерла малюткой. Я часто представлял себе мою умершую сестру, и в прежние мечтательные дни любил воображать, что она не умерла, а выросла и была с нами. Как бы мы любили ее, не так ли, Гарри? Так вот говорю тебе, что, если бы наша сестра выросла большой, она не могла бы быть прелестнее, чище, ласковей этой девушки, этой Берны.
Он иронически улыбнулся.
― Но если, ― сказал он, ― она так необыкновенно хороша, почему ты не женился на ней?
― Брак еще не все, ― сказал я, ― часто даже ничто. Любовь ― вот что есть и будет всегда великой сутью. Она существовала задолго до того, как брак вообще был установлен.
Есть более высокий идеал совместной жизни людей, основанный исключительно на любви, любви такой совершенной, что законные узы лишь оскорбляют ее. Любовь, которая несет в себе свое оправдание. Такова наша любовь.
Ироническое выражение его лица перешло в насмешку.
― Послушай, Гарри, я хочу сказать тебе, что эта девушка чистое золото, неоценимая жемчужина. Мы любим друг друга безгранично. В гармонии нашего существования никогда не было ни одного неверного звука. Мы верны и доверяем друг другу. Мы принесем все в жертву друг для друга. И я снова повторяю, что наш брак во сто раз священнее, чем девяносто девять из ста заключенных со всеми церемониями, пышностями и таинствами.
― О, человече, человече, ― сказал он с сокрушением, ― что это вселилось в тебя? Что это за бессмыслица, что за увертки? Я говорю тебе, что прежний путь, путь существовавший поколениями, лучший. Как печален для меня день, когда я нахожу своего брата болтающим такой вздор. Я почти рад, что мама умерла, Ее сердце, несомненно, разбилось бы от сознания, что ее сын живет в грехе и сраме, живет с…
― Полегче теперь, Гарри, ― предостерег я его.
Мы стояли лицом друг к другу, со столом между нами.
― Я намерен высказаться. Я проделал весь этот путь, чтобы сказать это, и ты должен выслушать это. Ты ― мой брат. Бог-свидетель, что я люблю тебя. Я обещал следить за тобой и теперь я намерен спасти тебя, если смогу.
― Гарри, ― перебил я, ― я моложе тебя, и я уважаю тебя; но за последние несколько лет я приучился смотреть на многое иначе, чем нас учили, шире, яснее, здоровее во всяком случае. Мы не можем вечно идти по узкой тропинке наших предков. Мы должны думать и действовать сами в наше время. Я не вижу ни позора ни греха в том, что делаю. Мы любим друг друга и в этом наше оправдание.
― Ерунда! ― воскликнул он. ― О, ты злишь меня. Я проделал весь этот путь, чтобы увидеть тебя по этому поводу. Это долгий путь, но я знал, что мой брат нуждается во мне, и я объехал бы вокруг света для тебя. Ты никогда не обмолвился в письмах и словом об этой девушке ― ты стыдился.
― Я знал, что ты никогда не поймешь меня.
― Ты должен был попытаться. Я не так уж туп. Нет, ты не хотел сказать мне! А я получал письма, предостерегающие письма. Ты предоставил другим людям рассказать мне, как ты пьянствовал, играл и просаживал свои деньги, как ты был похож на безумного. Они написали мне, что ты поселился с одним из легкомысленных созданий, с женщиной, которая делала карьеру в кафешантанах, а всякий знает, что ни одна, проделав это, не оставалась порядочной. Они предупреждали меня о характере этой особы, о твоем ослеплении, о твоем презрении к общественному мнению. Они просили меня попытаться спасти тебя. Я не поверил бы этому, но теперь я приехал, чтобы самому убедиться в этом ― и вот все правда.
Он взволнованно опустил голову.
― О, она прекрасна! ― воскликнул я. ― Если бы ты знал ее, ты бы думал так же. Ты бы тоже полюбил ее.
― Упаси Господи, мальчик, я должен спасти тебя! Должен ради чести старого имени, на котором никогда не было пятна. Я должен заставить тебя вернуться со мной на родину.
Он положил мне обе руки на плечи, повелительно глядя мне в лицо.
― Нет, нет, я никогда не оставлю ее.
― Все уладится, мы заплатим ей, это будет устроено. Подумай о чести старого имени, дружище.
Я стряхнул его. «Заплатим». Я иронически засмеялся. «Заплатим!» ― В связи с именем Берны!.. Я снова засмеялся.
― Она прекрасна, ― сказал я снова. ― Подожди немного, пока ты лучше узнаешь ее. Не суди ее пока. Подожди.
Он увидел, что бесполезно тратить на меня дальнейшие слова, и вздохнул.
― Хорошо, хорошо, ― сказал он, ― делай по-своему. Я думаю, что она губит тебя. Она тянет тебя вниз, разрушает твои нравственные устои, понижает твои чистые взгляды на жизнь. Она должна быть скверной, иначе она не жила бы с тобой таким образом. Но делай по-своему, мальчик, я подожду и посмотрю.
Глава XX
В хрустальные дни, последовавшие за этим, я всячески старался вызвать дружбу между Гарри и Берной. Сначала мне было трудно затащить его в дом, но вскоре он стал приходить охотно. Берна также очень помогала мне. Своим прелестным обращением она сделала все, чтобы заслужить его уважение, и, по мере того, как зима приближалась к концу, в нем произошла большая перемена. Он отбросил свой суровый вид, как актер отбрасывает роль, и снова превратился в милого прежнего Гарри, которого я знал и любил.
Он очаровывал всех и я уверен, что половина женщин в городе была влюблена в него. Однако он совершенно не сознавал этого и разгуливал по улицам походкой юного бога. Я уверен, что были женщины, готовые за одну улыбку последовать за ним на край света, но Гарри всегда оставался равнодушен к ним. Я не помню, чтобы он когда-либо заинтересовался женщиной. Мне часто приходило в голову, что если бы женщины могли выбирать мужчин по своему вкусу, несколько красавцев, вроде Гарри, монополизировали бы их, в то время как мы, простые смертные, остались бы без жен.
Я должен сказать, что старался изо всех сил сблизить их. Я сталкивал их вместе при всяком удобном случае, ибо хотел, чтобы он понял и полюбил ее. Я был уверен, что ему стоит только узнать ее, чтобы оценить по достоинству и, хотя он не говорил мне ни слова, я скоро заметил в нем сильную перемену. Не знаю, из уважения ли к брату, но он относился к ней так сердечно, дружески, очаровательно, что я не мог желать ничего лучшего. Однажды я спросил Берну, что она думает о нем.
― Я думаю, что он великолепен, ― сказала она спокойно. ― Это самый красивый мужчина, какого я когда-либо видела, и он так же добр, как хорош с виду. Ты во многом напоминаешь мне его, но все же между вами есть разница.
― Я напоминаю тебе его? Нет, детка. Я не достоин быть его лакеем. Он настолько же выше меня, насколько я сам выше, ну, скажем, индейца. У него все добродетели, у меня все недостатки. Он тот, кем я был бы, если бы все худшее во мне было лучшим во мне.
― Тсс. Ты мой возлюбленный и самый дорогой в мире.
― Кстати, Берна, ― сказал я, ― ты помнишь, о чем мы говорили, перед тем как он приехал? Не думаешь ли ты, что теперь…
― Теперь?
― Да.
― Хорошо. ― Она бросила на меня радостный нежный взгляд и вышла из комнаты. В эту ночь она была в необычайно приподнятом состоянии духа.
Каждый вечер приходил Гарри и беседовал с нами. Берна смотрела на него, когда он говорил, и глаза ее блестели, а щеки горели. На обоих нас он производил необыкновенно волнующее действие. Наконец настала весна с благодатными солнечными днями. Стояла прекрасная санная дорога, но я был занят, очень занят и радовался тому, что могу отправлять Гарри и Берну вдвоем в элегантных санях и видеть их возвращающимися с щеками ярче роз с блестящими глазами и смехом в голосах. Я никогда не видел Берну такой счастливой и здоровой.
Я был по уши погружен в работу. В только что полученной почте было письмо от Блудного Сына, и одно место в нем заставило меня глубоко задуматься. Вот оно:
«Ты должен опасаться Локасто. Он был в Нью-Йорке неделю тему назад. Он совершенно разбит и уничтожен. Заражение крови перешло на ногу, после того как он приехал в «ту сторону», и недавно пришлось отнять ее. Ему сделали искусственную руку вместо той, которая была отпилена Маком. Но ты увидишь его. Я имел разговор с ним и он отчаянно бранился и богохульствовал. Кажется, у него ужасный зуб против тебя. Выходит, что ты отнял у него лучшую девушку, единственную, которую он любил. Он сказал, что рассчитается с тобой, и советует тебе остерегаться. Мне кажется, что он опасный, даже безумный человек. Теперь он отправляется на Север, поэтому будь осторожен».
Локасто приезжает. Я почти забыл о его существовании. Ну, теперь я больше не боялся и мог позволить себе даже презирать его. Конечно, он никогда не дерзнет тревожить меня. А если бы он сделал это ― он был разбитый, опозоренный негодяй. Я мог раздавить его.
Он приезжает. Теперь он уже, должно быть, в пути. Я вдруг ясно представил себе его, спешащим по унылой дороге, в санях, закутанным в меха и погруженным в раздумье. Я видел, как темнеют и углубляются его угрюмые глаза, по мере того, как душу его с каждым днем охватывают чары огромной и мрачной страны. Я представлял себе его ночью в станционном доме, худого и жуткого, пьющего у стойки, опустившегося, отчаявшегося калеку. Я представлял себе, как с каждым днем, с каждым часом он все больше ожесточается. Он возвращался обратно, чтобы видеть свое разрушенное счастье, и один бог знает, какими дикими планами мести было полно его сердце. В самом деле я должен остерегаться. Пока я сидел так в раздумье, позвонил телефон. Это был надсмотрщик с Золотого Холма.
― Подъемная машина оборвалась, ― сказал он мне. ― Не можете ли вы приехать и посмотреть, что требуется.
― Хорошо, ― ответил я. ― Я сейчас выеду.
― Берна, ― сказал я. ― Мне нужно будет съездить в Форкс, сегодня ночью. Я вернусь завтра рано утром. Приготовь мне чего-нибудь поесть, пока я прикажу заложить лошадь.
По дороге в конюшню я встретил Гарри и сказал ему, что уеду на ночь.
― Не хочешь ли и ты?
― Нет, спасибо, старина.
― Прекрасно, до свиданья.
Я поспешил дальше и вскоре после этого со звоном колокольчиков я подъехал к моим дверям. Берна приготовила ужин. Она казалась взволнованной. Ее глаза сияли, как звезды, щеки пылали.
― Ты нездорова, голубка? ― спросил я. ― У тебя лихорадочный вид.
― Нет, дорогой, я здорова, но мне не хочется, чтобы ты уезжал сегодня ночью. Что-то говорит мне, что ты не должен делать этого. Пожалуйста, милый, не езди. Пожалуйста, ради меня.
― Какие глупости, Берна. Ты же знаешь, что я уезжал уже. Пригласи кого-нибудь из жен соседей переночевать с тобой. Попроси миссис Брукс.
― О, не езди, не езди, прошу тебя, дорогой. Я не хочу этого. Я боюсь, боюсь. Не может ли кто-нибудь другой заменить тебя?
― Пустяки, девочка. Ты не должна быть такой глупенькой. Это только на несколько часов. Вот я сейчас позвоню к миссис Брукс и ты попросишь ее. ― Она вздохнула.
― Нет, не стоит. Я позвоню ей после того, как ты уедешь.
Она тесно прижалась ко мне. Я нежно поцеловал ее, разнял ее руки и пожелал ей доброй ночи.
Когда я тронулся, звеня бубенцами в темноте, какой-то мальчик подал мне записку. Я сунул ее в карман, решив прочесть, когда приеду в Оджилви Бридж. Затем я подхлестнул лошадь.
Ночь стояла хрустящая, веселящая дух. У меня был один из лучших рысаков в городе, а санный путь был великолепен. Когда я мчался, звеня колокольчиками, настроение мое поднялось. Дела обстояли великолепно. Россыпи оказались гораздо богаче, чем мы предполагали. Несомненно, мы сможем скоро ликвидировать их, и у меня будет то состояние, о котором я мечтал. К тому же и Блудный Сын проводил в Нью-Йорке одно дело, которое должно было реализовать наше богатство. Моя жизненная борьба была почти кончена.
Мне к тому же удалось помирить Гарри с Берной. Когда я сообщу ему секрет, который храню в сердце, он сдастся окончательно. Как счастливы мы будем. Я куплю маленькое имение и мы устроимся там. Но сначала мы потратим пару лет на путешествие. Осмотрим весь свет.
Какие славные времена настанут для нас с Берной. Все устраивалось прекрасно.
Но почему она так боялась, так противилась моему отъезду? Я слегка задумался и подстегнул лошадь, так, что она резко рванулась вперед. Необъятное черно-синее небо напоминало опрокинутую драгу и звезды казались бликами золота, приставшими к ней. Холод пощипывал меня, пока щеки не начали зудеть и глаза, казалось, готовы были метать искры. О, жизнь была прекрасна!
Досадно! В своем возбуждении я забыл вытащить и прочесть в Ольд-Инне свою записку. Я сделаю это, когда приеду в Форкс.
Продвигаясь вперед, я думал о том, как мало все вокруг напоминало ту Бонанцу, которую я видел раньше. Помню, как я странствовал по склону с мешком муки, который приходилось тащить по грязной тропинке, бедный старатель в грязной одежде. Теперь я правил красивой лошадью по прекрасной дороге. Я был первоклассным предпринимателем, деловым человеком, с опытом. Мое настроение все поднималось и поднималось.
Как быстро летит лошадь. Я сейчас буду в Форксе. С быстротой молнии мелькали мимо окна хижин. Я видел одинокие масляные светильники, при свете которых старатель читал книгу или набивал трубку. Никогда не существовало более доблестного и умного человека, но его дни были сочтены. Вся страна переходила в руки компаний. Скоро, думал я, одно или два больших общества будут держать в руках все богатства страны. Они уже обратили на них свои взоры. Пароходы будут плавать и реветь там, где старатель прежних времен работал с мотыгой и тазом. Повсюду перемена, перемена.
Глава XXI
Ха, наконец-то я в Форксе! Как только я вошел в гостиницу, ко мне подошел клерк.
― С вами хотят поговорить по телефону, сэр.
Это был Муррей из Даусона, мой старый знакомый и почти друг.
― Послушайте, Мельдрум! ― говорит Муррей. ― Хочу предупредить вас, что перед утром должен прибыть дилижанс, на котором находится Локасто. Говорят, что он едет за вами. Я решил предупредить вас, чтобы вы могли приготовиться к этому.
― Хорошо, ― ответил я, ― благодарю вас. Я поверну и возвращусь сейчас обратно.
Итак, я повернул лошадь и снова помчался по сверкающей дороге. Я больше не мечтал и не ликовал. Жестокий страх сжимал мне сердце. Передо мной внезапно выросла тень Локасто, зловещая и грозная. Как раз в эту минуту он торопился в Даусон, с сердцем, полным ненависти ко мне. Что ж, я вернусь и приготовлюсь к встрече.
Мне пришла в голову забавная мысль о том, что неловко возвращаться в собственный дом неожиданно, глубокой ночью. Я подумал было отправиться в гостиницу, но затем решил попытаться попасть домой, потому что мне хотелось быть близ Берны.
Я постучался тихо, потом немного громче, наконец, совсем громко. Внутри все было тихо, темно, как в склепе. Странно, у нее был такой чуткий сон… Почему она не слышала меня? Я снова решил отправиться в гостиницу, но тот же неопределенный смутный страх опять охватил меня и я постучал еще раз. Тут мой страх перешел в панику. Ключ от двери был у меня в кармане, и я потихоньку открыл ее.
Я стоял в передней, вокруг было темно, очень темно и тихо. Я не слышал даже ее дыхания.
― Берна, ― позвал я ее шепотом.
Ответа не было.
Темный безымянный страх сжимал мне сердце; я стал ощупью искать над собой висячую лампу. Как трудно было найти ее. Дюжину раз мои руки описывали в воздухе круги, прежде, чем пальцы ударились об нее. Я зажег свет. Весь дом мгновенно осветился. В столовой на столе я увидел остатки нашего ужина, лежавшие неприбранными. Это было не похоже на нее. Она не выносила грязных тарелок. Я прошел в спальню. А кровать была не тронута.
Как глуп я был. Меня вдруг осенила мысль, что она отправилась ночевать к миссис Брукс. Она боялась оставаться одна, бедная детка. Как она удивится, когда увидит меня утром.
Ну, я улягусь в постель. Снимая свое пальто, я наткнулся на записку, переданную мне. Браня себя за рассеянность, я вытащил ее из кармана и вскрыл. Развернув листок, я заметил, что она была написана измененным почерком. Странно! ― подумал я. Почерк был мелкий и неясный. Я протер глаза и поднес ее ближе к свету.
Милостивый боже, что это такое? О, это было невозможно, глаза обманывали меня. Это была галлюцинация. Я лихорадочно перечитал записку. Да, это были все те же слова. Что они могли означать? Несомненно, несомненно… О, ужас из ужасов…
Но они не могли означать этого. Я прочел слова. Да, они были тут: «Если вы настолько глупы, что доверяете Берне, наведайтесь в комнату вашего брата сегодня ночью. Доброжелатель».
Я опустился на стул, ошеломленный. Бумага лежала на ковре перед камином, и я с ненавистью смотрел на нее. Она казалась мне невыразимо отвратительной, но я был точно прикован к ней. Меня тянуло поднять ее и перечитать снова, но я почему-то не решался. Я становился трусом.
Это была ложь, черная дьявольская клевета. Она была у кого-нибудь из соседей. Я верю ей, я доверил бы ей свою жизнь. Я лягу спать. Утром она вернется и тогда я откопаю негодяя, который осмелился написать такие вещи. Я начал раздеваться.
Я лежал в постели, окутанный тьмой, и жмурил глаза, чтобы создать двойной мрак. Ха! Как раз перед моими глазами пылала роковая бумажка с ее ужасными поклепами. Я вскочил. Это было бесполезно. Я должен выяснить все ― раз и навсегда. Я зажег свет и поспешно стал одеваться.
Я направлялся в гостиницу, где снимал комнату Гарри. Я скажу ему, что вернулся неожиданно и попрошу разделить со мной комнату. Я не делаю это из-за записки. Я не подозреваю ее. Упаси боже. Но это приключение расстроило меня. Я не могу оставаться дома.
Гостиница была спокойна. Сонный ночной клерк вытаращил на меня глаза, и я, оттолкнув его, прошел мимо. Комнаты Гарри были в третьем этаже. Пока я поднимался по длинной лестнице, мое сердце мучительно колотилось и, добравшись до его двери, я совсем задохнулся. Я увидел сквозь переплет, что у него горит свет.
Я слабо постучался. Послышалось внезапное движение.
Я постучал снова.
Был ли то обман слуха, или я действительно слышал придушенный женский крик? В нем было что-то знакомое… О, боже мой.
Я зашатался, чуть не упал и уцепился за дверь; почти теряя сознание, я прислонился к раме, ища поддержки. Боже, помоги мне.
― Иду, ― услышал я его голос.
Дверь была отперта и передо мной стоял он. Он был вполне одет и смотрел на меня с выражением, которое я не мог вполне уяснить, но лицо его было очень спокойно.
― Войди, ― сказал он.
Я вошел в его гостиную. Все было в порядке. Я готов был поклясться, что слышал женский голос, и тем не менее никого не было видно. Дверь в спальню была слегка приоткрыта. Я не спускал с нее глаз, как зачарованный.
― Прости, что я беспокою тебя, Гарри, ― сказал я, и сам почувствовал, как напряженно и странно прозвучал мой голос. ― Я внезапно вернулся и никого не застал дома. Я хочу переночевать здесь с тобой, если ты ничего не имеешь против.
― Конечно, старина. Я очень рад видеть тебя.
Его голос звучал ровно. Я присел на кончик стула.
Мои глаза были прикованы к этой двери в спальню.
― Хорошо съездил? ― продолжал он весело. ― Ты, должно быть, замерз? Не хочешь ли немного виски?
Мои зубы стучали. Я цеплялся за стул. О, эта дверь! Глаза мои не отрывались от нее. Я был убежден, что слышу кого-то за нею. Он встал, чтобы достать виски.
― Скажи, когда будет довольно.
― Довольно.
― В чем дело, старина? Ты болен?
Я схватил его за руку.
― Гарри, там кто-то есть, в комнате!
― Глупости, там никого нет.
― Есть, говорю тебе. Прислушайся, разве ты не слышишь, как там дышат?
Он был спокоен. Я ясно слышал прерывистое дыхание человека. Я сходил с ума. Я не мог больше выдержать этого.
― Гарри, ― задыхаясь, сказал я, ― я должен посмотреть, я должен посмотреть.
― Не надо.
― Нет, я должен, говорю тебе. Ты не удержишь меня. Пусти, говорю тебе, пусти. Теперь выходите, кто бы вы ни были. А!
Это была женщина.
― Ха, ― воскликнул я, ― я говорил тебе, брат, женщина. Кажется, я тоже знаю ее. Ну, дай мне взглянуть… Я так и думал.
Я схватил ее и потащил к свету: это была Берна. Ее лицо было бело, как мел, глаза расширены от ужаса. Она дрожала и казалась близкой к обмороку.
― Я так и думал.
Теперь, когда, казалось, самое ужасное открылось мне, я стал удивительно спокоен.
― Берна, тебе дурно, позволь провести тебя к креслу.
Я усадил ее. Она не произносила ни слова, но смотрела на меня с безумной мольбой в глазах. Никто не говорил.
Итак, мы были вместе, все трое: Берна в полуобмороке от страха, жалкая, бледная, как привидение; я, спокойный, но странным, неестественным спокойствием, и Гарри ― он поражал меня. Он уселся и с величайшим хладнокровием стал закуривать папироску.
Долгое напряженное молчание. Наконец, я прервал его.
― Что ты можешь сказать в свое оправдание Гарри? ― спросил я.
Удивительно до чего он был спокоен.
― Неважное выходит положение, не правда ли, брат? ― сказал он многозначительно.
― Да как нельзя хуже.
― Похоже на то, что я очень низкий и подлый образчик человеческой породы, дружище. Не так ли?
― Да, низкий, как только может быть низок человек.
― Так. ― Он встал и зажег большую стоячую лампу. Затем подошел ко мне и посмотрел мне прямо в лицо. Его напускное спокойствие внезапно исчезло. Он сделался суровым и сильным. Его голос звучал твердо.
― Выслушай меня.
― Я слушаю.
― Я приехал сюда, чтобы спасти тебя и намерен сделать это. Ты хотел, чтобы я поверил в добродетель этой женщины. Ты сам верил в нее. Ты был околдован, ослеплен, одурачен. Я видел это, но мне нужно было заставить тебя понять. Я должен был довести тебя до сознания, что она недостойная женщина, что любовь ее к тебе срам, только предлог, чтобы разорить тебя. Как я мог доказать это? Ты не стал бы слушать доводов. Мне нужно было искать других путей. Теперь слушай меня!
― Я слушаю.
― Я составил план. Три месяца я старался завладеть ею, привлечь ее любовь, оторвать от тебя. Она оказалась преданнее, чем я предполагал. Я не могу не отдать ей должного в этом отношении. Она сильно боролась, но я думаю, что восторжествовал. Сегодня ночью она пришла в мою комнату по моему приглашению.
― Ну?
― Ну, ты получил записку. Я сам написал ее. Я наметил эту сцену и это разоблачение. Я подстроил это для того, чтобы глаза твои открылись, чтобы ты увидел, кто она, чтобы ты прогнал ее ― неверную, распутную…
― Остановись, ― прервал я его. ― Брат ты мне или нет, я не желаю, чтобы ты называл ее такими именами, хотя бы даже она была в десять раз хуже. Ты не смеешь, говорю я! Я задушу слова в твоем горле. Я убью тебя, если ты произнесешь звук против нее. О, что ты сделал!..
― Что я сделал? Постарайся успокоиться, друже. Что я сделал? Вот что ― и счастлив для тебя тот день, когда я сделал это. Я спас тебя от позора, освободил от греха, доказал тебе низость этой женщины.
Он поднялся на ноги.
― Я похитил у тебя твою любовницу: вот, что я сделал.
― О, нет, не это, ― простонал я, ― прости тебя Боже, Гарри. Она не моя лю… ― то, что ты думаешь. Она моя жена.
Глава XXII
Мне показалось, что он упадет в обморок. Лицо его побелело, как бумага, он отшатнулся, глядя на меня дикими расширенными глазами.
― Господи помилуй! Почему ты не сказал мне этого, мальчик, почему ты не сказал мне?
В голосе его прозвучала нота, более потрясающая, чем рыдание.
― Ты должен был довериться мне, ― продолжал он. ― Ты должен был сказать мне. Когда вы повенчались?
― Только месяц тому назад. Я готовил сюрприз для тебя. Я ждал, пока ты скажешь, что полюбил ее и изменил свое мнение о ней. О, я думал, что ты будешь доволен и счастлив, и я лелеял эту тайну, чтобы сказать тебе.
― Это ужасно, ужасно.
Его голос был задушен волнением. Берна уныло поникла в своем кресле. Ее расширенные неподвижные глаза были устремлены на пол в жалком смущении.
― Да, это действительно ужасно. Мы были так счастливы. Мы так радостно жили вместе. Все казалось нам прекрасным, раем для обоих. И тут явился ты, ты, со своим обаянием, которое совратило бы ангела с высоких небес. Ты испытал свою силу на моей бедной, маленькой девочке, которая никого никогда не любила, кроме меня. А я доверял тебе, старался сделать вас друзьями. Я оставлял вас вдвоем. В своей слепой невинности я всячески помогал тебе, я, простодушный, любящий дурак! О, теперь я вижу.
― Да, да, я знаю. Твои слова терзают меня. Это все верно, верно.
― Ты явился как змея, как гнусное пресмыкающееся существо, чтобы похитить ее у меня, чтобы причинить мне зло. Она любила, была верна и чиста. Ты увлек бы ее в болото, ты…
― Остановись, брат. Ради бога. Ты несправедлив ко мне.
Он повелительно протянул руку. Чудесная перемена произошла в нем. Лицо снова приняло спокойное выражение. Оно было сурово и гордо.
― Ты не должен думать, что я виновен в этом, ― сказал он спокойно. ― Я сыграл роль, которую никогда не думал играть. Я сделал дело, о которое никогда не думал замарать свои руки, и я жалею об этом и стыжусь этого. Но я говорю тебе, Этоль, что это все. Бог свидетель, что я не причинил тебе зла. Ты, без сомнения, не можешь думать, чтобы я был так низок. Без сомнения, ты не веришь, чтобы я был способен на это. То, что я сделал, я сделал из любви к тебе, ради твоей чести. Я пригласил ее сюда, чтобы ты мог видеть, кто она. Но это было все, я клянусь в этом. Она была здесь в такой же безопасности, как в стальной клетке.
― Я знаю это, ― сказал я. ― Ты пригласил ее сюда, чтобы я увидел, кто она такая. Ты говоришь мне, что завладел ее любовью, ты утверждаешь, что она пришла сюда на твой зов, ты клянешься, что она изменила бы мне. Ну, так я говорю тебе, брат мой, прямо в лицо ― я не верю тебе.
Внезапно маленькая поникшая фигурка в кресле выпрямилась, бледное, убитое горем лицо, с расширенными остановившимися глазами, повернулось ко мне. Жалкий вид исчез и на его месте была горячая невыразимая радость.
― Успокойся, Берна, я не верю ему, ― сказал я. ― Я не верю ему, и если бы миллионы других стали кричать мне в уши то же самое целую вечность, я сказал бы им, что они лгут, лгут.
Небесный свет сиял в ее серых глазах. Она сделала движение ко мне, но покачнулась, и я подхватил ее на руки.
― Не бойся, малютка, дай мне свою руку. Видишь, я целую ее, дорогая. Ну, теперь перестань плакать, любимая. Перестань.
Ее руки обвились вокруг меня. Она прижалась ко мне также тесно.
― Гарри, ― сказал я, ― это моя жена. Когда я потеряю веру во все остальное, я не перестану верить в нее. Ты заставил нас обоих страдать. Относительно того, что ты утверждаешь, ты ошибся. Она хорошая, хорошая женщина. Я никогда не поверю, что словом, делом или мыслью, она была неверна мне. Теперь прощай. Идем, Берна.
Вдруг она остановила меня. Ее рука лежала на моем плече и она повернулась к Гарри. Она держала себя с достоинством королевы.
― Теперь я хочу объяснить все, ― сказала она, ― перед вами обоими.
Она вынула из-за пазухи маленькую сложенную записку и протянула ее мне. Когда я прочел ее, яркий свет озарил меня. Вот она:
«Дорогая Берна. Ради бога, будьте осторожны. Джек Локасто снова едет на Север. Мне кажется, что он обезумел. Я знаю, что он ни перед чем не остановится и не хочу, чтобы пролилась кровь. Он говорит, что собирается свести старые счеты. Ради себя и дорогого вам человека будьте осторожны.
Виола Ленуар».
― Я получила это два дня назад, ― сказала она. ― О, я чуть не помешалась от страха. Я не хотела показывать тебе. Я не принесла тебе ничего, кроме беспокойства, и никогда не упоминала о нем, ни разу. Ты понимаешь, не правда ли?
― Да, детка, я понимаю.
― Я хотела спасти тебя, все равно какой ценой. Этой ночью я старалась удержать тебя от поездки туда потому что боялась, чтобы ты не встретил его. Я знала, что он очень близко. Но, когда ты уехал, мой страх стал расти все больше и больше. Я сидела, размышляя обо всем этом. Если бы только у меня был друг, думала я, кто-нибудь, кто помог бы мне. И когда я сидела, испуганная и расстроенная, позвонил телефон. Это был твой брат.
― Да, продолжай, дорогая.
― Он сказал, что хочет видеть меня и просил прийти тотчас же. Я подумала о тебе, о грозившей опасности о каком-нибудь ужасном несчастье. Я была в ужасе ― и пошла.
Она остановилась на минуту, как будто рассказ был невыносимо тяжел для нее. Затем продолжала.
― Я нашла дорогу к этой комнате. Мои мысли были полны тобой, тем человеком, желанием спасти тебя. Я не думала о себе, о своем положении. Сначала я была слишком взволнованна, чтобы говорить. Он попросил меня сесть и успокоиться. У него был значительный, торжественный вид. Я снова испугалась за тебя. Он попросил извинения и вышел из комнаты. Мне казалось, что его отсутствие длится целую вечность, пока я сидела, стараясь подавить свой страх. Неизвестность удивила меня. Затем он вернулся. Он закрыл и запер двери. Вдруг я услышала шаги и стук. ― «Тсс. Пройдите туда», ― сказал он. Он отпер дверь. Я услышала, как он разговаривает с кем-то. Я ждала, но тут ты показался вдруг. Остальное ты знаешь.
― Да, да.
― Что касается твоего брата, то я старалась ― о, как горячо! ― быть приятной ему, ради тебя. Он мне нравился, я хотела быть для него сестрой, но никогда мысль об измене не приходила мне в голову, никогда дурное чувство не оскверняло мое сердце. Я была верна тебе. Ты сказал мне однажды о любви, которая отдает, все и не требует ничего. О любви, которая отворачивается от друзей и родных ради возлюбленного. Я думаю, что люблю тебя так.
― О, дорогая, дорогая…
― Я хотела принести тебе счастье, но приношу только тревоги и горе. Иногда, ради тебя, я желала бы, чтобы мы никогда не встречались.
Она повернулась к Гарри.
― А вы, вы причинили мне большое зло. Я никогда не забуду его. Не хотите ли вы уехать теперь и оставить нас в покое?
Его голова была опушена так низко, что я не мог видеть лица.
― Не можете простить меня? ― простонал он.
Она печально покачала головой.
― Нет, боюсь, что никогда не смогу простить.
― Не могу ли я искупить это чем-нибудь?
― Ваше наказание должно быть в том, что вы ничего не сможете сделать.
Он не сказал больше ни слова. Она повернулась ко мне.
― Пойдем, супруг мой, ― нам пора.
Я открыл дверь, чтобы покинуть его навсегда. Вдруг я услышал шаги, поднимавшиеся по лестнице, тяжелую торопливую походку. Я посмотрел вниз, потом оттолкнул ее обратно в комнату.
― Приготовься, Берна, ― сказал я спокойно, ― вот идет Локасто.
Глава XXIII
Итак, мы ждали, Гарри и я, а между нами Берна. Мы слышали, как тяжелые шаги поднимались все выше и выше, по скрипучей лестнице, споткнулись один раз, потом остановились на площадке. В этой паузе было что-то зловещее. Шаги задержались, немного поколебались, затем, неуклонные как рок, направились к нам. В следующее мгновение дверь порывисто раскрылась, и Локасто появился на пороге.
Даже в это короткое мгновение меня успела поразить перемена в нем. Казалось, он состарился на двадцать лет. Он был худ и дрябл, как голодный волк в лесу. Лицо его напоминало череп, волосы были длинны и редки, глаза горели странным, неестественным огнем. Никогда кровь индейца не выражалась так ясно, как в этом темном орлином лице. Он хромал, и я заметил, что его левая рука была в перчатке.
Он сверкнул на нас взглядом из-под ощетинившихся бровей. Стоя тут, он был похож на злое животное, дикое существо, бешенное и отчаянное. Он пошатнулся в дверях и, чтобы удержаться, протянул свою руку в перчатке. Затем, со злым смехом, ядовитым смехом врага, он вошел в комнату.
― Так, кажется, я накрыл прелестное гнездышко воркующих голубков. О, о, моя прелесть! Вам мало одного любовника, вам нужно двоих. Ну, с этих пор вам придется довольствоваться одним, и это будет Джек Локасто. Я достаточно вынес из-за вас, белолицая распутница. Вы преследовали меня, чем-то приворожили меня, вы притянули меня обратно в эту страну, и теперь я должен овладеть вами или умереть. Вы достаточно наигрались со мной. Комедия кончена. Отойдите от этих двух. Выходите, говорю я. Ступайте из этой комнаты.
Она только отшатнулась дальше.
― Вы не хотите идти, проклятая ведьма, с вашим молочным лицом, с вашими серыми глазами, которые просверлили во мне дыры, которые жгут мое сердце, которые сводят меня с ума! Вы не хотите идти? Эй, отойдите вы двое, и дайте ей выйти.
Мы заслонили ее.
― Ха, вот оно что! Вы смеетесь надо мной? Вы хотите помешать мне завладеть ею? Что ж, тем хуже будет для нее. Я превращу ее жизнь в ад. Я буду бить ее. Вы не хотите отойти? Вон вы, брюнет, разве я не знаю вас? Разве я не ненавидел вас больше, чем дьявол ненавидит святого, ненавидел пуще горького яда. Эти три года вы дурачили меня, удерживали ее. О, я пытался убить вас бесчисленное количество раз, но мне не удавалось. Однако теперь мой час. Отойдите назад, говорю я, отойдите назад. Ваше время пришло. Теперь я стреляю.
Его рука поднялась, и я увидел, что она сжимала револьвер. Я был под прицелом. Лицо его исказилось дьявольским торжеством, и я понял, что он решил убить. Наконец мой час пробил. Я увидел, как его пальцы нажали курок, я смотрел в пустой ужас дула. Мое сердце превратилось в лед. Я не мог перевести дыхание. О, если бы отсрочка, минута. Уф! Он спустил курок и в то же мгновение Гарри кинулся к нему.
Что случилось? Выстрел раздался в моих ушах, я все еще стоял тут, а не чувствовал раны, не чувствовал боли. Но пока я смотрел на своего врага, послышался звук тяжелого падения. О, боже! Тут, у моих ног, лежал Гарри, лежал беспорядочной трепещущей грудой, упав на лицо, и в его белокурых волосах я видел темное пятно, быстро растекавшееся. Тогда, в секунду, я понял, что сделал мой брат.
Я упал на колени около него.
― Гарри, Гарри, ― стонал я.
Я услышал крик Берны и увидел, что Локасто подходит ко мне. Это не был больше человек. Он убил. Теперь это был зверь, фурия, дьявол, обезумевший от жажды разрушения. С рычанием он бросился ко мне. Я снова подумал, что он застрелит меня. Но нет! Он поднял тяжелый револьвер и изо всех сил опустил его на мою голову. Я почувствовал удар и с ним казалось вышла вся моя сила. Мои ноги были парализованы, я не мог двинуться. И пока я лежал так, в туманном оцепенении, он приблизился к Берне.
Она стояла в нише, пораженная ужасом, слабая, задыхающаяся, беспомощная; я увидел, как он загнал ее в угол. Его руки были вытянуты к ней; еще мгновение, и он схватил бы ее. Мгновение ― и с быстротой молнии она подняла тяжелую стоячую лампу и бросила ее ему в лицо.
Я услышал крик ужаса и увидел, как он повалился, когда лампа ударилась между его глаз; я увидел, как огненные языки вырвались и запрыгали. Он поднялся во весь рост, ужасный в своей агонии. Он был в одежде пламени, он был в море огня. Он выл, как собака, и повалился на кровать.
Вдруг пропитавшееся маслом одеяло занялось. Занавески как будто подпрыгнули и превратились в пламя. В то время как он катался и ревел от боли, огонь взобрался по стенам и перекинулся на крышу. Помогите, помогите! Комната горит! Пожар, пожар!
Снаружи, в коридоре я слышал сильную суматоху, крики мужчин, вопли женщин. Весь дом ожил, был охвачен паникой, обезумел от страха. Теперь все было объято огнем, неистово безумно пылало и ничто не останавливало огня. Гостиница горит, и я также сгорю. Какой ужасный конец. О, если бы я только мог что-нибудь сделать. Но я был не в силах двинуться. Книзу от пояса я был точно труп. Где Берна? Дай боже, чтобы она была спасена. Я не мог звать на помощь. Комната кружилась в моих глазах. Я был слаб, ошеломлен и беспомощен.
Гостиница была в огне. Внизу на улице собирались толпы. Люди бегали вверх и вниз по лестнице, вступали в драку, чтобы вырваться, обезумев от ужаса прыгали через окна. О, как ужасно, ― сгореть! Неужели никто не спасет меня?
Да, кто-то пытался сделать это и тащил мое тело по полу. Сознание покинуло меня, и я, казалось, пролежал гак в оцепенении годы. Когда я снова открыл глаза, кто-то все еще тащил меня. Мы спускались вниз по лестнице и со всех сторон нас окружали полосы развевающегося огня. Я был завернут в одеяло. Как оно очутилось на мне? Кто была эта темная фигура, так отчаянно тянувшая меня. Она старалась поднять меня, делала несколько шагов, шатаясь под моей тяжестью, и спотыкалась. Мужественное, доблестное существо ― кто бы ты ни было! Еще одно отчаянное усилие, и мы почти у двери. Огненные языки накидываются на нас, как змеи, прыгают по пятам, как котята. Над нами волнующийся свод пламени, взлетающий вверх с оглушительным ревом. Горящие головни носятся вокруг, а перед нами черная бездна дыма. Текучие стены пламени надвигаются на нас. Мы в пещере огня и через мгновение она поглотит нас. О. мой спаситель, еще одно безумное усилие! Мы почти у двери. Тут меня поднимают и мы оба вываливаемся на улицу. Это совершается в последнюю минуту. За нами, точно дикий зверь, преследующий свою добычу, вылетает вихрь пламени и дверь превращается в пучину сверкающей ярости.
Я лежу на снегу, на одеяле, и кто-то держит мою голову.
― Берна, ты ли это?
Она кивает. Она не говорит. Я содрогаюсь при взгляде на нее. Ее лицо ― сплошной ожог, черная маска, в которой светло блестят глаза и зубы.
― О, Берна, Берна, и это ты вытащила меня?
Мои глаза обращаются к огненному пеклу передо мной. Я вижу, как проваливается крыша, осыпая нас дождем пылающих искр. Я вижу пожарного, бегущего обратно. Он окутан пламенем. Как безумный, он начинает кататься в снегу. Гостиница напоминает водопад огня, он разбрызгивается наружу как вода, великолепная золотая вода!
В центре ее чудесный водоворот. Я вижу очертания высунувшейся черной балки, на которой висит неясный обуглившийся предмет. С минуту он колеблется в нерешительности, затем погружается внутрь в жгучее чрево бездны. И я узнаю в нем Локасто.
О, Берна. Берна! Я не в силах взглянуть на нее. Зачем она сделала это? Это ужасно, ужасно!
Огонь распространяется. Обезумев от волнения и страха, мужчины и женщины бредят, богохульствуют и молятся. Воды, воды! ― вопят они. Но воды нет. Вдруг толпа подстрекаемых страхом людей взволнованно бежит по улице. Они тащат длинный шланг, соединяющийся с водокачкой на реке. Ура! Теперь они скоро одолеют пламя. Вода, вода идет! Шланг приставлен, слышится крик пустить воду. Торопитесь там! Но воды нет. В чем дело? Тут распространяется ужасающий слух, что человек, дежуривший на водокачке, пренебрег своими обязанностями и топка в машине остыла. Вопль ярости и отчаяния поднимается к бледным небесам. Женщины ломают руки и стонут, мужчины наблюдают в оцепенении безнадежной агонии. И огонь, как бы сознавая свою победу, вздымается вверх в ревущем ликовании торжества.
Мы с Берной наблюдаем, лежа в снегу, который тает вокруг нас в невыносимом опаляющем зное. Да, надежды нет. Золотоносный город обречен. С того места, где я лежу, сцена представляет одну длинную перспективу пылающих крыш, балок и стропил, объятых могучей дланью огня. Раздавленные хижины крутятся в безумных водоворотах пламени, гостиницы, кафешантаны, публичные дома спеленуты и задушены покрывалами клубящеюся дыма. Надежды нет!
Золотоносный город обречен. И, когда я лежу тут, мне представляется, что это возмездие, и что на развалинах его вырастет новый город, чистый, честный, непорочный. Да, Золотой лагерь найдет себя! Так же, как золото, он должен пройти через горнило, чтобы стать чистым, и на месте, где в прежние дни люди, трудившиеся ради золота, обирались при помощи всевозможных ухищрений человеческого лукавства, воздвигнется новый город, великий город, славный и богатый, любимый сердцами своих сынов и благословенный в своей чистоте и мире.
― Любимая, ― вздохнул я сквозь возвращающуюся волну сознания. Я чувствовал горячие слезы, капавшие на мое лицо, я чувствовал поцелуй, запечатлевшийся на моих губах, я чувствовал шепот на ухо.
― О, дорогой мой, дорогой мой, ― говорила она. ― Я принесла тебе только горе и страдание, но ты дал мне любовь, которая ослепительный свет, по сравнению с которой солнечное сияние ― тьма.
― Берна! ― Я поднялся и протянул руки, чтобы обнять ее. Они схватили пустой воздух. Я дико озирался вокруг. Она ушла.
― Берна, ― воскликнул я снова, но ответа не было. Я был один. Сильная слабость охватила меня…
Я никогда больше не увидел ее.
ПОСЛЕДНЕЕ
Повесть кончена. Я написал здесь историю своей жизни, или той части ее, которая означает все для меня, ибо остальное не имеет никакого значения. Теперь это кончено, я кончен также. Итак, я сяду и буду ждать. Чего я жду? Быть может, божественного чуда.
Как бы то ни было, я чувствую, что увижу ее снова, как бы то ни было, как бы то ни было!
Несомненно, Бог не открыл нам сияющего света Великой Сущности только для того, чтобы погрузить нас снова в непроглядную тьму. Любовь не может быть тщетна. Я не могу поверить этому. Как бы то ни было, как бы то ни было!
Так я сижу у пламени большого торфяного огня и жду, и во мне растет вера, что она вернется вновь, что я почувствую любовную ласку ее руки на своей подушке, услышу ее голос, дышащий нежностью, увижу сквозь застланные слезами глаза ее сочувствующее лицо. Как бы то ни было, где бы то ни было!
С помощью своего костыля я открываю одно из длинных окон и выхожу на балкон. Я вглядываюсь в темноту и снова ощущаю страну подавляющих пространств, непостижимого уныния. С невыразимой тоской в сердце я стараюсь пробраться сквозь тени, окружающие меня. В пещерной темноте снежные хлопья жалят мне лицо, но великая ночь кажется мне благосклонной, и я опускаюсь на садовую скамейку. О, я устал, устал.
Я жду, жду. Я закрываю глаза и жду. Я знаю, что она придет. Снег покрывает меня. Белый, как статуя, я сижу и жду.
А, Берна, дорогая моя. Я знал, что ты вернешься. Я знал, я знал. Подойди ко мне, маленькая, я устал, так устал! Обними меня, детка, поцелуй меня, поцелуй еще. Я слаб и болен, но теперь, когда ты пришла, я скоро поправлюсь снова. Ты не оставишь меня больше, не правда ли, голубка? О, как сладко снова видеть тебя. Это кажется сном. Поцелуй меня еще раз, любимая. Вокруг так темно и холодно. Обними меня…
О, Берна, Берна, свет моей жизни! Я знал, что все будет прекрасно в конце ― там, за туманами, за грезами, в конце, дорогая любовь, в конце…
1
От пьянства.
(обратно)2
Перевод Д.М. Горфинкеля.
(обратно)3
Индийские мешки для ног из моржовой кожи и котика.
(обратно)


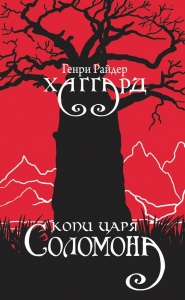

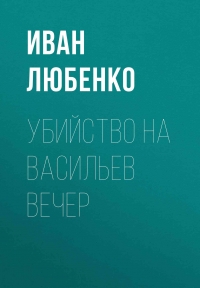
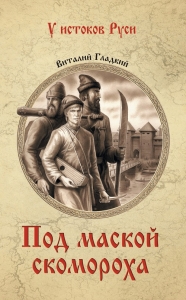

Комментарии к книге «Аргонавты 98-го года», Роберт Вильям Сервис
Всего 0 комментариев