Михаил Попов Паруса смерти
Из энциклопедии «Ла Гранд».
т. 25, Париж
ОЛОННЭ — настоящее имя Жан-Давид Hay, капитан флибустьеров, родился в 1630 году в окрестностях портового города Сабль-д'Олоннэ (ныне Ле-Сабль-д'Олон), департамент Вандея.
В 1650 году он отплыл из Ла-Рошели на Антильские острова, где прослужил у хозяина три года, выполняя самую разную работу. По истечении этого срока Олоннэ направился на остров Санто-Доминго (Эспаньола) — современное название Гаити, — где стал одним из лучших буканьеров [1]. После столкновения с испанцами, которые решили изгнать иностранных охотников со своего острова, и с трудом избежав резни и мести собственных товарищей, которых он покинул на произвол судьбы, Олоннэ добрался до острова Тортуга, принадлежавшего Франции, где и поклялся в смертельной ненависти к испанцам.
Вооружив небольшой отряд, он совершил несколько удачных экспедиций против испанцев и захватил богатую добычу, но вскоре потерпел кораблекрушение и потерял корабль.
Осуществив несколько мелких вылазок на шлюпках, он для борьбы с испанцами получил от губернатора острова Тортуга второй корабль. После нескольких плаваний он снова потерпел крушение и едва не погиб при нападении на город Кампече на полуострове Юкатан (Мексика).
Вернувшись спустя какое-то время на Тортугу, Олоннэ решил снарядиться посерьезней и вместе с Мигелем Баском — другим известным пиратом — собрал флотилию из восьми судов и четырехсот сорока человек. С этими силами он вышел в поход и успешно атаковал, захватил и разграбил города Маракаибо и Сан-Антонио-де-Гибралтар в 1666 году. За ними пали и другие испанские города: Пуэрто-Кавалло и Сан-Педро. Истязая пленных испанцев, Олоннэ собрал большие суммы денег в качестве выкупа. После этих «подвигов» он собрался в Гватемалу, но основная масса флибустьеров не поддержала своего капитана и покинула его.
Корабль Олоннэ снова был разбит бурей у берегов острова Лас-Перлас. Построив из обломков судна небольшой бот, Олоннэ с несколькими верными людьми почти добрался на нем до Юкатана, но снова буря уничтожила его суденышко. Он продержался на берегу несколько месяцев, живя охотой и рыбной ловлей, но, безоружный и гонимый голодом, направился через джунгли в Панаму, где был взят в плен индейцами-каннибалами, разорван на куски и съеден.
Так окончил свою жизнь знаменитый пират.
Это случилось на островах Бару (ныне Барро-Колорадо) в Дарьенском заливе в 1671 году.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Галион погибал. Двухчасовое сражение превратило гордость испанского королевского флота в кучу обломков. Бушприт разнесен в щепы, фок-мачта срезана как бритвой, в носовой части чуть выше ватерлинии зияла громадная дыра с рваными краями. Одного взгляда на бывшую плавучую крепость было достаточно, чтобы понять: через час, самое большее полтора она скроется под зеленоватыми волнами Карибского моря.
Между тем на палубе побежденного корабля было полным-полно народу. Половину его составляли мертвецы в разнообразных и не всегда живописных позах, застывшие то здесь, то там. Живые разделились на две примерно равные группы. Первая, состоявшая из испанских офицеров и матросов, еще совсем недавно бывших полновластными хозяевами судна, сгрудилась вокруг грот-мачты. Их одежда была изорвана в клочья, лица испачканы пороховой копотью и кровью. Вид они имели жалкий. Окружившие их корсары тоже мало походили на светских львов, одевшихся для придворного бала, но при этом выглядели победоносно и даже самодовольно.
Заслуживает внимания тот факт, что эта весьма живописная сцена была абсолютно немой, если не считать хлопанья изодранных парусов на изуродованных реях.
Молчали все потому, что ждали, что скажет человек, сидящий на бочонке из-под рома, который был установлен шагах в пяти от столпившихся пленников между двумя испанскими трупами. Красный каблук пиратского ботфорта попирал сияющую, покрытую тонкой резьбой кирасу. Локоть черного, расшитого серебром камзола опирался на приподнятое колено, широкая ладонь поддерживала загорелый подбородок, синие глаза спокойно глядели из-под черных, сросшихся на переносице бровей. От этого спокойного взгляда у пленных испанцев по спине текли ручьи холодного пота и в жилах сворачивалась еще оставшаяся в них кровь.
Дело в том, что сидящего на бочонке человека звали Жан-Давид Hay, по кличке Олоннэ. Никому от Панамы до Барбадоса не нужно было объяснять, что значит быть испанским пленником в руках этого корсара. Многие всерьез считали, что он специально выпущен из ада для сведения каких-то тайных счетов с его католическим величеством испанским королем.
Так оно или нет, но матросы испанских галионов, чей путь должен был пролечь через воды Карибского моря, перед отправлением в плавание возносили специальные молитвы, прося Господа, чтобы он уберег их от встречи с бурями-ураганами, чудищами морскими, рифами подводными и Олоннэ.
Олоннэ поддерживал общее молчание, переводя взгляд с толпы пленников на корабль с отверстыми пушечными портами, еще окутанный остатками порохового дыма, качающийся на волнах примерно в двух кабельтовых от гибнущего галиона. Этот корабль назывался «Месть», и в нем воплотилась его жажда отмщения испанцам за все то, что ему пришлось от них снести в предыдущие годы.
Олоннэ молчал не просто так, не из желания устрашить своим молчанием побежденных, он просто ждал, когда из трюма вернутся посланные им люди и сообщат, какой именно добычей набит взятый в столь кровопролитном бою приз. От этого во многом зависела судьба тех, кому повезло (или не повезло) остаться после сражения в живых.
Первым появился Ибервиль, худой одноглазый гасконец. Волосы у него были забраны на затылке в две просмоленные косицы, изо рта торчала длинная трубка, которую он не выпускал из своих гнилых зубов даже во время абордажа. Прочитав в глазах капитана немой вопрос, он сказал:
— Сахар.
— Сахар?
Ибервиль кивнул.
— В носовом трюме больше ничего нет.
Один глаз Ибервиля был затянул бельмом, зато в другом заключались и зрение орла, и зрение совы. Капитану и в голову не пришло заподозрить его в том, что он чего-то не увидел.
— Сахар, — повторил он с какой-то трудноуловимой интонацией.
Обойдя грот-мачту, показался ле Пикар, квадратный громила в кожаной куртке, надетой на голое, чрезвычайно волосатое тело. Если бы он не брил лицо, то зарос бы до самых глаз. Брился же он только для того, чтобы всем были видны искусно вытатуированные на щеках розы.
Доклад ле Пикара тоже состоял из одного слова:
— Табак.
Олоннэ молча посмотрел в сторону «Мести».
Ле Пикар поскреб алую розу у себя на правой щеке рукоятью пистолета.
— Клянусь костями «веселого Роджера», Ферре тоже ничего не найдет.
Вопросительный взгляд капитана обратился к нему.
— Из третьего трюма разит как из преисподней, ничего там нет, кроме необработанных воловьих шкур.
Олоннэ криво усмехнулся.
— Ирония судьбы, — тихо сказал он. Мало кто его услышал, а те, кто услышал, вряд ли поняли. А между тем синеглазый капитан всего лишь имел в виду первые годы своей жизни в Новом Свете, когда он зарабатывал себе на жизнь, батрача на одного звероподобного буканьера. Ему приходилось убивать одичавших буйволов, коптить их мясо и выделывать шкуры.
Ле Пикар оказался прав. По лицу появившегося Ферре было видно, что ничего ценного он не отыскал. Переступая через трупы кривыми ногами в полосатых чулках, носатый канонир подошел к капитану и разочарованно развел искусными в бомбометании руками:
— Шкуры.
— Что ж, — опять-таки очень негромко сказал Олоннэ. — Нам не повезло, но я подозреваю, что кое-кому не повезло еще больше, чем нам.
Капитан встал и, резко обернувшись к сгрудившимся испанцам, спросил:
— Как вы думаете, кому?
Слова эти были произнесены на кастильском наречии, но звук родной речи ничуть не обрадовал пленников. Трудно сказать, в какой именно форме проявил бы себя закипающий капитанский гнев, если бы в разговор не вмешался крупный лысый корсар с толстым красным носом, несшим на себе след сабельного ранения. Это был Моисей Воклен, один из помощников Олоннэ, в недавнем прошлом сборщик налогов из Пикардии, высланный за какие-то служебные прегрешения в заморские земли французского короля. Он появился за спиной у капитана и положил ему на плечо мощную лапу, поросшую густым рыжим волосом.
— Что? — недовольно спросил Олоннэ.
Воклен наклонился к его уху и прошептал несколько фраз. В лице капитана зажегся огонек интереса.
— Да? Где они?
Лысая голова кивнула в сторону кормы:
— В большой каюте.
Олоннэ улыбнулся, обнажая неровные, но крепкие зубы, выражение лица его сделалось угрожающе плотоядным. Не раздумывая далее, он решительно зашагал в указанном направлении.
— А что делать с ними? — спросил Ферре. Он имел в виду испанцев.
— Неужели ничего не приходит в голову? — усмехнулся Олоннэ, переступая через очередную кирасу.
— Куда это он? — спросил одноглазый Ибервиль у Воклена.
Тот не успел ничего ответить, потому что и спрашивающему и остальным, находящимся на палубе, все стало понятно само собой.
Со стороны кормы донесся истошный женский вопль. Затем второй.
— Там женщина? — спросил туго соображающий Ферре.
— Две, — улыбнулся Воклен.
— Откуда они там взялись? — удивился ле Пикар, почесывая татуировку на правой щеке.
В этот момент от толпы испанцев отделился черноволосый юноша в изорванной, окровавленной рубахе и бросился в направлении кормы. Воклен как будто ждал этого, он нанес ему мощный удар эфесом шпаги в челюсть и, когда тот рухнул на палубу, спокойно сказал:
— Теперь мы знаем, за кого можно будет требовать выкуп. Этот кабальеро несомненно родственник благородных сеньорит из кормовой каюты.
Лежащий глухо застонал.
— Я прав? — наклонился к нему Воклен.
Женские вопли продолжали доноситься до столпившихся на палубе мужчин. Испанцы все более мрачнели, корсары, наоборот, веселились, подмигивали друг другу и отпускали подходящие к случаю сальные шуточки. Впрочем, далеко не все матросы Олоннэ были в восторге от того, что им приходилось выслушивать. За полтора месяца плавания в водах Гондурасского залива они успели здорово изголодаться по женскому обществу и были готовы отказаться от своей доли добычи ради возможности присоединиться к столь буйно развлекающемуся в кормовой каюте капитану.
— Да что он там с ними делает?! — поморщившись, спросил Ферре, когда до его слуха донесся особенно душераздирающий женский возглас.
— Ты все еще надеешься, что и нам что-нибудь достанется, да? — усмехнулся Воклен.
Ферре досадливо махнул рукой:
— Да нет. Я просто хочу представить, как он управляется с двумя сразу. Ведь ты послушай, клянусь мощами святой Терезы, кричат обе. Одновременно.
— Ничего удивительного, наш капитан недаром считается первым любовником на морях Мэйна. [2]
Ле Пикар сокрушенно покачал головой:
— Лучше бы он был женоненавистником, у нас был бы шанс получить за этих испанок неплохой выкуп. Я уверен, что они дамы из знатной семьи.
Состояние рассеянного равновесия продолжало сохраняться на палубе. Все понимали: надо что-то предпринять, что-то решать с пленными, но ужасающие и соблазнительные картины, невольно возбуждаемые в головах мужчин долетающими до них звуками любовной битвы, лишали их возможности действовать. Воображение — могущественная сила, противиться ей трудно. Сексуальная тяга, замешенная на лютом любопытстве, способна свести человека с ума. Возбуждение, охватившее кровожадную и любвеобильную матросню, было уже сравнимо с тем, что вело ее на абордаж всего полчаса назад. Хоть бы одним глазком взглянуть, что там происходит, — эта мысль, пересказываемая на разные лады, разными словами, бродила в корсарской толпе. При этом все понимали, что подсматривать не следует, всякий, кто попытается это сделать, рискует жизнью больше, чем тот, кто явится с зажженным факелом в пороховой погреб.
— Черт побери, надо что-то делать! — сказал Ферре, но по голосу было ясно, что он не знает, что именно.
— Да, — согласился ле Пикар, поглядывая на корсаров, которые все более тесным кольцом собирались вокруг пленных испанцев.
Ибервиль прищурил свой единственный глаз.
В этот момент палуба едва заметно дрогнула: вода продавила одну из трюмных перегородок, и крен на нос заметно увеличился. Кусок уже надломленной реи рухнул вниз, сокрушив часть изрешеченного фальшборта.
Крики, доносившиеся из каюты, стали немного глуше и почти полностью перестали напоминать человеческие.
— Надо бы сказать капитану, что у нас почти не осталось времени, — буркнул ле Пикар, продолжая ощупывать красную розу. — Как бы ни была велика его страсть к женскому полу, вряд ли стоит из-за нее идти ко дну.
— Может быть, спустить шлюпки? — неуверенно сказал Ферре.
— Зачем? — удивился Воклен.
— Побросаем туда испанцев — и пусть катятся к дьяволу.
Палуба опять дрогнула, как будто судорога пробежала по шкуре громадного животного.
Воклен улыбнулся и пожал плечами:
— Приказывай, пусть спускают.
Чувствовалось, что он не считает это решение правильным, но не хочет принимать на себя ответственность за принятие другого.
Уже приготовившиеся к неизбежной гибели подданные католического короля, узнав, что им предоставляется шанс на спасение, проявили чудеса расторопности, буквально через несколько минут три сохранившие относительную плавучесть шлюпки покачивались на волнах. В них градом сыпались с накренившегося борта пленники. Никто и не подумал предоставить им веревочные лестницы, они ломали ноги, барахтались в воде, цеплялись исцарапанными руками за дырявые борта, но были при этом счастливы.
— Пожалуй, нам тоже пора отправляться, — сказал Ибервиль.
По его команде часть корсаров начала грузиться в шлюпки с борта «Мести».
Вскоре на палубе гибнущего галиона остались лишь Воклен, Ибервиль и Ферре.
— Еще несколько минут — и у нас появится шанс отправиться на дно с этой испанской развалиной, — напряженно усмехнулся последний.
— Ненасытный, — пробормотал Ибервиль.
Бывший сборщик налогов был спокойнее других, он слишком хорошо знал капитана и был уверен, что у него нет желания погибать именно сегодня.
И он оказался прав.
Когда галион потрясали последние предсмертные судороги, когда вода вокруг него сделалась сладкой от растворяющегося сахара и большинство корсарских шлюпок отошло от предполагаемого места водяной воронки примерно на полукабельтов, из дверей кормовой каюты появился Олоннэ. Выглядел он довольно странно. Одежда его несла на себе следы бурного любовного приключения, и это было как раз неудивительно, зато окровавленная сабля в руках могла бы озадачить человека, не слишком хорошо знакомого с привычками капитана.
— Ну, слава Богу, — прошептал Ферре. Хотя, как выяснится через несколько минут, как раз ему не надо было бы спешить радоваться.
Загадочно и удовлетворенно улыбающийся Олоннэ прыгнул в шлюпку, благо борт тонущего галиона уже не слишком возвышался над нею, и гребцы тут же ударили веслами о воду.
Сабля капитана была окровавлена, но никто из сидевших в шлюпке не спросил его, почему бы это. Все прекрасно знали, что капитан Олоннэ страдает особого рода сексуальной брезгливостью. Большинству мужчин бывает неприятно знать, что женщина, с которой он оказался в постели, когда-то дарила своим вниманием других мужчин; капитан «Мести» не мог смириться с мыслью, что какая-то женщина, переспавшая с ним, может впоследствии оказаться в объятиях другого любовника. До такой степени не мог смириться, что принужден был убивать всех женщин, с которыми переспал.
Олоннэ вытер лезвие о рукав своего камзола.
Никто не решался заговорить с ним. Впрочем, и так все было ясно. Олоннэ начал задавать вопросы сам. Он первым делом поинтересовался, как его подчиненные обошлись с пленными испанцами.
— Посадили в шлюпки и отправили на все четыре стороны.
Благодушное выражение лица капитана сменилось удивленным.
— Живых?
По спине канонира Ферре побежала струйка испуганного пота, горло его перехватило.
— Да. Шлюпки у них дырявые.
— Всех отпустили живыми?
— У них почти нет весел, а до ближайшего берега два дня пути, — пытался оправдываться канонир, но с ужасом понимал, что оправдаться ему не удастся.
— Это ты их решил отпустить?
— Одного мы взяли с собой. Это сын владельца этого судна, Мануэль де ла Барка. Он брат тех двух девушек… — Ферре замолчал, не закончив фразу. Больше не имело смысла говорить.
— Ферре!
— Да, капитан.
— Ты же знаешь, что я уже семь лет воюю с испанцами. Что я уже семь лет убиваю каждого испанца, попавшего ко мне в руки, но еще далек тот час, когда можно будет сказать, что я рассчитался с ними.
— Нельзя же убить всех испанцев… — растерянно развел руками канонир.
— Но стараться надо. Ты меня понял?
— Но ты же сам сказал, чтобы мы поступали с ними, как нам покажется правильным.
— Надо было понять, что я всего лишь предлагаю вам выбрать способ казни. Утопить или повесить.
Канонир опустил голову.
— Встань, Ферре.
Канонир встал, пряча глаза от пристального синего взгляда.
— В мои планы не входит, чтобы испанцы подумали, что Олоннэ смягчился, что впредь он будет щадить своих испанских противников. Я не хочу, чтобы они стали бояться меньше, чем боялись до сих пор. Сейчас ты, Ферре, поплывешь за ними и сообщишь им, что ничего не изменилось; я буду, как и прежде, убивать каждого кастильского выродка, который попадет мне в руки.
С этими словами Олоннэ ударом кулака свалил канонира в воду.
Глава вторая
Действие этой главы начинается за семь лет до вышеописанных событий.
Городок Ревьер, расположенный неподалеку от порта Сабль-д'Олоннэ, пожалуй, самый живописный на всем вандейском западе Французского королевства. Историческая его судьба сложилась весьма счастливо: за всю шестивековую историю своего существования он ни разу не подвергался изнурительным осадам и чрезмерным разграблениям. В окрестностях его бродили тучные, как принято выражаться, стада, расстилались пшеничные поля и виноградники. Население, хотя и состояло по большей части из гасконцев, широко прославившихся своим горячим нравом, было трудолюбивым и богобоязненным.
Несмотря на все вышесказанное, Ревьер вряд ли бы обратил на себя наше внимание, когда бы не одно обстоятельство: в нем в 1629 году поселился некий Огюстен-Антуан Hay, одноногий инвалид. Ногу он потерял на полях Тридцатилетней войны [3], полыхавшей тогда на полях Европы. За свой героизм и воинскую сообразительность он заслужил большую признательность маркиза де Мейе-Брезе, племянника великого, проницательного и непобедимого кардинала Ришелье. Признательность эта выразилась в известной сумме денег, ее хватило на то, чтобы приобрести водяную мельницу и хороший участок земли в таком тихом, уютном местечке, как городок Ревьер.
Ришелье не дожил до победы в Тридцатилетней войне, но, несмотря на это, его идеи «европейского равновесия» и «естественных границ» были полностью реализованы его преемниками. Угроза испано-австрийской и папской гегемонии на континенте была устранена. Мазарини унаследовал не только любовницу своего предшественника, но и его политику, и вскоре произошло приращение территории королевства за счет Эльзаса и Лотарингии, Артуа и Руссильона.
Огюстен-Антуан Hay тоже в эти годы не топтался на месте, он женился и родил троих сыновей — Ксавье, Жана-Давида и Дидье; прикупил еще две мельницы и большой кусок заливного луга у разорившегося, полусумасшедшего дворянина, посвятившего всю свою жизнь алхимической лаборатории в подвале полуразвалившегося замка. На этот замок рачительный инвалид посматривал с таким же вожделением, как Людовик XIII — на правый берег Рейна. И с таким же примерно результатом. Король решил передоверить завоевание раздробленных германских земель своему преемнику. Огюстен-Антуан хранил в душе убеждение, что кому-нибудь из его сыновей удастся прибрать к рукам рассадник богопротивных измышлений и место постановки подозрительных опытов.
Больше других радовал отца его первенец — Ксавье. Большой, добродушный, трудолюбивый, он очень быстро сделался помощником отца во всех его хозяйственных делах. Ему было всего двенадцать лет, а Огюстен-Антуан мог доверить ему расчеты с сезонными рабочими на виноградниках или другие столь же непростые дела, требующие и твердости, и сметки, и знания счета. Ксавье рос увальнем, но увальнем обаятельным. Ему не было чуждо и чувство справедливости: свою огромную физическую силу он никогда не применял по пустякам и не пытался ею бравировать. Отец и мать (рано умершая и тем самым оказавшаяся за пределами нашей истории) не могли на него нарадоваться.
— Имея всего одну ногу, но при этом имея такого сына, я крепко стою на земле, — любил говаривать папаша Огюстен.
Любили Ксавье не только родственники, но и соседи, он никому не отказывал в помощи, не кичился зажиточностью своего хозяйства перед бедняками, умел пошутить и развеселить всех, когда это было необходимо.
Зато с третьим сыном, Дидье, мельнику Hay не повезло. Уродился он тщедушным и болезненным, рос замкнутым и мечтательным ребенком. Сердце у него было доброе и нрав кроткий, но не радовало это боевого ветерана, никак он не мог взять в разумение, почему от него, столь могучего растения, родился такой нежизнеспособный росток.
Дидье рано потянулся к грамоте, книгочейству, и поначалу это родителями приветствовалось. «Сделаю из него судейского», — думал папаша Огюстен, ему приходилось видеть, как люди, преуспевшие на ниве научной, добивались больших успехов и в жизни. Но очень скоро стали посещать душу мельника сомнения — на правильном ли пути находится его младший сынок. Тропинка, по которой он шел к вершинам образованности, начала осторожно поворачивать в сторону алхимического логова в запущенном замке барона Латур-Бридона.
Мальчик проводил в обиталище барона все больше и больше времени и от каких-либо обязанностей по дому отказался наотрез. Родовитый алхимик взял его под защиту. В те времена даже очень богатому мельнику трудно было тягаться с дворянином, пусть даже почти разорившимся. После судебного разбирательства было принято решение, которое барон расценил как соломоново, а Огюстен-Антуан Hay — как издевательство над идеей правосудия: юноша по имени Дидье Hay был отдал в услужение барону Латур-Бридону за шесть экю в год.
Судебная тяжба поглотила довольно много времени, огромное количество денег и все внимание папаши Огюстена. Ввиду этого его средний сын Жан-Давид начисто выпал из поля зрения. К тому же к. концу процесса по поводу Дидье скончалась мадам Hay, так что быстро подраставший Жан-Давид был полностью предоставлен в свое собственное распоряжение. Он рос воистину средним братом. Во всех отношениях он располагался как бы посередине между Ксавье и Дидье. Осанкой и силой он походил на старшего брата, задумчивостью и погруженностью в себя — на младшего. Он не отказывался от работы по дому и хозяйству, как Дидье, но и не отдавался делу с таким жаром и интересом, как Ксавье. Не избегал веселых компаний и девушек, как ученик алхимика, но и не становился душою общества и всеобщим любимцем, как наследник мельника. Он жил, не обращая на себя особого внимания, при этом всегда мог за себя постоять. Он старался избегать ситуаций сомнительных и опасных, но не стал бы предостерегать другого, видя, что он стоит на краю гибели.
Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь, когда бы не…
Впрочем, все по порядку.
Жан-Давид влюбился.
Ее звали Люсиль.
Дочь виноградаря. Высокая, белотелая, русоволосая. Может быть, именно своей белотелостью и цветом волос она поразила воображение девятнадцатилетнего мельника. Ревьерские красавицы по большей части были жгуче черноволосы, со смуглой кожей.
Ничего сверхъестественного в том, что дочь виноградаря понравилась сыну мельника, нет. Ситуация эта должна была бы разрешиться очень просто — свадьбой ко всеобщему удовольствию. Все осложнилось тем, что дочь виноградаря понравилась не одному сыну мельника, а сразу двоим. Ксавье тоже оценил и цвет ее волос, и необычайную белизну кожи.
Люсиль выбирала недолго. Она выбрала Ксавье. Всем окружающим показалось, что она сделала правильный выбор. Да, Жан-Давид парень статный, неглупый, но не может он все-таки идти ни в какое сравнение со своим старшим братом.
Средний брат, изменив своей обычной манере поведения, не стал скрывать, что его не устраивает такой поворот событий. Возвышенная, одухотворенная любовь в его сердце стала переплавляться в угрюмую страсть. Он вел себя вызывающе по отношению к Ксавье и терроризировал Люсиль грязными намеками и предложениями.
Ксавье пытался его образумить, несколько раз пытался с ним поговорить, но очень быстро понял, что разговаривать с ним бесполезно. Ссоры продолжались, во время одной из них Жан-Давид схватился за нож, и, если бы Ксавье оказался чуть менее расторопным, дочь виноградаря могла бы овдоветь, так и не побывав замужем.
После этой истории стало ясно: необходимо что-то предпринять, чтобы не довести дело до трагедии. На семейном совете решено было отправить Жана-Давида «в ссылку»: имелась в виду самая отдаленная из мельниц, принадлежавшая семейству Hay. Жан-Давид не стал возражать, могло даже показаться, что он раскаивается в совершенном.
Место «ссылки» располагалось на берегу небольшого живописного ручья и представляло собой массивное строение, сложенное из деревянных брусьев и каменных валунов, лет ему было не меньше ста, поэтому кладка поросла угрюмым мхом. Берега ручья сплошь были в ивовых зарослях; много таинственных и тенистых уголков имелось в окрестностях мельницы. Был ли романтиком Жан-Давид? Если был хотя бы отчасти, то он должен бы наслаждаться окружающей обстановкой и одиночеством. Романтизм часто идет рука об руку с мизантропией. Человек, не любящий людей, как правило, бывает рад возможности как можно реже встречаться с представителями рода человеческого.
На свадьбу своего брата Жан-Давид, естественно, не явился. Во-первых, потому, что не был приглашен, во-вторых, потому, что сам этого не хотел. Мало-помалу о нем стали забывать, не напрочь, конечно, просто его образ удалился с первого плана семейной жизни и бродил как призрак по отдаленным окрестностям.
Работы у ссыльного было немного. Далеко не каждый мешок пшеницы мечтал попасть на жернова его мельницы. Одни крестьяне боялись непредсказуемого нрава владельца, другие не столько боялись молодого мельника, сколько не любили. Кроме того, добираться к нему было далековато. Сверх этого сам Жан-Давид не способствовал своей популярности тем, что ломил за помол несусветную цену. В такой ситуации легко себе представить, как много у него было свободного времени. Часть его он тратил на охоту, часть — на рыбалку, но львиную долю проводил в «Синем петухе» — большой харчевне, стоявшей на пересечении дороги, ведущей в Ревьер, с Большой Лионской дорогой.
Даже оказавшись в столь людном и веселом месте, как харчевня у большой дороги, Жан-Давид умудрялся держаться обособленно и замкнуто. Выпивал за вечер несколько бутылок красного анжуйского вина, в разговоры не вмешивался, хотя к тому, что говорится за столами, прислушивался. Правда, выяснилось это позднее. Ни для кого не секрет, что выпивка развязывает языки самым скрытным и кошельки — самым скупым. Тем более что многие из посетителей пили не только легкое анжуйское, а и кальвадос, например, — крепкую водку из яблочных шкурок.
Однажды торговец овечьей шерстью из Бретани под воздействием этого напитка впал в состояние непреодолимой хвастливости. Вытащив из-за пояса большой кожаный кошель, он громогласно заявил, что в нем находится не менее ста пятидесяти экю. Если понадобится, он может купить на эти деньги не только все запасы хмельного в этом «богоспасаемом заведении», но даже само это заведение вместе с хозяином.
Владелец «Синего петуха», звероподобный рыжий бургундец по имени Антуан Рибо, неожиданно очень обиделся и в самых оскорбительных выражениях настоял на том, чтобы излишне самоуверенный торговец шерстью немедленно покинул гостеприимный кров харчевни.
Проклиная хозяина, его заведение и все его напитки, бретонец хлопнул дверью и удалился в ночь.
На следующий день его нашли с перерезанным горлом в зарослях терновника в нескольких сотнях шагов от «Синего петуха».
Эта первая гибель не произвела оглушающего действия на округу, никто к тому же не связал ее с Антуаном Рибо и его заведением. Но ночные ограбления стали случаться одно за другим, и дурная молва поползла по окрестностям. Был зарезан приказчик одного богатого сыродела, та же участь постигла монаха-бенедиктинца. И у того и у другого на момент гибели имелись при себе немалые суммы денег. Владелец харчевни попал под подозрение. Никто впрямую не обвинял его, но вместе с тем он чувствовал, как вокруг него сгущается атмосфера глухой неприязни. И это несмотря на то, что судебный пристав, ознакомившись с показаниями постоянных посетителей «Синего петуха», приняв во внимание все бродившие в округе слухи, внимательно осмотрев саму харчевню (все жертвы перед смертью ужинали там), заявил, что Антуан Рибо вне подозрений.
Почему?
Да потому, что в момент совершения преступления и гибели людей с тугими кошельками он находился на глазах у не менее чем полудюжины посетителей. Находился непрерывно.
— Дыма без огня не бывает, — сказал судебному приставу староста бочарного цеха, после того как был зарезан его главный помощник и казначей со всеми цеховыми деньгами.
Представитель власти пожал плечами:
— Бывает.
— Ты хочешь сказать, что этот бургундский бугай ни в чем не виноват? Но ведь все убийства связаны с его харчевней, да поразит ее ближайший пожар!
Представитель власти вздохнул:
— Он похож на виновного, к тому же действительно бургундец, а они все готовы зарезать человека ради ломаного су…
— Вот видишь! — вскричали возмущенные бочары, вздымая вверх громадные смуглые кулаки.
— Но я не могу отправить на виселицу человека только по одному подозрению, пусть он даже и бургундец. Я найду настоящие доказательства его вины.
— Ищи скорее. Если через две недели мы не узнаем, кто тут у нас в округе орудует своим тесаком, примем свои меры.
Так заявили представители самого влиятельного ремесленного цеха Ревьера.
Судейский чиновник знал, что свое обещание они сдержат. Подозревал он также, что убийцу ему нипочем не отыскать, уж больно хитро и предусмотрительно действует тот. Владельца «Синего петуха» ему было не жаль, смущало его только одно соображение: что будет, если он все-таки позволит народному гневу пролиться на его рыжую голову, а убийства не прекратятся? Что тогда делать ему, представителю власти? Пощадит ли его самого этот самый народный гнев?
В то время, когда возмущенные мастера бочарного дела требовали справедливости в помещении городской ратуши, кое-какие события происходили под крышей пресловутой харчевни.
За длинным, чисто выскобленным деревянным столом сидел Жан-Давид Hay с большой глиняной кружкой в руках, из этой кружки он непринужденно потягивал свое любимое анжуйское. Перед ним стоял опершись широченными ладонями о тот же самый стол, владелец заведения. Выглядел он, надо сказать, ужасно. Огненно-рыжие кудри в сочетании с темно-красной физиономией и выступившей на губах пеной — вот портрет бургундца на тот момент. Он был настолько близок к апоплексическому удару, что сидящий счел нужным заметить:
— Вам следует пустить кровь, милейший.
Этот весьма в те годы распространенный медицинский совет он дал своему собеседнику отнюдь не из порыва человеколюбия. В ближайшие несколько часов трактирщик нужен был ему живым.
— Если вас пугает эта простейшая операция, то хотя бы обругайте меня, иначе лопнете от возмущения.
Мощный бургундский кадык тяжело содрогнулся, Антуан Рибо сглотнул розовую слюну.
— Убийца!
Жан-Давид отхлебнул вина.
— Если вам угодно, называйте меня так. Но в данный момент по отношению к вам я шантажист.
— Я сейчас позову людей.
— И тем самым совершите величайшую глупость в своей жизни.
— Я расскажу все…
— Но я ведь тоже что-нибудь расскажу.
— Это будет ложь!
Еще глоток вина.
— Но знать-то об этом будем только мы с вами, а в данной ситуации это все равно что никто. Сюда сбегутся возмущенные сограждане, и я объясню им, каким образом вы обстряпывали свои кровавые делишки, как вы выбирали из числа посетителей человека посостоятельней, как опаивали его, наливая в его кружку помимо вина еще и некоего снотворного зелья. Кстати, флакон с этим зельем у вас тут же отыщут на кухне. Или в спальне.
— Негодяй!
— Потом вы устраивали так, что одуревший посетитель вынужден был убраться из вашего «Синего петуха».
— Этого не было!
— Да ладно вам, не было, не было… Важно, что в это все с легкостью поверят, потому что хотят поверить. Вы чужак, сердцу наших сограждан как-то милее, чтобы преступником оказался именно такой человек, как вы.
Антуан Рибо преодолел стремление своего организма к взрыву, к нему отчасти вернулось самообладание. Он оторвал свои руки от стола, выпрямился и внимательно оглядел наглеца с глиняной кружкой.
— У меня есть сто свидетелей того, что в момент совершения всех этих убийств я находился здесь. Вот на этом самом месте. А за то, что я кого-то там напоил, пусть и из флакона, у нас не казнят.
Жан-Давид улыбнулся — было видно, что разговор этот доставляет ему большое удовольствие:
— Я не стану утверждать того, что нельзя доказать. За кого вы меня принимаете?
— Я принимаю тебя за подлую смрадную гадину, за исчадие рода дьявольского, за предателя и ублюдка, за…
— Ну, так ведь ничего этого я и не стану отрицать. Не стану, вам понятно?
Харчевник не смог ничего ответить, кровь бросилась ему в голову. Лицо еще больше побагровело.
— Я расскажу своим дорогим согражданам, что это я, именно я, после того как вы мне условленным образом подмигивали, выходил в ночь вслед за подпоенными владельцами кошельков, набитых монетами, что именно я перерезал им горло своим ножом, монеты из их кошелька перекладывал в свой. После чего половину добытого передавал вам.
Антуан Рибо, тяжело дыша, наклонился над столом, ему было тяжело стоять без дополнительной опоры, и он снова надавил ладонями на столешницу.
— Все, что вы хотите или способны мне сказать, я знаю и так. Не надо сейчас всуе трепать имена святых великомучеников и Господа нашего. Исчадие так исчадие… Просто дослушайте. Хорошо?
— Тебя же самого повесят!
— Нет, это вас повесят. Мне по закону, за то, что я делал, положено колесование, потом следует особым образом содрать кожу и еще какие-то мелочи в конце. — Жан-Давид беззаботно махнул рукой.
— Но тогда зачем…
— А кто вам сказал, что я ко всему этому стремлюсь? То, что мне, может быть, положено, я получу на том свете, а жизнь здешнюю я хотел бы обставить менее вредящим здоровью образом.
Жан-Давид засмеялся каким-то своим мыслям, и сделалось очень заметно, насколько он все-таки еще молодой человек. Даже решительно сросшиеся над переносицей брови не мешали этому впечатлению. А густо-синие глаза, поблескивавшие напротив, весьма способствовали.
— Так вот слушайте меня, впечатлительный трактирщик, внимательно.
Антуан Рибо попытался усмирить свое бурное дыхание, но это ему не удалось.
— Если разобраться, я пришел сюда не пугать вас, не разрывать ваше сердце лицезрением столь рано оперившегося чудовища в человеческом обличье, — я пришел вам помочь.
— И у тебя еще поворачивается язык говорить о помощи. Это святотатство!
— Ничуть. Я спасу вас от виселицы, которая, уж поверьте мне, неминуемо грозит вам, коли все будет развиваться так, как развивается сейчас. Город настроен против вас. Власти пока сопротивляются требованию о вашей выдаче для показательной расправы. Но долго сопротивляться они не смогут. Я знаю нрав своих земляков и уровень неподкупности наших властей. Когда на кон будет поставлена собственная шкура, они сделают вид, что у них внезапно ухудшилось зрение.
Антуан Рибо чувствовал справедливость произносимых слов, каждое из них вспышкой панического ужаса отдавалось у него в голове.
— Но что же делать? Может быть, бежать?
Жан-Давид отрицательно покачал головой:
— Это самое глупое из того, что вы можете сделать.
— Почему?!
— Этим вы однозначно дадите понять, кто именно является убийцей и грабителем.
Трактирщик заскрипел зубами, это у него служило признаком полного отчаяния.
— Но что же делать?!
— Вот вы уже просите у меня совета. У исчадия ада. Чудовища и ублюдка.
— У меня нет другого выхода, — глухо прогудел рыжий гигант.
— Правильно. Другого нет. Я дам вам прекрасный совет. Он не только избавит вас от виселицы, он сохранит вам вашего «Синего петуха», спокойствие и благополучие. Ну как, вы согласны следовать моим советам?
Трактирщик повторил фразу, которую произнес несколькими секундами ранее:
— У меня нет другого выхода.
— Придется простить вам это неуважительное угрюмство. К своему спасителю вам следовало бы относиться с чуть большим уважением.
— Так что я должен делать?
В зал вбежал мальчишка с полным подносом глиняных кружек, вслед за ним влетело кудахтанье чем-то потревоженных кур, поросячий визг, скрип отворяемых ворот. Шум жизни.
Кухонный мальчишка поставил поднос на стол, хотел было что-то спросить у своего хозяина, но, натолкнувшись на его тяжелый взгляд, торопливо выскочил вон, плотненько затворив дверь.
Опять стало тихо и мрачно.
— Что делать? Помните, я упоминал о флаконе?
— С отравой?
— Нет, с лекарством, дающим возможность страждущим душам на время забыться и заснуть. Один из таких флаконов надежно припрятан в вашем доме и в случае чего будет незамедлительно предъявлен…
— Угрожаешь?
— Просто избавляю вас от ненужных сомнений. Попробуете свернуть с выбранного пути — виселица! — Жан-Давид приветливо улыбнулся.
— Понятно.
— Второй сосуд у меня с собой. Я сейчас его вам вручу. Его содержимое — а там буквально сотня капель — вы вольете в питье одному человеку, который будет ужинать у вас сегодня в харчевне.
— Он умрет?
Сросшиеся брови недовольно подвигались.
— Он на время заснет. За это время я сделаю что задумал. И это опять-таки будет не убийство. Ваши руки окажутся относительно чисты. Во всяком случае, будут не грязнее, чем обычно.
— И все?
— И все. После того как этот человек заснет, я исчезну. Из этого города, из вашей жизни. Может быть, исчезну из Франции. Оказавшись в безопасности, я дам знать, что все совершенные в окрестностях Ревьера убийства — дело исключительно моих рук. Это будет моя плата за вашу помощь.
Антуан Рибо прошелся по залу, гулко ступая деревянными каблуками по широким половицам.
— Что вас не устраивает, господин трактирщик?
— А этот, проснувшийся, когда он придет в себя, он что, не захочет разобраться, почему это он так крепко заснул, выпив обыкновенного вина, а?
— Пусть выясняет что хочет. Вас он найдет связанным, с большой шишкой на голове. Надеюсь, ваша жена сможет вам оказать такую услугу ради избавления от виселицы. Пусть даже этот человек не до конца поверит в вашу невиновность, пусть он вас возненавидит, но это ничто в сравнении с тем, какое обвинение будет с вас снято моим побегом и признанием впоследствии.
Слова молодого негодяя выглядели убедительно. На первый взгляд. Опытный, хотя и не слишком проницательный бургундец чувствовал в них какой-то подвох. Чувствовал, но не мог до него добраться.
— Только не вздумайте отказываться. Я не стану медлить, и уже завтра подметное письмо с описанием ваших коварных способов истязания состоятельных посетителей будет у мэра, второе — у начальника городской стражи…
— Я согласен.
Жан-Давид обрадовался не сразу. Очень внимательный взгляд своих синих глаз он направил в глаза — красные и усталые — Антуана Рибо.
— И не пытайтесь хитрить. Не о всех своих замыслах, не о всех флаконах я рассказал вам. Если вы, хоть тайно, хоть явно, выступите против меня, шансов выйти из этой истории живым у вас не останется.
Трактирщик криво улыбнулся:
— Мы же обо всем договорились, к чему теперь эти угрозы.
— Тогда плесните мне еще вина.
Владелец заведения вынул из большого скрипучего буфета большой тонкогорлый кувшин.
— Это вино для особых случаев.
Жан-Давид покачал головой и поморщил нос.
— Не надо никаких особых случаев. Налейте мне того, что я пил до сих пор. Так будет лучше. А эту свою винную драгоценность можете применить, когда будете угощать того человека, о котором мы с вами говорили.
— Кстати, а как я его узнаю?
— Узнаете, поверьте мне. И попытайтесь ничем не проявить своего волнения.
Трактирщик прищурился:
— Так этот человек…
— Да, этот человек — мой брат. Мой старший брат Ксавье.
— Hay…
— Он действительно носит фамилию Hay.
— А то, что вы собираетесь у него похитить…
— Это его жена Люсиль. Если вы подумали о ней, то подумали правильно. Да что с вами? Вы сегодня меняете свою окраску, как морской спрут. Можно было бы и без этих вопросов догадаться, что из-за пустяков я бы вас беспокоить не стал.
Жан-Давид отпил сразу полкружки.
— Мое сообщение повлияло на вас как-то слишком сильно, уж не задумали ли вы взять свое согласие о помощи мне обратно, а?
— Нет, — мрачно произнес трактирщик.
— Вот и славно. Вы оказались даже сговорчивее, чем я думал. У нас есть еще немного времени для того, чтобы обговорить все детали этого дела.
Глава третья
От величественных лет европейского средневековья архитектура предвозрожденческой поры унаследовала одну характерную особенность. Возводя любое, даже самое безобидное здание, строитель стремился сделать его хотя бы отчасти похожим на крепость. Толстые стены, узкие окна, источник питьевой воды — вот минимальный набор. Таким образом, в любом монастыре и иных постройках, в любой городской усадьбе, постоялом дворе и т. д. при желании можно было в случае нападения продержаться длительное время.
Мельница Жана-Давида не являлась исключением.
Молодой мельник закрыл массивные двери, задвинул кованый засов, остальными запорами заниматься не стал. Нет нужды, никто этой ночью к мельнице не прискачет. Единственный человек, который мог бы это сделать, мертв. Единственный человек, который мог бы раззвонить по округе о случившемся, узнав, что Ксавье Hay не усыплен, как предполагалось, а убит, скорее откусит себе язык, чем поднимет шум. Ибо теперь любой, самый мягкосердечный судья никем, кроме как соучастником убийства, его признать не сможет.
Были и другие основания у Жана-Давида для спешки. Люсиль, любимая и любящая жена Ксавье, почти полностью избавилась от веревок и уже начала стаскивать с головы мешок, что был натянут ей во время похищения.
Жан-Давид подхватил свою добычу, перебросил через плечо и, не обращая внимания на ее вопли, отправился наверх, в заранее облюбованную комнатку под крышей мельницы. Это была глухая каменная нора, без единого, самого маленького отверстия, если не считать небольшой, обитой железом двери, запиравшейся снаружи. Сбежать из этого узилища было невозможно, там похититель рассчитывал образумить свою жертву и добиться от нее того, что считал принадлежащим ему по праву.
Если она поймет безвыходность своего положения, проявит благоразумие и согласится перейти на сторону того, кого сейчас считает злейшим своим врагом, — прекрасно! Если нет…
Люсиль явно не спешила с проявлением благоразумия. Она кусалась, вернее, пыталась это делать сквозь грубую мешковину, щипалась и изрыгала потоки проклятий и требований немедленно вернуть ее обратно.
Похититель понял, что разговор получится долгий. Это его не слишком испугало. Уж чего-чего, а терпения у него было предостаточно. Два последних года, проведенных на ивовом берегу, стали не чем иным, как школой терпения и выдержки.
Время у него есть, молодых супругов хватятся не раньше, чем завтра вечером. И первое подозрение падет на глупого трактирщика. Сообразив, в какую он попал историю, рыжий дурак, несомненно, бросится в бега. Даже понимая, что это бесполезно.
Из каменной стены торчал грубый металлический крюк. Жан-Давид заранее приготовленной веревкой прикрутил белые ручки Люсиль к нему. После этого стащил с нее мешок. Несмотря на беспорядок в прическе и одежде, жена брата была прекрасна.
По крайней мере, на взгляд похитителя.
Щеки раскраснелись, глаза сверкали. Ярче пламени факелов, укрепленных на стене. Платье на груди слегка разорвалось, и блеск полуобнаженных грудей ослепил сознание убийцы.
У Люсиль от волнения и страха перехватило горло. В каменном мешке стояла несколько мгновений полная тишина. Только факелы обменивались друг с другом удивленными трескучими репликами.
— Развяжи и отпусти обратно! — наконец смогла выговорить похищенная.
Жан-Давид потер виски длинными, чуть подрагивающими пальцами. Таким образом он брал себя в руки,
Это помогло и сейчас.
— Отпусти меня! Отпусти, пока не поздно! Ты слышишь меня, Жан-Давид?
— Поздно!
— Что поздно?! — не поняла Люсиль, а потом вдруг задергалась, словно пытаясь вырвать из стены крюк. Своей чернотой и жуткой формой он напоминал ей подозрение, зародившееся у нее.
— Что поздно?!
— Все. Поздно кричать, поздно мне угрожать, поздно меня умолять.
— Ты хочешь сказать…
Жан-Давид кивнул, внимательно глядя на бьющуюся жертву.
— Да, я убил твоего мужа. Он лежит сейчас с вывернутым синим языком на втором этаже в «Синем петухе». Трактирщик скачет в сторону испанской границы, проклиная тот миг, когда со мной связался. Никто не знает, что ты здесь. И если ты будешь вести себя неблагоразумно, никогда не узнает.
Люсиль внезапно обмякла: какая бы то ни было воля к сопротивлению оставила ее. Тем не менее она сказала:
— Я не верю тебе.
— В чем именно? В том, что Антуан Рибо сбежал, или в том, что…
— Я знаю, Ксавье жив.
Жан-Давид подошел поближе к связанной и сказал, поглаживая подбородок:
— Ты должна так говорить, этими словами ты хочешь защититься от той новой жизни, в которой так внезапно оказалась. Но чем дольше ты будешь упорствовать, чем дольше будешь цепляться за призраки, тем дольше будешь мучиться. Я понимаю, тебе трудно так сразу выбросить Ксавье из головы, но выбросить придется. Твоим мужем буду я.
— Нет! — сдавленно выкрикнула Люсиль.
— Не знаю, почему я полюбил именно тебя, зачем мне это, но раз уж это случилось, ничего не поделаешь. Я пытался выбросить тебя из головы, применял очень сильные средства. Мои попытки избавиться от этой страсти стоили жизни многим людям, нельзя, чтобы так продолжалось до бесконечности. Есть опасность, что род людской пресечется на земле.
Люсиль снова сильно дернулась, какая-то часть сил вернулась с ней, и она тут же попыталась освободиться от веревки.
— Я не понимаю, что ты говоришь. Ты сумасшедший. Зачем убивать посторонних людей? Я люблю Ксавье, а не тебя.
— О, если бы я был сумасшедшим, насколько это бы все упростило. Но сейчас речь не об этом. Я пытаюсь втолковать тебе одну мысль, и мне очень важно, чтобы ты ее поняла. Ты единственный человек в мире, которому я могу ее доверить, ты единственный человек, чье понимание мне необходимо.
По красным щекам Люсиль потекли слезы. Казалось, что они сейчас закипят; она уже поняла, что освободиться не в силах. Глаза потухли.
— Я не понимаю, что за мысль, я не понимаю, что ты мне говоришь, мне страшно, и все.
— Замысел настоящего брака появляется не здесь. Не на этом свете, я понял это, когда увидел тебя. Мы, может быть, совершенно не подходим друг для друга, но мы предназначены один для другого. Я это понял уже давно, а ты не хочешь увидеть до сих пор.
— Я люблю Ксавье.
— Он мертв. Так вот, самая главная хитрость в том, что не на небесах заключаются браки, не на небесах.
На мгновение оттенок мысли появился в глазах Люсиль, и она спросила:
— А где?
Только потрескивание факелов было ей ответом.
— Возможно, ты любила Ксавье…
— Я правда любила его!
Мучитель усмехнулся:
— Вот уже и в прошедшем времени. Ты все-таки поверила мне, что он мертв.
— Нет!
— Да! Суть же в том, что он мертв не с сегодняшнего вечера, а с того момента, как я встретил тебя. Ты можешь принадлежать только мне, поэтому он обязан быть мертвым. И он мертвец. Умерщвлен силой во сто крат большей, чем человеческая воля…
Жан-Давид не закончил свою мысль, ибо заметил, что собеседница его лишилась чувств. Он подошел к ней вплотную и хлопнул по пылающей щеке.
Потом еще раз, сильнее.
Взял за подбородок и потряс. И это не подействовало.
Пришлось обратиться к воде. Зачерпнув в ладони сколько удалось из стоявшего у стены бочонка, он плеснул с размаху в поникшее лицо.
Люсиль очнулась и закашлялась.
— Мы еще не договорили, дорогая.
Он взял ее за подбородок и приподнял столь нравящуюся ему головку.
— На чем я остановился?
Люсиль ответила ему тем, что впилась внезапно зубами в большой палец правой руки.
Жан-Давид отдернул руку, сладострастно морщась.
— Это все, что ты хотела мне сказать?
— Это все, что ты заслуживаешь!
Жан-Давид слизнул сочащуюся кровь.
— Я так не думаю.
Он прошелся по каменному будуару.
— Что ж, насколько я могу судить, сила слов на тебя нисколько не действует. Придется применить другие средства.
Жан-Давид говорил спокойно, но Люсиль содрогнулась.
— Какие? — прошептала она.
— Ты все узнаешь. Ждать осталось недолго.
Подойдя снова вплотную к привязанной к железному крюку девушке, Жан-Давид взялся руками за разорванные края ее лифа.
— Говорят, что женщина любит ушами, но иногда слов не хватает, чтобы добиться того, чего желаешь от нее.
— Что ты…
С этими ее словами Жан-Давид рванул полотняную ткань, явив призрачному, затхлому миру каменного чердака вид двух великолепных грудей.
На этом он не остановился, его руки опустились ниже, снова вцепились в ткань платья, мышцы напряглись, раздался треск…
Но это трещало отнюдь не платье Люсиль.
Треск шел откуда-то сзади.
Не выпуская из рук платья Люсиль, Жан-Давид обернулся.
И понял, что это скрипит дверь.
И скрипит потому, что ее отворяет чья-то мощная рука.
Это был Ксавье.
Он был не один.
На лестнице, ведущей снизу, послышались голоса тех, кто примчался вместе с ним.
Издав вопль бешеного разочарования, неудачливый мучитель закончил начатое дело — от груди до подола разорвал платье Люсиль, так что все ворвавшиеся в пыточную камеру спасители смогли насладиться видом обнаженного женского тела в трепещущем свете смоляных факелов.
Объяснение такого развития событий было самое простое. У бургундского мясника Антуана Рибо оказалось мягкое, можно даже сказать, отзывчивое сердце. Влив содержимое флакона, врученного ему Жаном-Давидом, в питье его брата Ксавье, трактирщик вдруг подумал, что во флаконе, скорее всего, не снотворное зелье, а смертельный яд. Шепча слова извинения и раскаяния, бросился он на второй этаж к кровати умирающего и ограбленного мужа и влил ему в рот с полведра парного молока. Затем с помощью гусиного перышка в качестве рвотного раздражителя он заставил жертву буквально выворачиваться наизнанку. Подвергнутый троекратному промыванию желудка парным молоком, Ксавье пришел в себя.
Антуан Рибо с рыданиями бросился к нему в ноги и был, ввиду необходимости действовать очень быстро, мгновенно прощен.
С толпой граждан Ревьера, желающих поохотиться на зверя в человеческом обличье, Ксавье помчался в направлении злополучной мельницы.
Остальное известно.
Впрочем, не все.
Надобно еще рассказать о том, что Жан-Давид был избит самым лютым образом.
Причем из-за того, что он был схвачен в момент явного покушения на изнасилование, самые отчаянные удары самыми тяжелыми сапогами были нанесены по органам его мужского достоинства.
Ксавье в этой неординарной ситуации проявил наибольшую выдержку. Он первым вспомнил, что его брат не только насильник, но и, скорей всего, ночной убийца, державший в страхе всю округу. Нельзя, чтобы он погиб столь легкой и быстрой смертью. Нельзя также допустить, чтобы он был казнен без суда.
Блюя и мочась кровью, корчился на каменном полу влюбленный в Люсиль грабитель; разгоряченные, красные от возбуждения и жары жестокие лица ремесленников и крестьян склонились над ним. Рыдала в углу завернутая в мужнин плащ верная жена.
— Надо отвезти его в городскую тюрьму, — сказал кто-то.
Ксавье покачал головой отрицательно.
— Он останется здесь. Я боюсь, как бы этот дьявол не сбежал по дороге.
Выяснилось, что часть яда попала-таки в кровь старшего брата. В момент наивысшего возбуждения он был способен перебарывать его действие, когда же возбуждение схлынуло, он почувствовал себя плохо.
— Простите меня, друзья, но я никому не могу доверить его сопровождение. Мы запрем Жана-Давида здесь, из этой комнаты невозможно бежать. А к утру пусть явятся стражники и судьи.
Так и порешили.
Убийцу оставили валяться на полу в луже собственной крови.
Заперли дверь на железные засовы.
Укрепили двумя деревянными брусьями.
Двое особо ретивых ремесленников остались с Ксавье для подмоги. Люсиль легла спать внизу.
Ксавье сказал, что будет нести первую стражу, ему все равно не спится. Через два часа он разбудит помощников, чтобы они сменили его.
Судебный пристав, прибывший с шестью стражниками на рассвете на мельницу, застал следующую картину. Добровольные помощники Ксавье дрыхли на конюшне. Ксавье лежал на полу перед дверью, накануне им самим запертой. Лежал он ничком, а из спины торчала рукоять мизеркордии — трехгранного кинжала старинной выделки.
Жан-Давид исчез, следы его не удалось обнаружить, хотя искали их весьма старательно.
С тех пор среди жителей Ревьера поселилась очень устойчивая легенда о том, что в эту ночь сам дьявол вселился в тело Жана-Давида Hay и помог ему совершить то, что он совершил, и избегнуть наказания, которого заслуживал больше, чем какой-либо другой из служителей врага рода человеческого.
Но больше всего воображение законопослушных граждан провинциального городка поразило то, что вместе с Жаном-Давидом исчезла и Люсиль. Этому факту не находилось никакого объяснения, даже из арсенала объяснений сверхъестественных. Так что историю про таинственную беглянку местные жители рассказывать не любили. Даже шепотом.
Глава четвертая
Испания первой из европейских держав начала осваивать Новый Свет. Неудивительно, что ей удалось добиться в этом деле наибольших успехов. Заморские территории испанской короны превосходили размеры метрополии в десятки раз. Разумеется, что эта деятельность не осталась вне внимания соседей и врагов католического королевства. Безумные богатства, якобы добытые кастильскими латниками в дебрях Юкатана и Эльдорадо, будоражили воображение многих. Галионы, груженные золотыми слитками, снились королям тогдашней Европы.
И не только королям.
Первыми бросили вызов испанцам англичане и голландцы. После разгрома Великой Армады [4] безраздельное господство пурпурно-золотого флага на мировых морях пошатнулось. Некоторое время сохранялось зыбкое равновесие между интересами старых и новых хищников. Испанцы грабили индейцев, англо-голландцы грабили грабителей. Вскоре к дележу заморского пирога присоединились и французы. Во второй половине семнадцатого века в районе Карибского бассейна в борьбу четырех официальных сил вмешалась пятая — флибустьеры, люди, не состоявшие на службе у какого бы то ни было короля, занятые исключительно отстаиванием своих частных финансовых интересов.
Их организация, если так можно выразиться в данном случае, называвшаяся «береговым братством», своей штаб-квартирой избрала остров Тортугу, находившийся в то время в подчинении французского короля. Остров управлялся по всем правилам государственной благопристойности, то есть имел губернатора, гарнизон, епископа, податных инспекторов, судей, портовых служащих и портовых проституток. Отличался он от других островных провинций тем, что губернатор его, господин де Левассер, весьма своеобразно понимал обязанности государственного служащего и имел особое мнение по поводу того, как именно ему следует защищать интересы Франции в доверенных ему владениях.
Одним словом, вместо того чтобы всячески бороться со всеми проявлениями морского разбоя (о чем существовала формальная договоренность, подкрепленная гербовыми печатями и собственноручными подписями монархов четырех стран), он в значительной степени ему способствовал. Правда, лишь в той его части, что была направлена против морских сил и прибрежных территорий, принадлежащих исключительно испанской короне. Ненависть к Испании в то время была вещью достаточно обычной, к тому же наиболее материально выгодной. Господин де Левассер давал приют в портах своего острова флибустьерским кораблям, пострадавшим во время сражений и штормов. Помогал превратить награбленное имущество в ничем, как известно, не пахнущие золотые монеты. Не забывал, разумеется, и себя. Обычными были сделки, например, такого характера: какой-нибудь состарившийся, решивший уйти от дел джентльмен удачи являлся к нему и предлагал десять тысяч пиастров здесь, на Тортуге, в обмен за надежную возможность получить где-нибудь в Амстердаме или Бристоле половину этой суммы.
Как всякая прибыльная должность, губернаторство на таком острове было рискованным делом. Легко себе представить, сколь хлопотными клиентами были те, кто привык зарабатывать на жизнь абордажами и пушечной стрельбой. Правда, морские волки понимали всю ценность своих особых отношений со столь высокопоставленным чиновником и старались определенных границ в своем поведении не переходить. Но надо сказать, что даже их сдержанность, попытка держать себя в рамках могли привести в содрогание нормального человека.
Смягчало обстановку и то, что вольные мореходы, оказавшись на Тортуге, были принуждены большую часть времени заниматься делом — чинить суда и штопать паруса. Пьяные дебоши и дружеские перестрелки устраивались ими лишь время от времени. Значительно тяжелее приходилось гостеприимному острову, когда на него заявлялись охотники на буйволов, так называемые буканьеры. Это был особый род людей, промышлявший тем, что охотился на одичавших быков, расплодившихся в громадном количестве на островах Антильского архипелага. Испанцы завезли этих полезных животных в Новый Свет еще в незапамятные времена. Часть одичала, и оказалось, что буйная природа здешних мест вполне их устраивает. Огромные стада быков паслись на сочных американских травах, а так и не приобретенная способность к быстрому передвижению делала их относительно легкой добычей.
Больше всего этой добычи было на Эспаньоле, или Санто-Доминго, так в то время назывался остров Гаити. Несколько сотен голландцев, англичан и французов обосновались на его берегах, где строили небольшие поселки, а иной раз и просто одинокие хижины. Заводили специальные решетчатые устройства, называвшиеся по-французски — буканаж. На них укладывались большие куски специальным образом нарезанной буйволятины, для того чтобы они как следует провялились на солнце. После этого под ними разжигались небольшое костры, сложенные из плавуна, и мясо дополнительно коптилось. Приготовленное таким образом, оно могло храниться месяцами, что немаловажно во время длительных морских переходов.
Испанским властям Эспаньолы соседство предприимчивых иностранцев не понравилось. Они не хотели делиться богатствами острова, даже теми, заниматься добычей которых им было лень. За буканьерами началась охота, на них устраивались засады, их убивали без всякого суда, как в свое время поступали с местными индейцами. Их даже продавали в рабство. Естественно, они начали защищаться. В перерывах между сражениями с испанскими патрулями они работали, по полгода и даже по году порой не покидая тропических зарослей и своих коптильных цехов. Собрав более-менее значительное количество денег, они отправлялись на Тортугу «за припасами». На острове они собирались пополнить запасы пороха, полотна, свинца, но, оказавшись в гостеприимном городе, первым делом начинали опустошать запасы спиртного в его кабаках.
В какие-то недели они спускали годовой заработок и отправлялись обратно в свои джунгли.
В те дни, когда буканьеры покидали Тортугу, местным жителям обыкновенные морские разбойники уже не казались исчадиями ада.
Впрочем, между буканьерами и флибустьерами трудно было провести четкую границу. Первые легко становились вторыми, вторые — первыми.
Почему мы так долго рассуждаем об этих господах? Потому что некто Жан-Давид Hay по прибытии на Антилы сделался как раз охотником за буйволами. Он в известной степени отличался от собратьев по «цеху». Склонность к одиночеству, вывезенная из родных мест, в нем еще более укрепилась. Первое время он батрачил у одного голландца, чтобы сколотить начальный капитал — для устройства отдельного хозяйства, так он говорил. Но куда, спрашивается, подевались те деньги, что были добыты им в окрестностях Ревьера с помощью ночного кровавого промысла? История об этом умалчивает. Умалчивает об этом и сам Жан-Давид. Да и некому было его спросить об этом, потому что никому не могло прийти в голову, что у этого молодого синеглазого оборванца могли водиться большие денежки.
Может быть, эта неувязка разъяснится впоследствии.
Может быть.
Работником Жан-Давид был прекрасным — молчаливым, неутомимым и сообразительным. Нехитрую науку копчения мяса дикого буйвола он усвоил быстро. Раздался в плечах, физическая сила его стала чрезвычайной. Если бы до него один французский благородный разбойник из этих мест не носил прозвище Железная Рука, эта кличка, без сомнения, досталась бы ему.
Покинув своего голландского хозяина, Жан-Давид удалился в места, в которые еще никто не проникал. Около года о нем не было ничего слышно. Поскольку он взял с собой не такой уж большой запас пороха и свинца, те, кто был в курсе его дел, посчитали, что его уже нет в живых. Никого эта мысль не взволновала: в те времена жизнь человека ценилась не особенно высоко. Человек неизвестно откуда появлялся, неизвестно почему появлялся, поэтому стоило ли слишком долго размышлять над тем, куда он ушел и что с ним сталось. Появятся новые, каждый со своей тайной в душе, скорее всего преступной.
Но Жан-Давид, как оказалось, не сгинул. Он дал о себе знать довольно шумной историей.
В то время губернатор Эспаньолы в стремлении окончательно избавиться от раздражающего соседства буканьеров додумался до одного довольно оригинального способа. Он сказал себе: зачем охотиться на охотников, ведь у них у самих есть ружья, они великолепно умеют ими пользоваться, они уже перебили и искалечили множество испанских солдат, количество которых на острове ограничено, а на просьбы о посылке новых Эскуриал выказывает признаки сильного раздражения [5]. Так вот, вместо того чтобы охотиться на охотников, надо перебить дичь.
— Дичь?! — удивленно спросил у его высокопревосходительства дона Антонио де Кавехенья командор крепости Санто-Доминго Ангерран де ла Пенья, поседевший в боях вояка с бледным вертикальным шрамом, объединяющим лоб и щеку.
— Вот именно! — весело ответствовал его высокопревосходительство. — Мы сами перебьем всех буйволов, и этим негодяям придется или подыхать с голоду, или убираться с острова, правильно?
— Дичь, — не сдержался поседевший вояка, но тут же склонил голову, как бы прося прощения за дерзость. Пусть дон Антонио де Кавехенья лишь несколько месяцев назад прибыл на Эспаньолу, пусть он новичок в таких делах, как охота на буканьеров, пусть то, что он предложил, и на самом деле выглядит диковато, — не дело командора, даже очень заслуженного, столь прямолинейно выражать свое несогласие с мнением губернатора.
К чести дона Антонио, он ничуть не обиделся, он вцепился тонкими пальцами щеголя с Аламеды [6] в холеную остренькую бородку и задумчиво прищурился. Пришедшая ему в голову странноватая идея нравилась ему все больше и больше.
— Так вы говорите, дон Ангерран…
— Я говорю, что готов выполнить любое ваше приказание, более того, я уже размышляю над тем, каким образом это сделать побыстрее и поточнее.
Очень скоро выяснилось, что столичный щеголь разобрался в сути происходящих на острове событий значительно лучше, чем это можно было себе представить. Испанские солдаты взялись за дело с большой охотой, тем более что охота (да простится автору этот невольный каламбур) много безопаснее войны. Кроме этого обстоятельства сыграло большую роль и то, что испанцам не нужно было вялить мясо убитых животных. А ведь общеизвестно, что легче пристрелить сто буйволов, чем разделать хоть одного.
Уже через месяц этой кровопролитной деятельности появились первые результаты. Буканьеры стали покидать остров, проклиная подлые особенности кастильского нрава. Дон Антонио де Кавехенья, несомненно, добился бы своего, смог бы почивать на лаврах, когда бы не одно обстоятельство.
У дона Антонио был сын. Дон Педро, соответственно, тоже де Кавехенья. Он был типичным представителем «золотой молодежи» своего времени. От отца он унаследовал немногое: умение хорошо одеваться, заказать изысканный обед и драться на шпагах. Дон Антонио умел, сверх этого, зарабатывать деньги, получать чины и немного разбираться в людях. Возможно, со временем де Кавехенья-младший усовершенствовал бы свою натуру, но случилось иное. Он не захотел бескровной победы над охотниками на буйволов, ему желалось, чтобы они не просто убрались с острова, но чтобы надолго запомнили его, дона Педро де Кавехенью, лейтенанта королевских стрелков.
Из числа своих собутыльников и прихлебателей, умевших держать хоть какое-нибудь оружие в руках, он сколотил команду человек в двадцать — двадцать пять и начал личные военные действия против буканьеров.
Отец попросил его прекратить эти глупости и предупредил, что занимается он небезопасным делом.
Сын на это гордо ответил, что не для того он покинул лучшие столичные салоны и кабаки, чтобы спиваться в сильно им уступающих кабаках Санто-Доминго. Он желает послужить отечеству и раздобыть кое-какую славу.
В первых двух налетах на небольшие буканьерские поселки ему сопутствовала удача. Рядом с подвешенными перед освежеванием буйволовыми тушами он приказал повесить попавших в плен мясников. В назидание еще не покинувшим остров.
И вот после такого удачного приключения, уже направляясь домой, он заметил струйку синеватого дыма над небольшим распадком в предгорьях Сиреневого хребта.
— Что это, как ты думаешь, Мануэль? — спросил он у одного из своих спутников, пузатого краснорожего галисийца, совершенно добродушного в кругу друзей и лютого зверя по отношению к англичанам и французам.
— Я думаю, что вы и сами догадались, дон Педро.
— Думаю, что догадался. Хорошо он там устроился, можно заметить только случайно.
— Это правда.
— Что ж, придется наведаться в гости. Да поможет нам святой Игнасий.
Кавалькада из полутора десятков всадников углубилась в лес, соблюдая все необходимые предосторожности, чтобы незаметно приблизиться к буканьерскому логову.
Подобравшись вплотную, они увидели обычную картину. Грубо сколоченный из досок сарай, небольшой огород, засаженный бобами. Вкопанные в землю шесты поддерживают десятки шкур. Шесть или семь буканажей, на которых разложены куски тех буйволов, чьи шкуры висят на шестах. Между буканажами бегают два молодых индейца с пальмовыми листьями и отгоняют огромных свинцовых мух. Тучи таких же насекомых зверей вьются вокруг еще не скобленных шкур.
И над всем этим висит облака тяжелой вони.
— Где же хозяева? — спросил дон Педро.
— Судя по постройкам, здесь живет один человек. И без женщины, — заметил толстяк галисиец. Ему было очень душно, внутри кирасы хлюпало от скопившегося пота, и целые ручьи текли по лицу. Жара стояла такая, что казалось — это не мушиные рои звенят в воздухе, звенит сам воздух.
— Ну что, атакуем, если он один…
— Погоди, Мануэль, погоди.
— Не могу, не могу я больше в этих зарослях. Мне нужно снять кирасу, иначе я умру.
— Ладно.
Дон Педро сделал знак, ему и галисийцу подвели лошадей. Усевшись в седло, сын губернатора дал приказ к атаке.
С выставленными вперед пистолетами и занесенными шпагами ворвалось карательное войско на территорию буканьерского становища.
Когда испанцы пересекали ряды шкур, раздался выстрел. Неизвестно откуда прилетевшая пуля, попав Кавехенье-младшему в лоб, сделала дона Педро трехглазым.
Индейцы бросились бежать.
Висевшие на веревках шкуры одним махом обрушились с двух сторон на испанских конников, погребая их под своей влажной тяжестью.
Ни стрелка, ни индейцев-помощников найти так и не удалось.
Единственное, что удалось установить, — что дом принадлежал Жану-Давиду Hay.
Глава пятая
По-испански Тортуга значит «черепаха». Так назвал его Колумб. Это наименование остров получил из-за своих очертаний, напоминающих данное земноводное.
В обычные дни жизнь на острове плелась черепашьим шагом, но с появлением буканьеров с Эспаньолы впадала в какой-то алкогольный галоп. Их очередное появление на острове на этот раз было особенно громоподобным. Массовое истребление буйволовых стад ввергло их в состояние подлинного буйства.
К концу пятидесятых годов семнадцатого века жизнь на острове начала приобретать все более цивилизованный характер. Сменилась психология жителей, многие из них, стараясь забыть о своем разбойничьем прошлом, оседали на земле, женились, заводили в большом количестве детей, посещали церковь — одним словом, стремились во всех отношениях походить на благовоспитанных граждан. Наилучшим выразителем этого процесса был сам господин губернатор Франсуа де Левассер. Еще каких-нибудь двадцать лет тому назад он был самым настоящим морским разбойником. В 1640 году Левассер с полусотней таких же, как он, бездомных французов высадился на Тортуге и построил первый укрепленный форт. За годы своего жительства здесь он выдержал несколько жестоких испанских осад, заслужил доверие официальных французских властей. А может быть, и не в доверии здесь было дело. Просто чиновники из метрополии позволили сильному, умному и удачливому флибустьеру именоваться губернатором после того, как он им сам объективно сделался. Он подарил Франции остров, она подарила ему должность.
Такое случалось не только в семнадцатом веке.
Де Левассер проявил себя воистину мудрым правителем. Как хороший пастух, он стриг своих овец и воздерживался от того, чтобы сдирать с них шкуры. О его покровительстве бывшим собратьям по каперскому промыслу уже говорилось. В Париже знали о мелких хитростях своего наместника, но разоблачать их считали если не ненужным, то, по крайней мере, преждевременным. Зачем посылать в столь отдаленные моря специальный флот, тратиться на его снаряжение, когда есть возможность отстаивать государственные интересы в тех водах, вредя при этом испанскому сопернику, совершенно бесплатно. А может, даже и более того, в том смысле, что ходили слухи, будто де Левассер частью своих доходов делился с королевским казначейством. Это и считалось многими одной из причин его неуязвимости.
Столица острова росла как на дрожжах. Запах денег — самые сильные духи, и этот запах нравится всем без исключения. Набережная украсилась десятками зданий, построенных в том стиле, который кто-то из умников в будущем назовет колониальным. Четыре основных рынка: табачный, невольничий, рыбный и мясной — были переполнены разного рода товаром. О количестве кабаков, таверен, харчевен и говорить нечего.
Своим иждивением губернатор построил в городе два здания (не считая, разумеется, собственного дома). Причем строил их одновременно. Большой протестантский собор и великолепную четырехэтажную тюрьму.
Кто после этого посмел бы сказать, что его высокопревосходительство небогобоязнен и незаконопослушен?!
Государственный ум господина де Левассера проявился и в том, что сам он, будучи гугенотом, не препятствовал отправлению на своем острове других культов. Для него католик и испанец было не одно и то же.
Вершины своего развития Тортуга достигла в тот момент, когда на ней появились люди искусства и публичные дома.
Появлению вторых губернатор, может, и хотел бы помешать, но, зная, что это ему не под силу, оставил эту затею. Появлению первых, наоборот, способствовал. Этому было простое объяснение. У губернатора росла дочь, Женевьева. Ей вот-вот должно было стукнуть восемнадцать, и любящий отец мечтал о том, чтобы она получила наилучшее образование, какое только возможно. И не только желал, но и готов был идти на любые траты и жертвы ради этого.
Учителя танцев, музыканты, поэты нашли пристанище в огромном белом дворце с зелеными жалюзи. Многие из них проникали туда в надежде стать родственником господина де Левассера. Одному из них, флорентийскому учителю танцев, это чуть было не удалось. Правда, карьеру он свою закончил, сидя в колодках на рыночной площади. Губернатор посчитал, что итальянец позволял себе слишком вольные движения руками в отношении его дочери, поэтому полностью лишил его возможности двигаться.
Такая крутая расправа охладила пыл многих искателей матримониальных успехов в губернаторском дворце. Больше сомнительные истории не случались. Да и сама Женевьева отнюдь не искала случая в них попасть. Эта привлекательная, порывистая смуглянка имела несчастье унаследовать от матери только внешность. Нрав ей достался отцовский. Родись она мальчиком, несомненно, рано или поздно отправилась бы шляться по морям в поисках приключений. Господин губернатор тихо радовался тому, что матросов в юбке на борт не берут.
О Женевьеве еще пойдет речь ниже, а пока следует рассказать о том, чем занимался на острове прибывший сюда вместе с прочими буканьерами Жан-Давид. Люди дона Антонио де Кавехеньи не смогли отыскать и схватить его, несмотря на все усилия. Он благополучно добрался до побережья и на индейской пироге перебрался с Эспаньолы на Тортугу, благо между островами было каких-нибудь семь-восемь миль. Как ни странно, все его спутники прекрасно были осведомлены о том, какой именно он совершил подвиг в джунглях, кого именно ему удалось застрелить. К нему бросились с расспросами, он отмалчивался. Склонность к баснословному преувеличению своих достижений весьма распространена среди морского люда. Хвастовство не считается в этой среде предосудительным. Наоборот, всякого рода скрытность возбуждает невероятный интерес. Что же говорить о случае, когда человек отказывается от лавров, по праву ему принадлежащих!
В результате Жан-Давид, изо всех сил старавшийся пробраться на Тортугу в качестве обыкновенного малозаметного охотника, въехал туда популярнейшей личностью.
Если приплюсовать к этому его немалый рост, громадную физическую силу, угрюмый нрав и острый, резкий язык, то становится понятным, почему на него не мог не обратить внимание губернатор де Левассер, всю свою карьеру построивший на умении разбираться в людях.
Жан-Давид поселился уединенно, в совместных попойках с выходцами с Эспаньолы почти не участвовал. И, что характерно, не вызывал этим всеобщего раздражения. Людям в общем-то не нравится, когда кто-то держится подчеркнуто в стороне. Другое дело, если речь идет о человеке, имеющем право держаться таким образом; от этого его вес, наоборот, растет и интерес к нему увеличивается.
Жил он так, словно чего-то ждал. То ли человека, то ли известия, то ли наследства.
Каждый день после обеда, когда спадала тропическая жара, его можно было видеть на набережной. Он медленно прогуливался от невольничьего рынка до рыбного. Туда и обратно, иногда три, иногда четыре раза, внимательно поглядывая вокруг синими глазами.
Набережная была весьма живописным местом. Повсюду стояли торговые ряды мелочных торговцев, толклись мулы, сновали индейцы-носильщики, дымились жаровни с уличной снедью, распуская длинные хвосты запахов. Здесь во множестве можно было встретить французских матросов и офицеров. Офицеры выделялись цветистостью одежд: светло-желтые кожаные штаны, заправленные в низкие сапоги с отворотами, шляпы шириною с хорошее тележное колесо, украшенные серебряной чеканкой ножны. Матросы одевались, понятно, поскромнее: немного недостающие до колен полотняные штаны, светлые чулки, короткий синий сюртук. Матросы кораблей, только что прибывших из Старого Света, носили на головах совершенно невообразимые сооружения — высокие клеенчатые цилиндры. Они были введены распоряжением морского министра его величества Людовика XIV. Над ними смеялись, но они, как и всякие столичные стиляги, были невозмутимы.
Флибустьеры и буканьеры походили в большинстве на грязных райских птиц. Кожа, перья, полотно, бархат, миткаль, серебро, дерево, пальмовые листья, китовый ус, стекло — вот неполный перечень того, из чего состояла одежда вольных жителей моря и побережья. Если прибавить к этому татуированные физиономии, плечи и груди, выбитые глаза, отрезанные носы, серьги в ушах, гнилые зубы, гноящиеся раны и пьяную брань, можно получить отдаленное представление о том, как выглядела набережная главного порта Тортуги в те часы, когда там появлялся Жан-Давид Hay.
Сам он был одет в простой черный сюртук, черные же панталоны, домотканые, но идеально чистые чулки. То, что он не утратил способности одеваться по-человечески в нечеловеческих условиях жизни на буканьерских становищах, могло бы вызвать восхищение, когда бы было кому оценить это.
Смуглая рука Жана-Давида опиралась на эфес длинной шпаги, за поясом выразительно торчал пистолет, так что всякий, кому захотелось бы с ним заговорить в непочтительном тоне, должен был бы пять раз подумать, стоит ли это делать.
Даже у самого замкнутого человека, если он постоянно живет среди такого скопления людей, каким является морской порт, появляются знакомые.
С первым из них, Моисеем Вокленом, Жан-Давид познакомился довольно забавным образом. Ему понадобилось сменить жилье: комната в большой гостинице почти на самом берегу оказалась слишком шумной. На первом этаже этой гостиницы, носившей странное название «Носорог и его рог», имелось заведение, пользовавшееся особенной любовью береговой братии. Местные посетители надирались так, что им становилось все равно, кто перед ними: враг, друг, стражник или сам Господь Бог. Даже такому затворнику, как Жан-Давид, случалось попадать в ситуации, в которых единственным аргументом оставался клинок.
Искалечив пятерых или шестерых гуляк, он решил: хватит! И стал наводить справки, нельзя ли обзавестись жильем в более спокойном месте. Подальше от портовых таверен.
Очень быстро его свели с одним дюжим седовласым негром, владельцем небольшого домика в верхней части городка.
— Сколько ты хочешь? — спросил его Жан-Давид.
— Пятьдесят пиастров, — сказал Роже — так звали домовладельца.
— Ты сошел с ума, клянусь всеми святыми! Пятьдесят пиастров в год за комнатку с земляным полом.
Негр помотал головой, и в глазах его появились слезы.
— Не за комнату, господин, и не на год.
— Я не понимаю тебя, говори яснее.
— Мне нужны пятьдесят пиастров, я предлагаю вам взамен за эти деньги весь дом и навсегда.
Жан-Давид задумался.
— Пойдем, ты мне его покажешь, твой дом.
Пятьдесят пиастров за полное обладание домом — сумма ничтожная. Что-то в этой истории не так, естественно, подумал Жан-Давид и пожелал проверить, что именно.
Он был почти уверен в том, что увидит крытую соломой мазанку с плетеными стенами, с низкою дверью и даже без окон, но ошибся.
Дом выглядел вполне пристойно. В таких здесь, на Тортуге, жили мелкие чиновники, небогатые торговцы, то есть вполне приличные люди.
— Пятьдесят пиастров? — усмехнулся Жан-Давид.
— Да, господин, да, но только деньги мне нужны не позже завтрашнего утра. Раннего утра.
Покупатель поиграл пальцами на эфесе шпаги.
— Послушай, приятель, может быть, прекратишь изображать из себя сумасшедшего и объяснишь, в чем тут дело? Может, тут нечисто, может, дом принадлежит не тебе, может…
Седой Роже замахал руками:
— Дом в полном порядке, спросите у соседей, все бумаги мы сможем оформить в канцелярии губернатора хоть сегодня. Я бы продал дом кому-нибудь из тех, кого знаю, но те, кого я знаю, не обладают такими деньгами. Пятьдесят пиастров — маленькая плата за дом, но не у всякого они лежат в кармане.
— А почему этих пиастров тебе нужно именно пятьдесят? Ты проигрался в кости?
— Что вы, господин, я не играю в кости.
— Тогда в чем дело? У меня есть пятьдесят пиастров, но я не выну их из кошелька, пока не узнаю, для чего они тебе нужны.
Роже понурился:
— Вы любопытны, господин, но у меня нет другого выхода, и я расскажу. Я должен выкупить одного человека. Завтра его продают в рабство.
— Ах, вот оно что. Кто этот человек?
— Его зовут Моисей Воклен, он великий человек. Я знаю его двадцать лет. Представляете, двадцать лет! Я проплавал с ним двенадцать лет, вы представляете, господин, двенадцать!
В глазах негра загорелся необъяснимый огонь, в речи появилась непонятная страсть.
— Ну двенадцать, и что?
— Как что, господин, как что?! Я проплавал с ним двенадцать лет, весь свой срок, — и остался жив. Посмотрите. — Роже стащил через голову полотняную белую рубаху и предъявил на обозрение иссеченную разнообразными рубцами спину. — Видите, господин, это он, он!
— Моисей Воклен?
— Да, он, это он!
— А, — усмехнулся покупатель, — я понял тебя. Ты хочешь его купить, чтобы сделать своим рабом. Ты хочешь с ним сделать то, что он сделал с тобой.
Роже снова покачал седой головой:
— Вы господин, но вы неумный господин. Я плавал с ним…
— Это я понял, на галере ты был гребцом, правильно?
— А он был надсмотрщиком. Я галерный раб, он надсмотрщик. Я ворочал весло, а он ходил над нами с плетью.
— Он бил тебя?
— О да, но как было этого не делать?
— То есть? — удивился Жан-Давид.
— Если никого не бить, галера не поплывет. Я был раб, и он бил меня. Но на галере есть рабы и… рабы. А сверх этого еще рабы. Одни сидят внизу, они плохие рабы. Им дают гнилую рыбу, похлебку из гороха и воды, хлеб без вина, и они спят на собственных нечистотах. Они не стараются и скоро умирают, потому что их сильно бьют за то, что они не стараются. Но есть другие рабы, им дают бобовую кашу, дают полфунта мяса, но хлеб им все равно дают без вина, даже когда нужно плыть быстро.
— Теперь я понял, — снова усмехнулся Жан-Давид, — ты сначала сидел в самом низу, но «старался»…
Роже просиял. Это счастье, когда тебя понимают.
— Я старался с самого начала, и я благодарен, что он это заметил и оценил. Я сидел в самом низу и чуть не умер, потом меня подняли выше, и я стал получать мясо, за это я стал стараться сильнее. А последние пять лет я плавал хорошо. Я получал и мясо, и кашу из бобов, и бутылку вина в день, мне разрешалось покрывать голову мокрой материей в жару. И это все благодаря ему. Когда я увидел его вчера на рынке, я заплакал. Нельзя допустить, чтобы такой человек, святой человек, попал на плантацию. Он пропадет там; ведь там бьют бамбуковыми палками по пяткам, если человек плохо работает.
Жан-Давид согласился с тем, что бывший надсмотрщик Роже человек незаурядный. Настолько незаурядный, что с ним имеет смысл познакомиться.
Утром он отправился вместе с бывшим галерным рабом выкупать его бывшего надсмотрщика.
В облике Моисея Воклена не было ничего сверхъестественного. Крупный лысеющий дядька с толстым красным носом. Тогда на нем еще не было следов сабельного ранения, зато были уже следы неумеренного употребления спиртного. До того как попасть на галеры, он трудился сборщиком налогового ведомства его величества в Пикардии. Судя по всему, большую часть налогов он собирал не в карман короля, а в свой собственный. Такое поведение рано или поздно начинает раздражать. Кончается все галерами.
Глаза у Воклена были хитрые и грустные одновременно. Ему не хотелось на плантацию сахарного тростника, но втайне он надеялся, что и там ему удастся стать кем-то вроде надсмотрщика.
Нельзя сказать, что он слишком уж понравился Жану-Давиду, по крайней мере не настолько, чтобы платить за него свои собственные деньги. Он щедро позволил верному галерному рабу расплатиться за освобождение любимого мучителя собственным домом.
Все закончилось тем, что новый владелец дома на окраине города разрешил старинным друзьям поселиться под его крышей. Для чего это было нужно синеглазому беглецу с Эспаньолы, не знал никто. Возможно, в то время не знал и он сам. А может, и знал.
Воклен, несмотря на свой солидный возраст, не задумываясь встал в подчиненное положение по отношению к бывшему буканьеру. Спокойно, не задавая лишних вопросов, выполнял его мелкие поручения,
Подражая Воклену, точно так же стал вести себя и Роже. Таким образом, сама собой у Жана-Давида появилась маленькая, но, кажется, преданная команда.
Глава шестая
Высокий человек в черном сюртуке, в черной шляпе без плюмажа, низко надвинутой на брови, не торопясь и временами оглядываясь, шел по пустынной улочке в районе невольничьего рынка.
В притропических странах укладываются спать сразу после того, как закатывается светило, если только нет повода попраздновать. Нынешний день был непраздничным.
Из-за стен доносилось позвякивание посуды, попахивало дымом очагов, хриплые голоса тянули, как бы нехотя веселенькую песенку.
Могилу мне выройте глубокую и сухую,
Гроб сколотите длинный и узкий.
В те времена оптимистический взгляд на вещи был широко распространенным явлением.
Человек в черной шляпе в очередной раз оглянулся.
По улице проскакал всадник в развевающемся плаще. После себя он оставил медленно оседающее облако пыли. Над городом и морем бесшумно клубилось и другое облако — звездное. Но созерцание его не способно было вызвать потрясение в душе ночного прохожего.
Проскакал еще один всадник, что вызвало столкновение двух пылевых лавин.
Надвинув шляпу на глаза еще ниже, Жан-Давид решительно пошел дальше вдоль белой призрачной стены негритянского сарая. Вряд ли тот, кто решил бы за ним следить, стал бы усаживаться на коня и носиться во весь опор по улицам. Так он подумал. Целью его путешествия был небольшой каменный, уединенно стоящий домик. Ставни его оказались закрыты, но сквозь щели можно было рассмотреть мерцание огня.
Последний раз оглянувшись, Жан-Давид постучал. Дверь отворили быстро, но явившегося гостя встретили удивленным вопросом:
— Кто вы?!
Жан-Давид ответил вопросом на вопрос:
— Вы Фабрицио из Болоньи?
— Да, но я вас не ждал. Вернее, ждал не вас, я…
Решительный гость мягко, но сильно толкнул длиннобородого старика в грудь и вслед за ним проник в его жилище.
Через несколько секунд гость и хозяин сидели в довольно обширной комнате, напоминающей собой нечто среднее между библиотекой и химической лабораторией.
Или алхимической.
Хозяин, примерно шестидесятилетний старик в высоком шерстяном колпаке, замусоленном одеянии до пят, чем-то напоминающем церковную одежду (только не чистотой), удивленно глядел на рослого, синеглазого, сосредоточенного мужчину, вооруженного шпагой и сидящего в позе человека, которому эту шпагу ничего не стоит пустить в ход.
Вооруженный гость с интересом оглядывался. Позолоченные корешки, подставки для книг, бутыли, покрытые пылью, тигли для раздробления минералов, холодное жерло печи, где, по всей видимости, разогреваются хитроумно составленные смеси. Вдоль стен натянуты веревки, увешанные пучками засушенных трав.
— Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, — сказал Жан-Давид, не глядя на хозяина. — Такая удача здесь, на краю света, натолкнуться на такого ученого. Мне рассказывали про вас. И знаете кто?
— Нет, — облизнул пересохшие губы ученый.
— Один французский барон. Он жил неподалеку от Ревьера, слышали о таком?
— Нет.
— Жаль.
— Я, знаете ли, давно из Старого Света.
— Что же вас заставило отправиться в такую даль в таком возрасте?
Ученый поправил свой колпак. Он все никак не мог понять — нужно ли ему продолжать бояться этого странного посетителя или нет. Поэтому говорил неуверенно, все время сглатывая слюну.
— Род моих занятий и интересов таков, что только здесь я мог надеяться найти те компоненты, те травы и минералы, которые позволили бы мне завершить главное дело моей жизни. До меня доходили рассказы о невероятных богатствах здешней фауны.
— Ну и как, вы отыскали свой философский камень?
— Я ищу не философский камень… — начал было Фабрицио из Болоньи, но, натолкнувшись на внезапный пронзительный взгляд гостя, осекся.
— Тогда, может быть, эликсир бессмертия?
— Вряд ли, знаете, это достижимая цель. Мои устремления не идут так далеко.
— Вы ведь врач?
Отблеск нового испуга мелькнул в глазах итальянца. Он смущенно погладил бороду:
— Я иногда практикую, ибо есть у меня и врачебный диплом. Но не это является основным содержанием моих занятий. Я даже в канцелярии губернатора не стал регистрироваться в этом качестве.
— Знаю, поэтому и затратил на ваши поиски столько времени.
— Вы же говорите, что услышали обо мне случайно? — подозрительно и одновременно затравленно сказал ученый муж.
— Не ловите меня на противоречиях в моих словах. Не за этим я сюда пришел.
— А зачем?
Жан-Давид улыбнулся.
Обезоруживающая улыбка вооруженного человека.
Старик Фабрицио облегченно вздохнул. Наверное, можно не бояться этого молодого наглеца. Обыкновенный фат, для которого самое главное — произвести впечатление. Таких полно. И не только здесь на Тортуге.
— Я, разумеется, вас осмотрю. Вы должны понять мою сдержанность, после последних событий в нашем городе звание врача стало, как бы это сказать поточнее…
— Не будем тянуть, давайте приступим к делу. Мне раздеться прямо здесь?
— Нет, нет, здесь я ставлю опыты, здесь в известной степени, как бы это выразиться, нечисто.
— Что вы такое говорите, доктор?! — усмехнулся весело Жан-Давид.
Ученый смущенно покряхтел:
— Будем считать, что это игра слов.
— Будем.
Застегивая свой сюртук после осмотра, Жан-Давид внимательно смотрел в лицо врача.
Оно было озабоченным. Пациенту явно это выражение не нравилось.
— Вы расстроены так, будто рассчитывали обнаружить пару копыт у меня вместо ног и не обнаружили.
— Что вы говорите? — выходя из состояния задумчивости, спросил врач.
— Это я еще шучу. А узнать я хочу всего лишь одно — у меня есть надежда?
Фабрицио из Болоньи опустил голову и все десять алхимических пальцев зарыл в серую паклю бороды.
— Понятно.
Жан-Давид прошел в лабораторию.
Старик последовал за ним.
— Теперь поговорим о гонораре, доктор.
Тот замахал руками:
— Что вы, что вы, как я могу брать деньги с человека, которому не могу помочь?
По лицу пациента поползла змеиная улыбка.
— Вот вы и проговорились. Пока вы молчали в ответ на мои вопросы, я еще…
Фабрицио из Болоньи тяжело вздохнул.
— Чтобы закончить наш разговор, я все-таки назову вам имя человека, который мне о вас рассказывал. И вы поймете, в какую неприятную историю попали.
— Я не понимаю вас.
— Думаю, что уже понимаете, только не до конца. Так вот, восхищенно мне рассказывал о ваших опытах некто барон де Латур-Бридон. Помните о таком?
Даже в полумраке «нечистой» лаборатории было видно, как сильно и как внезапно побледнел старик.
— Вы знали барона?!
— К счастью или к несчастью. Пока не решил.
— И чем же, вы считаете, это должно обернуться для меня? Я попытаюсь вам помочь. Бывают исключения из правил. Я приложу все свои силы. Иногда я делаю чудеса, настоящие врачебные чудеса. В Новом Свете нет лучшего врача, нет человека, который бы лучше меня разбирался в строении человеческого тела. Шанс всегда есть, тем более при вашем телосложении, при вашем…
Все эти слова Фабрицио из Болоньи говорил, отступая шаг за шагом назад, становясь на колени и не сводя глаз с мутно поблескивающего лезвия в руке Жана-Давида.
Врач и пациент поменялись местами. Когда врач не в состоянии спасти, его самого лишают жизни.
В самый последний момент сцена казни незадачливого медика усложнилась.
Послышались приближающиеся к дому шаги.
В душе старика уже появилось что-то похожее на надежду, но сразу вслед за этим лезвие вонзилось в его грудь.
Старик осел на пол, не издав ни звука.
Убийца бросился в сторону комнаты, где производился его осмотр. Там он видел дверь, которая, судя по всему, должна была выводить на улицу.
Хорошо, что в доме нет никого из слуг.
Когда мстительный пациент открывал дверь наружу, неведомый посетитель как раз открывал дверь внутрь, в лабораторию. Пока он сообразит, в чем дело, пока поднимет шум, пока сбегутся те, кто этот шум услышит…
Так примерно разворачивались мысли Жана-Давида, но внезапно их благополучное развитие пресеклось. Убийца понял, что не сможет незаметно и беспрепятственно покинуть ограду алхимического дома.
Почему?!
По улице, ведущей к воротам, бежало несколько человек с криками и факелами.
К этим крикам добавился истошный, срывающийся крик человека, только что ворвавшегося в дом.
Что происходит?!
Не могла помощь появиться раньше, чем прозвучит крик о помощи!
Надо было что-то делать.
Топот ног по пыльной улице приближался, еще мгновение — и они застанут его с окровавленным кинжалом во дворе дома, где произошло убийство.
Да! Первым делом избавиться от ножа.
Отразив свет нескольких звезд, орудие убийства, вращаясь, улетело куда-то в сторону набережной.
А дальше — вот что!
Жан-Давид выхватил из ножен шпагу и кинулся обратно в жилище убитого им Фабрицио из Болоньи.
Ворвавшиеся через несколько секунд вслед за ним стражники увидели душераздирающую картину: труп бородатого старика на полу, высокого человека в черном сюртуке и со шпагой в руке и рыдающего у него на груди Анджело, пятнадцатилетнего губернаторского сына, последние несколько месяцев бравшего уроки латыни у знаменитого ученого, чтобы в образованности ни в чем не отстать от своей сестры.
Ввиду того что по городу в последнее время прокатилась серия загадочных убийств, его высокопревосходительство губернатор приказал своему сыну отправляться на вечерние уроки только в сопровождении стражников. Умного и резвого подростка раздражала медлительность пропахших прокисшим пивом латников, постоянные разговоры о повышении или задержке жалованья, их привычка хватать всех проходящих мимо женщин за те места, к которым, как считал Анджело, нельзя прикасаться без благоговения. Этому учили его рыцарские романы, составлявшие большую часть его с сестрой совместной библиотеки.
Так вот в этот раз пышущие не полностью переваренным алкоголем вояки надоели ему сверх обычного, и он веселым галопом бросился к дому любимого учителя, чтобы застать там ни много ни мало его труп.
— А где же убийца? — спросил самый быстро соображающий из стражников, оглядевшись.
Анджело оторвал от груди спасителя заплаканное лицо и крикнул срывающимся детским голосом, что убийца убежал через дальнюю дверь, что он собственными ушами слышал его шаги с той стороны дома, что если бы не этот господин и так далее…
Именно в таком виде эта история была передана господину де Левассеру. Он долго сидел, выкатив большие, красные, хотя и умные глаза, не зная, что сделать сначала: прийти в ярость по поводу того, что загадочный убийца все еще не пойман, или испытать чувство огромной благодарности к человеку, который, судя по всему, спас от гибели его единственного сына. Без сомнения, ведь если бы этот господин — как его? ах, его даже неизвестно как зовут! Так вот, не подоспей он вовремя, убийца заколол бы и Анджело, чтобы избавиться от свидетеля.
Завтра же утром доставить сюда этого человека!
Что о нем еще известно? Ах, только слухи, ну и каковы же они?
Застрелил сына губернатора Эспаньолы? Один бился против целого отряда, да еще и результата такого добился! И он до сих ни разу не приглашен «ко двору»?!
Да, господин де Левассер носил голландское белье с кружевами, расчесанный бристольскими мастерицами парик, его башмаки из кожи анаконды украшены пряжками в виде махаонов, крылья которых на манер утренней росы усыпаны алмазной крошкой; да, его дети знают латынь и по утрам мочатся в сосуды из севрского фарфора, но он не забыл, что сам когда-то был простым искателем удачи в пучине житейских морей, поэтому не надо ему говорить, что это простой буканьер, не надо!
Утром следующего дня Моисей Воклен постучал стеком для верховой езды в бамбуковую занавеску, закрывавшую вход в спальню Жана-Давида Hay.
— В чем дело? — донесся оттуда немного недовольный вопрос.
Самодовольно почесывая волосатую грудь, мягкосердечный надсмотрщик сказал фразу, которую спустя несколько десятков лет другой слуга повторил другому господину:
— Вставайте, вас ждут великие дела.
У лысого толстяка были все основания так думать, ибо за спиной у него стояла целая парадная депутация, высланная благодарным господином де Левассером для официального изъявления самых лучших чувств в адрес неизвестного героя.
Глава седьмая
— Почему вас это удивляет, дорогой месье…
— Олоннэ.
Губернатор и его гость стояли на зеркально поблескивающем полу посреди большой залы, стены которой были украшены гобеленами, зеркалами и невероятной изысканности подсвечниками. Его высокопревосходительство обеими руками тряс протянутую для приветствия загорелую руку спасителя
— Держу пари, вы скажете, что удивлены тем, как я легко сократил дистанцию, которая нас якобы разделяет. Губернатор зовет в гости простого буканьера, какой кошмар, а?!
Олоннэ сдержанно кивнул:
— Да, я хотел сказать что-то в этом роде.
— И слукавили бы. Неужели вы думаете, что сердце такого человека, как я, будь я хоть губернатор, хоть сам господин кардинал, может быть закрыто для благодарности?
Одетый в чопорно черные одежды гость вежливо поклонился. Вежливо и сдержанно, как бы давая понять, что в прежней жизни у него была возможность узнать, что такое хорошие манеры. Но господин де Левассер не оценил этого намека.
— Но, должен вам заметить, сколь бы сильным ни являлось чувство благодарности, намного сильнее другое чувство, свойственное всякому человеку. Угадайте какое?
— Я плохой предсказатель. И плохой угадчик.
— Лю-бо-пыт-ство!
— Любопытство?
— Именно! Да, я очень хотел приблизить к себе и вознаградить спасителя своего сына, но еще сильнее я желал поглядеть на того, кто застрелил сына дона Антонио де Кавехенья. Понимаете?
Лицо гостя заметно помрачнело.
— Вы прямо какой-то специалист по губернаторским сыновьям. Одного убиваете, другого спасаете. Вы что-то вдруг сделались невеселы, что с вами, любезный друг?
— Честно признаться, ваше высокопревосходительство, я надеялся, что эта история, я имею в виду, разумеется, историю с сыном губернатора Эспаньолы, не получит широкого распространения, я…
— А она получила! — весело захохотал господин де Левассер, и его красные щеки затряслись. — Ладно, ладно, не впадайте в меланхолию. Как говаривал мой отец, не будь дураком, не думай слишком много. Сейчас я представлю вас своему семейству.
Губернатор показал, куда пройти.
— Супруга моя скончалась тому лет, наверное, уже восемь, так что главным воспитателем моих детей стал я сам. И вы знаете, пришел к выводу, что дети, воспитанные отцами, — это самые лучшие дети.
— Заранее с вами согласен.
— Пытаетесь сказать мне любезность? Если так, то правильно делаете. Я это люблю. Допустимо даже некоторое количество лести. Знаете, я размышлял над этой проблемой.
— Какой, ваше высокопревосходительство?
— Проблемой лести.
Они шли по анфиладе небольших комнат, гулко щелкая каблуками по полированному паркету.
— Так вот к какому выводу я пришел. Людям льстит не то, что, собственно, заключено в льстивых словах, а то, что их считают достойными лести. Каково? Хорошо понято?!
Олоннэ не успел ничего ответить. Они вошли в ту комнату, что являлась целью путешествия. Комната эта была украшена еще богаче, чем те, безусловно богато убранные помещения, через которые недавнему буканьеру пришлось проследовать. Здесь помимо все тех же гобеленов, зеркал, портьер, стульев с золочеными спинками имелось несколько огромных музыкальных струнных инструментов. Олоннэ такие видел впервые и, естественно, не знал, что они называются арфами.
Но даже не арфы были главным украшением комнаты.
— Женевьева, — сказал его высокопревосходительство, расплываясь в беззащитной улыбке любящего отца. — Женевьева, позволь представить тебе господина Олоннэ. Это тот самый человек, что пришел на помощь нашему сорванцу Анджело.
Девушка была красива, это Жан-Давид признал сразу. Он инстинктивно подобрался, как это делает каждый мужчина при появлении существа женского пола, заслуживающего хоть какого-то внимания.
Да, красива и умна.
Он сделал этот вывод всего лишь из того, как она к нему подошла. До того, как она произнесла хотя бы одно слово.
Женевьева осторожно, неакцентированно приподняла руку, не уверенная в том, известно ли эспаньольскому буканьеру, что руку дамы, приподнятую при знакомстве, принято целовать. Ей не хотелось его обижать, если ему неизвестны подробности куртуазного обхождения.
Жан-Давид наклонился и коснулся смуглой кожи сухими губами.
Женевьева решила, что этот буканьер не совсем буканьер.
— Очень рад, мадемуазель.
— Так это вы спасли моего брата? — спросила мадемуазель де Левассер, безумно досадуя на себя за то, что ей не пришло в голову ничего, кроме этого банального вопроса.
Гость мягко улыбнулся, развел руками и сказал, что отнюдь не считает свой поступок античным подвигом.
Женевьеву разозлило это спокойное великодушие. Глаза ее слегка сузились.
— Скажите, а что вы сами-то делали в столь поздний час в столь подозрительном месте?
Жан-Давид не желал подобных вопросов, но был вполне к ним готов.
— Я искал врача. Мне сказали, что Фабрицио из Болоньи знаменитый лекарь.
— Будь он даже не очень знаменит, другого на острове сейчас все равно нет, — вмешался в разговор губернатор, озабоченно покусывая пухлую верхнюю губу, — а ведь было трое.
Жан-Давид только кивнул в подтверждение этих слов.
— Вот вы скажите мне, месье Олоннэ, кому это могло понадобиться убивать всех наших лекарей, а?
— Представления не имею.
— И главное зачем?!
— Тем более.
— А вы тяжело больны, месье Олоннэ? — поинтересовалась Женевьева.
— Нетяжело. У меня бывают приступы лихорадки — последствие моего пребывания на Эспаньоле. Тамошний климат оставляет желать много лучшего.
Его превосходительство терпеть не мог разговоров о болезнях.
— Не знаю, какой там климат, вряд ли он сильно отличается от нашего, а вот какую баранину нам сегодня подадут… — Он профессионально чревоугодническим движением закатил глаза и слегка закинул голову. — Приходите, месье Олоннэ, обедать. Общество соберется хоть и обычное, но приличное. Капитан порта, господин настоятель. Господин Дешам, господин Лизеразю, наши денежные мешки. Кто-то из плантаторов, это неизбежное зло. Офицеры… Да, будет одна замечательная фигура! — оживился к концу списка приглашенных его высокопревосходительство.
— Кого ты имеешь в виду, папа?
— Капитан Шарп, — торжественно провозгласил губернатор, — победитель и герой. Сегодня утром он пришвартовался у моего причала. Давно я не слышал, чтобы кому-нибудь так здорово удалось проучить этих испанских свиней.
Жан-Давид бросил быстрый взгляд на мадемуазель, ему не удалось понять, какое на нее произвело впечатление известие о предстоящем визите «героя-победителя».
Как и следовало ожидать, капитан Шарп, высоченный и неимоверно кудрявый ирландец, оказался в центре внимания этим вечером. В этом, впрочем, не было ничего удивительного. Что может быть интереснее молодого тридцатилетнего рыцаря, только что вернувшегося с победного сражения с всеми ненавидимым драконом?
После обеда, сколь изысканного, столь же и длинного, гости переместились в комнату, уставленную струнными украшениями. Здесь Жан-Давид, скромно промолчавший весь обед, счел возможным обратиться к хозяйке «салона» с вопросом:
— Может быть, вы сыграете нам, мадемуазель?
— Нет.
— Почему же? Мне думается, что не только я в своих лесах, но и господин Шарп среди своих волн не имел возможности наслаждаться хорошей музыкой.
Капитан просверлил зеленым глазом лезущего не в свое дело господина в черном. Откуда он взялся, похожий на мелкого чиновника дуралей? Неужели не понимает, что вся публика переместилась в эту комнату только для того, чтобы послушать во всех подробностях рассказ о захвате испанского галиона, а не дребезжание расстроенной арфы.
Жан-Давид прекрасно понимал, что раздражает ирландца, и был чрезвычайно этому рад.
Но Женевьева не поддержала его игру.
— Я не сыграю вам не потому, что не хочу, а потому, что не умею, — просто сказала она.
— Вы же учились…
— Но не научилась. Лучшая музыка для меня — это хлопанье парусов и журчание воды в шпигатах.
Жан-Давид поклонился и отступил на полшага.
Капитан Шарп ухмыльнулся и подкрутил ус.
Женевьева заметила и то и другое. Второе движение ее здорово разозлило. Что касается первого — ладно, решила она, позже надо будет все обдумать.
Гости между тем расселись.
Жан-Давид поместился в самых дальних рядах. Несмотря на то что его высокопревосходительство самым жарким образом рекомендовал его гостям, он понимал, что остается для всех фигурой вполне второстепенной, если не ничтожной.
Капитан Шарп начал говорить.
Сначала его рассказ струился подобно ручейку, зародившемуся в горах, постепенно он набирал силу, креп, превращался в мощный и бурный поток. В момент описания основных событий он напоминал тропический ураган, которому никто и ничто не способно противостоять.
Суть дела была достаточно проста. Шарп взял в долг немного денег у господина де Левассера, снарядил на эти деньги средних размеров двадцатишестипушечное судно и вышел в море, движимый одной целью — местью испанцам. Вопрос — за что? — был в этой ситуации неуместен.
В течение примерно месяца он курсировал от Кубы до Пуэрто-Рико в надежде перехватить богатый испанский корабль.
Надо сказать, что не одного Тома Шарпа чувство мести толкало на эту дорожку, но далеко не всем удавалось это чувство удовлетворить.
Капитану Шарпу повезло.
— Мы увидели возле острова Дель-Риос большое трехмачтовое судно. Я крикнул своему помощнику, чтобы положили руль к ветру и принесли мне мою подзорную трубу. Достаточно оказалось одного вооруженного взгляда, чтобы понять: это испанец.
Дамы прижали свои веера к восхищенно полуоткрытым ртам, капитан снисходительно затянулся дымом из своей длинной пенковой трубки.
— Мы подняли все паруса, и началась погоня. Очень скоро стало понятно: им не уйти.
— Почему? — пожирая капитана глазами, спросила жирная супруга господина Лизеразю. На бородавке, примостившейся в районе переносицы, у нее блестела капля влюбленного пота.
— Мне кажется, они долго не очищали дно своего галиона, оно все обросло ракушками, это сильно замедляет ход.
Еще одна вдумчивая затяжка.
— Итак, мы их настигали. Я приказал сделать предупредительный выстрел из носового орудия и предложил им лечь в дрейф. И что бы вы думали?
— Что?! — спросило сразу несколько голосов.
— Они послушались. Тогда я отдаю приказ абордажной команде отправляться на нос, вхожу в кильватерную струю. По тому, как они ведут себя, ясно, что сопротивления не будет. Они даже не потрудились открыть орудийные порты! Тогда я выхожу из кильватерной струи и, держа галион под прицелом орудий левого борта, спускаю две большие шлюпки. В них усаживается абордажная команда. Я приказываю сделать два предупредительных выстрела в настил по верхней палубе. Испанцы, собравшиеся на шкафуте, побросали мушкеты и повалились как попало. Абордажная команда без единого выстрела поднимается на борт. Я прибыл на третьей шлюпке. Испанец, вы не поверите…
— Поверим! — воскликнула мадам Лизеразю.
— …Сам вручил мне свою шпагу. Сам! Но что шпага, для этих свиней главное не шпага, не честь, для них самое главное — денежный ящик. Денежный ящик, вот их сердце! Так вот, господа, этот испанец отдал мне, безропотно и даже с поклонами, ключ от корабельного денежного ящика. Я тут же его отправил к себе на борт. Там было семь тысяч песо.
— А груз? — поинтересовался практичный господин де Левассер.
— Груз? Я осмотрел его, разумеется. Олово в слитках, пять тысяч фунтов, такие серые прямоугольники. Чтобы перегрузить его, нам бы потребовалось полдня. Да и в случае столкновения с судами береговой охраны Эспаньолы нам с такой тяжестью в трюме не скрыться бы.
— Да, как говорят бретонские пастухи, овчинка выделки не стоит, — согласился губернатор.
И тут из задних рядов раздался голос бывшего буканьера:
— Какого, вы говорите, цвета были эти слитки?
Публика недовольно зашевелилась, стараясь разглядеть спрашивающего.
— Что вы сказали? — рассеянно переспросил капитан Шарп. Он считал эту черную чиновничью крысу уже окончательно побежденной на фронте борьбы за сердце прекрасной Женевьевы, поэтому мог позволить себе некоторую рассеянность.
— Я прошу вас сказать, какого цвета были слитки.
Капитан затянулся горьким дымом.
— Серого.
— Они сказали, что это олово?
— Так было указано в сопроводительных бумагах. По-испански я читаю так же неплохо, как и в сердцах людей, — усмехнулся кудрявый ирландец. Он уже понял, что с этим синеглазым негодяем придется сегодня схлестнуться еще раз, и начал настраиваться на повторную победу.
— Думаю, что вы совершили большую глупость, поверив тому, что испанский капитан сказал вам на словах, и тому, что было написано в его бумагах.
Капитан Шарп набрал в грудь побольше воздуха, пытаясь сдержаться. Он еще не решил, каким именно способом истребит этого мерзавца, но мысленно подбирал оскорбления и проклятия, с которых начнет это дело.
Присутствующие оцепенели, отчасти от немыслимой наглости человека в черном, отчасти от того, что пытались представить, в какую именно форму выльется гнев победителя испанцев.
В наступившей тишине слова Жана-Давида прозвучали особенно отчетливо и оскорбительно:
— Они вас обманули. Галион был гружен не оловом, а серебром. Пять тысяч фунтов серебра в слитках! Они просто покрасили их серой краской. Теперь вам понятно, почему испанцы не сопротивлялись? Эти семь тысяч песо, что вы нашли в денежном ящике… — Жан-Давид громко рассмеялся, не закончив речь, заканчивать которую не имело смысла, настолько все было очевидно.
— Вы хотите сказать, месье, не имею чести знать вашего имени…
— Олоннэ.
— Вы хотите сказать, что меня провели как последнего идиота?!
— Вы сами произнесли эти слова.
— И вы думаете, что вы останетесь в живых после того, как подобные слова в мой адрес произнесены? Не важно, кем именно, вы так думаете?!
Жан-Давид пожал плечами:
— Право, странно. Вы обзываете себя идиотом, а отвечать за это предлагаете мне.
— Не увиливайте! — Капитан Шарп с шипением вытащил из ножен свою шпагу.
Жан-Давид посмотрел на Женевьеву. Кажется, в ее глазах читалось что-то похожее на любопытство. Ну что ж, хотя бы это.
Олоннэ тоже вытащил свою шпагу.
Капитан Шарп решительно шагнул ему навстречу.
Публика торопливо, но без особого шума и страха жалась к зеркальным стенам. Зрелище предстояло скорее интересное, чем страшное. А госпожа Лизеразю так и сама была готова вцепиться в горло наглецу со сросшимися у переносицы бровями.
Решительно приближаясь к занявшему соответствующую фехтовальную позицию противнику, капитан Шарп обрушил одну из арф. Она упала, прозвучав громко и возмущенно.
Словно пробужденный этим звуком, вступил в дело его превосходительство губернатор. В голове у него была путаница. С одной стороны, он все еще считал Тома Шарпа, удачливого и добычливого морехода, своим потенциальным зятем, с другой стороны, стал уже сомневаться в том, настолько ли удачлив и добычлив этот Том, чтобы отдавать ему свою единственную дочь. Из его бездонной практической памяти всплыл случай, напоминающий историю с перекраской серебра в олово.
Прав или не прав господин Олоннэ в своих обвинениях, находясь сейчас в этом зале, решить было невозможно, тем более что испанец, способный разрешить этот спор, был теперь вне досягаемости. Одно оставалось несомненно: следовало помешать назревавшей дуэли.
— Прекратите! Прекратите немедленно, господа!
Зычный голос губернатора отрезвил всех.
Капитан Шарп остановился, свирепо дыша.
Губернатор обратился к Олоннэ:
— Вы бросили слишком обидное обвинение в адрес моего гостя капитана Шарпа. Но дело даже не в его обидности, дело в его недоказуемости.
— Что же делать, ваше высокопревосходительство, если я уверен, что прав?
— Как бы там ни было, вы должны ответить за оскорбление! — рявкнул Шарп.
Господин губернатор на секунду задумался и принял решение, в котором сказалась вся его государственная мудрость.
— От того, господин Олоннэ, что вы, скажем, убьете господина Шарпа, олово в трюме испанского галиона не превратится в серебро. От того, что вы, господин Шарп, убьете господина Олоннэ, подозрение в том, что вас обвели вокруг пальца, не рассеется.
— Что же делать? — растерянно спросил капитан Шарп.
— Вам — ничего особенного. Продолжайте заниматься тем, чем занимались до сих пор. Только один совет: если вам сдастся без боя еще один галион, груженный оловом, попробуйте соскоблить краску хоть с одного слитка.
Ирландец покраснел и насупился.
— С вами дело сложнее, господин Олоннэ. Вам надлежит доказать, что все, что вы только что утверждали в адрес капитана Шарпа, может иметь место.
— То есть, ваше высокопревосходительство?
— Вам надлежит отправиться в плавание и найти еще один испанский галион с перекрашенным серебром.
Ноздри Олоннэ задрожали, а щека едва заметно дернулась, но тем не менее он поклонился.
Господин де Левассер заметил взгляд, брошенный бывшим буканьером в сторону Женевьевы. Учителей танцев он за мысли, которые читались в подобных взглядах, заковывал в кандалы, спасителю своего сына он счел возможным предложить более мягкое наказание.
— Судя по вашему поклону, вы принимаете мои условия.
Олоннэ поклонился еще раз.
— Я понимаю, что мои условия не из легких, но что делать, если моим Богом является справедливость и других я вам предложить не могу. И все же вам я сделаю одно послабление.
Бывший буканьер посмотрел на губернатора из-под сдвинутых бровей. Ничего хорошего он не ждал, тем не менее сохранил спокойствие.
— Предложенное мной предприятие трудноосуществимо при наличии одной лишь шпаги и решительного характера. Поэтому я ссужу вас деньгами на оснащение такого же примерно корабля, какой был у господина Шарпа. Это будет продолжением дела справедливости, согласитесь, господа.
Публика одобрительно загудела.
— Отправляйтесь себе, плавайте, ищите галион с грузом перекрашенного серебра. Или, если хотите, золота.
Общий хохот.
— И вот, когда вы докажете, что подобные случаи бывают, тогда я разрешу вам скрестить шпаги с господином Шарпом. Можно даже и в этой самой гостиной.
Господину Олоннэ оставалось только поклониться. И он сделал это.
Глава восьмая
После смерти сына образ жизни его превосходительства дона Антонио де Кавехенья несколько изменился. Раньше он был большим любителем жизни публичной, почти карнавальной, теперь же замкнулся и переехал из своего дворца в центре Санто-Доминго в небольшой загородный дом. Большую часть времени он проводил в пышном тропическом саду, фактически в полном уединении, общаясь с миром через своего секретаря Альфонсо Матурану, тихого, исполнительного человека, вывезенного господином губернатором из метрополии. Он доставлял дону Антонио корреспонденцию, составлял список аудиентов, решал, кого захочет принять его высокопревосходительство, а кому следует потомиться в ожидании встречи.
Даже фигуры вполне официальные, такие, как командор крепости Санто-Доминго дон Ангерран де ла Пенья, главный податной инспектор и алькальд [7], часто возвращались от ворот губернаторского сада ни с чем. Им приходилось удовлетворяться сообщением сеньора Альфонсо, что его высокопревосходительство не расположен к беседе.
Перед высокопоставленными чиновниками и состоятельными людьми, проживавшими на острове, замаячила перспектива попасть под власть заурядного письмоводителя. Что-то вроде ропота послышалось в гостиных Санто-Доминго. Временщичество, вещь достаточно распространенная в Европе того времени, готовилось пустить корни и на удаленной от европейских столиц, затерянной в пучинах океана Эспаньоле.
Так, по крайней мере, казалось виднейшим гражданам острова.
Выпив чашку шоколада, поправив кружевные манжеты, коснувшись локонов безукоризненного черного парика, его высокопревосходительство спустился по ступенькам, сложенным из белого ракушечника, на песчаную дорожку, только что увлажненную садовником.
И оказался в райском саду. У входа в этот сад его ждал в привычном полупоклоне сеньор Альфонсо. Он был одет, несмотря на жару, в серый, плотно застегнутый сюртук, на ногах у него были грубые шерстяные чулки и тяжелые башмаки из свиной кожи. В руках он держал большую сафьяновую папку с большой медной застежкой.
Проходя мимо него, дон Антонио спросил:
— Что с вами, Альфонсо? Давно не видел вас в таком возбуждении.
И это при том, что любой другой человек, посмотрев на секретаря, скорей всего, принял бы его за статую.
Не дожидаясь ответа, дон Антонио отправился по аллее тюльпанных деревьев к мраморной беседке в углу сада. Оттуда открывался великолепный вид на морские дали. Усевшись на широкую скамью и вперив в эти дали свой тяжелый, ничего не выражающий взгляд, губернатор негромко, без всякого нетерпения в голосе спросил:
— Что же вы медлите, Альфонсо? Я, между прочим, сгораю от любопытства.
Щелкнула застежка. Открылась папка. Явилась на свет длинная полоска пергамента, испещренная знаками, которые сразу рождали представление о каком-то шифре, тайной переписке, о чем-то особенно секретном.
— Это послание от сеньора Аттарезе.
Дон Антонио отреагировал: поправил локон на парике.
— Во-первых, он сообщает, что его предыдущий посланец был, очевидно, перехвачен, и если действительно перехвачен, то не иначе как ищейками господина де Левассера.
— Это чушь. Когда бы дело обстояло так, то сам наш проницательный господин настоятель давно бы уже болтался на какой-нибудь ветке. Ему бы сразу припомнили, что он именно католический священник.
— Совершенно с вами согласен, ваше высокопревосходительство.
— Что дальше?
— Теперь о предмете ваших особых… — Альфонсо пожевал губами.
— Перестаньте подбирать слова, Альфонсо, здесь нас некому подслушивать.
Секретарь поклонился.
— Слухи о том, что убийца вашего сына находится на Тортуге, подтверждаются. Он не просто там находится, он живет открыто. И это еще не все!
— Не все? Что же может быть сверх этого?!
— Он принят в доме у господина де Левассера. — Секретарь предупредительно замолчал, потому что по его представлениям, в этом месте должна была последовать вспышка губернаторского гнева.
Его высокопревосходительство, поражая воображение своего подчиненного, в ответ на это сообщение лишь прищурил глаза, сделав таким образом свой взгляд, посылаемый в морские дали, еще более пристальным.
— Вот, значит, как.
Альфонсо разочарованно пожал плечами, хотя этого от него не требовалось.
— Клянусь всеми святыми, долги их растут, и, когда я начну платить, они сами удивятся, как точно я вел их счета.
Дон Антонио, сказав эти слова, вовсе закрыл глаза.
— А что сеньор Аттарезе сообщает в ответ на наше предложение?
— Он пишет, что оно невыполнимо в тамошних условиях; имеется в виду ваше ему повеление подослать к господину Hay убийц.
— Что же там случилось такого на Тортуге? Там всегда было полно проходимцев, готовых за сотню пиастров мать родную зарезать, а не то что бывшего буканьера.
— Господин Hay стал на острове весьма приметной фигурой. Он прекрасный фехтовальщик и уже убил троих или четверых забияк, попытавшихся затеять с ним ссору…
— В моем предложении шла речь не о дуэли, если вы помните, — с отчетливым недовольством сказал его высокопревосходительство, — дон Педро, как, наверное, вы помните, тоже ведь погиб не во время рыцарского поединка. Ночь, плащ, пистолет… Что тут непонятного?!
Сеньор Альфонсо вздохнул, ему было неприятно, что он вызывает раздражение дона Антонио, но еще неприятнее было осознавать, что до конца этой процедуры далеко.
— Сеньор Аттарезе пишет, что губернатор Тортуги дал господину Hay средства для снаряжения каперской экспедиции. Значительные средства. Так что у этого новоиспеченного корсара появилась возможность набрать большую, сильную команду. Другими словами, вокруг него теперь вьется целая толпа телохранителей.
— То есть до этой кровавой гадины нет никакой возможности добраться, так? Этот хитрый итальянец, кажется, способен только на выдумывание объяснений, оправдывающих его полное бездействие. Не поленитесь, Альфонсо, прошу вас, в своем следующем письме сообщить сеньору Аттарезе, что, если так пойдет и дальше, мы будем вынуждены отказаться от его столь «ценных» услуг. А чем грозит ему разрыв наших отношений, он, надеюсь, не забыл. Хвост не вертит собакой, говорят в Галисии, и, по-моему, правильно говорят.
Сеньор Альфонсо не любил наглого итальянца, сделавшегося католическим священником на Тортуге, и с удовольствием направил бы ему письмо угрожающего содержания, но интересы дела требовали с этим повременить.
— Смею заметить, ваше высокопревосходительство, что сеньор Аттарезе не ограничивается в своем послании одними сетованиями, он пишет, что ему в голову пришел один довольно хитроумный план.
— Послушаем.
— Дело в том, что господин Hay, по всей видимости, произвел определенное впечатление на дочь губернатора Тортуги.
Дон Антонио резко обернулся к своему секретарю:
— Что-что?
— Сеньор Аттарезе предлагает, принимая во внимание вспыльчивый характер господина де Левассера и его трепетное отношение к мадемуазель Женевьеве так повести дело…
— …чтобы де Левассер посадил его в колодки на рыночной площади?!
— Что-то в этом роде, ваше высокопревосходительство.
Эта мысль очень развлекла и порадовала губернатора Эспаньолы. В самом деле, разве это не высший уровень коварства — убить своего личного врага руками врага своего государства?
— В этой истории замешан некий капитан Шарп…
— Не тот ли профан, что перепутал серебро с оловом? Так вы мне, кажется, сообщали?
— У вас прекрасная память, ваше высокопревосходительство.
Дон Антонио нахмурился:
— Что с вами, Альфонсо?
В глазах секретаря вспыхнул страх.
— Когда слуги начинают вам льстить слишком грубо, надо или менять службу, или менять слуг.
— Я не думал, я…
— Ладно, оставим это. А что касается этого Шарпа, он нам на благо подворачивается. Чем больше дураков в начале игры, тем больше трупов в ее конце.
Альфонсо не посмел восхититься вслух высказанной сентенций, хотя она очень ему понравилась.
Дон Антонио понял терзания секретаря, но не счел нужным их смягчать. Он просто спросил:
— Что-то еще?
— Именно, ваше высокопревосходительство.
— И опять интересное?
Альфонсо кивнул.
— Так докладывайте!
Из папки появился второй документ. Он имел более привычный вид, чем первый.
— Что это?
— Показания Горацио де Молины.
— Этот негодяй заговорил! Клянусь стигматами святой Клементины [8], я уже перестал на это надеяться.
— На это перестали надеяться даже тюремщики. Неделю назад по вашему повелению мы оставили его в покое, дабы затянулись самые болезненные раны и появилась возможность продолжать дознание должным образом. Дело в том, что он стал беспрестанно впадать в обморочное состояние и потерял столько крови, что…
Губернатор нетерпеливо махнул кружевным манжетом:
— Помню, помню.
— И вот сегодня утром, еще до того, как к нему приступил наш главный умелец Франсиско, еще до того, как разожгли печь, и еще до того, как в камере появились пыточные инструменты, Горацио заговорил.
— Он сказал, где находятся награбленные ценности?
— Нет, он сообщил кое-что более интересное.
Дон Антонио громко хмыкнул, чего с ним не случалось с момента получения известия о гибели сына.
— Что же может быть интереснее?!
Альфонсо помедлил еще буквально секунду, и его можно было понять, ибо в момент сообщения невероятного известия сообщающий как бы возносится над слушающими.
— Он сказал, кто ему помогал в его делах. И во время бегства из картахенской тюрьмы, и во время нападения на флотилию ловцов жемчуга.
— Всегда считалось, что это сделали лесорубы с Ямайки.
— Считалось, ваше высокопревосходительство. А на самом деле это совершил он, Горацио де Молина, и помогал ему в этом не кто иной, как его дядя.
— Имя, имя этого дяди!
— Ангерран де ла Пенья!
Дон Антонио не смог усидеть на месте. Он вскочил и стал нервно расхаживать по беседке.
— Бред сумасшедшего!
— Тюремщики тоже вначале подумали так же. Но он привел доказательства…
Губернатор нервно подергал острую свою бородку, почесал щеку — одним словом, в значительной части утратил облик высокородного благообразия.
— Какие, какие может представить доказательства разбойник с большой дороги, сидящий в подземной тюрьме, а?!
Альфонсо протянул сафьяновую папку своему господину и со вздохом сказал:
— Здесь они перечислены. На мой взгляд, дело совершенно ясное.
— Кого интересует ваше мнение, Альфонсо! Что там за доказательства?!
— Гербовые татуировки, изъятые при аресте фамильные медальоны. Наконец, адреса родственников, которые возьмутся подтвердить, что дело обстоит так, как утверждает разбойник.
Губернатор снова плюхнулся на каменную скамью. Было заметно, что настроение его из однозначно отвратительного сделалось более сложным. Что-то пришло ему в голову. Что-то интересное.
Секретарь продолжал говорить:
— Если посмотреть на ситуацию беспристрастно, то нельзя не заметить, что господин командор вряд ли может быть признан прямым соучастником своего беспутного племянника в совершавшихся преступлениях. Он просто помогал ему избежать положенного наказания. Племянник обещал каждый раз, прося о спасении, оставить свой опасный промысел, но каждый раз обманывал дядю. Коварным образом он использовал большое влияние своего дяди на Эспаньоле и на окружающих островах практически себе на службу.
— Да, влияние очень, очень большое, — задумчиво сказал дон Антонио. — А где сейчас этот любвеобильный дядя?
— Он ждет в приемной вашего высокопревосходительства.
— Он знает об этих «показаниях»?
— Почти наверняка нет.
— Значит, так, Альфонсо, сейчас наступает такой момент, когда от тебя будет многое зависеть.
Секретарь прижал папку к груди и замер с самым преданным выражением лица, на которое был способен.
— Кто сегодня начальник охраны?
— Капитан Васкес.
— Туп, исполнителен, труслив.
— Обжора.
— Еще и обжора, великолепный набор. Сейчас ты с капитаном Васкесом и десятком солдат отправишься в тюрьму. Там ты возьмешь под стражу всех, кто имеет отношение к этой истории, и доставишь их сюда.
— Сюда?
— Только вы подъедете не со стороны парадных ворот…
— А со стороны конюшен.
— Ты умнеешь прямо на глазах.
— Если будет угодно вашему высокопревосходительству, я так же быстро поглупею.
— Я дам знать, когда это будет необходимо. А сейчас надо сделать то, что надо сделать.
— Уже можно исполнять?
— Да. И скажи там, чтобы господина командора проводили ко мне.
Через несколько минут в конце аллеи появилась фигура дона Ангеррана де ла Пеньи. Он приближался медленно, тяжело ступая огромными башмаками по розовому песку дорожки. Оделся он сегодня, против обыкновения, в гражданское платье. Но даже лишенный той части внушительности, что придает человеку мундир, смотрелся он очень и очень солидно.
— Здравствуйте, мой дорогой дон Ангерран, — приветливо, почти весело приветствовал его губернатор, что озадачило командора. Он рассчитывал увидеть страдающего, убитого горем отца, а на деле…
— Рад вас видеть в добром здравии, ваше высокопревосходительство.
— Пусть не в добром, но, по крайней мере, сносном. А что с вами, отчего эта трость? Неужели снова подагра? Сочувствую.
Командор сдержанно кивнул. Сердце его было не на месте. Что-то случилось. Откуда бы взяться столь выраженной участливости в столь самовлюбленном человеке, как дон Антонио де Кавехенья?
— Вчера пришлось посылать за лекарем. Этой ночью мне дважды пускали кровь.
— Может быть, вам имело смысл остаться в постели?
Да, определенно что-то неладно, решил дон Ангерран. Надо быть внимательным.
— Сегодня вторник, день моего непременного доклада вашему высокопревосходительству. Кроме того, к утру мне полегчало.
— Ну что ж, прекрасно, если так. Давайте, знаете, пройдемся. А то я все утро тут сижу, выслушиваю идиотские бредни. Надоело.
— Охотно.
Губернатор взял командора под руку, и они двинулись вдоль стены, имея слева от себя уже описывавшуюся картину морских далей, а справа — великолепный розарий. Цветы, освеженные утренним поливом, сверкали переливами еще не высохших капель.
Крепостная стена плавно изгибалась, отвечая изгибу горы, на которой поместилась загородная резиденция правителя Эспаньолы. Шагах в пятидесяти по ходу движения открылась ниша, в которой стоял стражник с аркебузой [9]. Увидев его высокопревосходительство, он встал «смирно» и положил ствол аркебузы на сгиб локтя.
— Прекрасно, — сказал дон Антонио.
— Что именно?
— Будем говорить открыто. Я хотел было устроить с вами игру в цаплю и лягушку, как говорят французы, но потом решил — не стоит.
— Как вам угодно.
— Вот именно, как мне угодно. Я просто спрошу у вас, дон Ангерран, нет ли у вас родственника, который бы… как бы это сказать…
Командор тяжело задышал.
— Говорите прямо, ваше высокопревосходительство, надеюсь, хотя бы это я заслужил своей тридцатилетней службой его католическому величеству.
— Прямо так прямо. Мои люди тут поймали одного разбойника, по имени Горацио де Молина. Странное имя, как бы генуэзское, но при этом как бы и нет. Но не имя самое интересное в этом человеке.
— Я слышал о нем, — угрюмо сказал дон Ангерран де ла Пенья.
— Признаться, я решил на свой лад разобраться с этим негодяем, никому, даже вам, не сообщая об этой поимке. Я решил самолично добраться до награбленного им золота и тем самым удивить всех. Пусть, думал я, поймут мои подчиненные, что их губернатор умеет не только диких коров истреблять. В течение двух недель у него допытывались, куда он спрятал награбленное. Он молчал. До сегодняшнего утра. А сегодня утром он заявил…
— Что он мой племянник?
— Откуда вы знаете? Впрочем, по самому течению нашего сегодняшнего разговора было видно, что у меня есть для вас чрезвычайные новости.
Командор весь сразу как-то осунулся, потяжелел. Не испрашивая разрешения начальственного спутника, он сделал несколько шагов в сторону и тяжко уселся на большой валун.
— Я знал, что этим рано или поздно кончится.
— То есть вы не отрицаете, что помогали бежать ему из картахенской тюрьмы, а до этого…
— Нет, ваше высокопревосходительство, не отрицаю. Четырежды я спасал его от виселицы, которой он безусловно заслуживал. Это сын моей сестры Ангелины, перед смертью она просила меня позаботиться о нем, и я дал клятву.
— Как выясняется, опрометчивую.
— Я ни о чем не жалею. — Командор, неуверенно двигая пухлыми подагрическими пальцами, отстегнул шпагу и подал ее губернатору. — Прошу вас только об одном.
— О чем? Ничего не обещаю заранее, но если что-то будет в моих силах, сделаю для вас. — Говоря эти слова, дон Антонио иронически улыбался. Его, кажется, забавляла комедия запоздалого раскаяния.
— Прошу верить мне, что ни одного медного гроша из награбленных этим негодяем к моим рукам не прилипло, что я… — Дон Ангерран не закончил свою речь, увидев, как на нее реагирует губернатор. Он не верит ни одному слову. Какой же смысл говорить! — Я готов принять наказание, которого заслуживает человек, совершивший преступление, подобное моему. Можете вызывать стражников.
— Когда придет время, я их вызову.
Губернатор наклонился к розовому кусту и, зажмурившись, принюхался.
— Вы, дон Ангерран, по всей видимости, порядочный человек, и это меня огорчает.
Обливающийся потом командор надел шляпу и полез за платком.
— Не понимаю вас.
Дон Антонио оперся на шпагу командора как на трость и, изящно изогнувшись, пожевал губами.
— В комбинации, которую я задумал, меня больше устроил бы классический негодяй. Жадный, хитрый и дрожащий за свою шкуру.
— Все еще не понимаю, о чем вы говорите.
— Вот ваша шпага, дон Ангерран. О том, что человек, носящий имя Горацио де Молина, ваш племянник, кроме меня и моего секретаря, никто знать не будет. А если понадобится, то и секретарь не будет знать. Засим я объявляю вам, что отныне вы не командор крепости Санто-Доминго, вы губернатор города Кампече, слышали о таком?
Дон Ангерран неуверенно кивнул.
— Распоряжением его католического величества я назначен главнокомандующим всеми нашими силами на архипелаге. Так что в моей власти дать вам то назначение, которое я вам предлагаю. На вас возлагается ответственность по охране интересов Испании в городе Кампече на полуострове Юкатан, на островах Хуан-Фернандес и Сан-Эстебан. Это будет внешней оболочкой вашей деятельности. Сутью же ее станут усилия по поимке человека по имени Олоннэ. Теперь вы меня поняли?
— Начинаю понимать, ваше высокопревосходительство.
— Эти английские и французские ублюдки, соблюдая на словах мирные договоры, на деле натравливают на нас разных бешеных собак под видом корсаров, флибустьеров и каперов [10]. Так вот, дон Ангерран, я решил открыть свою псарню. А вас назначаю на ней главным псарем. Я сам бы занялся этим богоугодным делом, да не могу подводить своего короля. Губернатор Эспаньолы — слишком заметная фигура.
Командор молча взял шпагу из рук губернатора.
— Горацио де Молина останется у меня, и бумаги с записями его показаний — тоже. Так, на всякий случай.
— Об этом вы могли бы и не говорить.
— Пожалуй, вы правы.
— Я могу идти?
— Да. Я отдам распоряжение в канцелярию. Завтра все необходимые бумаги будут у вас в руках.
Дон Ангерран встал и, поклонившись, снял шляпу. Оранжевые перья плюмажа скользнули по розовому песку.
— Поймайте его, дон Ангерран.
— Я буду стараться.
— И последнее. Я благодарен вам, что этот Горацио ваш племянник.
— Боюсь, что опять не понимаю вас, ваше высокопревосходительство.
Дон Антонио криво усмехнулся:
— Если бы он был ваш сын, история стала бы сильно смахивать на фарс. Три губернатора, три сына… Ладно, идите.
Глава девятая
«Этуаль» отсалютовала холостым выстрелом внешнему форту острова Тортуга. Клубы дыма закрутились над поверхностью воды.
Капитан Олоннэ стоял на баке в окружении своих офицеров. Когда форт ответил ему столь же громоподобным знаком вежливости, он приподнял шляпу.
Олоннэ возвращался с победой. В течение четырех месяцев бороздил он водные просторы от Гватемалы до Барбадоса, участвовал за это время в четырех больших артиллерийских схватках, потопил два и изувечил три испанских судна. Трюмы его двадцатишестипушечного корабля были набиты добычей, вместе с ним на отдых возвращались почти все те, кто сто двадцать дней назад вышел в море, увлекаемый предчувствием настоящей удачи. Как выяснилось, удача не обманула тех, кто в этот раз поверил в нее.
Огромная толпа народу высыпала на набережную для встречи знаменитого уже флотоводца. Слухи о его подвигах доходили до острова волнами, и каждая поднимала на новую ступень уровень интереса к нему.
Удачлив и жесток, как дьявол, — таково было в нескольких словах сложившееся о нем мнение. И если жестокостью трудно было кого-то удивить в те времена, то удачливостью можно, и даже очень.
На кухнях всех трактиров стоял визг — резали свиней, летал пух — резали кур. Из подвалов выкатывали бочки рома и вина. Трактирщики лучше всех других представляли себе последствия, которыми чревато возвращение в гавань корабля с большой добычей.
Была еще одна категория людей на Тортуге, особенно взволнованных возвращением «Этуали». Имеются в виду разного рода инвалиды, получившие ранения во время совместного плавания с капитаном Олоннэ и отправленные домой с попутными кораблями. Им повезло выжить, теперь оставалось проверить, возместит ли им капитан Олоннэ то, что отняла судьба. Однорукие, одноногие, одноглазые потянулись к трактиру под названием «Красная бочка», где, по условиям договора, должен был состояться полный расчет.
Надобно заметить, что только на первый и очень уж невнимательный взгляд «береговое братство» могло показаться абсолютно неорганизованной толпой, лишенной каких-либо установлений. Жизнь этой внешне стихийной силы была подчинена строгим и неотменимым законам. Каким бы авторитетом ни обладал человек, пожелавший эти законы нарушить, его ожидало наказание, суровое и непременное.
Отправляясь в каперское плавание, капитан судна заключал со всеми своими матросами договор. Основным содержанием его, разумеется, было установление той доли добычи, на которую член команды мог претендовать в том случае, если какая-то добыча будет добыта.
Самая большая доля (иногда до половины всей добычи) следовала капитану. Вторым в этом списке стоял штурман, его труд оплачивался в зависимости от его авторитета. Бывали случаи, когда начинающие флибустьеры вынуждены были платить бывалому и удачливому штурману больше, чем самому себе. Ценился труд главного канонира и судового врача. Боцман и кок, как правило, приравнивались к матросам, если не имели каких-то очень уж известных заслуг перед чертовым Мэйном и «береговым братством».
На судах, так сказать, гражданских имелись еще и корабельные священники. Джентльмены удачи отправлялись в плавание без каких-либо культовых служителей. Более того, считали присутствие такового на борту плохой приметой.
Верю только в свою звезду,
Все равно нам гореть в аду, -
пелось в известной пиратской песне.
И вот «Этуаль» ударилась бортом о мешки с шерстью, которыми был увешан причальный пирс. Удар получился почти бесшумным. Взвились змеи канатов, и через несколько мгновений победоносное судно было прочно пришвартовано.
Сбросили сходни.
Собравшаяся на причале толпа замерла.
Сейчас появится он!
Но появились два странных худых существа с абсолютно белыми лицами. В тропических странах такой цвет лица может быть только у двух типов людей: у переживших длительное заключение в подземной тюрьме или у тех, кто год-два провел на серебряных рудниках.
Как позже выяснилось, в данном случае имело место второе. Капитан Олоннэ захватил их во время налета на испанские серебряные рудники возле Порто-Куэрво. Зачем они понадобились Олоннэ на Тортуге, не знал никто. А зачем капитан заставил их первыми сойти на берег, объяснить оказалось еще труднее. Будем это считать проявлением своеобразного капитанского юмора.
В остальном все происходило, как и ожидалось.
Парадная процессия двинулась вдоль по набережной.
Черный, расшитый серебром камзол капитана.
Четыре больших ящика с добычей, несомые шестнадцатью самыми дюжими матросами.
Гирлянды цветов на фасадах домов, вдоль которых продвигалась процессия.
Приветственные крики уже пьяных собратьев по «береговому братству».
Затаенные, откровенные, восхищенные, веселые, задумчивые и в некотором количестве тоже пьяные женские взгляды.
Широко распахнутые двери «Красной бочки».
Сияющая от предвкушений хорошего заработка физиономия папаши Говернье.
Имевшиеся внутри столы, согласно обычаю, были расставлены треугольником. За тем, что составлял вершину, поместился капитан-победитель, по катетам, как бы сказал геометр, если бы он имелся на Тортуге, — добровольные свидетели предстоящей церемонии. Пространство внутри треугольника отводилось для проведения процедуры.
Папаша Говернье принес весы.
— На этих весах еще господин де Левассер взвешивал испанское золото!
Это заявление, многими слышанное не один десяток раз, было встречено многоголосым одобрительным шумом.
Капитан развернул лист пергамента с привешенным снизу грузилом в виде серебряного черепа; без него грубо выделанная кожа отказывалась оставаться развернутом состоянии.
— Кто первый? — спросил капитан.
Из толпы, хромая, вышел широкоплечий рыжебородый человек в красной косынке. Правой ноги у него не было, ее кое-как заменяла обструганная деревяшка.
— Антуан Буше, — улыбнулся Олоннэ, — рад снова видеть тебя.
— Думаю, моя радость от встречи с тобой, капитан, больше, чем твоя от встречи со мной, — прокуренным басом заметил Антуан. Шутка была не бог весть какая, но собравшиеся удовлетворенно заржали.
Олоннэ перестал улыбаться, выражение лица его сделалось огорченным.
— Ты намекаешь на то, что мне жаль тех денег, которые я по чести должен тебе заплатить, да?
Одноногий шумно прокашлялся. Он не знал, что сказать, и предпочел бы, чтобы дело завершилось в шутливом тоне.
Олоннэ заглянул в пергамент:
— Твоя правая нога стоит шестьсот реалов. Ты их сейчас получишь.
Моисей Воклен, державший в руках связку ключей, отпер сундук, запустил туда свою пухлую, но ловкую руку и начал извлекать на свет горсти монет. Один за другим он устанавливал их на стол перед капитаном аккуратными столбиками. Хотя он действовал все время одной рукой — другая держала ключи и крышку, — но ни разу не ошибся, в каждом столбике было ровно по десять монет.
— Вот твои деньги, Антуан. Здесь еще указано, что по желанию ты можешь получить вместо них шестерых рабов. В трюме «Этуали» сидят два десятка испанцев, иди выбирай.
— Зачем они мне, капитан, — ответил одноногий, сгребая деньги в кожаный кошель. — Разве что ногу мою за мной таскать, а?
Эта шутка понравилась собравшимся еще больше первой, даже капитан Олоннэ улыбнулся среди всеобщего хохота.
— Погоди, — сказал он Антуану, спешившему поскорее скрыться с деньгами.
— Ты хочешь с меня за что-то вычесть, капитан?
— Нет, не бойся. Те шестьсот реалов, что ты держишь в своем мешке, твои. Ты их получил за ранение. А это, — капитан сам залез в сундук и достал оттуда горсть монет не считая, — а это тебе за то, что ты первым прыгнул на борт испанца, когда некоторые засомневались, стоит ли это делать.
По рядам собравшихся пробежал ропот одобрения.
В таком духе прошла вся церемония выдачи «пособий по инвалидности». Капитан был и справедлив и щедр. Вообще его представление в «Красной бочке» затмило все прежние, когда-либо имевшие место в этом заведении. Только старики, плававшие еще с нынешним губернатором, утверждали, что им доводилось видеть нечто подобное.
После того как были ублажены инвалиды, капитан Олоннэ решил рассчитаться со своим кредитором. Один из сундуков был назначен к отправке в губернаторский дворец. Всем желающим было позволено заглянуть в него. По правилам, на деньги можно было только смотреть, но отнюдь не касаться. Ибо всем было известно, что руки джентльменов удачи определенным образом намагничены от самого рождения, золото и бриллианты натуральным образом прилипают к ним.
Четыре матроса взялись уже за ручки, но их остановил голос капитана:
— Это еще не все, Моисей.
Повинуясь недоговоренному приказу капитана, Воклен вытащил из своего сундука четыре килограммовых слитка серого цвета. Олоннэ вытащил из-за пояса кинжал и поскреб им поверхность одного из кирпичей.
— Серебро, это серебро! — раздались голоса.
— Вы угадали. Ле Пикар! — последовала другая команда, и помощник капитана вывел на всеобщее обозрение двоих давешних мертвецов с белыми лицами. — Это Вилли и Фреди, матросы с голландского брига, захваченного в плен испанцами. Они семь месяцев работали на руднике. Покажите им свои руки.
Вилли и Фреди подняли руки ладонями вперед. Ладони были черного цвета.
— Они проработали там всего семь месяцев, и только поэтому у них осталась возможность выжить. Проработавших больше года не имело смысла спасать.
Послышались привычные проклятия в адрес «испанских собак» и «кастильских гадюк».
— Вилли и Фреди отправятся вместе с этим ящиком к его высокопревосходительству и расскажут ему многое о тайнах превращения испанского серебра в олово. Они были свидетелями подобных дел. Каждому из них я дарю по одному слитку. Один господину де Левассеру, ну и один мне на память. Мне, правда, не удалось добыть целый галион, груженный такими кирпичами, но, видит Бог, я не считаю себя проигравшим в споре с капитаном Шарпом.
Тут целая сотня глоток сообщила, что никто не считает капитана Олоннэ проигравшим в этом споре. А если найдется такой, который считает, так ему тут же выбьют все зубы.
После этого настала очередь папаши Говернье.
На столы, только что ломившиеся под тяжестью драгоценных металлов, хлынули блюда и бутылки. Угощение конечно же за счет капитана-победителя.
— Почему ты сам не отправился к губернатору? Он может оскорбиться, — осторожно поинтересовался Моисей Воклен, когда после первых пятнадцати бокалов они вышли на улицу.
Олоннэ улыбнулся:
— Не считай, что я об этом не подумал.
— Тогда я жду приказаний.
— Ты сейчас отправишься во дворец с зелеными жалюзи и сообщишь о моем прибытии.
— Ему, наверное, уже человек сто об этом сообщили.
— Не важно, каким быть, первым или сто первым, главное — прийти вовремя. Так вот, ты придешь и скажешь, что капитан Олоннэ просит разрешения прибыть с докладом и хочет узнать, когда это сделать удобнее, чтобы не нарушить планы его высокопревосходительства.
Воклен потер толстый лоб.
— Это так вежливо, что будет выглядеть оскорбительно.
— Не думаю. Ступай. А мы с Роже прогуляемся до нашего дома.
Глава десятая
«Этуаль» выволокли на берег. Три десятка матросов, вооружившись специальными скребками, приступили к очистке дна от всяческой налипшей на него дряни. Корсарский корабль должен быть в бою вертким, как дельфин, иначе ему ни в коем случае не выстоять против тяжелых многопушечных испанских судов.
Горы морских водорослей, ракушек, планктона, всего того, что соскабливалось с выпуклого днища, тут же сжигалось на огромных кострах. Получившийся в результате пепел продавали местным фермерам чуть ли не по цене серебра. Здешние красноземы истощались очень быстро, и не было Лучшего удобрения, чем «корсарский пепел».
Нашлась работа и многочисленным тортугским плотникам. Пришлось менять бизань-мачту, треснувшую почти по всей своей длине после попадания пятифунтового ядра во время сражения на рейде Коахиры. Это было самое тяжелое повреждение, но имелась в наличии и масса мелких, которые заделывались собственными силами команды во время плавания. Почти все палубные надстройки были в деревянных заплатах. Фальшборта походили на сито, многие реи обломаны, полубак напоминал руину. Пришлось также перетягивать весь такелаж, каждый фал, каждый канат.
Специально выделенная команда из восьми матросов занялась заготовкой мяса. Во-первых, это было намного дешевле, чем покупать, а во-вторых, еда, сделанная собственными руками, как-то надежнее: есть гарантия, что в бочке с солониной окажется именно солонина, а не позапрошлогодняя падаль. То же касалось и воды, этим, по традиции, всегда занимались те, кто должен был выйти в плавание.
За производством работ и всеми приготовлениями надзирал Моисей Воклен. От его внимательного ока не ускользала ни одна самая ничтожная недоделка, он был неутомим, никогда ничего не забывал, не брал в рот хмельного и никому не верил на слово.
В известном смысле его опасались даже больше, чем самого капитана.
Что делал капитан?
Отводил душу.
Из своего первого плавания он вернулся очень уж непохожим на себя прежнего.
Куда исчезла сдержанность, замкнутость? Большую часть дня он проводил в многочисленных кабаках на припортовых улицах. Правда, разборчивости своей полностью не утратил. Компания его, по местным меркам, была вполне приличной. Никому из представителей корсарской голытьбы и в голову бы не пришло сунуться к капитану Олоннэ с пьяными объятиями.
Сопровождали специалиста по испанскому серебру его помощник, зверски татуированный и беспощадный в рукопашном бою ле Пикар, беглый матрос французского торгового флота гасконец Ибервиль, владелец и капитан небольшого брига, также зашедшего для ремонта в гавань Тортуги. Его флибустьерская карьера складывалась не слишком удачно, поэтому он решил примкнуть к тому, над кем сам Господь простер руку своего благословения.
Вслед за этими тремя обязательно увязывалась пара-тройка офицеров французской колониальной пехоты. На этом острове подобная компания не выглядела парадоксально.
Побывал Олоннэ с визитом и в губернаторском дворце на званом приеме, где много ел, мало пил и почти совсем не разговаривал. Конечно же присутствующие лезли к нему с вопросами, он старался отвечать на них односложно или извиняющимися улыбками. Это, безусловно, лишь разжигало интерес к нему.
Его высокопревосходительство публично признал его победителем в споре с «ирландским шарлатаном» Шарпом, на что капитан Олоннэ ответил легким полупоклоном и постарался сменить тему разговора.
Женевьева, улучив момент, послала в его сторону взгляд, который любого другого мужчину сделал бы счастливым.
Капитан отвел глаза.
В конце вечера губернатор сказал ему, что у него есть желание поговорить наедине.
В затененном высокими плотными портьерами кабинете они уселись друг против друга в соломенные кресла. На одноногом столике из черного дерева, украшенном лазуритом, соседствовали кувшинчик с ромом и коробка с перуанскими сладостями. Губернатор сам наполнил небольшие серебряные рюмки с золотым ободком. Олоннэ лишь прикоснулся губами к напитку; впрочем, господин де Левассер поступил так же.
— У меня есть к вам предложение, капитан.
— Слушаю вас.
— Вы, конечно, знаете, что в свое время я занимался примерно тем, чем занимаетесь теперь вы.
— Слышал.
— Я был очень азартный человек, очень. И удачливый, надо думать, коль скоро карьера моя окончилась не на виселице и не на дне морском.
Господин де Левассер засмеялся, обнажив прокуренные, но еще крепкие зубы.
Лицо Олоннэ осталось непроницаемым, он не был расположен шутить.
— Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, гласит известная корсарская поговорка. Мне же, судя по всему, суждено умереть в своей постели. И, как ни странно, это меня немного огорчает. Я ропщу на судьбу не за свое долголетие, это было бы и глупо и неблагодарно. Я ропщу на нее за то, что в свое время не предпринял то, что очень хотел предпринять.
Губернатор встал со своего места и подошел к своему столу. На столе лежала карта. Карта морского побережья, испещренная малопонятными знаками.
— Вы не спрашиваете меня, что это?
— Я просто не решаюсь вас перебивать.
— Взгляните.
Капитан взял карту в руки, повертел.
— Насколько я могу судить, это испанский берег в районе озера Маракаибо.
— Верно. Когда-то я задумал налет на город того же названия. Это одно из самых богатых испанских поселений в Новом Свете. Я провел большую подготовительную работу. Здесь указаны все мели, рифы, роза ветров, обозначена каждая испанская пушка.
— За двадцать лет кое-что могло измениться.
— Расположение пушек — может быть, но не расположение рифов. Однако об этом позже. Так вот, тогда, двадцать лет назад, я на этот налет не решился и жалею об этом до сих пор.
— Если я вас правильно понял…
— Да, правильно. Не знаю, сколько я еще протяну, но мне значительно легче будет умирать, зная, что эта экспедиция осуществлена. Пусть и не моими руками. Что вы на это скажете?
Капитан взял со столика свою рюмку и задумался, держа ее на уровне глаз.
— Разумеется, я войду в это предприятие не с одной этой картой, хотя ценность ее, поверьте мне, немала. Я оснащу на свои деньги два полноценных корабля. Не таких, как у Ибервиля, а трехмачтовых. Отряд должен быть не меньше восьмисот человек. Я все подсчитал. Столько народу необходимо для одновременной атаки на форт и с моря, и по суше. Еще важнее понимать то, что сразу после сезона дождей… Да вы не слушаете меня, уважаемый!
Олоннэ улыбнулся:
— Возможно, наступит время, лет через двадцать, если меня не повесят и не скормят рыбам, и я тоже пожалею о том, что отказался от этого предприятия.
Де Левассер помрачнел:
— Честно говоря, я рассчитывал на другой ответ.
Капитан выпил одним глотком ром и поставил рюмку на столик, извиняюще улыбнувшись:
— Мне было бы жаль сознавать, что вы на меня обиделись, но другого ответа, по крайней мере сейчас, я вам дать не могу. Поверьте, у меня есть на это свои причины. И весьма существенные.
Губернатор в отчаянии прошелся по кабинету.
— Не понимаю, извините, не понимаю, что вас может удерживать от участия в этом деле. Не понимаю и, извините, не верю, что ваши причины столь уж основательны.
Олоннэ медленно встал.
— Как вам будет угодно, ваше высокопревосходительство. Честь имею.
— Честь вы, положим, имеете, а здравого смысла — ни вот столько.
Капитан поклонился:
— Я могу считать себя свободным?
— Как туман в Наветренном проливе [11].
Олоннэ двинулся к выходу.
— Но послушайте, не предлагать же мне это дело Шарпу. Посудите сами!
— Почему же, предложите. Потом, спустя некоторое время, я исправлю его ошибки. Как всегда.
Сказать, что его высокопревосходительство был в ярости, это значит сказать только половину правды. Он был еще в сильнейшем недоумении. Он не мог себе, как ни силился, представить причины, по которым человек, находящийся в положении Олоннэ, мог бы отклонить предложение, которое ему было сделано. Опираясь на свою удачу и флотоводческий талант, на финансовую и моральную поддержку губернатора Тортуги, он мог бы завоевать настоящую славу. Не говоря уже о баснословных богатствах.
Все эти соображения он высказал вечером в беседе с дочерью. Высказал со всей страстью, свойственной его увлекающемуся характеру.
— Очень меня удивил сегодня господин Олоннэ. Очень, если не сказать больше.
В темных глазах Женевьевы разгорелись и погасли две желтые искры.
— Меня тоже.
В тот момент, когда происходил этот обмен одинаковыми мнениями, капитан Олоннэ сидел в своем любимом «Жареном фрегате» вместе с ле Пикаром и Ибервилем и продолжал пить то, что начал пить во время беседы с губернатором, то есть ром.
Обстановка в заведении была именно такой, какой она и должна быть к концу дня. Половина гостей спала лицом в объедках, вторая половина делилась на две части: пытавшихся петь и пытавшихся танцевать.
Олоннэ держал в руке оловянную кружку и молча отхлебывал мутно-коричневый напиток. Молча, потому что разговаривать было не с кем. Собутыльники, из числа примкнувших, валялись под столом, а ле Пикар с Ибервилем, лучше подготовленные к собутыльничеству с капитаном, играли в гляделки. Три глаза на двоих.
— Пора домой! — сказал Олоннэ.
Никто ему не возразил, но было непонятно — все ли согласны.
Капитан хотел было повторить свое предложение, но уже командным голосом, однако не успел.
Случилось вот что.
К столу, пошатываясь, подошла Шика. Так звали одну из самых известных и дорогих проституток на Тортуге. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, почему она так дорога и известна: высокая, статная мулатка с громадной копной черных волос, черными же, чуть раскосо посаженными глазами. На роскошной полуобнаженной груди блестела целая коллекция украшений. Самых разных — от простого деревянного крестика до золотого медальона.
— Эй ты, капитан Удача, пошли со мной. И если тебе не понравится, я не возьму с тебя денег.
Ибервиль и ле Пикар оторвались от упорного созерцания друг друга и повернули все три зрака К красотке.
Капитан достал из кошелька монету в двадцать реалов (месячный заработок проститутки) и бросил на стол:
— Можешь считать, что мне понравилось, и очень.
Шика медленно взяла монету в руки, приложила к щеке, покачала головой:
— Бедный, бедный капитан Олоннэ.
— Что ты там несешь! — крикнул Ибервиль.
Олоннэ улыбнулся:
— Ты жалеешь меня?
— Конечно. Мне очень, очень тебя жаль.
— А ты знаешь, что жалеть меня опаснее, чем пытаться меня убить?
Шика отступила на шаг — столько синего огня увидела она в глазах капитана.
Перекрестившись, она сказала:
— Значит, правду говорят про тебя, капитан.
— Какую именно?
— Что ты избегаешь женщин, потому что посвятил себя одной, которая живет в высоком белом доме на холме.
— Что она болтает? — спросил ле Пикар, стараясь протрезветь.
Между тем у стола Олоннэ собралась маленькая толпа. Всем было интересно посмотреть на человека, умудрившегося пожалеть любимца судьбы и губернатора Тортуги.
— Он думает, что ему удастся на ней жениться, — взвинчивая себя, продолжала Шика, постепенно переходя с речи на крик. — Ты для нее никто. Эта смугляночка не про тебя. И будь ты хоть триста раз монахом в ее честь, ее это не растрогает.
Капитан сохранял внешнее спокойствие. Может статься, что он и на самом деле был спокоен.
Шика билась в истерике, осыпала сидящего ругательствами, вздымала полы своей красной юбки, обнажая аппетитные бедра, копна волос напоминала грозовую тучу, грудь сотрясалась. В общем, зрелище было впечатляющим.
— Он дал мне двадцать реалов, двадцать! Зачем?! Чтобы я от него отвязалась, чтобы он мог спокойно вздыхать о губернаторской дочке. Он дал клятву, что не заглянет под женскую юбку, пока мадемуазель Женевьева не снизойдет до него. Дурак, ничтожество! Возьми ее силой; если не умеешь, я тебя научу!
Тут в дело вступили люди хозяина заведения. Они подхватили бушующую Шику под руки и потащили прочь от стола знатного клиента, а она продолжала сыпать проклятыми вопросами:
— Почему, ну почему он не спит с бабами, с простыми горячими бабами? Почему ему нужна эта? Зачем ему нужна виолончель, зачем батист?! Женщина должна пахнуть женщиной, и ей нужен мужчина…
Наконец кто-то догадался дать ей пощечину. Поток обличительных рассуждений пресекся. Пьяные зеваки стали расползаться по своим грязным углам.
— Пойдем домой? — осторожно спросил ле Пикар у своего капитана.
Тот отрицательно покачал головой:
— Нет, мы еще выпьем рома.
Хозяин сам принес графин, угодливо сгибая спину.
— Мы ее накажем. Сам не знаю, что это на нее нашло. Мы ее примерно накажем.
Капитан снова отрицательно покачал головой:
— Не надо ее наказывать. Наоборот.
Лицо хозяина скривилось в попытке понять, что именно было сказано.
— Виноват, что значит «наоборот»?
— А это значит, пусть она будет готова прибыть ко мне по первому требованию.
Глава одиннадцатая
После утренней службы падре Аттарезе приступил к исповеди. Перебирая четки, он равномерно кивал, выслушивая утомительно однообразные признания плотников, прачек, крестьян, торговцев, поварят, погонщиков и прочих жителей острова. Его всегда удивляло, до чего неизобретательны люди в грехе. Он почти спал, когда услышал глубокий, вкрадчивый голос:
— Здравствуйте, святой отец.
Падре Аттарезе был господином весьма преклонных лет, сухим, кривым, как корневище сандалового дерева, но даже его этот голос заставил встрепенуться:
— Шика?
— Да, падре.
В оправдание старого интригана нужно сказать, что примерно наполовину его волнение при звуке этого зазывного голоса было вызвано тем, что популярнейшая проститутка Тортуги являлась его шпионкой. Она была одним из важнейших элементов того заговора, что сплел католический священник на протестантском острове. К тому времени сложилось в городе взрывоопасное положение. Правящее семейство и его окружение были потомственными гугенотами, большая же часть населения, правда в основном состоящая из людей малоимущих и совсем недавно прибывших в Новый Свет, оставалась верна Римской католической церкви. Уже в день своего вступления в должность, едва-едва разобравшись с положением дел на острове, падре Аттарезе задумал нечто вроде религиозной войны против губернатора.
Но задумать что-либо значительно легче, чем осуществить. Губернатор был очень популярен на Тортуге не только среди протестантов, но и среди католиков. Кроме того, приходилось учитывать очень низкий градус религиозного горения в душах местных жителей. Плевать им было, откровенно говоря, на тонкости внутрицерковной борьбы в Европе. Или почти плевать.
Чтобы овладеть ситуацией, следовало обострить религиозные противоречия. Без поддержки со стороны сделать это было трудно. Падре Аттарезе сам пришел к этой мысли, и, когда она превратилась в устойчивое убеждение, в его доме появился незаметный человек, представившийся дальним родственником дона Антонио де Кавехенья.
Два католика быстро нашли общий язык, падре получил два кошеля с золотыми монетами, «родственник» увез с собой на Эспаньолу известие о том, что дон Антонио теперь не одинок в своей борьбе со страшным корсарским гнездом.
Стоит появиться где-либо золотому источнику, тут же к нему слетаются существа, желающие полакомиться золотой пылью. Старик был законченным циником к своим шестидесяти годам, но даже он удивился, с какой легкостью нашлись люди, готовые за деньги на что угодно.
Чтобы иметь возможность свободно, не привлекая внимания властей, встречаться со своим «резидентом», все эти сомнительные личности мгновенно превратились в предельно религиозных граждан. Они не пропускали ни одной службы, все время отирались возле церкви. Носили одежды, приличествующие людям, полностью отрешившимся от мирских благ. Помимо выгоды, о которой уже сказано, такое поведение дало еще один полезный эффект. Шпионы Аттарезе постепенно заработали себе в среде полуграмотных и нищих прихожан большой духовный авторитет. К их словам стали прислушиваться. А какие именно слова следует вливать в уши паствы, им подсказывал сам сеньор Аттарезе.
Постепенно, понемногу отношение среди тортугских низов к счастливчику губернатору стало меняться, его протестантизм выглядел все более неуместным, а построенный на его деньги собор воспринимался как вызов, брошенный всем, кто не отказался от старой веры.
Даже негры-невольники, завезенные с сенегальского берега, верившие только в своих племенных богов, и те оказались вовлечены в медленное брожение умов и постепенно стали склоняться к мысли, что, хотя и губернатор и падре оба не правы в своих взглядах на жизнь, губернатор не прав более.
Впрочем, негры большую часть времени проводили на плантациях сахарного тростника, ночью сидели в бараках под замком, и их мнением по духовным вопросам никто особенно не интересовался.
— Что скажешь, Шика?
— Я все сделала так, как вы велели, падре.
— Это я знаю уже. Что говорят в городе?
— Весь город гудит, во всех трактирах, на всех пирсах обсуждают только одну новость, что Олоннэ хочет похитить дочку губернатора и бежать с ней.
— Хорошо, дочь моя, хорошо. Ты поработала на славу, можешь идти.
— Это все, падре? — В голосе проститутки прозвенело удивление.
— О чем ты, дочь моя?
— А деньги?
— Деньги?!
— Деньги, сегодня понедельник.
— Должен заметить тебе, дочь моя, что ненасытность вредна во всяком деле, даже в любви. Особенно же пагубна страсть стяжательская. Разве ты не получила двадцать реалов, ответь мне?
— От кого?! — Шика была не на шутку возмущена. — Вы не дали мне даже медной полушки!
— Так или иначе награду свою ты получаешь от Господа нашего. В данном случае он использовал для передачи капитана Олоннэ.
За частой деревянной решеткой, скрывавшей исповедующегося от его духовного отца, установилось молчание. Сеньор Аттарезе, прекрасно понимая состояние девицы, поспешил затоптать росток нового сомнения:
— Посуди сама, дочь моя, я обещал тебе, что за свою богоугодную работу ты получишь двадцать реалов, обещал?
— Да, святой отец.
— Ты их получила?
— Да, святой отец.
— Значит, со мной ты в расчете. Но только со мной, а Господу ты все еще должна, вспомни о жизни, которой до сих пор живешь!
Шика зашмыгала носом — то ли ей было стыдно за образ жизни, то ли жалко денег, от которых под воздействием этих казуистических аргументов придется отказаться.
— Но как бы ни были тяжелы твои грехи, я отпускаю тебе их, иди с миром.
Роже густо намылил физиономию капитана, выправил на куске буйволовой кожи бритву и приступил к работе. Черные пальцы виртуозно управляли передвижениями белой пены по капитанским щекам.
При гигиенической процедуре присутствовали Воклен и ле Пикар. Оба стояли. Татуированный помощник Олоннэ опирался ладонями на рукояти шпаги и пистолета. Бывший надсмотрщик держал обеими руками пергаментный свиток.
— Итак, вы говорите, все готово?
— Да, капитан, — в один голос ответили оба. Дальше они говорили по очереди.
Воклен:
— Завтра мы стащим «Этуаль» с отмели и переведем на якорную стоянку. Один день понадобится на то, чтобы переправить с берега припасы — мясо, муку, воду, и корабль будет полностью готов к плаванию.
Ле Пикар:
— Уже два дня в городских заведениях по моему приказанию нашим матросам не отпускают спиртное. Всех новичков я проверил лично. Думаю, они не хуже тех, кого заменят.
— Что ж, — Олоннэ выдул из ноздри забившееся туда мыло, — послезавтра мы выходим в плавание. До начала штормового сезона меньше месяца, нам многое нужно успеть за это время.
— Ибервиль с нами не пойдет? — спросил ле Пикар.
— В этот раз нет. У меня есть планы на его счет, но в этот раз мы его не возьмем. Я уже поговорил с ним, он не должен обидеться.
Олоннэ открыл большую склянку с ароматическим спиртом и щедро обработал щеки и шею.
— Сейчас я принесу вам одну карту.
С этими словами он вошел с просторной веранды, где происходила беседа, в дом. В полумраке зашторенной комнаты он не сразу заметил, что его ожидают. А заметив, не сразу понял, кто именно к нему явился.
— Это вы?!
Женевьева встала:
— Я.
— Как вы… что вы здесь делаете?
— Впервые в жизни вижу капитана Олоннэ растерянным. Запомню это зрелище до конца своих дней.
Олоннэ закусил губу и оглянулся:
— Сейчас.
Выйдя вновь на веранду, он сказал:
— Позже. Я еще сам не закончил с ней работать.
— С картой? — спросил Воклен.
— С чем же еще? — сухо ответил вопросом на вопрос капитан. — Идите. Жду вас вечером.
Двое из троих удалились.
— Роже, — сказал Олоннэ.
— Слушаю, капитан.
— Я бы съел сегодня на ужин свежей рыбы.
— Отправляюсь немедленно, только возьму корзину. — Он сделал было шаг к дому.
— Купишь корзину на рынке.
Роже не понял, зачем это нужно делать, но очень отчетливо ощутил, что ему нужно немедленно удалиться.
И удалился.
Капитан вернулся к своей гостье.
— Я весьма польщен, сударыня, но в связи с вашим внезапным появлением у меня возникает несколько законных вопросов.
— Задавайте ваши вопросы, — иронически улыбнулась губернаторская дочка.
Она была одета будто для маскарада. Длинное красное платье — такие носили на острове девушки из мелкой прислуги, — платок, покрывавший не только голову, но, если необходимо, и нижнюю часть лица. Ноги босые, ибо к этому наряду в эту пору года обувь не полагалась.
— Первое: как вы сумели пробраться сюда незамеченной, а второе…
— Сначала первое. Ваше удивление по поводу того, что я сумела проникнуть в ваш дом незамеченной, происходит от того, что вы плохо меня знаете. Слишком плохо. Я представляюсь глупой жеманной недотрогой, избалованным до последней степени оранжерейным растением.
Олоннэ невольно кивнул, показывая, что нечто подобное он и думал.
— Между тем я всегда жалела, что не родилась мальчишкой, и я всегда вела себя, как мальчишка, причем как сорванец, а не как пай-мальчик. Я хорошо езжу на лошади, прекрасно стреляю, умею фехтовать. Так что задумать и исполнить такую боевую операцию, как незаметное проникновение…
— На первый вопрос вы ответили.
— Задавайте второй.
Капитан достал с прибитой в углу комнаты полки кувшин и, показывая его гостье, спросил:
— Хотите?
— Что это?
— Ром. Барбадосский ром. Раз уж вам хочется быть настоящим сорвиголовой, вы должны быть с этим напитком на «ты».
Женевьева вызывающе раздула ноздри:
— Наливайте.
Олоннэ улыбнулся и потянулся за стаканами.
— Наливайте, а я угадаю, что вы хотели спросить.
— Попробуйте.
— Вас безумно занимает вопрос: зачем она ко мне явилась, правильно?
Олоннэ отхлебнул из своего стакана, второй протянул Женевьеве.
— Занимает, но не безумно.
— Не безумно?! — безумно сверкая глазами, спросила Женевьева.
— Нет. Но все же занимает.
— Говори, сын мой.
— Это я, падре, Гужо.
Гужо работал одним из помощников повара на кухне губернаторского дворца. Де Левассер взял его на работу, несмотря на то что он был католиком. Правильнее было бы сказать, что он даже не поинтересовался, какого именно вероисповедания придерживается новый помощник повара. Да и самого бывшего корабельного кока трудно было назвать ревнителем веры, в нем мало было от подвижника или крестоносца. Но однажды довелось ему попасть на проповедь падре Аттарезе, а после проповеди потянуло на исповедь. Очень скоро выяснилось, что некоторые откровения, касающиеся в основном не самого кока, а тех, кого он кормит, оплачиваются звонкой монетой, и стал рыжий специалист по сметанным соусам и протертым супам истинным католиком.
Учитывая место работы, его ценность для падре Аттарезе была очень велика.
— Итак, сын мой, господин де Левассер знает, о чем говорят в городе? До него дошли нужные слухи?
— О да, падре, дошли. Он знает, что господин Олоннэ собирается выкрасть его дочь.
— Хвалю тебя, сын мой.
Две золотые монеты проползли сквозь щель в деревянной оградке, разделявшей беседующих.
— Но это еще не все, святой отец.
— Говори, говори, сын мой.
— Благодарение Господу, удалось мне узнать один секрет, и кажется мне, он заинтересует вас.
— Слушаю тебя, сын мой.
— Дочь нашего губернатора, да не посетит его несварение желудка, сегодня в час послеполуденного отдыха тихо улизнула из дому, переодетая простой служанкой.
Падре Аттарезе почувствовал, как у него заколотилось сердце.
— Куда — ты, конечно, не знаешь.
— Благодарение Господу, знаю в точности. Моя подруга, прачка Жюстина, не поленилась и по моей просьбе проследила тайно за ней.
— Да-а?!
— Я знал, что вам будет интересно это узнать.
— Этот интерес во благо нашему богоугодному делу.
— Воистину так, падре.
— Так куда она пошла?
— Пошла она и пребывает сейчас в доме господина Олоннэ, отлично вам известного.
Боясь потерять сознание от восторженного волнения, падре сделал несколько вздохов и потер себе виски.
— Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Велика ценность твоей услуги, очень велика.
— Как вы думаете, святой отец, тридцать реалов не слишком много за сообщенные сведения?
Падре Аттарезе хотел было развернуть длинную речь в обоснование того, что бывший кок не должен ни в коем случае требовать денег в этой ситуации, ибо действовал по свободному движению души, то есть движению, продиктованному высшей силой. Оплачивать же движения высшей силы было бы с его, падре Аттарезе, стороны величайшей дерзостью. Но такая речь, чтобы сделаться убедительной, должна была быть очень длинной, а у падре было мало времени.
— Возьми свои тридцать реалов.
— Благодарю вас, падре.
— Не спеши с благодарностью, ибо тебе предстоит потрудиться сегодня, отрабатывая эти деньги.
— Весь внимание.
— Ты отправишься сейчас во дворец, но не на кухню, а прямо в кабинет господина де Левассера, если он в кабинете.
— В кабинет? — В голосе Гужо послышалась неуверенность.
— Одним словом, ты разыщешь его высокопревосходительство и расскажешь ему все то, что ты только что рассказал мне. Что ты молчишь?
Тяжелый вздох раздался за решеткой.
— А нельзя, чтобы кто-нибудь другой поговорил с губернатором?
— Ты получил тридцать реалов?
— Да, но боюсь, что после этого разговора у меня не будет возможности воспользоваться этими деньгами. Его высокопревосходительство слишком скор на расправу. Он сочтет оскорбительным для себя, что человек с кухни посвящен в секреты его семьи. И потом, слежка за мадемуазель Женевьевой никак не входит в мои обязанности. Рано или поздно он поинтересуется, почему я себе это позволил.
Падре Аттарезе было нисколько не жаль алчного кока, но, по зрелом размышлении, он согласился с тем, что ему лучше не соваться в эту историю. Взявшись как следует за Гужо, губернатор обязательно вытянет на поверхность всю сеть заговора.
— Ладно, мы поступим по-другому. Я напишу письмо, из которого наш дорогой де Левассер узнает кое-что о поведении своей дочери. А ты придумаешь, как сделать так, чтобы он его немедленно прочитал. Не завтра, не после вечернего чая — немедленно. Подкупи кого-нибудь, обмани, ту же Жюстину свою.
— Ладно, обману.
После этого падре вызвал к себе самых своих активных помощников из числа особо религиозных личностей. Им было велено отправляться в те кварталы бедноты, где их влияние было особенно сильным.
— Надобно организовать толпу человек хотя бы в сто. Не жалейте обещаний и даже денег.
Не позднее чем через час всем этим католическим фанатикам надлежало стоять вокруг дома известного всем корсарского капитана и возмущенно требовать, чтобы юная особа, прославившаяся своим целомудрием, немедленно этот дом покинула. Церковь стоит на охране нравственных устоев гражданского общества и никому не позволит их колебать, даже дочери губернатора.
Очень хорошо, если сам господин де Левассер будет присутствовать при этой сцене. Две цели будут одновременно поражены в этом случае: окажется в опасности жизнь негодяя Олоннэ, и страшный удар будет нанесен репутации самого главного гугенота на острове.
Выслушав наставления, сделанные в самом энергичном стиле, люди падре Аттарезе бросились их выполнять.
— Причиной всему слухи. Слухи, которыми переполнен город. Все только и твердят о том, как безумно капитан Олоннэ влюблен в дочку губернатора.
Говоря эти слова, Женевьева отхлебывала мелкими глотками темную пахучую жидкость из своего стакана. Говорить ей было трудно, и этими глотками она как бы себе помогала.
Олоннэ, напротив, свой стакан отставил.
— Что вы молчите, я сказала почти все, что хотела.
— Мне известно, что по городу бродят такие слухи.
— И это все?!
— Я не понимаю, чему обязан этой вспышкой возмущения, мадемуазель?
— Я искренне удивлена тем, что вам больше нечего добавить к моему сообщению.
— Добавить? — спросил капитан, протягивая к девушке руку с графином.
На смуглых щеках Женевьевы выступил румянец, полумрак комнаты смягчил яркость этого зрелища.
— Вы издеваетесь надо мной? — тихо спросила девушка. Тихо, но угрожающе.
— Нет, — покачал головой Олоннэ, — зачем мне над вами издеваться? И если вы хотите, чтобы я что-то добавил, скажу вам, что слухи эти явились не сами по себе. Их кто-то умело распускает. Умело и очень старательно. Я пока не знаю кто, а когда узнаю… когда узнаю, тогда и решу, что с ним делать.
— Я поняла вас, — упавшим голосом сказала Женевьева, — вы очень хорошо мне объяснили.
— Рад, если так.
Капитан сделал большой глоток прямо из графина.
— Кто-то хочет поссорить вашего отца со мной, кому-то мешают наши хорошие отношения. Всем известно, как поступает господин губернатор с теми, кто задумал похитить его дочь.
Женевьева подняла на собеседника глаза, они блестели. Скорей всего, от слез. Еще мгновение — и они побегут по щекам. Но этого не случил ось, губернаторская дочка была сильным человеком. Вместо того чтобы неопределенно рыдать, она спросила напрямик:
— А если она сама хочет, чтобы ее похитили?
— Кто?
— Та, о которой вы говорили, та самая губернаторская дочка.
Капитан погладил только что выбритый подбородок. Он испытывал сложные чувства. С одной стороны, Олоннэ рассчитывал, что до объяснения не дойдет, но, с другой стороны, ему было приятно, что это произошло.
Чувствуя, что у собеседника еще нет никакого ясного ответа, Женевьева продолжила решительное наступление:
— В известной степени мой побег с вами уже начался. Но вы, кажется, не рады.
— Я не хочу сказать, что я… — Олоннэ не знал, как закончить эту фразу, не знал, что он вообще хочет сказать в этой ситуации. Спасти его могло только вмешательство со стороны.
И оно последовало.
— Капита-ан! — раздался протяжный голос Роже. По этому голосу было ясно, что брадобрей принес чрезвычайное известие. Мысленно осыпая его благодарностями за своевременное появление, капитан поклонился даме и быстро вышел.
Роже стоял на ступеньках веранды с пустой корзиной.
— Где рыба? — спросил у него Олоннэ.
— Они что-то задумали, капитан.
— Кто?
— Не знаю, но возле рыбного рынка собирается толпа. Очень скоро они двинутся сюда.
— Зачем?
— Судя по всему, они знают, что мадемуазель Женевьева находится здесь.
Капитан взял в руки корзину, повертел в руках, чем-то она ему, видимо, напоминала направленный против него заговор — так же плотно сплетен.
— Где Воклен?
— Он там следит, как развиваются события. Это он меня сюда послал.
— Знаешь что? — Олоннэ мощно растирал пальцами подбородок.
— Что, капитан?
— Вот тебе деньги, возьмешь в конюшне мою лошадь, коляска тоже там.
— Вы предлагаете мне бежать?
— Поедешь в «Жареный фрегат» и привезешь мне сюда одну шлюху.
Роже растерянно посмотрел в сторону закрытых дверей дома. Воистину вкусы капитана поразительны. Ему мало одной женщины, подавай вторую. И это в такой момент!
— Чего ты ждешь?!
— Бегу, капитан.
На обратном пути в затемненную комнату Олоннэ придумал, что ему делать. Приступ растерянности прошел. Если даже имел место.
— Что случилось? — прозвучал недовольный и заносчивый голос Женевьевы. Таким тоном обвиняют в увиливании от поединка.
— Сейчас здесь будет много гостей.
— Каких еще гостей, что вы задумали?!
— Каких именно, не знаю, и не я виновник того, что они здесь появятся.
— Я ничего не понимаю, говорите яснее.
— Кто-то на рыночной площади объявил, что вы находитесь здесь. С какой целью, надеюсь, объяснять не надо? Насколько я понимаю, они явятся сюда, чтобы публично вытаскивать вас из моей кровати.
— Что за дичь?!
— В общем-то да. Но если разобраться, здравый смысл здесь есть.
— Какой тут может быть здравый смысл?!
— То, что можно уличной шлюхе, то не позволено символу невинности и благопристойности.
— Вы говорите так, будто рады, что дела обстоят именно так!
Олоннэ налил себе рому.
— Люди часто не прощают другим того, чего не замечают в себе. Кроме того, в этой истории имеется кто-то, кто хорошо подогревает смутное недовольство, тлеющее в душах этих оборванцев. Это враг, и враг сильный, раз он сумел этих бессмысленных скотов сделать врагами господина де Левассера.
Заламывая руки, Женевьева ходила из угла в угол комнаты.
Капитан спокойно наблюдал за ней.
— У нас есть выход, — вдруг заявила она.
— Выход?
— Именно. Когда они все сюда явятся, можно сказать, что мы обручены. Чему вы улыбаетесь?!
Олоннэ действительно широко улыбнулся:
— Никто не поверит, все сочтут это заявление попыткой спасти положение, только и всего. Кроме того, господин губернатор не в курсе такого неожиданного поворота, он не сумеет нам достойно подыграть. Даже если его не хватит удар от такого известия.
— Но…
— Но пусть даже кто-то и поверит в то, что мы говорим правду, репутации губернатора такое «обручение» лишь повредит. Слишком силен запах скандала в этой истории. Таким образом, тот, кто хочет навредить вашему отцу, добьется своей цели. Вы ведь, насколько я понимаю, не желаете неприятностей отцу.
Женевьева остановилась, прижавшись лбом к притолоке.
— Должен же быть выход!
— И должен быть, и есть.
Она резко обернулась к Олоннэ:
— Говорите же скорей!
Капитан подошел к сундуку, занимавшему один из углов комнаты, открыл его, вынул оттуда несколько принадлежностей мужского туалета.
— Здесь все, что нужно. Панталоны, сюртук, чулки, башмаки. Переодевайтесь.
— ?
— Если стало известно, что вы здесь, значит, за вами следили. Если следили, значит, видели в вашем маскарадном наряде.
— А, понимаю, понимаю.
— Надеюсь, никто не обратит внимания на скромно одетого юношу, покидающего мой дом.
— Я отправлюсь домой? — неуверенно спросила Женевьева, взвешивая В руках тяжелые, грубые башмаки.
— Именно, и мы договоримся с вами, что сегодняшнего посещения не было. Забудем о нем. Так будет лучше для всех, поверьте мне.
— Приходится это делать.
Стоило одной женщине покинуть жилище капитана Олоннэ, там сразу же появилась другая. Роже великолепно выполнил данное ему поручение. И главное, быстро. Не успел он распрячь лошадь, как перед воротами появились первые представители портовой депутации. Босоногие, в белых полотняных штанах и широких соломенных шляпах. Был здесь кое-кто из завсегдатаев кабаков, они покинули места привычного увеселения, услышав о том, в каком необычном развлечении есть шанс принять участие. Довольно много было женщин. Разных — от почтенных матерей семейств до самых непрезентабельных шлюшек.
Присоединились к толпе даже некоторые матросы «Этуали». Они не лезли на первый план, а готовились позлорадствовать издалека. А может, и позавидовать. О мадемуазель де Левассер мужская половина населения Тортуги была высокого мнения.
— И если нашему капитану удалось взять на абордаж такую шхуну, то я снимаю перед ним шляпу, -говорил коренастый небритый плотник, на голове у которого вместо шляпы красовался замызганный красный платок.
Предводительствовали этим всплеском народного удивления, любопытства и гнева трое или четверо агентов падре Аттарезе. Они изо всех сил старались разгорячить шествие.
И вот все скопились, постепенно просочившись, во дворе дома. Переглядывались, перемигивались, отпускали подходящие и не подходящие к случаю замечания. Так могло бы продолжаться довольно долго, если бы вдруг из дома не донесся стон. Это был звук, в происхождении которого невозможно было ошибиться.
Находившиеся во дворе на мгновение коллективно замерли. Все-таки по дороге сюда им приходилось бороться с чувством неловкости, и оно не рассеивалось полностью под воздействием болтовни нескольких святош из церкви падре Аттарезе. А вдруг там внутри ничего особенного и не происходит?
Но когда из дома донеслись звуки, могущие происходить только от взаимных и страстных ласк мужчины и женщины, в настроении собравшихся произошло изменение. Теперь стало ясно — преступление налицо.
Да еще какое!
Хороша девственница!
Жители южных стран возбуждаются легко и быстро. Несколько десятков человек, собравшихся во дворе дома капитана Олоннэ, пылали пламенем сопереживания тому, что творилось в полумраке его комнаты.
Достаточно было одного агрессивного крика, чтобы началось то, что задумал хитрый католический священник. Но толпа получила неожиданный удар с тыла.
Явился господин де Левассер.
Прочитав злополучное письмо, он велел немедленно заложить карету и примчался к месту преступления.
Он был без парика. Лицо каменное. По вискам сочились струйки пота. Он нес в руках шпагу, держа ее за ножны.
Возможно, на его месте разумнее было остаться во дворце и там дождаться исхода дела. Незачем выставлять на всеобщее обозрение свой позор. Но не таков был его характер, чтобы усидеть на месте.
Собравшиеся молча расступались. Все понимали, что попасть под горячую руку губернатора — смерть.
В установившейся, таким образом, тишине еще слышнее стали звуки, производимые внутри капитанского дома. Там явно бушевала чья-то нечеловеческая страсть. Вопли такой откровенности и силы оглашали обожженный смущением воздух, что его высокопревосходительство остановился.
У самого порога, но остановился.
На своем длинном корсарском веку он видел многое. Видел расчлененные трупы, оторванные руки, видел людей с полностью содранной кожей, видел… Да что там говорить! Но сейчас он боялся войти внутрь, ибо не представлял, что суждено ему увидеть на этот раз.
Думать он мог только о том, какому виду казни подвергнет этих бесстыжих любовников (если только он вообще мог о чем-нибудь думать).
Наконец стало ясно, что творящемуся в доме сексуальному безумию подходит конец.
Толпа за спиной губернатора начала потихоньку гудеть. Господин де Левассер вытер кружевным манжетом заливавший глаза пот.
Наконец прозвучал финальный взвизг, вопль, стон, рык, хрип.
Тишина.
Губернатор снова вступил в борьбу с соленой волной, заливавшей глаза.
Гудение людских голосов у него за спиной вдруг прекратилось.
— Ах! — выдохнуло сразу с полсотни ртов.
На пороге дома появился капитан Олоннэ. Он был по пояс гол и весь лоснился от пота. Руки его возились с завязками панталон. Увидев собравшихся, он искренне удивился.
Господин де Левассер попытался вытащить свою шпагу из ножен, но понял, что руки его не слушаются. Тогда он проверил, слушаются ли губы.
— Где она?
— Там, — кивнул Олоннэ в сторону двери, из которой только что появился.
С трудом переставляя налившиеся смертельной тяжестью ноги, губернатор двинулся в указанном направлении. За ним последовало сразу человек десять, с трудом удерживаясь от того, чтобы не обогнать его высокопревосходительство.
Таким образом, сразу дюжина пар глаз увидела жуткое зрелище. На широком ложе капитана в серых холмах потного белья в нелепой позе лежала Шика. Горло у нее было перерезано, правой рукой она сжимала бритву Роже.
— Какое страшное самоубийство, — сказал капитан Олоннэ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Дон Ангерран де ла Пенья чувствовал себя очень плохо. Он полулежал в широкой постели, приложив к левой стороне груди смоченное в воде полотенце. На прикроватном столике теснилась целая батарея разного рода пузырьков, в них были лекарства, призванные облегчить мучения губернатора Кампече. Врач, их доставивший, боялся показываться на глаза дону Ангеррану, потому что лекарства эти никакого действия не оказывали.
Душно, очень душно было в губернаторской спальне. Не хватало воздуха даже большим, оплывшим свечам, даже цикадам, треск которых казался слишком замедленным и обессиленным.
— Будет шторм? — заговорил Тибальдо, камердинер дона Ангеррана, вглядываясь в темноту тропической ночи.
— Позови его, — негромко сказал лежащий.
— Кого? — удивился камердинер.
— Врача. Пускай пустит мне кровь, иначе я не доживу до рассвета.
Через некоторое время в тускло освещенной спальне появился худосочный безбородый старик. В руках он держал большой медный таз. За ним шел Тибальдо с приспособлениями для отворения крови.
Врач виновато улыбался.
Камердинер зевал.
Когда первая струя черной губернаторской крови ударила в медное дно, за окном послышалось глухое отдаленное ворчание — сошлись два невидимых небесных гиганта. Скользнула вниз огненная нитка.
— Я же говорил, что будет шторм, — счел нужным заметить Тибальдо.
Но дон Ангерран его уже не слышал, как не слышал и шума начинающейся грозы — он спал.
— Полнокровие — бич нашего времени, — осторожно заметил доктор, выходя в прихожую.
Сон губернатора оказался не слишком долгим. Едва запели птицы в освеженном ночным ливнем саду и начала рассеиваться дымка над бухтой Сан-Марианна, рука камердинера легла на потное плечо дона Ангеррана.
Тот кое-как разлепил глаза. Ему было лучше, но все же еще нехорошо.
— В чем дело?
— Капитан Пинилья, сеньор.
— Пинилья?
— Он говорит, что у него важнейшее известие.
Капитан был начальником береговой охраны. Злой как собака, хитрый как лиса, выносливый как мул. Неужели он и этой ночью таскался по берегу? Дон Ангерран всегда считал себя ревностным служакой, любил повторять, что «мы созданы для службы, а не служба для нас», но в присутствии этого иезуита в мундире чувствовал себя бездельником.
— Пусть войдет.
Губернатор постарался придать своему телу положение, хотя бы отчасти соответствующее его нынешнему званию. Поправил колпак на голове.
Зря старался, потому что капитан Пинилья выглядел ужасно: мундир и лицо в грязи, ботфорты вообще ни на что не похожи.
— В чем дело? — счел нужным заметить лежащий.
— Олоннэ, — только и смог проговорить капитан.
— Что Олоннэ? Где Олоннэ? В каком смысле Олоннэ? Потрудитесь говорить яснее!
Капитан махнул рукой в сторону побережья:
— Его корабль потерпел крушение. Он со своими людьми на берегу. В трех милях отсюда.
Дон Ангерран сел в кровати.
— Тибальдо, тревога, — тихо сказал он.
«Этуаль» не пережила ночного шторма. За три недели плавания в Гондурасском заливе она утратила часть своих прекрасных мореходных качеств, не идеально слушалась руля, что и привело в конце концов к роковым последствиям. Этот шторм, как и все тропические шторма, налетел слишком внезапно. Несмотря на героическое сопротивление стихии, она, стихия, победила. Особенно сильной волной, вдруг появившейся на траверсе судна, «Этуаль» была перевернута, мачты переломились как тростинки. С задранным к черному небу килем корабль удачливого капитана Олоннэ проплавал недолго, а потом пошел ко дну вместе со всей добытой за три недели испанской добычей.
Но судьба в последний момент сжалилась над французами, наверное, ей показалось, что она наказывает их слишком сильно и слишком внезапно. Она решила немного порезвиться с ними и подсунула песчаную отмель. Вконец измученные неравной борьбой с водяными валами моряки кое-как выползли на берег, где и остались лежать.
В таком состоянии их сначала застал сон, а потом нечеловечески бдительный капитан Пинилья.
К тому моменту, когда корсары продрали глаза, в зарослях, начинавшихся шагах в пятидесяти за полосою белого песка, накопилось до сотни испанских пехотинцев. Они насыпали порох на полки своих аркебуз в радостном предвкушении удачной, а главное, безопасной охоты — выброшенные на берег морские разбойники были фактически безоружны.
— Пора, — сказал дон Ангерран, глядя из-под руки, как ползают по ярко-белому полю неловкие черные фигурки.
Капитан Пинилья отдал приказ, испанцы решительно ринулись в атаку.
За последние десятилетия подданные его католического величества столько унижений снесли от разного рода джентльменов удачи, так часто оказывались битыми и обведенными вокруг пальца, что накопившаяся в их душах ненависть просто не поддается описанию. Представившийся им случай отомстить они использовали в полной мере. Это была резня — и примерная и беспримерная одновременно. Интересно, что даже в таком безнадежном положении корсары умудрялись оказывать сопротивление, пуская в ход вытащенные из-за голенища ножи, подвернувшиеся под руку палки и просто зубы.
Около десяти человек оставил дон Ангерран на поле боя. Но эти потери были ничто в сравнении с пятьюдесятью убитыми корсарами и восемью взятыми в плен.
Олоннэ при первом взгляде на появившуюся из прибрежных зарослей шеренгу солдат сразу понял, в чем дело. Сила в этой ситуации помочь не могла, рассчитывать оставалось только на хитрость.
Капитан размышлял всего лишь несколько мгновений, потом вытащил из-за пояса чудом сохранившийся там нож и занялся делом. Он лежал в небольшом углублении, скрытый от испанцев корневищем вывороченной ветром пальмы. В этом своем ненадежном убежище он устроил парикмахерскую. Испанская атака — самое время, чтобы побриться!
Послюнив как следует переносицу, он освободил ее от волос, избавив свою внешность тем самым от одной из основных примет Олоннэ. После этого он добрался ползком до ближайшего корсарского тела, распорол ему живот и обильно измазался чужой кровью. Но этого было мало, чтобы надежно притвориться мертвым. Капитан стащил с себя остатки рубахи и лег на спину рядом с человеком, кровью которого он только что воспользовался в маскировочных целях. Приставил нож справа к груди так, чтобы острие попало в углубление между третьим и четвертым снизу ребром, и сильно надавил на рукоять. Нож вошел всего на два пальца, но теперь капитан Олоннэ выглядел настоящим мертвецом.
Завершил он свой маскарад вовремя. Испанцы покончили с теми, кто сопротивлялся, и начали разбредаться по берегу в поисках тех, кого надлежало добить.
— Олоннэ, ищите Олоннэ! — требовал дон Ангерран.
Он понимал, что без головы со сросшимися бровями его победа будет далеко не полной.
Вскоре капитан Пинилья доложил ему в некотором смущенье, что Олоннэ не найден.
— Где же он может быть?! Может быть, удрал в заросли? Обыщите, обыщите все!
Капитан Пинилья сказал, что в зарослях его быть не может, ибо он в самом начале приказал оцепить берег, ужу не проскользнуть.
— Ну так где он тогда, если его нет ни в зарослях, ни на песке? — раздраженно брюзжал губернатор, тяжело передвигаясь от одного корсарского трупа к другому.
— Он в море, — убежденно заявил капитан Пинилья.
— В море?
— Именно, ваше высокопревосходительство, — должен же был кто-то утонуть во время шторма, так и не добравшись до берега? Не может же Господь всю работу по истреблению этих французских гиен возлагать исключительно на нас, кое-что можно передоверить и морской стихии.
Дон Ангерран угрюмо посмотрел на своего подчиненного.
— Никогда не замечал в вас стремления выражаться столь вычурно, господин капитан.
— Победа окрыляет даже в поэтическом смысле.
— Ну, окрыляет так окрыляет, а похоронную команду вы сюда вышлите.
— Да крабы их растащат по косточкам за неделю.
— Чтобы эта пакость смердела в получасе езды от моего дома? Ни в коем случае! Пришлите сюда людей, обязательно. Пересчитайте, сколько здесь корсарских трупов, пусть столько же будет и могил. Может статься, эти могилки нам еще сослужат службу.
Капитан Пинилья не мог себе представить, какая может быть польза от мертвых корсаров, но счел за лучшее не спорить с его высокопревосходительством.
Рана в боку Олоннэ почти не беспокоила, он промыл ее водой, залепил кашицей из коры рапангового дерева и из остатков рубахи смастерил повязку. Хуже было с обожженной кожей — два часа пришлось проваляться под прямыми лучами карибского солнца. Шевельнуться было невозможно, все время кто-то из испанцев находился рядом. На животе и груди образовалось несколько больших волдырей, так что когда Олоннэ натягивал на себя колет, снятый с убитого испанца, то шипел от боли. Еще хуже оказалось с сапогами — малы! Пришлось проделать отверстия для пальцев.
До вечера Олоннэ просидел в зарослях. Видел прибытие похоронной команды. Следя за действиями гробокопателей, он все время что-то шептал. То ли считал, то ли молился.
Когда стемнело, Олоннэ вдоль берега двинулся к городу. На голове у него красовался пехотный испанский шлем, в руках — тесак, за поясом — несколько ножей. Днем его вид, возможно, вызвал бы подозрение у бдительного алькальда, но ночью, особенно издалека, он вполне походил на стражника.
Полная яркая луна повисла над Санта-Марианной. Отчетливо были видны белостенные дома, зато пролегавшие меж ними улицы напоминали раны с запекшейся кровью. Искрилась водная гладь бухты. Рисовались на фоне темно-синего неба силуэты судов, замерших у причала, высилась четырехбашенная громада недостроенного форта.
Капитана Олоннэ интересовала тюрьма этого замечательного романтического городка. По опыту он знал, что испанцы, как правило, строят подобные заведения неподалеку от кордегардии — помещения для стражников. Ту же, в свою очередь, — рядом с губернаторским дворцом, чтобы в случае нападения на его высокопревосходительство стража могла как можно быстрее прийти ему на помощь.
Что же касается дворца, то ошибиться невозможно — вот он. По пояс утонувший в волнах густой, облитой лунным светом растительности. В широких окнах горит свет, мелькают человеческие тени, доносится тонкое бренчание мандолин, слышится смех.
Олоннэ криво ухмыльнулся:
— С праздником, господа.
С этими словами он вошел под арку городских ворот. Клюющий носом стражник поднял на него с трудом раскрывшийся пьяный глаз и рассеянно спросил:
— Это ты, Антонио?
Капитан Олоннэ владел испанским языком не в такой степени, чтобы поддержать разговор на сложную, интеллектуальную тему, но произвести несколько звуков в подтверждение того, что он именно Антонио, ему удалось.
Стражник вздохнул и стал собираться с силами для другого, наверное, более каверзного вопроса. Почувствовав это, переодетый француз начал изображать мертвецки нетрезвого испанца. Поскольку в этот день вино в городе лилось рекой, стражник легко поверил в его игру.
— Да ты, братец, пьян! — укоризненно сказал он. Человеку, еле-еле стоящему на ногах, всегда приятно увидеть человека, который еще пьянее его.
Одним словом, первое препятствие было пройдено.
Вообще в испанских поселениях в Новом Свете жизнь была намного угрюмее и чопорнее, чем в поселениях французских и английских, не говоря уже о тех местах, где обитала вольница «берегового братства». Олоннэ рассчитывал столкнуться с вымершими улицами, наглухо закрытыми дверьми, стражниками на каждом углу. Ему повезло (если забыть о том, что явилось причиной этого везения): сегодня Санта-Марианна была не похожа на себя.
Не прошло и четверти часа, как он определил, где томятся пленные корсары. Об этом ему рассказали сами испанцы — два развеселых солдата у входа в кордегардию. Они с огромным увлечением, перебивая друг друга, описывали те пытки, которым будут завтра, перед повешением, подвергнуты безбожные морские разбойники. Во всех деталях этой кровавой словесной каши Олоннэ разобраться был не в состоянии, но суть дела уловил.
Оставшись в тени большой, раскидистой магнолии, он начал присматриваться к тому, что происходило в расположенных перед ним зданиях.
Хлопали двери, гремели победные песни. Кто-то спал, свесившись из окна на улицу. Испанцы обнимались, целовались, пили прямо из кувшинов.
Целью наблюдений корсара было определить, какие именно двери ведут в тюремное помещение.
Удалось это сделать с точностью, только подсмотрев процедуру смены караула. Она состояла в том, что четверо не до последней степени пьяных носителей кирас и аркебуз вышли с победными кличами из караульного помещения и прошествовали в дальний угол двора. Там один из них постучал прикладом в устроенную в каменной стене дверь и громко произнес несколько слов, игравших роль пароля по всей видимости.
Дверь отперлась, изнутри появился прежний наряд, тоже из четырех человек состоящий. Наскоро вручив вновь прибывшим связку ключей, освобожденные из тюрьмы охранники кинулись наверстывать упущенное.
Где находятся пленные, теперь было ясно, оставалось только придумать, как воспользоваться этим знанием.
Олоннэ попытался припомнить слова пароля, но потом плюнул на это занятие — произношение непременно выдаст. Необходимо что-то другое.
В голову ничего не приходило.
Может быть, попытаться выкрасть одного из пирующих в кордегардии негодяев и заставить его произнести нужные слова перед дверью? Олоннэ еще не успел до конца додумать эту мысль, а она ему уже разонравилась. Сколь бы ни превосходил трезвый человек пьяного, он не в состоянии справиться с целой толпой пьяниц.
Положение рисовалось безвыходным. Но тут капитану, готовому прийти в отчаяние, на помощь явилось вино, или, вернее сказать, вызываемое им действие.
Заскрипели петли тюремной двери, и на свободу выбрался один из стражников, только что заступивших на безрадостный пост. Ему приспичило облегчить свой мочевой пузырь, санитарные условия узилища не позволяли сделать это внутри.
Поняв, какой оборот приобретают события, Олоннэ еще глубже вжался в магнолиевую тень.
В этот момент на стол губернатора как раз подали поросенка в сметанном соусе, и изрядно нагрузившиеся гости, принадлежащие к сливкам местного общества, встретили его появление нестройным, но восторженным гулом.
Вслед за свиньей явился капитан Пинилья, видимо потративший слишком много времени, чтобы привести себя в порядок после приключений прошлой ночи и сегодняшнего утра. Он был в голубом мундире, дорогом парике, кружева его манжет благоухали, так же как отвороты дорогой голландской рубахи.
Капитан, безусловно, был героем дня, поэтому губернатор пригласил его занять место рядом с собой. Отвечая на приветствия и восторженные жесты кроткой улыбкой, Пинилья пересек залу и уселся в предупредительно пододвинутое лакеем кресло.
Губернатор, не вставая — опять проклятая подагра, — произнес тост в его честь. Бокалы с малагой и хересом вознеслись над столом.
Капитан был на вершине блаженства, хотя изо всех сил старался этого не показать.
— Клянусь всеми святыми, покровительствующими нашему королевству и особенно его новым землям, что сегодняшний день войдет в историю. И войдет как день славы испанского оружия. Олоннэ мертв!
— Олоннэ мертв! — подхватил весь стол.
Дон Ангерран де ла Пенья отхлебнул из своего бокала, а потом швырнул его в стену. Кое-кто из гостей попытался последовать его примеру, но предупредительно поднятая рука губернатора остановила эти попытки. Дон Ангерран был рад победе над французским разбойником, но не до такой степени, чтобы дать переколошматить весь свой венецианский сервиз.
Капитан был полностью погружен в пожирание сочной поросятины, когда дон Ангерран спросил у него, все ли в порядке на берегу.
— Конечно, все сделано так, как вами было приказано: вырыли в песке ямы, вбили деревянные палки. Я решил, что крестов эти собаки не заслужили.
— То есть все в порядке? — переспросил губернатор, как будто в тайной надежде или в тайном страхе услышать другой ответ.
Стражник устроился у стены, инстинктивно стараясь держаться в тени. Это устраивало Олоннэ. Он вытащил из-за пояса нож, огляделся — не видим ли кому-нибудь — и на цыпочках бесшумно приблизился к справляющему малую нужду испанцу.
Занес нож.
В этот момент в кордегардии грянули припев знаменитой песни:
У нас вина полно и вволю хлеба,
Над всей Кастилией безоблачное небо.
Как бы удостоверяя эти слова, Олоннэ нанес удар.
Испанский пьяница скончался мгновенно.
Олоннэ вытер нож о его мундир, но прятать не стал. Быстрым шагом он пересек освещенную часть двора и постучал в тюремную дверь, откройте, мол.
Изнутри послышался хриплый, полусонный голос:
— Это ты, Педро?
Антонио я уже сегодня был, подумал капитан и применил прием, уже использовавшийся им при проникновении в город. Издал несколько нечленораздельных звуков и шумно икнул.
— Сейчас, Педро, сейчас, — ответили с той стороны двери, — никак не разберусь с проклятыми ключами.
Когда дверь все же распахнулась, Олоннэ, не раздумывая ни секунды, нанес удар. Лезвие, по всей видимости, попало испанцу в глаз, и с диким воплем он отступил в глубь тюремного помещения, схватившись руками за лицо. На его крик появился еще один стражник с факелом и глупым вопросом:
— Ты что, палец себе прищемил, а?
Эти слова стали последними, что суждено было произнести кастильскому остроумцу. Олоннэ убил его ударом в левую часть груди, и так быстро, что факел не успел упасть на пол и был подхвачен нападавшим.
Пораженный в глаз стражник затих в углу.
Посветив себе захваченным факелом, Олоннэ отыскал на полу связку ключей, без них было не открыть камеры.
В этот момент явился последний страж. Он оказался еще пьянее своих коллег, поэтому соображал куда медленнее, чем они. Охранник умер так быстро, что не успел даже сказать какую-нибудь глупость перед смертью.
Подняв повыше факел, капитан огляделся. Комната тюремной стражи по количеству валяющихся трупов, конечно, уступала белому песчаному пляжу, но тем не менее являла собой впечатляющее зрелище.
Олоннэ запер входную дверь, чтобы не привлечь случайных посетителей, подошел к тому испанцу, который впустил его внутрь, и, присев на корточки, полоснул ножом по горлу. На всякий случай. Если ему самому сегодня утром пришла идея притвориться мертвым на песчаном берегу, почему этому охранку не могло прийти в голову то же самое?
Так, теперь ключи.
— Успокойтесь, ваше высокопревосходительство, все в полном порядке, клянусь стигматами святой Береники, — улыбнулся капитан Пинилья, поедая сладкий картофель. — Не считать же неприятностью простую ошибку в счете.
Дон Ангерран поперхнулся:
— Какую ошибку?
— Ну, помните, вы велели мне пересчитать мертвых корсаров, прежде чем отправляться за похоронной командой.
— И что же вы? — спросил губернатор, и его тон сделался почти зловещим.
— Разумеется, выполнил ваше приказание. Перед этим приказал вырезать пятьдесят семь бамбуковых шестов, чтобы отметить места погребения. Так вот, после того как мы всех французских собак закопали, один шест остался неиспользованным. Я думал, что ошибся коррехидор [12], пересчитал могилы, и, странное дело, пришлось признать, что это я ошибся в счете. На берегу оказалось всего лишь пятьдесят шесть корсарских трупов. Лучше бы я, конечно, ошибся в другую сторону, но думаю, и то, что случилось, не трагедия.
Чем дольше капитан Пинилья говорил, тем меньше был уверен в правоте своих слов. Потому что, пока он разглагольствовал, физиономия дона Ангеррана меняла свою окраску. Когда она сделалась окончательно темно-багровой, капитан смолк. Смолкли и все остальные за столом.
Ощущение праздника куда-то исчезло.
В наступившей тишине раздался голос безбородого доктора, сеньора Хесуса:
— Странно, клянусь мучениями святого Себастьяна, но у меня случилось что-то в том же роде.
Губернатор тяжело поворотил к нему отягченную приливом крови голову и спросил глухо:
— Что именно? Что именно случилось?
Сеньор Хесус, почувствовав, что нарождающийся губернаторский гнев вот-вот обрушится именно на него, потерял дар речи.
— Говорите, дьявол вас раздери, иначе придется изменить нашему обыкновению! Не вы мне, а я вам пущу кровь.
— Меня… меня известили, — залепетал доктор, — на берегу погибло семеро наших солдат, но когда я зашел в мертвецкую, что при госпитале Святой Бригиты, там наличествовало всего лишь шесть тел.
— Кому могло понадобиться мертвое тело? — удивленно прошептал кто-то из гостей.
— А может, этот пехотинец ожил и пошел к себе в казарму. Такие случаи бывали.
Дон Ангерран массировал глазные веки одной рукой, другой держась за сердце.
— Что за глупости вы говорите, мертвые люди не оживают! — продолжился спор за столом.
— Оживают, — мрачно вмешался в него губернатор, — только не люди, а такие дьяволы, как Олоннэ.
— Олоннэ утонул в море, — осторожно попытался напомнить капитан Пинилья.
— Лучше бы вы утонули! — заорал на него губернатор. После этого он сделал глоток вина и объявил: — Олоннэ жив. Более того, он переодет испанским пехотинцем. Молите Бога, чтобы он скрывался где-нибудь в джунглях, подальше от Кампече. Лично я верю в худшее — он здесь, в городе, может быть, он даже неподалеку от этого дома. Может быть, он даже в этом доме.
— Но для чего ему это?! — раздалось несколько одинаково недоумевающих голосов.
— Что тут непонятного?! Он собирается отомстить за то, что мы сделали с его командой.
Капитан Пинилья отодвинул тарелку, он обиделся на губернатора за пожелание утонуть и теперь счел возможным возразить ему:
— Но нужно быть безумцем, чтобы в одиночку напасть на целый город, где столько народу, где, наконец, три сотни солдат.
— Не-ет, он не безумец, к сожалению, не безумец.
— Единственный относительно разумный поступок, который мог совершить Олоннэ в сложившейся ситуации, — это нападение на тюрьму.
— На тюрьму?!
— Вы не забыли, ваше высокопревосходительство, что у нас под замком находятся восемь корсаров?
— Да на кой черт они ему сдались, если они под замком?
— Насколько я слышал, в корсарской среде принято вызволять друг друга, даже иногда рискуя собственной жизнью. Обычай странный, но имеющий место быть. А кроме того, в освобождении этих восьмерых есть и практическая для Олоннэ польза. Он может, пользуясь покровом темноты и всеобщим пьянством на берегу, захватить небольшое судно и выйти на нем в море.
Губернатор откинулся в кресле.
— Иногда, капитан, вы излагаете мысли, которые можно слушать без отвращения.
— Ну вот видите, — улыбнулся Пинилья, впадая в тихий экстаз самодовольства.
— Но из этих правильных мыслей вы делаете неправильные практические выводы, — поставил его на место дон Ангерран.
— Как вам будет угодно… — снова обиделся Пинилья.
— Итак, он может попытаться освободить своих матросов, — рассуждал вслух губернатор, — значит, необходимо проверить, как обстоят дела в тюрьме.
— Вы правы, ваше высокопревосходительство! -воскликнул городской алькальд.
— И немедленно!
Алькальд встал, с грохотом отодвинув кресло.
— А вы, капитан, — дон Ангерран обратился к Пинилье, — отправляйтесь тотчас же в казармы и пришлите сюда десятка два солдат. На всякий случай.
Загрохотали и другие кресла, остальные офицеры и чиновники заспешили к местам своей службы, не дожидаясь особого распоряжения. За столом остались только настоятель церкви и капитан порта. Первый — потому что был уверен в том, что гугенот не станет искать своего счастья в католическом храме. А второй — потому что сладко спал, положив голову в блюдо с маринованными моллюсками.
Губернатор брезгливо покосился на него и обратился к священнику:
— Вот видите, святой отец, не только молитва, обращенная к Господу, способна воскресить умершего, усилия врага рода человеческого на этом поприще тоже дают свои результаты.
Падре подбрасывал в руках апельсин, ловил его пухлыми ладонями и вздыхал.
— То, что капитан Олоннэ — дьявольское отродье, никаких сомнений у меня не вызывает, но в данном случае, я думаю, обошлось без вмешательства самого прародителя зла.
— То есть?
— Хватило вмешательства всего лишь беса притворства. Олоннэ умело прикинулся мертвым. Ведь никто — ни вы, дон Ангерран, ни ваши люди — не был знаком с ним лично.
— Бог миловал.
— Так что проскользнуть мимо вашего внимания ему было не так уж трудно. Ничего обидного для вас в этом нет. Воспротивьтесь своему падению в собственных глазах.
Губернатор презрительно хмыкнул:
— Как иногда вы умеете фразу завернуть! В собственных глазах я падать не собираюсь, а вот в глазах дона Антонио де Кавехеньи каково будет моему образу?
Падре не успел ответить: послышались приближающиеся к дверям залы шаги.
Двери распахнулись.
На пороге стоял алькальд. Лицо у него было белее песка, на котором нашла свою гибель команда «Этуали».
— Да говорите же, дьявол вас раздери!
— Корсары бежали. Все охранники убиты.
— Та-ак. Где капитан порта?
Блюдо с моллюсками не ответило.
— Тибальдо! — крикнул губернатор.
— Я здесь, ваше высокопревосходительство, — отрапортовал камердинер, оказавшийся за спиной у господина.
— Отодвинь портьеры и потуши чертовы свечи.
Приказание было выполнено мгновенно.
— Светает, — сказал дон Ангерран, поглядев в окно. — Выйдем на террасу.
Тибальдо помог губернатору подняться и, поддерживая под руку, препроводил туда, куда было указано.
Эта часть дома оказалась устроена так, что с нее открывался прекрасный вид на бухту Санта-Марианны. В этот ранний час она была подернута легкой дымкой. Особенно густой туман скопился в северной части, у недостроенного форта. По слегка рябящей поверхности быстро скользило к выходу из бухты небольшое одномачтовое судно. Его косые гроты и треугольные кливера были наполнены упругим ветром.
Из бойниц форта торчали бесполезные стволы кулеврин.
До выхода в открытое море оставалось всего несколько кабельтовых.
— Чей это шлюп?! — взбешенно прошипел губернатор.
Непонятно было, что именно его интересует: у кого он украден или кто на нем находится?
Чтобы что-нибудь сказать, алькальд произнес:
— Он отшвартовался не более получаса назад.
— Приведи сюда капитана порта.
Это было сделано, хотя сделать это оказалось не так уж просто.
— Поглядите туда, сеньор. — Губернатор указал ему на бегущую по волнам посудину. — Видите что-нибудь?
С трудом и не до конца проснувшийся толстяк честно признался:
— Нет.
Лицо губернатора исказилось:
— Впрочем, это не важно. Повесят вас завтра вне зависимости от состояния вашего зрения.
— За что повесят?
— За то, что не умеете пить.
Глава вторая
Нынешнее возвращение на Тортугу знаменитого капитана Олоннэ вряд ли можно было признать триумфальным. Однако авторитет его был поколеблен не сильно. Во-первых, шторм есть шторм, и даже самым удачливым рано или поздно приходится сталкиваться с этим зверем. Олоннэ удалось не погибнуть в его мокрой пасти, это само по себе немало. Во-вторых, говорили на берегу, в той ситуации, в которой оказался француз, «высадившись» на берег, сгинули бы девяносто девять из ста корсаров, даже если иметь в виду самых матерых. А он не только выжил сам, но и вытащил из испанской тюрьмы восьмерых товарищей, проявив подлинные чудеса смелости и изобретательности.
Вернувшись на остров, капитан Олоннэ повел затворническую жизнь. Помимо потери «Этуали» у него были и другие основания для того, чтобы впасть в прострацию. Оказывается, что двухмачтовый бриг, отправленный им под командованием Воклена на Тортугу от берегов Гондураса, также погиб. Возможно, его сгубил тот же шторм, что расправился и с главным кораблем капитана Олоннэ.
Самым неприятным в этой истории явилось то, что на этом бриге были отправлены — подальше от греха — основные ценности, захваченные командой «Этуали» во время рейда. Капитан решил, что лучше этому золоту находиться в банке господина де Левассера, чем болтаться по волнам Карибского моря, подвергаясь опасности оказаться на его дне.
Взяв на абордаж это небольшое суденышко, Олоннэ перегрузил на него большую часть добычи, перевел два десятка матросов и велел Воклену доставить все это на Тортугу, до которой было менее суток пути. Сам же он продолжил погоню за одним очень соблазнительным галионом.
И вот, вернувшись в родной порт, он обнаружил, что Воклен, вернейший Воклен исчез вместе с бригом и грузом.
Вслух и сам капитан, и выжившие члены его команды говорили о том, что бриг погиб во время шторма, про себя все думали — сбежал!
Сбежал самый верный помощник капитана, пригретая на груди змея укусила.
«А я сам упустил бы такой шанс разбогатеть?» — спрашивал себя каждый и не находил ответа. С одной стороны, триста тысяч реалов — большие деньги, но с другой — месть капитана Олоннэ, почти верная смерть.
Очень трудный выбор.
Капитан почернел и осунулся. Трудно сказать, что он переживал тяжелее: то, что лишился денег, или то, что его обманули.
Весь сезон дождей Олоннэ просидел дома, почти не показываясь на людях и никого не принимая. Только верный Роже был при нем — черная, немая тень.
К нему, к капитану, кстати, никто особенно и не напрашивался в гости. Слава славой, но чисто по-человечески он многим стал неприятен. Вернее, не неприятен, а слишком непонятен. История со смертью проститутки Шики наделала много шума. Отчасти лестного для мужской репутации Олоннэ, но в то же время — странного. По острову поползли невнятные слухи, которые состояли по большей части из двусмысленных улыбочек и глубокомысленного поднимания бровей. Нет, конечно, бывают любовники, способные своей мужской мощью довести партнершу до обморока, но чтобы до самоубийства…
Короче говоря, слухи плавали, капитан сидел дома, Роже молча возился на кухне, ле Пикар шумно пропивал последние деньги и подумывал, к кому бы наняться на судно, чтобы попытаться пополнить свой кошелек.
Во дворце губернатора царила растерянность. Растерянность и тишина. Анджело убыл в Старый Свет для продолжения своего образования, отец посчитал: все, что ему могли дать университеты корсарской республики, он уже получил. Женевьева резко разлюбила балы, прогулки и другие шумные развлечения, большую часть дня проводила взаперти, иногда даже не выходя к обеду. И что самое страшное — начала читать. Для господина де Левассера это явилось признаком глубочайшего душевного расстройства. Он попытался поговорить с дочерью, но безуспешно. Историю с появлением слуха о ее тайном визите в дом капитана Олоннэ она комментировать отказалась наотрез и даже гневно.
Какие-то объяснения по этому поводу можно было получить только от самого капитана, но он сразу же ушел в плавание, а по бесславном возвращении посадил себя под домашний арест. Но даже не это стало основной помехой к встрече. Просто в представлении высшего тортугского света корсарский капитан, что называется, потерял лицо. Нельзя принимать в доме человека, замешанного в кровавом сексуальном скандале. Человек, который спит с проститутками, перерезающими впоследствии себе горло бритвой, не может сидеть за столом губернатора.
Эти настроения своего круга господин де Левассер игнорировать не мог, несмотря на огонь адского любопытства, сжигавший ему душу.
Падре Аттарезе затаился и велел затаиться своим агентам. Он больше других понимал, что произошло в тот злополучный вечер в доме капитана, и поэтому меньше всех говорил на эту тему.
Дону Антонио он отправил расплывчатое донесение, в котором очень подробно описал случившееся, выставил на первый план свои усилия в организации беспорядков в стане противника, но о тайной подоплеке случившегося даже не намекнул.
Шику похоронили за церковной оградой, хотя падре был уверен, что она рук на себя не накладывала. Но раз слово «самоубийство» сказано, значит, так оно и есть.
Таково было состояние дел на Тортуге, когда в бухту вошел голландский бриг, чтобы пополнить запасы питьевой воды, и с него на берег сошел человек в одежде из звериных шкур, с длинной бородой и суковатой палкой в руках. Его узнали не сразу, но когда узнали, весть о том, что Воклен вернулся, мгновенно облетела город.
Воклен вернулся!
Случилось то, чего не должно было бы по всем расчетам и соображениям произойти, и это взволновало народ.
— Воклен вернулся! — с этими словами вбежал Роже в комнату капитана. Это были первые слова за последние месяцы, которые он позволил себе произнести.
Олоннэ лежал на кровати и покуривал трубку — с недавних пор появилась у него такая привычка. Он не пришел в немедленный экстаз от этого сообщения. Он даже не пошевелился.
— Воклен, ле Пикар и Ибервиль идут сюда. Сейчас они будут здесь.
Роже не обманул, через несколько минут все трое были в комнате капитана.
Роже принес кресла, бутылку рома и стаканы.
Олоннэ не переменил позы при появлении своего старинного друга.
Воклен хотел было броситься ему в объятия, но что-то ему помешало.
— В каком ты виде, Моисей! — сказал капитан, выпуская маленький клуб дыма.
— Мне предлагали помыться, побриться и переодеться, но я слишком спешил. Я три месяца добирался до тебя и не хотел откладывать встречу даже на одну минуту.
Еще один клуб дыма объявился в воздухе над головой капитана.
— Одну минуту я бы подождал.
Эти слова произвели на присутствующих неприятное впечатление. И ле Пикар и Ибервиль подумали, что они чего-то не понимают.
— Садитесь все, а ты рассказывай.
— Рассказ мой будет печальным. То, что до Тортуги я не добрался, вы, разумеется, знаете…
— По дороге ты попал в шторм.
— Да, вечером того же дня, когда расстались.
— Твой бриг перевернуло, и он пошел ко дну.
Воклен погладил свою пронизанную седыми прядями бороду.
— Нет, бриг переломился пополам. Очень ненадежная постройка. И потом, мы неправильно разместили груз.
— Спешка.
— Да, капитан, спешка, она сослужила нам плохую службу.
— В следующий раз не будем спешить и сделаем так, как требует королевское корабельное уложение.
Воклен опять потянулся к бороде.
— Шторм был страшный…
— Мы это знаем, сами хлебнули.
— Да-а?
— Ты сначала о своем. О том, что произошло с нами, мы тебе потом расскажем.
История, которую изложил Воклен, была не слишком замысловатой. Ему подвернулся остров, но, в отличие от обжитого побережья Кампече, необитаемый. Сначала это показалось благом — не было опасности попасть в руки испанцев, — потом открылась оборотная сторона медали. Риск быть зарезанным сменился опасностью умереть с голода. Пришлось искать съедобные плоды, нырять за моллюсками, исхитрившись, развести огонь и жарить на нем вручную пойманную рыбу.
Без соли.
Роже содрогнулся от отвращения и жалости.
— Да, — подтвердил капитан, — невкусно.
Так продолжалось три месяца, пока к берегу не пристал голландский корабль для какого-то мелкого ремонта, ну а дальше рассказывать уже нечего.
— А почему ты не побрился на корабле? — задал после окончания повествования неожиданный вопрос Олоннэ.
— Я хотел явиться перед тобой именно в таком виде, чтобы ты легче мне поверил. Я оказался прав, ведь ты до сих пор не решил, правдивы мои слова или нет.
Капитан сел на кровати.
Ему понравился ответ Воклена.
— Да, еще не решил. И может быть, не скоро решу.
— А где все твои люди, — вмешался в разговор ле Пикар, тоже вдруг открывший в себе источник недоверия к россказням бородатого Моисея, — неужели все погибли?
Воклен развел руками: мол, все претензии к морю.
— Ладно, — сказал Олоннэ, — то, что ты рассказал, похоже на правду. Я даже не буду расспрашивать твоего голландца на предмет сличения ваших слов. Если ты меня обманываешь, то наверняка позаботился, чтобы этот обман был прочен во всех своих звеньях.
Воклен судорожно сглотнул слюну, глядя исподлобья на капитана.
— Кроме того, мне хочется верить, что ты не врешь. Я придумал, как нам поправить наши дела.
— Наконец-то! — Ибервиль радостно заморгал бельмастым глазом.
— Поэтому мне нужны надежные люди. По-настоящему надежные.
По щекам Воклена побежали крупные многочисленные слезы. Они скатывались по щекам и продолжали свой путь в черно-серебристой бороде. Лучи света, падавшие сквозь щели в занавеси, закрывавшей окна, заставили их вдохновенно сверкать.
Капитан бодрой походкой прошелся от ложа к двери и обратно.
Соратники внимательно наблюдали за ним, лица у всех были приятно выжидательные, если так можно выразиться.
— Роже!
— Да, господин.
— Принеси мне бумагу и перо.
Через мгновение перо быстро носилось по поверхности бумажного листа, оставляя уверенно стоящие буквы. Закончив послание, Олоннэ щедро присыпал его песком.
— Сейчас, Роже, ты отправишься в губернаторский дворец и отдашь сию бумагу его высокопревосходительству.
— Его высокопревосходительству? — с сомнением сказал негр.
— Около полугода назад господин губернатор сделал мне одно деловое предложение. Довольно выгодное. Тогда я счел необходимым от него отказаться. О причинах отказа мы говорить не будем. Существенно то, что теперь я это предложение решил принять.
Глава третья
Прочитав письмо капитана Олоннэ, господин де Левассер пришел в замешательство. Выше говорилось о причинах, по которым губернатору не следовало принимать в доме известного корсара. Но дело в том, что Олоннэ просил не о парадной аудиенции, а о деловой встрече. Деловые же контакты с этим человеком его высокопревосходительству были в высшей степени желанны. Он не придал никакого значения «штормовому предупреждению», ведь жертвою «вихря сошедшихся обстоятельств» может стать любой. Сам господин де Левассер в бытность свою искателем рискованных приключений тонул трижды, был покусан акулами, провел на необитаемом острове год, однако все это нисколько не помещало дальнейшей его карьере.
Губернатор догадывался, о чем именно пойдет речь во время этой деловой встречи. Конечно же о походе на Маракаибо. Олоннэ оставил свои маловразумительные фантазии и оценил прелесть, дерзость и баснословную выгодность этого плана. Это приятно.
Неприятно то, что оценил он его так поздно.
Господин де Левассер слегка отодвинул легкую кисейную занавеску и с некоторым неудовольствием посмотрел в парк.
Две человеческие фигурки неторопливо двигались по аллее, образованной подстриженными кустами лавровишни. Сейчас они свернут налево и направятся к розарию, а потом проследуют обратно, чтобы надолго остаться в беседке с видом на горные склоны, густо поросшие маншинеллой, антильским кедром, дубом и многочисленными разновидностями пальм.
Почему его высокопревосходительство так точно знал ближайшее будущее этой пары? Потому что эта пара всю последнюю неделю во время утренней прогулки вела себя именно так. Это общение чем-то напоминало работу часового механизма. Впрочем, господину де Левассеру такое сравнение не могло прийти в голову. Механический хронометр был изобретен всего за десять лет до описываемых событий и еще не успел стать привычной частью быта.
Тем более в Новом Свете.
Составляющими частями этой пары были Женевьева де Левассер и капитан Том Шарп.
Этот рыжеволосый ирландец после сравнительно удачного рейда против флотилии ловцов жемчуга зашел на Тортугу, чтобы с выгодой реализовать добытое. Помня о том споре, что произошел во время приема при дворе господина губернатора, капитан явился во дворец с зелеными жалюзи, чтобы получить объяснения или выслушать извинения.
Разговор у него с господином де Левассером получился не очень приятный. Губернатор не замедлил предъявить ирландскому джентльмену полученный от капитана Олоннэ серебряный кирпич, выкрашенный оловянной краской.
Капитан Шарп кирпич с интересом осмотрел, но наотрез отказался признать себя проигравшим спор.
— Почему?! — поразился господин де Левассер, для которого дело выглядело предельно ясным.
Ирландец привел свои аргументы. Он заявил, что счел бы себя безумцем, когда бы признал, что один кусок серебра — это то же самое, что корабль, груженный серебром. Он напомнил, что суть спора состояла в том, что господин Олоннэ обязуется притащить в гавань Тортуги именно корабль, а не один кирпич.
— Он привез не один, а четыре таких кирпича, — попытался возражать губернатор.
— В данной ситуации четыре — почти то же, что один. Четырьмя кусками корабль также не загрузить.
В самый разгар спора в кабинет отца зашла печальная Женевьева. Отец, почувствовав, что его убежденность в своей правоте начинает колебаться под напором ирландских аргументов, обратился к дочери в надежде на ее поддержку.
Женевьева выслушала аргументы капитана Шарпа, контраргументы отца и сказала, что, по всей видимости, гость ближе к истине.
И без того яркая голова капитана вспыхнула огнем самодовольства.
— Зря ты так удивляешься, папа. Ведь капитан Олоннэ мог украсть на приисках мешок серебра и переплавить его в кирпичи. Немного серой краски — и все убеждены, что он победил в споре.
— Так оно и было! — воскликнул ирландец. — Спасибо, мисс Женевьева, я вам так благодарен, вы восстановили мою поруганную честь.
— Для вашей чести было бы лучше, когда бы вы сделали это сами.
Капитан Шарп схватился за эфес шпаги.
— Убить его?! Сколько угодно раз. Надеюсь, ваше высокопревосходительство, теперь вы разрешите мне это сделать.
Господин де Левассер, смущенный поведением дочери, только пожал плечами.
— Я-то, может быть, и разрешу, но разрешит ли господин Олоннэ?
— Я и у него спрошу разрешение, клянусь святым Патриком, спрошу. Я пошлю к нему своих секундантов. Насколько я знаю, он сейчас на Тортуге.
Губернатор кивнул, озабоченно поджав губы:
— Да, он на Тортуге, но как-то отошел от дел.
— Ну, это смотря от каких, — продолжал бушевать и полыхать красной физиономией капитан Шарп. — Надеюсь, дело защиты своей жизни не покажется ему слишком скучным. Мисс Женевьева, вы поддерживаете мой замысел?
Женевьева едва заметно улыбнулась:
— Разумеется, капитан.
— Великолепно!
— Меня просто смущает стремительность, с которой вы рассчитываете его осуществить.
— Что вы имеете в виду, мисс? — заинтересовался ирландец.
— Это трудно объяснить так, на ходу, в двух словах. Приезжайте завтра к чаю. После чая мы погуляем с вами, и я подробно расскажу вам все, что я думаю по этому поводу. Приедете?
Капитан Шарп оказался не в состоянии ответить сразу. Его душила радость. Он не только был признан победителем в споре, воспоминания о котором столь мучили его, но, сверх того, мог стать официальным кавалером самой поразительной девушки Нового Света.
Господин де Левассер был убежден, что произошедшее — лишь минутная прихоть дочери, но оказалось, что все значительно серьезнее. Минута растянулась на неделю. Но этого мало, Женевьева начала выказывать свое расположение ирландцу не только на словах, но и на деле. В том смысле, что потребовала от отца, чтобы он открыл ему план налета на Маракаибо. Господин де Левассер сначала принял это требование в штыки, но потом, пораскинув мозгами, решил: а, пусть! Нельзя вечно ждать француза, пусть займется этим ирландец. Смерть не за горами, а ведь хочется своими глазами увидеть плоды любимых идей.
Капитан Шарп не профан в своем деле, не так, правда, везуч, как Олоннэ, но вместе с тем пасынком судьбы его тоже не назовешь. И главное, он, кажется, начинает нравиться его дочери. Если Бог приведет им пожениться, обе доли добычи останутся в семье.
Рыжеволосый пришел в восторг от предложения губернатора. Во-первых, сам план показался ему великолепным, сулящим громадные и почти гарантированные выгоды. Во-вторых, приглашение в нем участвовать очень походило на поощрение ухаживаний за его дочерью.
И вот, когда господин де Левассер уже смирился с тем, что события потекли по определенному руслу, приходит это письмо!
Нужно все-таки ему отказать во встрече, будет знать, как манкировать дружеским расположением такого человека, как губернатор Тортуги.
Решено: отказать!
Его высокопревосходительство взял в руки колокольчик и позвонил.
Явившемуся лакею он сказал:
— Констан, пошли кого-нибудь к капитану Олоннэ и передай, что я жду его сегодня вечером.
Что-то около этого времени в кабинет к отцу зашла Женевьева. Она несла с собою книгу, заложенную пальцем, и заявила, что хотела бы побыть в обществе батюшки, потому что одиночество ей опостылело.
В другое время господин де Левассер пришел бы в восторг от такого проявления родственных чувств, но тут его физиономия вытянулась.
— Знаешь, доченька… — начал он.
Женевьева подняла на него удивленные глаза:
— Что с вами, отец?
Господин де Левассер прокашлялся и подвигал пергаменты у себя на столе.
— А что, капитана Шарпа нынче не будет к обеду?
— Будет, но до обеда еще далеко.
— В самом деле? А я что-то проголодался. — Губернатор встревоженно посмотрел на входную дверь своего кабинета. Сейчас в любой момент может появиться Констан и объявить, что капитан Олоннэ явился.
— Ты чем-то очень озабочен, отец?
Господин де Левассер умел, но не любил врать.
— Знаешь, Женевьева…
— Ты хочешь, чтобы я ушла?
— Ненадолго.
Женевьева понимала, что ее отец является человеком, можно сказать, государственным и у него могут быть дела, о которых не должен знать никто, даже она, самый близкий ему человек. Женевьева встала и направилась к двери, через которую можно было попасть во внутренние покои дома.
Господин де Левассер уже вздохнул свободно, но она вдруг остановилась:
— А кого это вы ждете, папочка?
— Какое это имеет значение?
Гримаса болезненного подозрения исказила прекрасные черты девушки.
— Уж…
— Да, и тебе совершенно не следует с ним видеться. Поверь, поверь мне.
— Я верю вам всегда и во всем, но так уж и вы мне поверьте, что вам не следует его принимать. Что у вас может быть общего с этим омерзительным, кровавым насильником!
Губернатор вздохнул.
— Принимая его, вы унижаете и себя и меня. Если бы у меня была возможность, это развратное чудовище, это существо…
Противоположные двери кабинета бесшумно раскрылись.
На пороге стоял капитан Олоннэ.
Женевьева повернулась и вышла. Он все слышал, думала она. Что ж, тем лучше!
Господин де Левассер тоже был уверен, что обличительные слова его дочери дошли до слуха делового гостя. Что ж, тем лучше. Хотя губернатор и выглядел несколько смущенным, в глубине души он целиком и полностью был согласен со словами дочери. Слишком самоуверенному корсару не мешает знать, какого мнения держатся о нем порядочные люди. Ничего не нужно объяснять специально.
— Здравствуйте, господин де Левассер.
— Рад вас видеть, капитан.
Два церемонных полупоклона.
— Я принял вас…
— Хотя многие считают это опрометчивым поступком.
— Оставим это.
— Охотно.
Губернатор вернулся в свое кресло за письменным столом.
— Итак, к делу.
Олоннэ сел на стул с золоченой спинкой и положил ногу на ногу.
— Я буду краток. Некоторое время назад вы оказали мне честь, открыв свой план налета на Маракаибо.
Губернатор кивнул.
— Тогда, признаю, я совершил огромную глупость, отказавшись от вашего предложения; теперь бы я желал исправить свою ошибку. Вы понимаете меня ваше высокопревосходительство?
Горькая улыбка заиграла на губах господина де Левассера.
Он взял нож для разрезания бумаг и повертел в руках, посверкивая бриллиантами на его рукояти.
— Я понимаю, что оскорбил вас своим отказом тогда, но мне кажется, что есть дела, в которых можно переступить через обиды. Тем более что я приношу вам свои искренние извинения.
— Дело даже не в обидах. По крайней мере, в меньшей степени в них.
— А в чем же тогда? — В синих огнях под слившимися черными бровями загорелись холодные огни.
— Поздно, мой любезный друг.
— Поздно?!
— Да, — губернатор, не скрывая огорчения, кивнул, — у моего плана появился уже исполнитель.
— Кто же это? Впрочем, я догадываюсь. — Олоннэ саркастически улыбнулся. — Но он же…
— Болван? — спросил капитан Шарп, его облик как-то мгновенно утратил большую часть своих ярких красок.
— Болван, болван и еще раз болван! — решительно заявила Женевьева, с размаху швыряя свою книгу в виолончель. Этим движением она выразила недоверие сразу и музыкальному и письменному искусству.
— В чем же я болван? — Шарп выпучил глаза и огляделся, как бы действительно пытаясь выяснить «в чем».
— Да во всем! — был ему ответ.
Ирландец ощупал отвороты своего камзола, коснулся локонов, пожевал губами и заявил:
— У меня такое впечатление, что вы не рады меня видеть.
— Вы сверхъестественно догадливы.
Капитан осторожно приблизился к кушетке, на которой полулежала Женевьева, присел на краешек стула, восстановил положение виолончели. Она ответила ему жалобным, но благодарным дребезжанием своих струн.
— Могу ли я теперь считать, что отвергнут? — поинтересовался капитан. В глазах его был заметен самый настоящий испуг.
Женевьева пошарила рукой под кушеткой. Больше никакой книги под рукой не оказалось.
— Какие еще можно задавать вопросы после того, что вы от меня сейчас услышали, капитан?
— Вопросов как раз более чем достаточно. Одни только вопросы и остались.
— Ну вот, сами себе их задавайте и сами на них отвечайте.
— А вас уволить от этого?!
— Я уже говорила, что вы догадливы, не заставляйте меня повторять комплименты!
Капитан всерьез отнесся к предложению провести диалог с самим собой.
— Зачем вы завлекали меня? Чтобы посмеяться надо мной. Зачем ваш отец посвящал меня в свои планы? Чтобы сделать из меня болвана. Зачем…
Женевьева резко отвернулась к стене, послышались глухие рыдания.
Капитан Шарп осекся.
— Женевьева?! — осторожно позвал он.
— Уйдите, умоляю вас, уйдите! Разве вы не видите, что делаете мне больно!
Капитан встал, грудь его переполняли какие-то чувства, очень сильные и очень неопределенные.
— Женевьева, я только хочу сказать, что всегда… понимаете, всегда… я…
— Умоляю, уходите!
Кое-как поклонившись, ирландец удалился на подгибающихся от горя ногах.
Губернатор развел руками:
— Как бы то ни было, господин Олоннэ, мое, «нет» — окончательно. Признаюсь, я говорю эти слова с сожалением, но не сказать их не могу.
Капитан был заметно расстроен: поражения на этом фронте он не ждал.
— Мои сожаления, я думаю, превосходят ваши, но я, как и вы, дальнейшее обсуждение считаю излишним.
Оба встали.
— Я слышал о неприятностях, которые вас постигли, и если у вас…
Олоннэ неприступно улыбнулся:
— Оставим это.
— Как вам будет угодно.
Корсар поклонился и, придерживая шпагу, направился к выходу из кабинета.
— Капитан, — остановил его голос господина де Левассера, ставший вдруг удивительно неуверенным.
— Я вас слушаю, — ответил Олоннэ не оборачиваясь.
— Я хотел задать вам один вопрос.
— Задавайте. Несмотря на сегодняшний разговор, я всецело к вашим услугам.
Его высокопревосходительство покряхтел, стянул с головы парик и нервно растер лоб рукой.
— Вопрос, как бы это точнее выразиться, интимного свойства. Вы меня понимаете?
— Спрашивайте, ваше высокопревосходительство.
— Ну, хорошо. В тот день, в тот ужасный день Женевьева была в вашем доме?
Олоннэ медленно обернулся. Очень медленно. И за это время успел понять, что дочь не откровенничала с отцом на этот счет. Что у господина де Левассера есть сомнения по поводу того, что же в самом деле произошло тогда в доме корсара Олоннэ, и что сомнения эти жгут его.
— Эта история взошла на дрожжах распущенных в городе слухов. Самое интересное узнать, кем именно эти слухи были распущены.
— Так вы скажите мне прямо — была или не была?
— Была не была, скажу. Мадемуазель Женевьева не посещала меня в тот день.
— А…
— Ни в тот, ни в какой-либо другой.
По лицу губернатора побежали струйки благодарного пота, он облегченно задышал.
— Я знал, что вы благородный человек.
— К вашим услугам, — поклонился капитан.
— Теперь я знаю, что и разговоры о смерти этой проститутки тоже не имеют под собой никакого основания.
— Вы имеете в виду слухи о том, что она не покончила с собой, а была мной зарезана?
Его высокопревосходительство криво улыбнулся:
— Да, эти слухи я и имею в виду.
Олоннэ надел шляпу, открыл дверь.
— Знаете, господин де Левассер, я не ангел, мне приходилось убивать людей.
Губернатор развел пухлыми руками: что, мол, no-делаешь, таков мир.
— Но я против бессмысленного пролития крови. Если бы был смысл в убийстве этой проститутки, я бы сделал это. Например, если бы ее смерть могла выручить такого достойного человека, как вы. А теперь прощайте.
И он вышел.
Господин де Левассер долго стоял возле своего стола, обдумывая последние слова капитана, но так до конца и не понял, что именно тот хотел сказать. Заключена была в них какая-то темнота, и темнота эта была зловещего характера.
Капитан Олоннэ покидал дворец губернатора по парадной лестнице, капитан Шарп — по боковой, через дворцовый сад, но такова была архитектура губернаторской резиденции, что два по-разному отвергнутых корсара не могли не сойтись у ворот.
Сошлись.
Причем внезапно. Олоннэ, похрустывая розовым песочком, приближался к ажурной калитке, когда из боковой аллеи вылетел Шарп, полный неперекипевшей ярости и обиды.
Олоннэ сориентировался в ситуации быстрее:
— Рад вас видеть, дружище. Сам оловянных дел мастер передо мной. Я польщен.
Острота не бог весть какая, но, учитывая состояние ирландца, она произвела тот же эффект, что взорвавшаяся бочка пороха.
— А-а, — закричал он, вытаскивая шпагу, — это вы, господин обманщик! Защищайтесь!
— Вы уверены, что это лучший способ выяснения отношений?
— Не увиливайте, а то я решу, что вы не только обманщик, но и трус. Да защищайтесь же! Одно дело — выдать кусок переплавленного серебряного песка за испанский галион, груженный серебряными слитками, другое дело — скрестить клинки с человеком, который не привык отступать.
Шарп сделал такой яростный выпад, что Олоннэ пришлось отскочить в сторону. На лице его застыла гримаса, по которой было видно, что этот урок фехтования сейчас явно некстати.
— Послушайте…
— Еще одно слово — и я заколю вас.
С огромной неохотой Олоннэ вытащил шпагу. Зазвенела сталь. Шарп наседал или думал, что наседает. Ботфорты сражающихся подняли облако пыли. Из привратницкой выглядывали испуганные слуги.
Аккуратно отбивая удары ирландца, Олоннэ медленно отступал в глубь лавровишневой аллеи. Не под натиском противника, а лишь для того, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.
Шарп не был полным идиотом в фехтовальном деле, очень скоро, даже несмотря на свое бешеное возбуждение, он понял, что противник не желает по-настоящему сражаться. Ирландец вдруг остановился и, размазывая пот и пыль по красному лицу, спросил:
— Что с вами? Я не вижу в вас желания убить меня. Объясните, в чем дело!
Олоннэ облегченно опустил клинок.
— Если я вас убью, как я смогу с вами поговорить?
— О чем же вы желаете разговаривать?
— О делах, в высшей степени вас касающихся.
Капитан Шарп на мгновение задумался:
— Что ж, убить вас я всегда успею. Сделаю вам честь — выслушаю сначала.
— Я всегда считал, что вы умный человек, рад, что не ошибся.
— Хватит знаков вежливости, говорите!
— Не здесь же. Сейчас сюда прибегут стражники, слуги наверняка уже известили его высокопревосходительство. Хорошо ли мы будем выглядеть?
Ирландец огляделся и вставил шпагу в ножны.
— Пожалуй, вы правы. Уйдемте из этого цветника, поищем другое ристалище.
— Я знаю одно замечательное место.
И они оказались на втором этаже «Красной бочки», в отдельном кабинете, специально предназначенном для укромных переговоров. На столе мгновенно оказалась бутылка рому, свиные котлеты, блюдо с зеленью.
Капитан Шарп ни к чему и не подумал прикоснуться.
— К делу, — сказал он.
Олоннэ потянулся за бутылкой.
— Нет, нет, сначала объясните, что у вас была за причина к прекращению поединка. Надеюсь, она будет достаточно уважительной, иначе я сочту себя вдвойне оскорбленным.
Француз поднял руки, как бы желая сказать, что причина важнее некуда.
— Так не тяните.
— Я начну несколько издалека.
— С грехопадения нашего прародителя?
— Нет, точка отсчета ближе. Помните нашу первую встречу, во время обеда у губернатора?
Шарп усмехнулся:
— Она была не только первая, но и единственная. А сегодняшняя может стать последней.
— Мне бы очень не хотелось, чтобы так случилось.
Олоннэ все-таки налил себе и собеседнику рома.
— Сейчас я вам объясню, почему затеял с вами ссору тогда. Я вам позавидовал. Да, да, не удивляйтесь. Я увидел, какими глазами смотрела на вас мадемуазель Женевьева. Вы были герой, вы были великолепны. И в сердце моем зашевелилось темное чувство. Я должен был любым способом нарушить ваше триумфальное вторжение в ее сердце, никакого другого пути для этого, кроме того, что я избрал, у меня не было. Сейчас, хотя, наверное, слишком поздно, я прошу у вас прощения.
Беседа свернула в столь неожиданную сторону, что ирландец растерялся. Он еще не перестал ненавидеть этого синеглазого дьявола, но ему уже захотелось, чтобы он был прав.
— Выпьем, — предложил Олоннэ.
Поскольку ничем другим Шарп не мог проявить свое зарождающееся дружелюбие, он торопливо поднял бокал. Ром ринулся по жилам.
— Я придумал невероятную басню, которую нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть, тем самым поставил под сомнение ваш подвиг.
— Ну уж подвиг.
Олоннэ понял, что пересаливает. Надо или тоньше льстить, или больше выпить.
— Своим хитрым ходом я многого достиг. Чтобы разрешить как-то наш спор, господин де Левассер вынужден был одолжить мне денег на подготовку корабля. Дальше — некоторое стечение обстоятельств, немного храбрости и сметки, и я сделался богат.
Теперь Шарп наполнил бокалы.
— Да, вы добились многого.
— Я сделался не только богат, но и знаменит.
— И в этом пункте не стану с вами спорить.
— Зачем спорить, когда можно выпить.
— Рому.
Капитан Шарп выпил и помотал головой.
— Но что с того, — очень аффектированно вздохнул Олоннэ, — я ведь все равно несчастен.
— Почему?
— И деньги и слава — вещи слишком ненадежные. Я тому ярчайший пример. Теперь я разорен, а репутация моя сильно подмочена.
— Все, что вы говорите, — чистая правда, — с чувством сказал пьяный ирландец.
— Но не о деньгах и даже не о славе я жалею. Я жалею о том, что совершил тот подлый поступок, о том, что зря вас обвинил в глупости.
— Зря-а.
— Ведь она все равно осталась ко мне холодна.
— Кто?! — В лице Шарпа проявилась попытка понять, что ему говорят.
— Кто она? Вы еще спрашиваете! Мадемуазель Женевьева. О чем я вам толкую уже битый час.
Рыжий капитан откинулся на спинку своего массивного деревянного стула и удивленно открыл рот. Если бы напротив него сидел современный дантист, он пришел бы в ужас от состояния его зубов.
— И вы тоже, Олоннэ?
— Что вы имеете в виду под словом «тоже»?
— Тоже влюблены в мадемуазель Женевьеву?
Олоннэ горько покачал головой:
— Да. Страстно, безнадежно, но, в отличие от вас, без надежды на взаимность.
Рот Шарпа медленно, как створки раковины, закрылся. Свет понимания в его глазах сменился тусклым тлением тоски.
— Взаимность? Какая там взаимность! Она только что выставила меня вон. Без объяснений. Целую неделю мы ворковали, как голубки, я выполнял все ее прихоти, даже совершенно дикие. Вообразите, я стихи наизусть учил.
Зачем мне сердце грустью своей томишь?
Немило то ни вышним богам, ни мне,
Чтоб жизнь вперед меня ты кончил.
Ты моя гордость, краса, оплот мой!
Но если б раньше смерть унесла тебя,
Моей души часть, с частью другой зачем -
Себе мил, уже калека -
Медлить я стал бы?
— Не стал бы, — подтвердил собеседник.
— Этот Гораций из меня все жилы вытянул!
Владелец трактира, принесший вторую бутылку рома, не знал, что и думать. Два свирепых корсара, о которых было известно, что при первой встрече они сойдутся в смертельной схватке, сидят почти в обнимку и читают стишки.
— Гораций — это, конечно, страшно, ничего не могу сказать. Но вот тот факт, что она выгнала вас без причины, вспылила, накричала, — это обнадеживающий факт.
— Мне так не кажется.
— Верьте мне. Женщина не выгоняет только тех, к кому она равнодушна. Вот у меня с ней отношения абсолютно ровные. Я ее обожаю, она меня презирает.
— Это неприятно.
— Еще бы. А все эти вспышки, слезы, обвинения — оборотная сторона объятий и поцелуев.
— Очень хочется верить.
— Хочется? Верьте. Может быть, вы сами виноваты в ее капризах.
— Каким это образом? Все выполнял, все, вон даже Горация учил, куда уж дальше.
— Надо выполнять не то, что женщина требует, а то, что она хочет. Требовать она может хоть Горация, хоть звезду с неба, а желать при этом жарких объятий и зверских поцелуев.
Шарп задумчиво выпил полный стакан рома.
— Пожалуй, имеет смысл вам поверить. Ходит о вас молва, что вы большой специалист по части женской души. И даже тела. Завтра же наброшусь на нее в парке.
Олоннэ предупреждающе поднял руку:
— Не спешите, так можно все испортить. На таких девушек, как мадемуазель Женевьева, грубые приемы могут оказать и обратное действие.
— Так что делать? — почти заныл Шарп.
Собеседник сделал вид, что задумался, потом сказал как бы сквозь задумчивость:
— Сейчас, несмотря на всю ее тягу к вам, положение ваше почти безвыходное.
— Я завтра…
— Могу спорить, что, если вы завтра к ней явитесь, она вас даже не примет. Но у меня есть способ вам помочь.
Несчастный влюбленный затравленно поглядел на человека, навязывающегося в спасителя:
— Насколько я понимаю, вы предлагаете помощь.
— Несмотря на весь выпитый ром, вы не утратили способности соображать.
— Хорош бы я был на своем месте, когда бы терял голову от рома.
— Пожалуй, верно, — усмехнулся Олоннэ.
— Говорите ваше условие.
— Оно простое: вы разделите со мной командование в походе на Маракаибо.
Капитан Шарп некоторое время молчал. Он обдумывал сказанное. Сразу с нескольких точек зрения.
— Вы мне кажетесь умным человеком, господин Олоннэ. Хоть и несчастным. Как же вы могли рассчитывать, что я соглашусь на такое условие? Зачем мне делиться с вами половиной маракаибских богатств? Так или иначе я найду подход к мадемуазель Женевьеве, ведь, в конце концов, любит она меня, а не вас.
— Вас, вас.
— Вы говорите так, будто знаете что-то такое, чего не знаю я.
Олоннэ встал:
— Итак, вы не согласились?
— Разумеется, нет.
— Тогда позвольте откланяться. И пожелать успеха в обоих делах — и в ограблении Маракаибо, и в покорении мадемуазель Женевьевы.
Капитан Шарп остался сидеть за столом в пьяной, а значит, особенно мучительной растерянности.
Придя к себе домой, Олоннэ потребовал у Роже перо и бумагу. Быстро набросал короткое письмо.
— Отнесешь в губернаторский дворец.
— Кому?
— Мадемуазель Женевьеве. И постарайся, чтобы оно попало к ней незаметно.
Роже поскреб пальцами седые кудри. Задание было не из самых простых.
Текст письма не является секретным. Есть даже возможность привести его полностью:
«Умоляю о встрече. О. «.
Глава четвертая
В разгар полуденного зноя политый потом и присыпанный белой пылью ирландец явился все-таки за помощью к французу, блаженствовавшему в прохладном полумраке своего дома.
Капитан Шарп был человеком прямым, он не любил увиливать и притворяться.
— Вы оказались правы, Олоннэ.
В ответ на это хозяин дома предложил гостю охлажденного, насколько это было возможно, отвара из листьев винной пальмы.
— Вчера вы пили ром, сегодня нужно пить это.
Ирландец с отвращением покосился на придвигаемую к нему чашу.
— Вы скажите лучше, ваше прежнее предложение остается в силе?
— Да. Если делите со мной командование в этом походе, то еще до отплытия я сделаю вас мужем мадемуазель Женевьевы.
— По рукам.
— Тогда садитесь и пишите.
— Что?
— Письмо его высокопревосходительству. Письмо это должно содержать ваше желание, нет — требование, чтобы мне наравне с вами было предоставлено право руководить походом на Маракаибо.
— Давайте бумагу.
— Роже!
Негр стоял за дверью с деревянным подносом, на котором лежали все необходимые письменные принадлежности, и появился мгновенно.
— Какое счастье, что вы грамотны, — сказал Олоннэ, когда капитан Шарп уселся к столу.
— Что вы имеете в виду?
— Что возникли бы дополнительные трудности на пути к нашей общей цели.
— Оставим это. Диктуйте!
Когда соответствующее послание было отправлено в губернаторский дворец, Олоннэ сказал:
— Это не все.
— Говорите, что нужно делать. Я вступил на этот путь и, значит, пойду по нему до конца.
— Сейчас вы отправитесь на свой корабль.
— Я и так собирался это сделать.
— И переименуете его.
— Пере… не понимаю.
— На борту вашего корабля должно быть написано «Месть». Название «Эвеланж» придется соскоблить. Временно. И не будем далее это обсуждать.
Капитан Шарп погрыз кончик пера, которым только что написал письмо губернатору.
— Насколько я понимаю, это не последнее ваше пожелание, да?
— Вы приведете в порядок кормовую каюту.
— В какой порядок?
— Я знаю, что такое кормовая каюта на корсарском корабле, она должна превратиться в место, где можно принять девушку из приличной семьи.
— По-ни-ма-а-ю.
— Понимайте быстрее. Все должно быть готово к сегодняшнему вечеру. И последнее. У вас есть на судне человек, который бы прилично говорил по-французски?
— Я, например.
Олоннэ раздраженно поморщился:
— Вы не годитесь. Найдите другого умеющего. Впрочем, нет, у меня появилась хорошая мысль. Роже!
Негр вновь явился почти мгновенно:
— Слушаю, господин.
— Ты лично передавал письмо мадемуазель Женевьеве?
— Из рук в руки.
— Это хорошо. Вы возьмете его с собой, капитан.
— Зачем мне ваш слуга, у меня есть свой. И потом, что это за письмо, которое…
— Вы задаете вопросы, ответ на которые не приблизит вас к заветной цели.
Ирландец обиженно закряхтел, хотел было вспылить, но передумал.
— Собирайся, Роже, ты отправишься с капитаном Шарпом. Когда явится мадемуазель Женевьева, ты встретишь ее и проводишь в кормовую каюту. Понял?
— Понял.
— Надень свой парадный сюртук. Все! С этой частью дела мы закончили. Отправляйтесь.
Капитан Шарп отложил перо, взял со стола свою роскошно украшенную перьями шляпу и направился к выходу. Стоя в дверях, спросил:
— А кому, собственно, будет мстить эта «Месть»?
— Очень скоро вы все поймете. Да, я забыл сказать главное. Как только мадемуазель Женевьева окажется на борту корабля, вы, Шарп, немедленно выходите в море и останавливаетесь на рейде.
Сумерки. Глухой закоулок сада. Отчаянно пахнут туберозы. Сталкиваются в воздухе трели цикад. Звезды наливаются соком. За стеной подстриженных кустов легкие, торопливые шаги.
— Я здесь, — чуть слышно сказал Олоннэ.
Шаги замерли. Пришлось двинуться к ним навстречу и обойти башню молодого кипариса. Вот и Женевьева.
Она стояла неподвижно, сложив руки на груди. Глаз не видно.
— Это вы? — спросила она.
— Это я, — сказал он.
— Что вам нужно от меня?
— Всего лишь сказать несколько слов.
— Вы же знаете, что я вам не поверю.
— Знаю. И знаю почему. Вы считаете меня омерзительным чудовищем, негодяем, подонком и…
— И этого достаточно.
— Вот в этом разница между нами.
— Какая разница?
— Вы способны иронизировать, а я ко всему отношусь слишком серьезно. Слишком.
— Что с вами, вы сегодня слишком не похожи на себя.
— Чтобы проводить такие сравнения, нужно очень хорошо знать человека.
— О да, вы правы. Ведь вы столь загадочны, капитан Олоннэ. Имя ваше окутано облаком тайны. Никто не знает, откуда вы пришли и кто вы такой на самом деле. Испанцы вас боятся, отец мой вас обожает, женщины бредят вами и кончают жизнь самоубийством в ваших объятиях…
— Женевьева, — тихо сказал Олоннэ.
Она замерла, таким необычным, таким проникновенным был этот голос.
— Женевьева!
— Что? — ответила она, с трудом преодолев спазм в горле.
— Я вас люблю.
Обрушилось молчание. Опять на первый план выступили цикады и горькорыдающий запах тубероз.
— С того самого мига, как вас увидел. Ссору с этим рыжим ирландцем я затеял только потому, что мне показалось, что вы посмотрели на него благосклонно. Как я только его не убил в тот день! И вся моя дальнейшая жизнь — лишь попытка приблизиться к вам, что бы вы ни думали по этому поводу.
— Может быть, я и поверила бы вам, не будь того злосчастного эпизода… Я ведь сама явилась к вам, сама приблизилась, что же вам помешало… — Дыхание девушки зашлось, она никак не могла набрать воздуха в грудь.
Олоннэ всплеснул в отчаянии руками и сделал шаг навстречу Женевьеве. Она отступила.
— Как вы не понимаете: это была ловушка!
— Ловушка?
— Разумеется, разве вы не слышали рассказов о том, что произошло потом возле моего дома? Там собралась толпа. Спрашивается, кто ее привел? Заклинаю вас всеми святыми, взгляните на это дело объективно. Кто-то из ваших домочадцев или слуг проследил за вами и дал знать влиятельному недоброжелателю господина де Левассера, что его дочь находится в доме кровавого корсара, бывшего буканьера. Этот недоброжелатель не мог упустить подобный случай. Он собрал толпу остервенелых католиков и направил к моему дому. Этому человеку очень нужно было подорвать репутацию вашего отца, и это бы ему удалось, если бы я не повел себя так, как я себя повел. Понимаете? Спасая отца, я нанес рану дочери.
— Какое-то очень сложное объяснение.
— Зато единственное. Я был как в горячке, мне нужно было в считанные минуты придумать способ спасения. Только потом, когда все кончилось, я понял, как оскорбил вас.
— И не попытались объясниться!
— Я знал, что вы мне не поверите.
— Я и сейчас не склонна верить.
— Вот видите, а тогда, когда еще не затянулась рана обиды, на что я мог рассчитывать? Я решил уйти в море в надежде, что время остудит пламя вспыхнувшей ненависти. Но я ошибся. Я понял, что проиграл, что собственными руками сломал свою судьбу, истребил свое счастье. Я впал в отчаяние, и даже корсарское счастье отвернулось от меня.
— Что же вас заставило сегодня написать мне?
Олоннэ опустил голову. Он боялся, что даже в ночи хищный блеск синих глаз выдаст его.
— Я понял, что теряю вас. В городе так много говорили о вас и капитане Шарпе…
Женевьева улыбнулась, ей приятно было осознавать, что она все рассчитала верно, приятно было считать себя победительницей.
— И тогда я решил совершить последнюю попытку. Знаю, что шансов у меня нет, но я никогда бы себе не простил, если бы не попытался.
Снова в наступившей тишине зазвучали цикады.
Бледно-огненный край луны появился над «панцирем Черепахи», как еще называли Тортугу.
Легкий порыв ветра явился в ночной сад; испуганно зашелестела лавровишневая аллея.
— А если я соглашусь? — спросила Женевьева чужим от сумасшедшего волнения голосом.
Олоннэ поднял голову, но не открыл глаза.
— Что же вы молчите? Или вы опять начнете спасать репутацию моего отца?!
— Я переживаю мгновения счастья. Вряд ли когда-нибудь в жизни мне предстоит что-нибудь подобное.
— Так вы…
— Да, я предлагаю вам бежать со мной.
— Бежать?
— И прямо сейчас. Вас что-то смущает?
— Сказать по правде… Но зачем именно бежать, не лучше ли пойти к моему отцу и все ему рассказать?
— Этим мы все погубим.
— Откуда вы знаете?
— Я уже обращался к нему, он указал мне на дверь. Теперь, стоит вам заикнуться о нашей любви, он запрет вас на замок, а потом насильно выдаст замуж за ирландца.
— Папа никогда так со мной не поступит.
— Возможно, вы знаете своего отца лучше, чем я, но в любом случае — стоит ли рисковать? Когда вы будете у меня на корабле, ему некуда будет отступать, даже если бы он и захотел.
— У вас же нет корабля!
— До вчерашнего дня не было. Теперь есть. И называется он «Месть».
— Какое странное название!
— После того что испанские собаки сделали с экипажем моего прежнего корабля, это название самое уместное. Но я чувствую, Женевьева, вас что-то смущает.
— Н-нет, — с некоторым усилием сказала девушка.
— Тогда все просто. Сейчас вы вернетесь в дом, возьмете с собой самые необходимые вещи и с верной служанкой отправитесь в гавань. Вы легко найдете мой корабль, он стоит у основного пирса. Вас встретит мой слуга Роже.
— Я все поняла. Но мой отец… может быть, мне оставить ему записку?
Олоннэ на мгновение замялся:
— Очень короткую. Напишите, что просите у него прощения, и все. Никаких имен и прочего, вы меня понимаете?
Олоннэ подошел к девушке вплотную и осторожно взял за руки.
— Понимаю, — тихо ответила она.
Медленно наклонившись, капитан поцеловал дочь губернатора в теплые губы.
— А эта девушка…
— Какая девушка?
— Шика. Вы очень любили ее?
Олоннэ снова поцеловал Женевьеву.
— Я совсем ее не любил. Это она любила меня. В тот день я к ней даже не прикоснулся. Я предпочел ее убить, но не изменить своей любви.
Голова Женевьевы шла кругом, ее и пугало то, что говорил этот человек, и льстило ей. В состоянии легкой, приятной горячки она отправилась готовиться к побегу.
Глава пятая
Приступ ярости у господина де Левассера уже прошел, унеся с собою все силы. Губернатор сидел в крайне неудобной позе в кресле и тупо смотрел перед собой. Он был без парика, без камзола, в расстегнутой рубахе и рассеянно теребил пальцами седую шерсть у себя на груди.
В таком состоянии застал его Олоннэ, войдя в кабинет. Губернатор неприязненно посмотрел на него, его горю не нужны были свидетели. К тому же он еще не решил, как себя вести в этой ситуации. Еще слишком свежи были в памяти унижения, пережитые им во время предыдущего — мнимого — бегства Женевьевы. Может быть, и сегодняшняя выходка — всего лишь шутка из того же разряда.
— Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, что осмеливаюсь… — осторожно начал гость, предупредительно при этом кланяясь.
— Ну, раз осмелились, так продолжайте.
— Дело в том, что мне все известно.
— Что именно, черт побери!
— Что мадемуазель Женевьева и капитан Шарп…
— А откуда вам это известно?! Вас что, тоже известили письменно?!
— Вот по поводу источника я и пришел с вами поговорить. Если принять надлежащие меры, то наверняка удастся избежать ненужной огласки. Надо представить все не как бегство, а как заранее запланированную и согласованную с вами прогулку, вы меня понимаете?
— Вас-то я понимаю, я не понимаю Женевьеву, это меня и мучает больше всего. Я и так был согласен на этот брак. Раз у них все так славно складывается — пусть! Но зачем было убегать?!
Олоннэ пожал плечами:
— Может быть, она все же боялась, что вы ей откажете.
— Но ведь она могла со мной поговорить, а она мне не сказала ни слова! Она не знала, что я не против, но могла бы спросить.
— Да, странно.
— Более чем. И этот рыжий негодяй, его действия для меня вообще загадка. Он не мог не видеть, что я отношусь к нему благосклонно, почти по-отечески, я доверил ему план похода на Маракаибо. Какие ему еще были нужны доказательства моего расположения? Кретин! Дверь открыта настежь, но в нее все равно нужно вломиться!
Губернатор снова принялся расцарапывать свою грудь, преодолевая приступы удушья.
Олоннэ поправил перевязь, на которой держалась его шпага, и сел поудобнее.
— Но, взглянув на это непредвзятым, не отцовским, так сказать, глазом, нельзя не заметить, что все устроилось самым удачным образом.
— Что? — болезненно и недоуменно искривилась физиономия губернатора.
— Молодой человек и девушка страстно влюблены друг в друга, родители в принципе не склонны препятствовать их браку. Они воссоединяются. Что тут плохого? Правда, делают они это способом, вызывающим определенные нарекания. Но не следует ли им это простить?
Господин де Левассер, нахмурившись, задумался и потом вдруг саркастически усмехнулся:
— Мне казалось, что вы-то как раз должны были бы быть огорчены случившимся.
— Я…
— А вы проявляете столько великодушия, что это вызывает подозрения. Впрочем, объяснение, кажется, есть.
Губернатор взял со стола лист бумаги.
— Вот это письмо. Ирландец просит включить вас в экспедицию, даже частью власти готов поделиться. Как я понимаю, вы продали мою дочь ему в обмен на это право.
Олоннэ резко встал:
— Не говоря уже о том, что данное предположение для меня оскорбительно, оно не имеет под собой никаких оснований. Как я мог «продать» то, что мне не принадлежит? Вы сами имели честь наблюдать, как относится ко мне мадемуазель Женевьева.
— Почему же он тогда ходатайствует о вас? — Губернатор потряс письмом в воздухе.
— Я просто убедил его, что одному ему не справиться.
Увлекшийся было разговором господин де Левассер снова опал в кресле.
— Шарп жаден, как и все вы, не думаю, что есть на свете слова, при помощи которых его можно уговорить добровольно отказаться от половины добычи. Но это сейчас меня мало интересует.
— Извините, ваше высокопревосходительство, но я все еще жду.
— Чего это вы ждете?
— Когда вы спросите меня, откуда я знаю то, что я знаю.
— Ну и?..
— Мне все рассказал падре Аттарезе.
— Эта старая ехидная лиса! Как же, во-первых, он мог узнать? А кроме того, я не верю, что такой человек может проговориться. Да и где вы с ним могли увидеться, капитан?
— В церкви. Я католик, как вам известно.
— Ничего мне не известно.
— Сегодня, явившись в храм — иногда даже у меня возникает в этом потребность, — я заметил там несомненное оживление и определенного рода суету.
Губернатор, не скрываясь, зевнул:
— И что?
— Я расспросил служек и узнал от них, что идет подготовка к очень пышному венчанию. Замуж готовится выйти девушка из самого благородного семейства. Она, правда, протестантка, но, как говорится, Париж стоит мессы!
— Какой еще Париж! — махнул рукой его высокопревосходительство, но тут же на его лице появилось озабоченное выражение.
— А капитан Шарп, между прочим, тоже католик.
В глазах губернатора загорелись тревожные огоньки, он зашевелился в кресле, как будто оно внезапно стало неудобным.
— Так вы хотите сказать, что они бежали только потому, что желают венчаться по римскому обряду?
— Я ничего не хочу сказать, кроме того, что уже сказал. А к падре Аттарезе неплохо бы присмотреться повнимательнее. Насколько я могу судить, он скрытно, осторожно, но весьма упорно противодействует вам на Тортуге. Католиков на острове большинство, и духовную власть над ними имеет именно он. Пока все спокойно в Старом Свете, тихо и у нас. Но стоит открыться военным действиям, он сможет принести немалый вред, ибо в глубине души не может не сочувствовать своим единоверцам, плавающим под пурпурно-золотым католическим флагом короля Испании. Он больше, чем кто-либо другой, заинтересован в том, чтобы внести раскол в семью губернатора Тортуги. Он лишит вас дочери, причем под самым благовидным предлогом. А все знают, что для вас Женевьева.
— То, что вы говорите, капитан, сильно смахивает на горячечный бред, но вдруг вы правы?
— Надо что-то предпринять.
— Что? По вашему лицу я вижу — кое-какие мысли у вас уже есть.
— Надобно пресечь его вредоносную деятельность на нашем острове.
— Как же это сделать, ведь ничего не доказано на что я могу опираться, кроме ваших слов?
— Доказательства я вам добуду. Неопровержимые. А пока следует помешать ему в том деле, что он наметил на самое ближайшее время. То есть бракосочетанию мадемуазель Женевьевы с капитаном Шарпом. В данном случае протестантский храм предпочтительнее католического. Я думаю, что ирландец достаточно разумен, чтобы согласиться с этим утверждением. Причем хлопоты по этому делу я готов принять на себя. Я немедленно отправлюсь на встречу с падре Аттарезе. Если вы, конечно, дадите мне такое повеление.
— Повеление-то я вам дам, но в вашем тоне отчетливо звучит претензия на что-то большее.
— Ваша проницательность всегда восхищала меня. Для того чтобы результативно шантажировать этого хитрого и лукавого человека, мне потребуется письмо от вас.
— Что еще за письмо?
— Просто бумага с вашим личным губернаторским вензелем, а в бумаге будет написано, что мне предоставляются особые полномочия для расследования некоего дела, имеющего государственное значение. Можете не опасаться, во вред вам или Франции, Боже упаси, я эту бумагу не употреблю. Более того, я немедленно верну ее вам, как только моя миссия будет окончена.
Губернатор позвонил в колокольчик и велел лакею принести бумагу и перо.
— Как, вы говорите, должен выглядеть этот текст?
Падре Аттарезе поливал герани, украшавшие подоконник большого сводчатого окна в его комнате. Увидев капитана Олоннэ, неторопливо приближающегося к дому, он расстроился. Вид закоренелого грешника, входящего под церковные своды, должен был бы обрадовать пастыря, но не обрадовал. Тем не менее он встретил его самым любезным выражением, которое мог сообщить своей острой сморщенной физиономии.
Служка внес на серебряном подносе две чашки дымящегося шоколада и тонкогорлый кувшин с ключевой водой.
— Так пьют шоколад испанцы, — заметил Олоннэ, занимая предложенное кресло.
Хотя в этой фразе не было ничего, казалось бы, особенного, падре почувствовал резь в желудке.
— Испанцы научились этому обычаю у мавров, — зачем-то стал оправдываться старик и тут же мысленно выругал себя за это.
Олоннэ широко улыбнулся:
— Пусть так, во всяком случае, я явился сюда не для того, чтобы дискутировать на кулинарные темы.
— А какие темы вы собираетесь подвергнуть дискуссионному исследованию?
Капитан отхлебнул шоколада:
— Горячий.
— Можно подождать, пока остынет, — тихо заметил старик. Резь в желудке все усиливалась.
— Не будем мы ничего ждать, нет у нас вечности в запасе. Я вам сейчас расскажу о кое-каких своих наблюдениях, а мы потом вместе обсудим, что нам делать дальше.
Падре с трудом собрался с силами и глухо пробормотал:
— Ну что ж, попробуем.
— По моему разумению, падре, вы шпион. Разумеется, шпион испанский. Ибо никаких других здесь быть просто-напросто не может.
Падре усмехнулся; хотел иронически, но получилось как-то саморазоблачительно:
— Бред!
— Сами знаете, что нет. Я долго за вами наблюдаю. Вы человек умный и хитрый, сами вы ничего не предпринимаете лично. У вас много помощников. Я разглядел. Они не так хитры и скрытны, как вы, кроме того, они вынуждены что-то делать, а значит, как-то себя обнаруживать.
— Это все общие слова. С таким же успехом вы смогли бы обвинить в шпионаже любого другого человека на острове.
Олоннэ снова попробовал отхлебнуть шоколада:
— Все еще горячий.
— Наберите сначала в рот немного холодной воды, а потом осторожно отхлебывайте.
— Если я наберу воды, мне трудно будет разговаривать. Итак, вы говорите, что мои подозрения беспочвенны?
— Более чем.
— Ладно, я назову вам несколько имен. Леконтель, рыботорговец. Мишо, работорговец, большой негодяй и весьма уважаемый прихожанин. Гужо…
Падре тоже взял в руки чашку, но ему было явно не до шоколада.
— Можно называть любые имена, но…
— Шика.
— Проститутка, причем мертвая, господин Олоннэ. Кроме того, есть все основания подозревать, что она умерла не своей смертью.
Аттарезе думал, что нашел способ перейти в контратаку, но он глубоко ошибался.
— Вы намекаете, что я ее убил?
— Намекаю.
— Вы правы, я это сделал, мне пришлось это сделать, чтобы спасти честь одной молодой особы из хорошей семьи. Но интересно не то, от чего умерла эта мужелюбивая дура. Занимательно то, что она сказала мне перед смертью. Вы, наверное, уже позабыли, что такое женщина в постели, а я вам напомню: то, что она способна скрывать под воздействием самой жестокой пытки, она легко выдает, оказавшись в волнах страсти. Вы меня понимаете?
Падре молчал, раздувая бледные ноздри.
— После того что она мне поведала, у меня словно глаза открылись. Все мелкие наблюдения и подозрения слились в одну живую, логичную картину.
— Вы можете говорить все что угодно, вам все равно ничего не доказать.
Олоннэ встал, потянулся, несколько раз присел, разминая ноги.
— Ну вот, главное состоялось.
— Что вы там болтаете, господин капитан?!
— Вы ведь только что признались, что мои подозрения справедливы.
Падре заставил себя глотнуть шоколаду, а потом и допить всю чашку.
— Считаете, что проговорился? Считайте. Но, видит Бог, вам все равно ничего не доказать. Слова и живой шлюхи стоят недорого, а уж мертвой…
— Считаете себя неуязвимым? Напрасно. Взгляните на эту бумагу.
Сеньор Аттарезе взглянул. У него прошла резь в желудке, он вообще перестал чувствовать свое тело. Нечем было дышать, и на некоторое время утратилась способность думать.
— Сегодня же я отдам распоряжение, и господа Леконтель, Мишо и некоторые другие будут арестованы. К завтрашнему утру они расскажут все, что знают, и даже то, чего не знают. Что будет дальше, как вы думаете?
— У меня посинели губы? — спросил вдруг падре.
— Посинели.
— Это сердечный припадок. — Глаза падре закрылись, он делал носом очень частые и мелкие вдохи.
— Я пошлю за врачом.
— На Тортуге врачи мрут как мухи.
— Чем я вам могу помочь?
— Ничем. Я даже не прошу, чтобы вы за меня помолились, потому что от вашей молитвы…
Падре перестал говорить, на лице его выступил обильный пот.
— Подайте мне кувшин.
Старик выпил единым махом всю находившуюся в кувшине воду. Ему явно стало легче. И он сам это подтвердил:
— Кажется, умру я не сегодня. Вот было бы забавно, когда бы я скончался у вас на руках. Какой бы от меня был вам тогда толк?
— Это верно.
— А что касается арестов разных там рыботорговцев и работорговцев, то ведь вы ничего этого не сделаете. Вы просто пришли меня попугать, а потом с запуганным поторговаться, правильно?
Олоннэ с интересом посмотрел на старика:
— Но если мы не договоримся, я вас не пощажу.
— До-го-во-ри-имся.
— Вот и славно. С таким сердцем, как у вас, лучше держаться подальше от тюремных подвалов. Мне от вас нужно совсем немногое. Максимум через месяц мы с капитаном Шарпом выступим в один очень и очень большой поход. Полдюжины, как минимум, кораблей, тысяча корсаров. Но согласитесь, что командовать должен кто-то один. Если хочешь погубить флот, назначь двоих адмиралов.
— Мне лестно, что вы делитесь со мною столь ценными наблюдениями, но в чем моя роль?
— Вы напишете своему испанскому другу, мне кажется, что им является дон Антонио де Кавехенья, угадал? Так вот, вы напишете ему и сообщите о планах корсарского похода. Я сообщу вам, где и когда мои корабли разделятся с кораблями капитана Шарпа. Вы то же самое сообщите дону Антонио. Я думаю, он сообразит, что ему делать.
Падре Аттарезе тщательно вытирал кружевным платком мокрые лоб, щеки, шею.
— Чтобы подвигнуть человека на такой поступок, по-моему, мало одного желания стать единоличным начальником во время какого-то похода. Вы за что-то ненавидите капитана Шарпа? А может, тут что-то еще?
Олоннэ встал:
— Вы проницательны сверх всякой меры. Я сообщу вам о дополнительной причине, побуждающей меня замышлять то, что я замышляю. Но сообщу только после того, как вы согласитесь мне помогать.
Старик усмехнулся:
— Что мне остается делать!
— Будем считать эти слова знаком согласия. Капитан Шарп оказался удачливее на том фронте, поражение на котором я простить не могу никому и никогда. Если вы выйдете на набережную, то увидите на рейде большой корабль — это «Эвеланж», и на борту этого корабля находится девушка, ради которой я был готов на все. Теперь вы меня до конца поняли?
— Мадемуазель Женевьева?
— Прощайте.
Глава шестая
Господин де Левассер был непреклонен: он отказался выслушивать объяснения Женевьевы. Только немедленная свадьба могла положить конец сплетням и слухам, которые захлестнули остров. Впрочем, дочь губернатора не слишком протестовала против уготованной ей судьбы. Она находилась как бы в полусонном состоянии, не замечала людей, пытавшихся с ней заговорить, а если отвечала, то, как правило, невпопад. Окружающие диву давались — что с ней произошло? Эта тихая рассеянная девушка слишком уж не походила на то веселое, озорное, остроумное существо, каким она была всего несколько месяцев назад.
Неужели так действует близость семейного счастья?
Капитан Шарп относился к тому типу мужчин, которые не просто плохо разбираются в женщинах, но и не желают этого уметь. Рассеянность? Вялость? Потухшие глаза? Пройдет! Просто слишком много переживаний в последние дни. Странно вела себя во время пребывания на борту «Эвеланжа»? Нервы.
Кроме того, у Шарпа было полно дел. Оснащение эскадры шло полным ходом. Восемь судов были назначены для нее. Два должны были считаться флагманскими. Тридцатипушечный «Эвеланж» и двадцативосьмипушечный барк «Месть». Согласно договоренности капитанов, «Месть» стал флагманским кораблем Олоннэ, в то время как Шарп перешел на борт нового тридцатипушечного фрегата, подаренного ему будущим тестем и снова названного «Эвеланж». В подчинении у Олоннэ были «Гренуй», трофейный испанский галион, вооруженный двадцатью четырьмя пушками, — мощное, но несколько неповоротливое судно. Капитаном его стал ле Пикар, за него проголосовало большинство корсаров на общем собрании команды. Присоединился к своему старому другу и Ибервиль. Его двенадцатипушечный барк особой угрозы для врага не представлял, но как вспомогательное судно вполне мог сгодиться. Со дня на день должен был прибыть еще один корабль из Кюрасао. Личная собственность господина де Левассера. Считалось, что на его мостик должен подняться Воклен. Авторитет его среди представителей «берегового братства» был достаточно высок. Олоннэ, когда его спрашивали, согласился бы он с подобным выбором, только пожимал плечами и говорил, что надо подождать, пока пресловутая «Венера» появится в гавани Тортуги.
— Может быть, этот корабль будет недостоин нашего Воклена.
Слух о подготовке к великому походу пронесся по всем флибустьерским и корсарским бухтам Больших и Малых Антил, по всем буканьерским факториям и поселкам лесорубов. Большое дело, как огромный магнит, начало срывать людей с насиженных мест. Ибо все, кто вялил мясо, валил лес, возделывал бобы, ловил рыбу, прекрасно знали, что если повезет, то за полтора-два месяца в таком походе можно будет заработать столько же, сколько за сто лет добросовестной работы.
Помимо всего прочего, имело значение, под чьим началом отправляться в плавание. И когда выяснялось, что во главе предприятия был сам везунчик Олоннэ, это весьма подогревало настроение искателей удачи и приключений.
Одним словом, и у Олоннэ и у Шарпа был выбор. Всего решено было взять в поход тысячу двести человек, с этими силами — в том случае, если все они доберутся до места, — можно было захватить любой, сколь угодно укрепленный город. Тем более что на морях Мэйна было известно, что в рукопашном бою один корсар стоит троих испанских стрелков.
За неделю до отплытия эскадры состоялась свадьба капитана Шарпа и Женевьевы де Левассер. Торжество получилось сравнительно скромным. На церемонию были приглашены только несколько самых богатых плантаторов, пять или шесть чиновников с некрасивыми женами и долговязыми дочками. Присутствовал также доктор Эксквемелин, которому надлежало стать врачом эскадры во время похода.
В силу того что в этот момент на острове присутствовал господин де Бюсси, генерал-губернатор всех заморских территорий Французского королевства, никто из корсарских лидеров приглашения удостоен не был. Де Левассер готов был поддерживать с «береговым братством» деловые отношения, но не желал, чтобы у высокопоставленного столичного чиновника сложилось впечатление, что между губернатором Тортуги и корсарами существуют дружеские отношения.
Господин де Бюсси был наслышан о ловкости и финансовой нечистоплотности губернатора, но оказался настолько очарован блеском и теплотой приема, что решил всю свою строгость сберечь для других американских колоний короны.
Женевьева к моменту свадьбы немного ожила, так что процедура выглядела вполне пристойно.
Шарп был счастлив, что, как ни странно, часто случается с нелюбимыми мужьями.
Господин де Левассер, наблюдая за церемонией и за дочерью во время ее проведения, начал догадываться, что тут что-то не так, но понимал — ничего уже изменить нельзя.
Олоннэ в этот момент наблюдал за тем, как перетягивают такелаж на «Мести». Роже оторвал его от этого занятия:
— Письмо, капитан.
Продолжая отдавать необходимые команды матросам, Олоннэ вскрыл конверт. И прочел следующий текст:
«Я вас ненавижу!
И вы напрасно думаете, что все для вас позади. Ждите моего ответного удара. Вы даже представить себе не можете, откуда он последует».
Подписи не было, но Олоннэ конечно же понял, кто и почему написал сие.
— Что-нибудь важное, капитан? — позволил себе спросить Роже, увидев улыбку на губах Олоннэ.
— Нет. — Мелкие бумажные кусочки полетели за борт. — Собака, которая лает, не кусается.
О подготовке большой корсарской эскадры узнали, разумеется, и испанцы. Эскадра не иголка, ее не утаишь в мешке тортугской бухты.
Получив донесение падре Аттарезе, дон Антонио де Кавехенья задумался. Казалось бы, что тут думать, надо готовиться к отпору, предупреждать о надвигающейся опасности других губернаторов. Дон Антонио сделал это, но без особого азарта. Основную часть времени он размышлял над тем, что надвигающаяся опасность предоставляет большие возможности тому, кто подготовился к ее встрече.
Алькальд вместе с коррехидорами собрал всех плотников в той части Эспаньолы, что находилась в его подчинении, и велел немедленно приступить к ремонту двух четырнадцатипушечных бригов, что несколько месяцев рассыхались на песчаном пляже. Несколько сот человек — по большей части индейцев — по пятнадцать часов в сутки трудились на укреплениях внешнего форта. Всем способным носить оружие горожанам было приказано явиться в гарнизонные казармы, где им вручили оружие и объяснили, как себя вести на случай внезапного нападения корсаров. На Эспаньолу опустился мрак тяжелых предчувствий. Те, кому было что терять, срочно рыли тайники, куда упрятывали все ценное. Отцы семейств переправляли своих близких (особенно женского пола) в глубь острова.
Дон Антонио не препятствовал этим паническим приготовлениям и настроениям, хотя был почему-то уверен, что не Эспаньола является целью предстоящего корсарского налета. Не такой уж это лакомый кусочек. И полное отсутствие личных мотивов. Губернатор Эспаньолы понимал: несмотря на то что он относится к Олоннэ с острой ненавистью, тот наверняка не отвечает ему взаимностью. Убивший сына навряд ли горит желанием напакостить отцу.
В письме дону Ангеррану де ла Пенья он изложил эти свои соображения, впрочем при этом посоветовав толстяку позаботиться о подновлении оборонительных сооружений Кампече. Большая часть послания была посвящена описанию того, до какой степени дошло неудовольствие дона Антонио тем, что этот закоренелый и опасный негодяй Олоннэ до сих пор не болтается на виселице.
Честно сказать, дон Антонио не верил в то, что одышливый старикан когда-нибудь поймает француза. Такие возможности, как та, что у него была, не повторяются. Но губить дона Ангеррана он не считал выгодным. Чем больше на свете людей, чья жизнь и смерть находятся в твоих руках, тем ты сильнее.
Дон Ангерран, разумеется, не был посвящен во внутреннюю жизнь своего коварного начальника, поэтому считал, что постоянно находится на краю пропасти, и предпринимал все усилия для того, чтобы в эту пропасть не свалиться. Но, как часто случается, попытки спасти жизнь сильно вредят здоровью. К тому моменту, когда следовало начать подготовку к встрече свирепого и безжалостного врага, дон Ангерран де ла Пенья не мог подняться с кровати. Все командные функции были перепоручены алькальду города.
Дону Антонио нечего было ожидать помощи от де ла Пеньи. Жизнь толстяка, начальствующего в Кампече, принадлежала ему всецело, но уж больно плохо она держалась в теле. Помощь пришла с другой стороны, оттуда, откуда он уж никак не мог ее ожидать. Альфонсо Матурана в конце ежедневного доклада сказал, что есть у него для его высокопревосходительства еще одно сообщение, может быть не очень важное, но тем не менее он просит его выслушать.
Дон Антонио вяло кивнул.
Оказалось вот что: коррехидор по имени Васкес Лама (в его ведении находились сахарные плантации к северу от города) случайно обнаружил в доме одного из надсмотрщиков десятилетнюю девочку, она помогала на кухне. Из разговора выяснилось, что зовут ее Мария.
— Не может быть, — вяло пошутил его высокопревосходительство.
— А фамилия — де Молина.
— Де Молина? — Губернатор сразу понял, что услышал что-то очень важное, хотя послеобеденная дремота не позволяла сообразить, что именно.
— Коррехидора удивило неиспанское звучание фамилии и то, что она похожа на дворянскую. Что же это будет, если девочки дворянского происхождения станут работать на кухне у каких-то надсмотрщиков?
Дон Антонио овладел собственными мыслями:
— Сюда ее.
— Девочку?
— Немедленно.
Этим же вечером девчушка предстала перед высшим должностным лицом острова. Ничего в ней не было особенного — маленькая, худенькая, черноглазая, в ней не было даже той привлекательности, что свойственны почти каждому ребенку. Да будь она хоть одноногая и одноглазая, важно то, что ее отцом является Горацио де Молина.
Правда, это еще предстояло выяснить.
Что и было немедленно сделано.
Вместе с девочкой и четырьмя стражниками (в руках у каждого было по пистолету и стилету) губернатор спустился в подземелье собственного дворца.
Надобно заметить, что точно в этот самый час состоялись помимо беседы дона Антонио с Горацио де Молиной еще два очень интересных разговора. Все три обмена мнениями и предложениями касались впрямую излагаемой здесь истории. Трудно сказать какую из встреч следует признать наиболее важной.
Итак, в тот момент, когда принесенный доном Антонио факел осветил мощную железную решетку и прильнувшее к ней с той стороны исполосованное шрамами лицо Горацио де Молины, в тот самый момент капитан Олоннэ открыл дверь, ведущую в покои падре Аттарезе, а Женевьева Шарп указала Моисею Воклену, что он может сесть, она не нуждается в особых знаках внимания.
— Мария! — воскликнул Горацио. — Ты жива!
— Папочка, — неуверенно прошептала дочь, она узнала отца, но вид его был столь ужасен, что девочка не решилась подойти вплотную к решетке.
— Благодарение Господу! — весело сказал дон Антонио, он до последнего момента не мог поверить в свалившуюся на него удачу.
— Рад вас видеть в добром здравии, падре, — поклонился капитан Олоннэ.
— Знаете, капитан, а я верю в то, что вы искренне интересуетесь моим здоровьем.
— Вот и чудно. Взаимная симпатия облегчает совместную работу.
— Вы так уверены в моей симпатии к вам? — Старик саркастически покашлял.
— Я уверен, что к вам прибыл человек от дона Антонио и вам следует подумать о скорейшем составлении донесения господину губернатору. Не сомневаюсь, что он вас торопит.
— Надо сказать, мадам, я несколько удивлен этим приглашением, сказать по правде, не знаю, что и думать. — Толстяк Воклен вытер платком обширную лысину.
Женевьева была во всем черном, словно южная беззвездная ночь, лицо сосредоточенное, глаза спокойные.
— Не беспокойтесь, капитан, очень скоро ваши недоумения рассеются.
— Прошу прощения, мадам, но я еще не капитан. — Воклен снова потянулся платком к лысине.
— Вот с этого мы и начнем.
— На этом закончим родственное свидание. И мне, дорогой Горацио, и вам было важно убедиться, что эта девочка — ваша дочь. Альфонсо, отведите Марию наверх, пусть ее умоют, переоденут и очень вкусно накормят.
— Что вы хотите с ней сделать? — прорычал пленник, массируя прутья решетки изувеченными пальцами.
— Оста-авьте, Горацио, вы прекрасно слышали все мои распоряжения на ее счет. Марию будут вкусно кормить, учить, она получит все, что имеет любая знатная и богатая испанка в ее возрасте.
— Такие, как вы, ничего не дают бесплатно, даже доброго слова.
Дон Антонио кивнул:
— Вы правы, сейчас мы начнем торговаться.
— Итак, ко всему прочему, дорогой падре, вы хотите еще десять тысяч реалов.
— Если у вас появится желание дать мне пятнадцать, я не стану отказываться.
Олоннэ побарабанил пальцами по столу:
— Вам мало того, что я дарю вам жизнь?
— Если посмотреть на вещи трезво, моя жизнь стоит недорого. Вы это знаете не хуже меня.
— Вы что, вознамерились умереть раньше времени? Я против. Вы мне нужны живым.
— Я и себе нужен живым.
— Разговор наш теряет практическую почву, падре. А вы тянете время, которого у вас и так немного.
— Один человек не хочет, чтобы вы стали капитаном.
Воклен опустил голову:
— Я знаю.
— Но «Венера» принадлежит нам. Вернее даже сказать, что она принадлежит мне. Кого я захочу сделать капитаном, тот им и будет.
— Против воли Олоннэ? — недоверчиво усмехнулся бывший надсмотрщик.
— Не знаю, захотите ли вы мне верить, но это тот случай, когда Олоннэ не посмеет возражать.
— Я не только сохраню жизнь твоей дочери, я сделаю ее жизнь прекрасной.
— И что же вам нужно взамен? — Черные глаза Горацио отражали пламя факела.
— Жизнь за жизнь. Ты должен убить одного человека. Для тебя ведь это пустяк — сколько глоток ты перерезал на своем веку?
— Я всегда убивал ударом в сердце.
— Пусть в сердце, меня и это устроит.
— И вы отпустите меня, ваше высокопревосходительство?
— Отпущу.
— Я вам не верю.
— Но это же глупо. После того как ты сделаешь то, что от тебя требуется, ты вправе не возвращаться за эту решетку. А поймать тебя второй раз…
— А Мария?
— Если в течение полугода ты не сделаешь то, что от тебя требуется, я поступлю с ней жестоко.
Горацио усмехнулся:
— Уж в этом я не сомневаюсь.
— Вот и прекрасно, тогда соглашайся.
— У меня нет выбора.
— Вот именно.
— Имя!
— Пуэрто-Кавалло.
Падре Аттарезе, прищурившись, посмотрел на Олоннэ.
— Пуэрто-Кавалло? Насколько я знаю, там множество мелких островов. Это похоже на ловушку, капитан.
— Это и есть ловушка, об этом я вам говорил с самого начала. Неужели забыли? Важно, для кого ловушка. Моя эскадра будет находиться в двух днях пути от Пуэрто-Кавалло, когда флот дона Антонио нападет на корабли моего счастливого соперника в борьбе за сердце Женевьевы.
Падре Аттарезе несколько раз вздохнул.
— Что вас мучает?
— Капитан Шарп не совсем та добыча, ради которой осторожнейший дон Антонио решится затеять большое сражение.
— Я уже много раз говорил вам, что вы умны, готов повторить еще раз то же самое. Разумеется, в своем послании его высокопревосходительству вы напишете, что во главе флотилии возле Пуэрто-Кавалло дон Антонио найдет меня, капитана Олоннэ. Ради такой добычи, насколько я знаю, он готов на что угодно.
Старик кивнул:
— Это верно.
— Это правильно, мадам, я ненавижу его, но то, что вы мне предлагаете, слишком рискованно. Он силен, как зверь, но он и хитер, уж не знаю как кто. Он за сто миль чувствует опасность.
— Если бы это было простое дело, я бы наняла какого-нибудь бродягу за двадцать реалов, и он бы все устроил.
Воклен усмехнулся:
— Двадцать реалов… Двадцать тысяч реалов — вот цена такого предприятия.
Женевьева хищно прищурилась и раздула ноздри:
— Двадцать тысяч?
— Как минимум.
— Вы сами назвали эту цифру. Я заплачу вам двадцать тысяч реалов, если капитан Олоннэ навсегда останется на дне озера Маракаибо.
Воклен озабоченно оглянулся:
— Тише, прошу вас!
Дом, где они встречались, стоял уединенно, но мистический страх перед Олоннэ не оставлял его стариннейшего помощника.
— Итак, вы согласны?
Двадцать тысяч реалов были большие деньги. Очень большие!
— Но где гарантия, что после того, как я это сделаю, вы со мною расплатитесь? Открыто требовать деньги у вас я не смогу. У капитана много друзей, и каждый из них захочет отомстить.
Дочка губернатора презрительно усмехнулась:
— Половину я вам дам вперед.
— Олоннэ.
— Олоннэ?!
— Что тебя так испугало, Горацио? Это такой же бандит, как ты. Между вами только одна разница: ты уже сидишь у меня в подвале, а он — еще нет.
Горацио де Молина помотал головой.
— Ты что, отказываешься?
— Это не просто бандит.
— А кто?! Дьявол во плоти, да?!
— Не удивился бы, когда бы выяснилось, что это так.
Дон Антонио свирепо ткнул факелом в решетку. Горацио отпрянул внутрь.
— Ну, как знаешь, сейчас я…
— Погодите, дон Антонио.
— Ты все-таки надумал?
— Ради своей дочери я готов спуститься и в ад.
— До свидания, падре.
— Деньги вы пришлете сегодня или только завтра?
— На улице глубокая ночь, подождите до завтра. И еще одно. Доставив вам деньги, я конечно же пожелаю ознакомиться с текстом послания дону Антонио. Кроме того, с его человеком отправится и мой.
— Но это вызовет подозрения!
— Ваше дело придумать, почему человеку дона Антонио понадобился сопровождающий. Спокойной ночи.
— Я могу удалиться, мадам?
— Завтра капитану Олоннэ будет направлено письмо за подписью моего отца о том, что во главе «Венеры» его волей поставлен Моисей Воклен, и завтра же вы получите десять тысяч реалов. Куда их вам доставить?
Воклен пожевал губами:
— Мне нужно подумать. Не лучше ли, если бы ваш батюшка открыл на мое имя счет в одном из банков в Европе?
Женевьева кивнула.
Глава седьмая
Несмотря на очень ранний час, на баке «Вальядолида», флагманского корабля испанской эскадры, собралось много народу. Помимо дона Фернандеса де Овьедо, адмирала флота его католического величества, принявшего командование над флотилией, и дона Рауля де Фуэнтеса, капитана флагманского корабля, которым по роду их непосредственных обязанностей надлежало бодрствовать в эту предрассветную пору, не улежал в постели и дон Антонио де Кавехенья. Он не любил морские путешествия, страдал морской болезнью, боялся корсаров, но ни одно из этих препятствий в отдельности, ни все они вместе не смогли удержать его на берегу. Более того, при желании его действия можно было истолковать как должностное преступление: губернатору не надлежит бросать вверенный ему остров в тот момент, когда тот может подвергнуться внезапному нападению банды морских разбойников.
Девять испанских кораблей покачивались на легкой волне в кабельтове друг от друга.
Туман постепенно рассеивался, очертания мачт все отчетливее проступали на фоне светлеющего неба. Наконец стал различим и мыс Флеао, за которым, если верить донесению падре Аттарезе, и должна была находиться эскадра дьяволоподобного и неуловимого капитана Олоннэ.
Дон Фернандес, маленький, сухой человечек с умным смуглым лицом, забавно смотревшимся в обрамлении пышного белого парика, недовольно прохаживался, стуча каблуками своих ярко-красных башмаков по чисто выдраенной палубе.
Дон Рауль и другие офицеры почтительно провожали его взглядом. Дон Фернандес был не только носителем высокого чина, но и уважаемым человеком. Он, единственный из присутствующих на баке и на мостике знатных военных и штатских господ, имел положительный личный счет в схватках с английскими и французскими каперами. Он знал, как управляться с этими бешеными псами, и втайне офицеры и матросы надеялись, что уж с ним-то они не пропадут.
Сам адмирал де Овьедо держался другого мнения.
Ему не нравилась эта операция. Он ругал себя за то, что пошел на поводу у настойчивого дона Антонио. При первом рассмотрении предложенный губернатором Эспаньолы план был хорош. Загнанным в бухту за мысом Флеао кораблям Олоннэ не уйти от непосредственного артиллерийского сражения. Бой они должны будут принять стоя на якорях, то есть в качестве неподвижных мишеней. По крайней мере в первые полчаса. Корабли их, даже при не слишком точной стрельбе, должны получить такие повреждения, которые не позволят им атаковать неожиданно напавшего противника с целью взять его на абордаж.
Адмирал предпочитал чистые артиллерийские дуэли рукопашной резне на корабельных палубах.
Одним словом, у Олоннэ не было шансов уйти живым.
Постепенно стали выясняться некоторые нюансы.
Оказывается, дон Антонио затеял эту ловушку не из чистой ненависти к врагам испанской короны, а по соображениям личной мести.
Как опытному военному, дону Фернандесу было ясно, что чувство мести — плохой советчик на поле боя: чтобы побеждать, нужна холодная голова. Только ясный ум способен на трезвый и точный расчет.
Потом стало известно, что четыре корсарских корабля — это не все корсарские силы. Имеется где-то еще несколько судов под командованием некоего капитана Шарпа, ирландского бандита.
— Где-то! Где-то! — вспылил дон Фернандес, услышав о втором противнике.
— Успокойтесь, адмирал, этот Шарп не стоит и мизинца Олоннэ. Когда мы поймаем француза, он постарается спрятаться и не посмеет показаться нам на глаза.
— А где он сейчас?! Не громит ли он наши укрепления на Пуэрто-дель-Мар, не плывет ли он к Кампече, к нашим серебряным рудникам?
— Без Олоннэ он не решится на подобные предприятия. По моим сведениям, они просто поссорились, — пытался успокоить слишком недоверчивого флотоводца дон Антонио.
Тот не желал успокаиваться.
— Поверив донесениям ваших шпионов, я увел два галиона от Пуэрто-дель-Мар, а укрепления там недостроены, вам это прекрасно известно. На два корабля я ослабил эскадру у Маракаибо…
Дон Антонио улыбнулся:
— Ну, это слишком далеко. И потом, вы не хуже меня знаете, что проникнуть в глубь озера невозможно. Не все ли равно, сколько кораблей будет при тамошних фортах, пять или три. Там они все равно стоят без всякого толка. И потом, согласитесь, с древнейших времен известно: нападая, защищаешься. Уничтожив Олоннэ, мы освободим себя от необходимости тратить громадные деньги и силы на укрепление всех наших прочих владений в здешних водах.
Адмирал понял, что он не в состоянии донести до губернатора Эспаньолы смысл своих опасений, и прекратил препирательство.
Дон Антонио считал себя победителем в споре.
В дальнейших своих действиях адмирал решил полагаться только на себя. Когда эскадра приблизилась к Пуэрто-Кавалло, он высадил на берег пятерых разведчиков, с тем чтобы они по суше пересекли узкую часть полуострова и попытались выяснить, что происходит в бухте Флеао.
— Если там нет корсарских судов, значит, нас обманули, — сказал дон Фернандес на военном совете. — Тогда нам останется только молиться Пресвятой Деве и гадать, куда бросаться, чтобы перехватить Олоннэ. К Пуэрто-дель-Мар, к Кампече или к Маракаибо.
Никто из офицеров не посмел возразить своему непосредственному начальнику.
Не стал возражать и дон Антонио, хотя при этом и не скрывал откровенно иронической улыбки.
Туман рассеялся настолько, Что стали различимы береговые заросли, длинная песчаная полоса, устье впадающего в море ручья.
Из этого устья и появилась небольшая шлюпка. Четверо сидели на веслах.
— Они! — крикнул дон Антонио.
— Они-то они, — глухо согласился адмирал, — весь вопрос, с каким известием они плывут сюда.
На шканцах у фальшборта столпилось множество испанских солдат, все на флагманском корабле знали, что от сведений, что прибудут на этой шлюпке, зависит чрезвычайно много. Держась руками за планшир, матросы яростно о чем-то спорили. На шкафуте царило такое же нетерпеливое ожидание, как и на шканцах.
— Дон Рауль, — приказал адмирал, — наведите порядок.
Капитан отдал команду своему помощнику. Сержанты врезались в толпу, разгоняя зевак по местам.
Дон Антонио оторвался от окуляра своей подзорной трубы:
— Надо ставить паруса, незачем терять время.
Дон Фернандес бросил на него хмурый взгляд и ничего не ответил на эту попытку вмешаться в его дела.
Полетела через планшир левого борта веревочная лестница. Взобравшийся на борт разведчик, тяжело дыша, сообщил:
— Четыре судна. Три трехмачтовых, одно двухмачтовое. На якорях. На берегу горят костры.
— Часть команды на суше! — воскликнул дон Антонио. — Надо немедленно поднимать паруса.
Дон Рауль выжидательно посмотрел на своего адмирала. Тот скупо кивнул.
— Сигнализируйте на корабли — двигаться в одной кильватерной струе. Пушечные порты открывать, фитили жечь.
Грохот каблуков пронесся по всем палубам «Вальядолида».
Сотни рук схватились за фалы и шкоты, приводя паруса в соответствующее воздушным потокам положение.
— Придется потрудиться, — сказал адмирал, — пойдем в бейдевинде. Но и это лучше, чем штиль.
Бейдевинд — это такой курс парусного судна относительно ветра, когда последний дует фактически навстречу. От матросов и боцманов требуется немалое искусство в обращении с парусами, чтобы заставить корабль двигаться в нужном направлении.
Команда «Вальядолида» отлично справилась со своей ролью. Сорокапушечный флагман бесшумно, как белая тень, выплыл из-за мыса Флеао пред корсарские очи, волоча за собою одного, второго, третьего, четвертого… девятого вооруженного и изготовившегося к бою собрата.
Дон Антонио то складывал бархатные рукава на груди, то засовывал расшитые серебром обшлага в карманы камзола.
Он делал это не от волнения, а от нетерпения. Дверца мышеловки захлопывалась, никуда этой живучей французской крысе не деться.
Расстояние для прицельной стрельбы было слишком большим. Предстояло произвести еще одно перестроение.
— Дон Рауль, — приказал адмирал, — поворот оверштаг.
Рулевой, услышав команду, схватился за румпель и положил руля влево, — испанской эскадре предстояло описать длинную петлю, чтобы можно было нанести удар с более близкого расстояния.
Наверняка!
Адмирал сделал знак горнисту, стоявшему на мостике. Тот поднес к губам серебряный горн и протрубил. Это был приказ канонирам задраить порты левого борта и перейти на правый.
Дон Фернандес все делал совершенно правильно, по всем правилам флотоводческого искусства, но делал он все это в расчете на то, что корсары нападения не ждут, жарят мясо на берегу и валяются пьяные в тени деревьев.
А корсары как раз очень хорошо подготовились к появлению испанской эскадры. Костры зажгли на берегу для отвода глаз, все пушки изготовили к бою, более того, за два дня ожидания они успели их как следует пристрелять. То есть в тот момент, когда испанские канониры начали задраивать порты левого борта и готовиться к стрельбе из орудий правого, канониры капитана Шарпа произвели мощный, совместный, крайне эффективный залп.
Клубящаяся лавина дыма покатилась в сторону испанской эскадры. Буквально через несколько минут, со всей возможной скоростью перезарядив орудия, корсары произвели второй залп. Им не нужно было ждать, когда рассеется дым, они били прямо в собственные пороховые облака, зная, что даже вслепую каждое второе ядро попадет в цель.
Что творилось на испанских кораблях, описать было очень трудно. Четыре первых, возглавлявших эскадру судна приняли на себя главный удар. Все громадное тело «Вальядолида» содрогнулось от множественных попаданий. Сверху на головы адмирала, губернатора Эспаньолы, офицеров посыпались обломки рангоутного дерева, горящие обрывки парусов. С диким воем свалился в воду наблюдатель с крюйс-марса, с сумасшедшим треском подломилась бизань-мачта.
На пушечных палубах царила паника. Сержанты пытались зуботычинами вразумить ошалевших от ужаса молодых матросов, но и они сами не знали, ради чего стараются. Из орудий какого сорта надлежит в конце концов стрелять?!
Адмирал де Овьедо не поддался панике. Он раньше всех понял, что произошло. Первое, что он сделал, это повернулся к дону Антонио и, остро посмотрев в его бледное, расплывшееся от ужаса лицо, негромко сказал:
— Это ловушка, как я и думал.
После этого он попытался отыскать своего трубача. Нашел он его лежащим на палубе у себя за спиной. Голова его была раздроблена большим обломком реи, рухнувшим сверху. Адмирал поднял горн и приложил к губам.
Первая команда была подана рулевому, ему было велено закончить поворот. Дон Рауль помчался вниз, где, осыпая канониров отборными кастильскими ругательствами, заставил продолжить приготовления к стрельбе.
Какая бы то ни было связь с другими судами была потеряна. Они блуждали в клубах порохового дыма сообразно с судорожными решениями своих капитанов. Несмотря на сложность и полную неопределенность обстановки, «Вальядолид» и «Мерида», галион, шедший третьим в кильватерной колонне, вышли на линию огня. Испанцев подбадривала мысль о том, что, несмотря на это внезапное нападение, у них вдвое больше кораблей, чем у разбойников, и каждый в отдельности корабль значительно сильнее корсарского. Стало быть, рано или поздно победа должна склониться на их сторону.
Из тридцати шести орудий левого борта, имевшихся у двух испанских судов, заставить полноценно трудиться удалось лишь двадцать четыре, но и этого хватило, чтобы капитан Шарп почувствовал, что до победы еще далеко. Ядром с «Мериды» разнесло бушприт «Эвеланжа», осколками был в клочья изодран кливер.
— Мы подрезали хвосты испанским псам, но они продолжают огрызаться! — крикнул капитан Шарп. Его корабли сделали очередной залп и тут же по команде сделали поворот «все вдруг», то есть к тому моменту, когда испанцы перезарядили свои пушки, корсарские суда повернулись к ним носовой частью, в несколько раз снизив уязвимую площадь.
— Кто-то сказал, что они стоят на якорях! — взревел дон Фернандес.
Испанские пушки прогремели почти впустую. Только на «Виктории» разворотило носовую каюту.
Адмирал собирался отдать очередную команду, но тут кто-то закричал у него за спиной:
— «Саламанка» тонет!
Все, кто услышал, оглянулись.
Клубы порохового дыма расползлись в разные стороны, и всем стала видна завалившаяся на левый борт «Саламанка», большой тридцатишестипушечный галион прошлогодней постройки. Позолоченная фигура на ее носу почти касалась щекой зеленоватой воды. Последние матросы прыгали с борта в воду и старались отплыть как можно дальше, чтобы не затянуло водоворотом.
Адмирал не мог себе позволить долгих переживаний, он скомандовал своим орудиям — залп.
— Но где остальные наши корабли?! — сердито спросил дон Антонио.
Дон Фернандес повернул к нему искаженное яростью лицо:
— А вы прислушайтесь — и все поймете! — И он указал горном в сторону выхода из бухты. Не было никаких сомнений — оттуда тоже доносились звуки канонады.
Дон Антонио хотел что-то сказать, но его желание заглушил грохот корсарских ядер, крошивших дубовую обшивку «Вальядолида».
— «Мерида» горит! — сказал Рауль, вытирая со лба пороховую копоть.
— Вижу. И поэтому нам здесь больше нечего делать, — сказал адмирал.
— Но проклятые разбойники атакуют! — крикнул дон Антонио, лишившийся своего парика и приобретший от этого особенно перепуганный вид.
В его крике звучал извечный страх испанского солдата перед корсаром: не было для него ничего страшнее, чем абордаж и рукопашная схватка на корабельных палубах.
Дон Фернандес, несмотря на подступавшую к горлу панику, не утратил способности принимать правильные решения. Следуя его командам, «Вальядолид» повернулся носом к выходу из бухты и двинулся в этом направлении. Матросы наподобие обезьян носились по вантам, поднимая дополнительные паруса.
Капитан Шарп быстро понял замысел адмирала и приказал зарядить орудия картечью. Он решил, что пришло время нанести удар по корабельным надстройкам и привести в негодность такелаж испанского флагмана. Если бы ему удалось выполнить свой замысел, участь «Вальядолида», а значит, и всего флота его католического величества была бы предрешена. Дон Фернандес, отлично зная тактику корсаров, принял свои меры. Он погнал лучших канониров на кормовые орудия, чтобы их огнем затруднить действия нападающих.
Эта отчаянная попытка принесла неожиданно великолепный результат. Ядро, выпущенное каким-то перепуганным испанцем, угодило в пороховой погреб «Виктории», в результате чего виктория капитана Шарпа над адмиралом де Овьедо не состоялась.
Со страшным грохотом, намного перекрывшим звук обычной артиллерийской канонады, задняя часть корсарского корабля взлетела на воздух, превратившись в кипящий водяной столб. Через несколько минут «Виктория» затонула, взывая к небу обломком своего искалеченного бушприта.
Волна восторженных криков пролетела по испанским кораблям.
Радовался не только «Вальядолид», но и «Мерида», на которой удалось справиться с огнем.
— Может быть, нам имеет смысл самим их атаковать, пока они находятся в шоке? — поинтересовался у адмирала губернатор Эспаньолы.
— Корсары не имеют обыкновения впадать в шок надолго. Кроме того, пора нам выяснить, что происходит там. — Адмирал указал горном в сторону сражения, шумевшего за выступом мыса Флеао.
— Но, по крайней мере, мы можем считать, что не проиграли это сражение! Что закончили его вничью.
Дон Фернандес усмехнулся:
— Если Олоннэ пошел на дно с этим взорвавшимся кораблем, то мы можем считать себя победителями. Но, кажется, мы утопили не флагмана. Кроме того…
— Что «кроме того»?
— Кроме того, дон Антонио, я почти уверен в том, что на этой эскадре, игравшей роль сыра в мышеловке, Олоннэ и не было.
Губернатор схватился мстительными пальцами за свою остренькую бородку.
— Значит, падре Аттарезе меня обманул.
— Это ваш шпион — падре Аттарезе?
Дон Антонио поморщился.
— Не наказывайте его. Скорее всего, он тоже обманут. Такой дьявол, как Олоннэ, способен обмануть не только священника, но и кое-кого повыше.
— Вы что, имеете в виду Папу Римского?
— Это не важно, кого я имею в виду.
На этом скатывавшийся в богословскую пропасть спор был прерван. «Вальядолид» вышел из бухты, и глазам испанцев открылась впечатляющая картина. Впрочем, разобраться, в чем суть происходящего, было не так просто. Три из пяти испанских судов вели артиллерийскую дуэль с двумя корсарскими, причем без особого успеха, об этом говорил их весьма потрепанный вид. Один из них даже лежал на боку; столь опасными оказались пробоины в корпусе, что команде пришлось сбросить в воду пушки с противоположного борта. Как боевая единица этот галион ничего из себя не представлял. Но здесь-то хоть все было более-менее ясно. Недоумение вызывало поведение двух других испанских кораблей. Припав к окуляру своей подзорной трубы, дон Фернандес определил:
— Они взяты на абордаж.
У дона Антонио и дона Рауля тоже были подзорные трубы, и им тоже удалось рассмотреть, что на верхних палубах галионов идет жесточайший рукопашный бой, грохочут мушкеты, пистолеты, сверкают лезвия абордажных сабель и клинки палашей и шпаг.
— Но каким образом это могло произойти?! — выразил их общее с капитаном недоумение губернатор. И основания испытывать это недоумение у него были весомые. Дело в том, что корсарские корабли, а это были «Месть» и «Венера», качались на волнах не менее чем в двух кабельтовых от галионов — идеальное расстояние для артиллерийского боя. И бой этот, надо думать, имел место некоторое время назад. И на корсарских и на испанских судах были заметны его следы. Если не смертельные, то отчетливые.
— В самом деле, что тут произошло? — прошептал дон Рауль, поворачивая то вправо, то влево свою подзорную трубу.
Дон Фернандес бросил разглядывание:
— Кажется, я понимаю что.
Взгляды всех находившихся на мостике обратились к нему.
— Лодки.
— Что вы хотите сказать этим словом?
— Одну можно увидеть достаточно отчетливо, ее корма выглядывает из-за кормы «Саламандры».
— Да, вижу, кажется, это действительно пирога. И что это значит?
— А теперь посмотрите туда. — Адмирал показал на лесистый берег. — Густые заросли подходят к самой воде. Когда наши корабли ввязались в бой, люди Олоннэ вытащили укрытые в зарослях пироги и незаметно подплыли с противоположного борта, пользуясь тем, что внимание сражающихся отвлечено. Для подобной операции нужно всего несколько минут. А когда первые корсары вскарабкались на борт, сделать уже ничего было нельзя.
Объяснения адмирала были столь убедительны, что никто не попытался возражать или переспрашивать.
— Ставьте все паруса, дон Рауль, — совсем тихо; сказал дон Фернандес.
— Что же нам теперь делать? — растерянно поинтересовался губернатор.
— А мы уже делаем. Уносим ноги. Думаю, час-полтора у нас в распоряжении есть. Сражение на борту «Саламандры» и «Бетиса» началось совсем недавно.
— А остальные?
— Кто сможет последовать за нами, тот последует.
Губернатор помялся и снова потеребил бороду, словно это именно она была источником его сомнений.
— Но, как бы это сказать…
— Вы хотите сказать, ваше высокопревосходительство, что мы поступаем не слишком благородно?
— Не совсем так, но…
— Любая попытка вмешаться в происходящие там события приведет к полному нашему поражению. «Мерида» едва на плаву держится. «Саламанка» на дне бухты, «Бетис» и «Саламандра» фактически потеряны. Какими силами прикажете сражаться с целой корсарской флотилией? Мы попали в хитроумно подготовленную засаду — кстати, во многом благодаря вам, ваше высокопревосходительство.
Краска бросилась в лицо губернатору, грудь его стала возмущенно раздаваться, но флотоводец лишь махнул на него рукой:
— Оставьте, не время сейчас препираться. Я вам скажу вот что: если мы из этой переделки ноги унесем, то сможем смело поздравлять себя с огромным успехом. Что проку в нашей гибели? Лучше сохранить для флота его католического величества несколько кораблей, чем погубить все, спасая собственную честь.
Речь дона Фернандеса трудно было признать образцом благородной риторики, но она вызвала у слушателей несомненное сочувствие. Никто из офицеров не горел жаждой героической, но абсолютно бессмысленной гибели.
Дон Антонио тоже не горел. Кроме того, ему было ясно, что в случае своей гибели он лишится возможности отомстить Олоннэ. Не губернатор командовал на борту «Вальядолида», но почему-то все взгляды обратились на него, как будто ему принадлежало последнее слово. Его высокопревосходительство криво усмехнулся и сказал:
— Что теперь говорить, паруса уже подняты.
Корсары одержали полную победу над эскадрой испанского адмирала, но заплатить за нее им пришлось немалую цену. Помимо взорванной «Виктории» еще два корабля были приведены в состояние почти полной негодности. На их ремонт пришлось бы затратить слишком много времени, а времени у корсаров как раз и не было. Нужно было успеть воспользоваться плодами успеха. Очень скоро испанцы соберутся с новыми силами, и тогда героизм, проявленный у Пуэрто-Кавалло, может оказаться напрасным.
На совете, который состоялся в ночь после сражения, все пришли к единодушному мнению по поводу того, что делать дальше. Перегрузить с полузатопленных судов все ценное, пополнить запасы пресной воды и — вперед! На Маракаибо!
Глава восьмая
Длинный деревянный стол был установлен посредине внутреннего двора, вымощенного большими каменными плитами. Прямо на этих плитах были разложены два костра; взлетающие над ними искры бесшумно уносились в черноту ночного неба. Но костры были устроены не для иллюминации — на каждом из них жарилось по поросенку.
На столе лежали караваи свежего хлеба, стояли широкие индейские миски с овощами и кувшины с вином. На массивных, грубо сколоченных табуретах вокруг стола сидели Воклен, ле Пикар, Ибервиль, Шарп и Дэвид Баддок, капитан одного из кораблей из эскадры капитана Шарпа.
Все молчали.
Было слышно, как шипит капающий на угли поросячий жир.
Привлеченные игрой пламени над домом алькальда Гибралтара, в патио которого происходило немое пиршество, носились летучие мыши. Своим поведением и обликом они отчасти напоминали те мысли, что теснились в головах собравшихся.
Вот уже две недели город, расположенный в глубине лагуны Маракаибо, пребывал во власти корсаров. Взятый внезапным, дерзким налетом, он был уже несколько раз ограблен, выпотрошен дочиста, как до этого выпотрошили Маракаибо. Все граждане, подозреваемые в сокрытии ценностей, были «допрошены», и не по одному разу.
Общая добыча исчислялась примерно в полмиллиона реалов. Ни одному из корсаров никогда в жизни не приходилось иметь дело с такой колоссальной кучей денег.
Испанский флот разгромлен, форты Ла-Палома и Вигилья у прохода, ведущего в лагуну, взорваны. Можно ли было представить ситуацию прекраснее? Грузи деньги на корабли и отправляйся на Тортугу: сил, способных этому помешать, у испанцев не осталось. Каждый участник экспедиции, закончившейся столь удачно, должен был стать состоятельным, по крайней мере по местным меркам, человеком. Вот эта близость удачной развязки и создала конфликтную, как сказали бы сейчас, ситуацию.
Каждый боялся продешевить. Отсутствие внешних врагов обратило недоверие, подозрительность и жадность внутрь собственной среды. Все понимали, что такой успех, как в этом походе, вряд ли когда-нибудь повторится в жизни, значит, надо выжать из общей добычи долю пожирнее.
Пошли в ход многочисленные расписки, которыми корсары обменялись еще в начале похода. Смысл их был в том, что оставшийся в живых получал долю погибшего. Появились те, кто пытался подобные расписки подделывать. Такая форма взаимостраховки была вполне узаконена в неписаном уставе «берегового братства», но на фоне особенно больших денег стала видна ее ненадежность. После того как состоялись две кровавые дуэли из-за дележа наследства мертвецов, Олоннэ на общем собрании команды заявил, что решение этих дел придется отложить до прибытия на Тортугу. Двоих, особенно недовольных, попытавшихся устроить что-то вроде бунта корсаров, он приказал повесить.
Но и эта мера не прекратила брожение, тем более что на горизонте замаячила конфликтная ситуация номер два, причем такого рода, что ее разрешение отложить и перенести было невозможно.
Суть завязавшегося конфликта состояла в том, что в ходе налета на Маракаибо и Гибралтар произошло весьма ощутимое разделение в корсарской среде на тех, кто подчинялся Олоннэ, и тех, кто предпочитал считать своим начальником Шарпа. Слияния в единую рать, как хотелось надеяться в начале похода, не произошло. Пока было с кем воевать, это различие оставалось под спудом, не выступало на первый план, но вот когда пришло время делить деньги, все вдруг вспомнили, кто есть кто.
Под командованием Олоннэ к моменту окончания боев оставалось четыре корабля, а под командованием Шарпа — вдвое меньше. В таком же примерно соотношении разделились и флибустьеры. Но тут офицеры и матросы ирландца вспомнили, что еще до отплытия с Тортуги было решено делить все добытое поровну между командами эскадр.
Люди Шарпа говорили: нас вдвое меньше, это потому что мы были в самых опасных местах, потому что именно мы дрались со всем испанским флотом у мыса Флеао, когда все ныне здравствующие спокойно сидели в засаде. И по уговору, и по справедливости нам полагается половина денег.
Люди Олоннэ отвечали им, что погибло у них так много народу потому, что они не умеют толком держать оружия в руках. Нет никакой особой доблести в том, чтобы подставить свой лоб под испанскую пулю. Получается, если принять логику людей Шарпа, чем хуже воюет капитан, чем бездарнее сражается команда, тем больше они все должны получать денег из общей добычи.
Аргументы и той и другой стороны имели под собой основательную почву, а в таких ситуациях сторонам бывает особенно трудно договориться.
Иногда и совсем не удается.
Вдруг все ощутили, что в воздухе Гибралтара кроме запаха пожарищ и вони гниющих трупов появилось еще нечто. Это было предчувствие беды.
Все понимали — назревает столкновение. Город постепенно разделился на две части. Люди Олоннэ предпочитали не бывать в северных кварталах и в районе рынка. Корсары Шарпа и Баддока почти не заглядывали в южную часть Гибралтара.
Говоря трезво, у Шарпа не существовало шансов на общую победу, и он сам готов был пойти на какой-то разумный компромисс, но его головорезы оказались на это не способны. Когда они представляли себе, от каких сумм им придется отказаться, пойди они на условия «южан», зубы у них сами собой начинали скрежетать, а руки хватались за рукояти шпаг и пистолетов.
Сдерживало и тех и других одно — болезнь Олоннэ. Сразу после взятия города его свалила очень прилипчивая и жестокая лихорадка. Целую неделю, сотрясаемый мучительным ознобом и сжигаемый не менее мучительным жаром, капитан провел в беспамятстве, то закутанный в одеяло, то разметавшись на ложе.
Доктор Эксквемелин, главный медик эскадры в этом походе, применил к больному все имевшиеся в его распоряжении средства. Успеха не достиг, более того, он никак не смог повлиять на течение болезни, получалось так, что лекарства сами по себе, а лихорадка сама по себе.
Стали понемногу готовиться к тому, что придется что-то решать без участия Олоннэ. Собственно, Шарп и Баддок прибыли в патио бывшего дома алькальда города Гибралтара, чтобы еще раз (может быть, последний) попробовать закончить дело миром. Положение ирландца и его помощника было хуже не придумаешь. Согласиться на условие Воклена, ле Пикара и Ибервиля они не могли, их собственные головорезы оторвали бы им головы.
А предлагали те только одно: каждый из участников похода получает денег поровну, вне зависимости от того, к какой эскадре он принадлежит.
Не могли Шарп и Баддок уговорить вышеназванных господ принять те условия дележа, что считались справедливыми среди их людей.
Молчали они сейчас от того, что из-за стола, за мгновение перед тем как мы обратили на него свое внимание, встал доктор Эксквемелин, чтобы осмотреть больного.
Все замерли в надежде, что он, вернувшись, скажет: Олоннэ лучше. И тогда можно будет отложить все неприятные вопросы до его выздоровления.
Тишина стояла неприятная.
Ибервиль задумчиво ковырял ножом столешницу.
Шарпу это не нравилось. Не потому, что ему было жаль стол. Обнаженный нож француза казался ему той искрой, из которой может вспыхнуть пламя братоубийственной резни.
Распахнулась сводчатая дверь, за которой располагалась спальня капитана, и появился доктор. Уже по тому, как он шел, можно было понять: ничего хорошего не скажет. Остановившись у середины стола и оглядев всех своими выпученными рачьими глазками, он сказал:
— Без изменений. Человек не может так долго находиться в бессознательном состоянии. Мне кажется, завтра или послезавтра капитан Олоннэ умрет.
И тут прозвучало:
— С какой это стати?
Трудно оказалось узнать стоящего в дверях человека, но невозможно было не узнать этот голос.
— Капитан? — прошептал доктор, хлопая глазами.
— Капитан! — воскликнул Ибервиль, вонзая с размаху свой нож в каравай хлеба.
Остальные просто весело засмеялись. С огромным облегчением.
Шарп вытер со своего веснушчатого лба испарину.
Довольно уверенно переступая исхудавшими ногами, Олоннэ подошел к столу, сел на свое место во главе его и подтащил к себе кувшин с вином. Понюхал.
— Малага. А нет ли рома?
Эта реплика вызвала еще большую бурю восторга.
Кроме бутылки рома Олоннэ потребовал себе чистое, насколько это возможно, полотенце и новую одежду. Затем он разделся и велел бросить в огонь пропотевшую рубаху и панталоны.
— Только снимите с огня поросенка, иначе его нельзя будет потом есть.
Капитан смочил ромом полотенце и тщательно обтер свое сильно исхудавшее тело, после чего облачился в принесенное Роже белье, кожаные штаны и куртку. Остатки рома влил в рот.
Усевшись на свое место, Олоннэ сдвинул к краю каравай хлеба и положил на стол руки.
— Теперь расскажите, что тут у вас происходит.
Никто не решился ответить прямо. Даже капитан Шарп, который мог считать себя ровней по своему положению Олоннэ.
— Я догадывался, что главные неприятности начинаются после победы, но надеялся, что нам удастся избежать этого правила. Зря надеялся.
Шарп сумел-таки перебороть смущение:
— Я как раз и пришел сюда, чтобы договориться. Кому нужна драка между командами! Если мы не разделим по справедливости деньги, испанцы соберутся с силами и разделаются с нами.
— А что ты считаешь справедливым разделом? Твои люди хотят, чтобы их доля составляла вдвое больше того, что следует получить моим.
— Но таков был договор! Каждая эскадра имеет право на половину добычи. Ты не можешь этого не признать.
Олоннэ неохотно кивнул:
— Я помню, мы договаривались об этом.
— Вот видишь!
— То, что вижу я, сейчас не так уж важно. Существенно то, что видят мои люди. Они смотрят на нынешнее положение наших дел и не понимают, почему их кошельки должны быть вдвое легче, чем кошельки экипажей «Эвеланжа» и «Марктира».
Капитан вздохнул и поскреб пальцами грудь в вырезе рубахи. Понюхал пальцы. Поморщился.
— Положение безвыходное. Будем следовать букве договора — обидим одних, будем следовать здравому смыслу и справедливости — обидим других. И в том и в другом случае нас ждет большая кровь. И самое обидное то, что обе сражающиеся стороны будут проливать ее за то, чтобы вернуть деньги испанцам. Победитель не сможет увезти отсюда ни одного реала.
— И, даже понимая это, они желают драться, — сказал Воклен, — а не делиться.
Шарп хотел было ему что-то ответить, но Олоннэ решительным жестом перехватил эту попытку:
— Не будем раздувать опасное пламя хотя бы за этим столом. Из всякой ситуации есть выход. Из этой подходящего выхода я пока не вижу. Но что-то мне подсказывает — выход найдется. Когда — не знаю, но найдется.
— Время у нас пока есть, — усмехнулся Ибервиль.
— Время не деньги, его всегда достаточно, как говорят у нас в Бретани, — усмехнулся ле Пикар.
— А теперь, — Олоннэ поднялся со своего места, — я предлагаю всем лечь спать. Все, что мы могли сказать друг другу, уже сказано.
— А ужин, — удивленно спросил Ибервиль, указывая на стол, — вино, свинина?..
— Нет, пить мы сегодня не будем, ибо достигнутое в трезвом виде равновесие начнет раскачиваться уже после третьей кружки. После пятой вы вцепитесь друг другу в глотки. Вам ли себя не знать.
В словах капитана было много правды. Немного побурчав, корсары разошлись.
Когда двор опустел, Олоннэ подозвал к себе доктора:
— Мне нужна еще одна перемена белья, я потею как мышь.
— Ром выгоняет заразу, — высказал свое ученое мнение Эксквемелин.
— Тогда вместе с бельем принесите мне еще и рома.
Спокойному течению лечения помешал Роже. Приблизившись к голому капитану, он что-то прошептал ему на ухо.
— Кто такой?
— По выговору похож на испанца, но не испанец.
— Что ему нужно?
— Просит беседы наедине.
Олоннэ усмехнулся:
— Наедине — это значит минимум два телохранителя.
— И правильно, господин, уж больно он страшен. Как будто его несколько раз четвертовали.
— Четвертовали? Это, пожалуй, любопытно. Пусть приведут.
— Слушаюсь, господин.
Когда Горацио де Молину ввели в патио, Олоннэ сидел на своем прежнем месте, но в новом окружении. За спиной у него стояли двое дюжих корсаров, в руках у каждого было по два пистолета со взведенными курками.
Достаточно было бросить один взгляд на ночного гостя, чтобы понять: эти меры предосторожности отнюдь не излишни. Вошедший был если и не громадного роста, то весьма крупного, шагал он несколько неловко — видимо, следствие полученных некогда ран, — но в теле его чувствовалась огромная, животная сила. Лицо представляло собой сплошную маску из шрамов. В первый момент Олоннэ показалось, что это прокаженный. Оказалось — нет.
Взгляд же у де Молины был живой и довольно веселый. Возможно, такой эффект рождали отсветы пламени догоравших в патио костров.
— Кто ты?
— Меня зовут Марко Лупо.
— Ты не испанец?
— Я родом из Генуи, но испанцев знаю хорошо и много с ними общался.
— Где же?
— В тюрьме.
— Понятно. Тот факт, что ты сидел у них в тюрьме, освобождает меня от необходимости спрашивать, где тебя так изувечили.
Лупо жутко улыбнулся, как бы давая понять, что отдает должное понятливости собеседника.
— А где именно находилась эта тюрьма — в Европе или, может быть, в Новом Свете?
— Мне довелось побывать за решеткой и там и там.
— За что же судьба была к тебе так несправедлива?
— Я не говорю о несправедливости, меня всегда пытали и заковывали в железо за дело.
Олоннэ переменил позу, разговор делался все занимательнее.
— В чем же состояло твое прегрешение? Ты прелюбодействовал, может быть?
Телохранители капитана весело заржали.
— Нет, что вы, со мной даже портовые проститутки отказываются спать, не то что… Я грабитель.
— Вот оно что, грабитель! — с притворным ужасом воскликнул Олоннэ.
— Меня пытали в тюрьмах трех королевств и там же приговаривали к смертной казни.
— И каждый раз тебе удавалось бежать?
— Я цепенею от проницательности вашего ума, капитан Олоннэ.
Корсарский капитан засмеялся, было в этом уроде что-то одновременно и опасное и забавное.
— И вот ты, сбежав из очередной тюрьмы, решил пристать ко мне, правильно?
— Не совсем так, капитан.
— А как?
— Я расскажу. После многочисленных пыток моя внешность стала слишком запоминающейся, любой стражник в самом провинциальном городе знал, как я выгляжу. Чтобы спасти свою шкуру…
— Ты спас жизнь, а отнюдь не шкуру. — Олоннэ провел пальцем по своим щекам, показывая, что имеет в виду.
Лупо не отреагировал на этот оскорбительный выпад.
— Так вот, чтобы спасти свою жизнь, я хорошо заплатил одному лиссабонскому капитану, и он доставил меня в Никарагуа. Там я решил было предаться своим прежним занятиям, но недавно снова был схвачен. И за свои кровавые поступки приговорен к очередной смертной казни.
— И снова тебе удалось бежать?
— Почти.
— Что это значит, почти?
— Из самого здания тюрьмы мне удалось выбраться, и из города тоже, но вокруг Сан-Педро живут несколько странных индейских племен…
— Говори, говори.
Когда бы у телохранителей была возможность видеть не только затылок капитана, но и его лицо, они, несомненно, отметили бы, как он изменился в лице, услышав слова «Никарагуа» и «Сан-Педро».
— Эти индейцы схватили меня и приволокли обратно в город и сдали алькальду.
— В чем же тут странность?
— Считается, что индейцы враждуют с испанцами.
— Что еще ты можешь рассказать об этих индейцах?
Лупо задумался, он был явно обескуражен этим вопросом, он ждал других.
— Что я могу о них рассказать, когда я их почти и не видел и провел у них в поселке едва полдня? Одно могу сказать, странные индейцы. Живут они не так, как охотники за черепахами, но и на городских не похожи. По-моему, сразу за частоколом раскинулось возделанное маисовое поле… В общем, я не слишком присматривался, мне было не до того.
Олоннэ втягивал ноздри и кусал верхнюю губу, было видно, что он о чем-то напряженно размышляет.
— Ладно, Господь с ними, с этими индейцами. Если потом что-нибудь еще вспомнишь, расскажешь.
— Не вспомню. Рассказал все.
— Хорошо, на чем мы остановились?.. Ты оказался снова в тюрьме Сан-Педро, что дальше?
— А дальше прибыл в город капитан Пинилья, это начальник стражи в Кампече: ему были нужны добровольцы для войны с Олоннэ.
— Добровольцы?
— Да, регулярных войск у них не хватает, до сезона дождей подкрепление из метрополии прибыть не может. А губернатор Эспаньолы всерьез решил с вами покончить. Он вместе с адмиралом де Овьедо собирает целую армию. Заключенным они предлагают взять в руки оружие и за это обещают помилование. Я вот взял.
— Ну, у тебя, насколько я понимаю, особого выбора не было.
— Пожалуй.
— И что же, испанцы такие дураки, что поверили тебе, будто ты станешь проливать за них кровь, а не сбежишь при первой возможности?
— Я тоже рассчитывал на легкий побег, но у них все хорошо продумано. Охрана так расставлена, что риск слишком велик. Лучше сразиться с корсарами и получить свободу, чем броситься в чащу, где еще неизвестно что ждет, и получить пулю в спину.
Олоннэ налил себе стакан рома, приблизил к губам, но пить не стал.
— Но ты все-таки убежал.
— Мне это удалось только позавчера.
— Позавчера?
— Два дня пробирался сюда по джунглям.
Капитан вскочил и быстро прошелся от костра до костра.
— Дьявол! Так это значит, что армия дона Антонио поблизости!
— Поблизости, — охотно кивнул урод, — в двух днях пути.
— И насколько она велика?
— Восемь рот регулярного войска и шесть добровольческих. Причем у добровольцев все сержанты… из разжалованных офицеров. Очень хотят выслужиться, им обещано восстановление в звании. Просто звери.
— И где точно они стоят?
— В миле южнее Маракаибо. Там, где к берегу подходит огромная отмель.
— Даже если ты говоришь правду… — медленно заговорил Олоннэ.
— Я говорю правду, капитан, зачем мне врать?
— Этого я не знаю, но я не знаю также, зачем тебе было убегать от испанцев. При таком соотношении сил победа им обеспечена, а значит, тебе обеспечена свобода.
— Я им не верю. Сегодня они не моргнув глазом сулят мне освобождение, завтра опять-таки не моргнув глазом меня повесят. Я убил сборщика налогов и двоих солдат. Я зарезал вдову командора Бернардо, и, самое главное, я ограбил церковь, это уже в Сан-Педро. После этого…
— Хватит.
Урод осекся.
Капитан обратился к телохранителям:
— Уведите и заприте его. Как следует. Вы сами слышали, какой он мастер по части побегов.
— Я только хотел сказать, капитан…
— Это просто мера предосторожности, тебе нечем подтвердить твои слова, кроме изодранной испанской пехотной формы, что ты на себя нацепил. Так что залогом правдивости твоих слов будет твоя жизнь. Это, на мой взгляд, справедливо.
— Я бы мог быть полезен в бою, — глухо и недовольно сказал Лупо, опустив израненную голову на израненную грудь.
— Возможно. Но мне будет спокойнее, когда ты будешь под замком. Уведите.
— Одно слово, капитан.
— Что еще?
— Индейцы.
— Что? — поморщился Олоннэ. — Какие еще индейцы?!
— Те, что поймали меня возле Сан-Педро.
— А-а! Говори.
— Я предлагал им деньги, чтобы они меня освободили. Большие деньги, вдова командора Бернардо была богатая женщина. Так вот, они не взяли у меня денег.
— Такие честные дикари?
— По-моему, они просто не знали, что это такое.
Перебежчика увели, предварительно скрутив ему руки.
Рядом с задумавшимся капитаном остался один из телохранителей. Чутье ему подсказывало, что не все дела на сегодня закончены. Возможно, именно сейчас все и начнется. Олоннэ опустил голову на стол, раскинув при этом руки, и что-то шептал про себя.
Угли в кострах почти погасли, и кострища переливались в углах патио, как остывающие саламандры.
Летучие мыши совершенно обнаглели и проносились в каких-нибудь трех футах над столом.
— Франсуа, — сказал Олоннэ, не отрывая щеки от теплых досок.
— Я слушаю, капитан.
— Сейчас ты возьмешь с собой надежного парня, и такого, который умеет держаться в седле.
— Возьму, капитан.
— И отправишься к Маракаибо.
— Отправлюсь, капитан.
— Ты слышал, что сказал этот урод: примерно в миле южнее этого городишки стоит лагерем армия дона Антонио де Кавехенья.
— Сосчитать их костры и палатки?
— И это тоже, но главное — выясни, что у них там на берегу.
Франсуа помотал головой, чувствуя, что смысл слов капитана до него доходит не вполне.
— На берегу?
— Да, на берегу, вдоль берега. Нет ли там пушек. Большого количества пушек.
— Понимаю, капитан.
— И вот еще что. Возьмешь мою подзорную трубу, она лежит в изголовье кровати, если ее кто-нибудь не украл, пользуясь моей слабостью. Так вот, с этой трубой заберешься на самое высокое дерево и осмотришь окрестности. И смотреть будешь не в сторону берега, а в сторону лагуны и моря. Где-нибудь на горизонте постарайся заметить корабельные мачты.
— Постараюсь, если они там есть.
— По моим расчетам, они там должны быть. Это все. Лошади здесь, за домом на конюшне. Да, самое главное — вернуться необходимо к рассвету. До Маракаибо два дня пешего хода, на лошадях можно успеть.
— Успеем, капитан.
Франсуа нырнул в пропитанный мраком дом.
— Роже! — крикнул Олоннэ.
Седой камердинер явился на зов. Его голос прозвучал за спиной капитана:
— Я здесь, господин. Вам вновь плохо?
Олоннэ принял более естественную позу.
— Пойди сейчас к этому уроду и скажи, что, если он забыл мне что-то рассказать, я готов его выслушать. Я попробую заснуть, но не бойся меня разбудить, когда генуэзец скажет, что созрел для разговора.
Глава девятая
Несмотря на страшную жару, капитан Олоннэ появился на собрании команды во всем черном. Черный камзол, черные панталоны, чулки и башмаки. Единственная защита от обжигающих лучей полуденного солнца — шляпа тоже была черного цвета.
Корсары собрались перед самым высоким зданием в городе — церковью Святого Себастьяна. Это место они выбрали не по духовным соображениям. Просто церковь располагалась на границе «северной» и «южной» частей Гибралтара и являлась, таким образом, нейтральной территорией.
На ее высоких каменных ступенях стояли кроме Олоннэ капитаны Шарп, Баддок, ле Пикар, Ибервиль и доктор Эксквемелин. Воклен отсутствовал, он с особо выделенной командой корсаров охранял захваченное золото.
Капитан Олоннэ эту сходку не собирал, она возникла стихийно после того, как корсары узнали, что их главный вожак выздоравливает. Они требовали от него немедленного решения затянувшегося спора.
Толпа была очень возбуждена и вооружена так, словно прямо с этой площади всем предстояло отправиться на штурм укрепленной вражеской крепости. Капитан надеялся, что поднявшееся в зенит солнце разгонит собравшуюся на рассвете толпу, но на этот раз его надеждам не суждено было сбыться.
Самый лучший способ оттянуть принятие решения — это начать игру в демократию. Надо дать высказаться всем, кто этого хочет. Как правило, по вопросам, имеющим жизненно важное значение, свое мнение имеют все.
Один за другим выходили перед толпой украшенные шрамами, ожогами и акульими укусами бывалые морские волки и, выразительно положив руки на рукояти пистолетов, сабель и тесаков, начинали пространно объяснять, почему нужно поступить так, как считают они, а не иначе.
В глубине души Олоннэ благодарил Бога за то, что его матросы и канониры, несмотря на свое французское происхождение, не научились говорить коротко и афористично, что для выражения самой простой мысли им необходимо так много слов.
Прочие капитаны смотрели на него с некоторым недоумением. Они понимали, что он чего-то ждет, но не могли понять, чего именно. Зачем накалять эту воинственную вольницу, ведь еще немного, и грянет такой взрыв, что не спастись никому.
Да, капитан Олоннэ ждал — ждал возвращения своих разведчиков, но, как впоследствии выяснилось, ждал напрасно и напрасно жарил на солнцепеке всех собравшихся. И Франсуа, и его напарник нелепыми тушами плавали в глубоком тропическом ручье, и вода вокруг них была окрашена красным. Их выследили не испанцы, испанцам они ни за что бы этого не позволили. Судя по тому, что оба трупа были без скальпов, они стали жертвой нападения здешних индейцев.
Капитан Олоннэ знал, что он хочет сказать корсарской сходке, и знал, в каком направлении хочет повернуть развитие событий, но ему нужны были доказательства того, что он правильно оценивает ситуацию.
— Капитан, — сказал Ибервиль, наклонившись к Олоннэ и невольно подмигивая бельмастым глазом, — посмотри.
— Вижу, — сухо ответил Олоннэ.
Он и вправду видел, что в плотной человеческой массе, толпившейся перед церковными ступенями, началось медленное, но вполне определенное движение. Наблюдательному человеку было нетрудно распознать смысл этого движения. Капитан Олоннэ был наблюдательным человеком.
К Олоннэ подошел Шарп, старавшийся во время всего собрания держаться от него как можно дальше, чтобы продемонстрировать своим сторонникам собственную непримиримость в отстаивании их интересов.
— Послушай, время разговоров подходит к концу. Они уже делятся на команды. Скажи что-нибудь.
Слова ирландца поддержал крик из толпы:
— Олоннэ, почему ты молчишь, Олоннэ?
— Ну что ж, — прошептал он про себя, — придется открывать карты.
Он сделал было шаг вперед, придерживая свою шляпу, чтобы поднятой рукой скрыть гримасу раздражения на лице, но тут за его спиной появился Роже. Появился и быстро прошептал черными губами на ухо своему господину:
— Он согласен. Он хочет немедленно с вами поговорить.
Капитан едва заметно кивнул и, выйдя на край верхней ступени, сказал:
— Я долго слушал ваши речи. Я слушал их очень внимательно. Я надеялся найти в них хотя бы крохотное зернышко здравого смысла. Я разочарован. Глубоко разочарован. Жадность и глупость — вот что сидит в ваших головах, ничего больше.
Приземистый рыжебородый корсар в красном платке и кожаной безрукавке на голом теле выскочил вперед:
— Вместо того чтобы обличать нас, ты бы лучше предложил, как нам честно разделить наши деньги.
Сход одобрительно загудел.
— Положение безвыходное, причина в вас самих, Посмотрите на себя.
Толпа разделилась, как амеба, на две неравные части. Между этими частями образовалось расстояние шагов в пять. Один плотный строй стоял против другого.
Было слышно, как защелкали взводимые курки.
— Но я помогу вам, я знаю справедливый способ.
Все взгляды обратились к говорившему.
— Погодите, совсем недолго. Я сейчас вернусь. И когда вернусь, все устрою.
Заявление было столь ошеломительным в создавшемся положении, что не прозвучало ни одного возражения. Пока перегретые корсарские мозги пытались сообразить, что же произошло, Олоннэ исчез с крыльца.
Войдя в темную, каменную, без единого окна каморку, где пахло перепрелым сеном, плесенью и еще чем-то столь же отвратительным, Олоннэ бросил:
— Только очень быстро, твои откровения должны быть короткими, у меня нет времени на словесные игры.
Лупо лежал у дальней стены, связанный по рукам и ногам сыромятными ремнями.
— Прикажите меня развязать.
— Сначала правда, потом все остальное.
— Мне трудно говорить.
— Тогда я сам все скажу. Ты не сбежал от испанцев, они сами тебя послали. Кто именно? Да, впрочем, можешь и не говорить, я и так знаю — дон Антонио де Кавехенья. Да?
Лупо несколько раз сглотнул слюну и глухо сказал:
— Да.
— А дальше все просто. Никакого огромного войска там у Маракаибо нет, а есть батарея на берегу, в форте Ла-Палома, правильно? Большую Желтую отмель мы сможем обойти только по фарватеру вдоль берега. Вдоль того берега, где стоят ваши пушки, угадал? Корабли у нас груженые, медленные, а если кто и проскочит под дулами береговой батареи, их ждут несколько галионов адмирала де Овьедо. Вот видишь, я все угадал сам. Твоя миссия не удалась, генуэзец. Я не испугался твоих россказней, сейчас я отправлю своих людей в тыл вашей батарее, и мы проверим, каковы ваши канониры в сухопутном бою. Ну, что молчишь?
Лежащий пошевелился, пытаясь сменить свое положение на менее мучительное. Ему это не удалось, говорить пришлось, выдыхая воздух прямо в прелую подстилку.
— Я ничего не знаю про батарею, но, даже если она есть, не это самое важное.
— Ну, договаривай!
— Все, что я вам говорил про армию дона Антонио, правда.
— То есть эти полторы тысячи не миф?
— Ни в коем случае. Более того… — Лупо страшно чихнул, подняв целый вихрь трухи.
— Я жду.
— Они не ждут вас возле Маракаибо.
— Выражайся яснее.
— Одно условие.
— Ты еще пытаешься ставить мне условия?! Находясь в таком положении?!
— Вы обещаете мне сохранить жизнь, а я сообщу вам то, что спасет вас. И вас, и всех ваших людей.
Олоннэ невольно обернулся и прислушался. Возле церкви все еще было тихо.
— Ладно, черт с тобой, обещаю.
— Они направляются сюда.
— Испанцы? Не лги, никогда они не вылезут из крепости ради того, чтобы сразиться с корсарами на открытом месте. Тем более в джунглях. Дон Антонио сто раз наложит в штаны, прежде чем подумает о такой возможности всерьез.
— Они слишком уверены в своих силах. И потом, они думают, что вы их не ждете. При неожиданном нападении… Вспомните побережье Кампече.
— Им понравилось заставать меня врасплох, -задумчиво произнес Олоннэ.
— Прикажите меня развязать.
— Прикажу после того, как подтвердится, что ты меня не обманул. Но учти, и после этого я не стану тебе полностью доверять. Мне бы надо тебя пристрелить.
— Вы же дали слово…
Олоннэ расхохотался:
— Ты, истребитель командорских вдов и грабитель церквей, веришь в силу данного слова!
Лупо страшно и тяжко заворочался на гнилой соломе.
— Ты не умрешь, урод, но совсем не потому, что я дал слово тебя не убивать.
С этими словами Олоннэ выскочил из камеры.
Когда он появился перед церковью Святого Себастьяна, то застал почти не изменившуюся картину. Те же два сплоченных строя, те же оскаленные рты, вынутые из-за пояса пистолеты, обнаженные кинжалы. Бешено сверкающие глаза.
Между двумя вооруженными стенами расхаживал Ибервиль. Он единственный верил в то, что кровопролитие удастся предотвратить, единственный, кто пытался образумить рвущихся в бой.
— Могу вас обрадовать! — крикнул Олоннэ, входя в тот же коридор. — Вы добились, чего хотели!
— Деньги, скажи нам, как ты их предлагаешь разделить!
— Деньги!
— Говори!
— Перестань издеваться, Олоннэ!
Человек в черном камзоле остановился. Не по своей воле — и в правое и в левое плечо его впилось по острию шпаги. Он не в силах был сделать больше ни шага.
— Говори, наконец!
— Добытые нами деньги придется делить не на две, а на три части.
— Что это значит?! — заревели пираты.
— Пока вы тут препирались друг с другом, а я валялся без сознания, явился всем нам хорошо знакомый дон Антонио де Кавехенья с войском и с большим желанием вмешаться в процесс дележа.
Гробовое, даже загробное молчание было реакцией на эти слова.
Потом хлынули крики:
— Где он?! К дьяволу! Смерть ему! — и тому подобное.
Олоннэ поднял руку, и все замолкли. Он снова стал для них командиром.
— Он находится в двух милях от города, собирается уже сегодня напасть на нас и всерьез рассчитывает застать нас врасплох. Только что явился мой лазутчик и рассказал все это.
Корсарские толпы заволновались, теряя плотность.
— Предлагаю сделать две вещи, — продолжал говорить капитан, — отложить дележ и не позволить этому благородному сеньору напасть на нас неожиданно.
В уговорах не было нужды. Могли бы возникнуть проблемы, если бы дон Антонио находился где-нибудь далеко, а когда выяснилось, что враг рядом, о деньгах было тут же забыто.
За каким чертом деньги идущему в бой?!
Глава десятая
Дон Антонио де Кавехенья очень боялся Олоннэ, но при этом был полностью уверен в победе. Слишком хорошо он подготовился в этот раз. План мести казался ему безупречным. По его подсчетам, которые были сделаны на основании донесений нескольких лазутчиков, у корсаров осталось никак не больше четырех сотен человек. Скорей всего, спасая награбленное, они попытаются уклониться от боя, узнав о приближении к Гибралтару целой армии. Разбойники бросятся к своим судам и отправятся на север, к выходу в открытое море, и попадут под огонь замаскированной на побережье, в полуразваленном форте Ла-Палома, батареи. Тех, кому, паче чаяния, удастся спастись, ждут корабли адмирала де Овьедо, яростно мечтающего о реванше. Конечно, при таком развитии событий большая часть драгоценного груза окажется на дне озера, но слава победителя Олоннэ стоит нескольких сотен тысяч реалов.
Возможен был и другой вариант развития событий. Корсары, известные своей безумной храбростью, могут атаковать испанскую армию. Втайне дон Антонио мечтал об этом. Таким образом, как говорят в Галисии, можно будет убить двух уток одновременно, а также перестрелять всю эту корсарскую шваль и сохранить наворованные ими денежки. Но в такое счастье его высокопревосходительство, будучи человеком реалистически мыслящим, всерьез не верил.
Не верил он и в то, что на бандитское логово, каким стал славный город Гибралтар, можно будет напасть неожиданно. На это рассчитывали некоторые молодые офицеры. Но на то они и молоды, чтобы питаться несбыточными надеждами.
Поедая куропатку и запивая завтрак белым астурийским вином, губернатор Эспаньолы предавался вышеприведенным размышлениям. За его спиной, у входа в губернаторскую палатку, стояли два пехотинца в касках, кирасах и с аркебузами на сгибе правой руки. В некотором отдалении тесной группой расположились штабные офицеры. Они с иронией посматривали в сторону завтракающего дона Антонио. Все они были экипированы для боя и никак не могли понять, почему им никак не отдадут приказа к немедленной атаке.
Солдаты двух резервных рот, под охраной которых его высокопревосходительство наслаждался вином и дичью, сидели на голой земле под кронами развесистых деревьев, укрываясь от жары. В битву их тянуло меньше, чем господ офицеров, но и они понимали, что дело лучше закончить днем. О ночном сражении с этими бешеными бандитами никто из них не мог думать без содрогания.
Послышался стук копыт с той стороны, где находилась передовая линия. Это прискакал лейтенант Лопес. Спрыгнув на землю, он вытянулся перед импровизированным губернаторским столом.
— Новости? — поинтересовался его высокопревосходительство.
— Нет.
— Так зачем тебя послали?
— Капитан Пинилья велел передать, что стрелки его роты вот уже полтора часа находятся в виду окраин города.
Дон Антонио специально взял с собой в поход капитана, забрав его из подчинения дону Ангеррану де ла Пенья. Капитан был единственным, кто имел положительное сальдо в смертельной торговле с Олоннэ. Присутствие такого человека в своем войске дон Антонио считал хорошим знаком.
Лейтенант Лопес продолжал:
— Один бросок — и мы можем овладеть внешними укреплениями. Они никем не охраняются.
Губернатор с некоторым неудовольствием подумал, что капитан, конечно, очень хороший офицер, но уж больно беспокойный.
— Может быть, корсаров уже нет в городе, а, лейтенант?
Лейтенант пожал плечами.
— Может быть, они уже грузятся на корабли. Прослышали о нашем приближении и бегут.
Лейтенант снова не нашел ничего лучшего, как сделать движение плечами.
— Набросившись на них, не приведем ли мы их в состояние ярости? Не станут ли они сопротивляться, как загнанные в угол крысы?
— Все возможно, ваше высокопревосходительство.
— А на улицах города, без пушек, без всякого строя и порядка, не превратятся ли наши шансы на победу из подавляющих в сомнительные?
— Очень может быть, ваше высокопревосходительство.
— То-то и оно.
После каждого произнесенного им предложения дон Антонио отхлебывал из кубка. После «то-то и оно» кубок опустел. Завтракающий военачальник хотел было обернуться, чтобы сделать соответствующий знак камердинеру, но тут снова послышался стук копыт. Вслед за ним из-за стены магнолий выплыл грохот ружейной пальбы.
— Что это там? — поинтересовался губернатор у лейтенанта, как будто тот мог что-то знать.
Новый вестник был в растерзанном камзоле, щека расцарапана — продирался напрямик через колючие кусты.
Стоявшие в отдалении штаб-офицеры сбежались к барабану, на котором валялись кости куропатки и пустой серебряный бокал.
— Что это там? — повторил свой вопрос его высокопревосходительство, вставая и выдергивая салфетку из-за ворота.
Окровавленный вестник, перебарывая схвативший его за горло спазм, пробормотал:
— Страшная резня. Они пробрались по дну высохшего ручья и как будто из-под земли… Они как бешеные звери. Стрелки уже не выдержали и разбегаются. Кирасиры…
— Что кирасиры?!
— Кирасиры пытаются унять лошадей, испуганных горящей паклей… Откуда-то появились вязанки с соломой. По всему склону оврага горит сухая трава, лошади сбились в кучу…
Губернатор швырнул говорившему в голову скомканную салфетку, как бы приказывая заткнуться.
— Капитан Клавихо!
Капитан вырос из-под земли.
— За тем ручьем две роты добровольцев?
— Да.
— Идите вдоль течения и там, где ручей плавно изгибается, займите оборону на этом берегу. Зарядите все аркебузы и пистолеты. Огонь залпами. Когда они поймут, что эффект неожиданности утрачен, они откатятся.
— Понимаю, ваше высокопревосходительство.
— Лопес!
— Я здесь.
— Пинилья, судя по всему, благополучно сдохнет без вас. Будете помогать капитану Клавихо.
Оба офицера бегом направились в указанном направлении.
— А мы, — дон Антонио оглядел оставшихся, — а мы, господа, займемся организацией обороны на этом рубеже. Лейтенант Гарсиа, лейтенант Асприлья, вам подробно нужно объяснять, что делать, или кое-что соображаете и сами?!
Лагерь мгновенно был охвачен множественным, полупаническим движением. Дон Антонио не принимал участия в общей суете. Он стоял в задумчивости, почесывая переносицу и шепча про себя: «Когда они успели так подготовиться к встрече, когда?!»
— Де Молина! Что ты там натворил, ублюдок!
Надо сказать, что валявшийся на соломе урод тоже пребывал в состоянии совершеннейшей растерянности. Он все сделал, как было велено. Лишь утром сообщил Олоннэ о приближении испанского войска, разыграв сцену внезапного раскаяния. По мнению дона Антонио, узнав это, корсары должны были сломя голову броситься к кораблям и немедленно отплыть, чтобы попасть под огонь замаскированной батареи. Сам де Молина, он же Лупо, считал, что испанский губернатор в своих расчетах не ошибается. Корсары поступили по-другому. Против законов здравого смысла и в соответствии с тайными ожиданиями дона Антонио. Надобно только заметить, что ожидания эти хотя и были тайными, но от этого не перестали быть глупыми. Его высокопревосходительство ждал грубой, лобовой, основанной на одной лишь безумной ярости атаки. Он предполагал хладнокровно расстрелять толпу кровожадных идиотов. Но он не мог себе представить, что лютая злоба, кипевшая в сердце каждого корсара, совместится с ледяным спокойствием и острой изобретательностью их предводителя. А такое сочетание превращается в смертельное оружие.
Де Молина лежал на трухлявой подстилке и прислушивался к шуму недалекого боя. Вдоволь наудивлявшись тому, как повернулись события, он начал размышлять над тем, что ждет его в ближайшем будущем. Ему не понравились последние слова, сказанные ему Олоннэ. Не понравились и озадачили. Что это за тайный смысл, что несомненно чувствуется в них?
Еще он думал: вполне возможно, что дон Антонио будет убит во время сегодняшнего боя — судя по грохоту, сражение идет нешуточное. Что тогда станется с дочерью? И посвящен ли кто-нибудь, кроме губернатора, в суть его договора с сеньором де Молиной? Может, смерть губернатора закроет все счета?
Пока он размышлял, четыре сотни корсаров с гиканьем и ревом рвались через заросли, преследуя ретирующихся испанцев. Сделав один шаг к отступлению, трудно остановиться. Напрасно те из испанских офицеров и сержантов, в ком сохранилась воля к сопротивлению, пытались сколотить хотя бы небольшие группы стрелков и пикинеров. Стоило перед такой группой человек из десяти — пятнадцати, замерших с выставленными вперед пиками и аркебузами, появиться двум корсарам с окровавленными саблями в руках, как солдаты католического короля бросались врассыпную.
Дон Антонио сам проследил за установкой пушек и четырех небольших мортир. Все было сделано по всем правилам военного искусства — пространство перед палаточным лагерем простреливалось полностью. Пусть в рукопашном бою средний испанский пехотинец уступает любому корсару, но пушки есть пушки. Пусть орут и размахивают своими кровоточивыми клинками сколько им будет угодно, посмотрим, как они запляшут, когда на них обрушится хорошая порция картечи.
Его высокопревосходительство был так увлечен делом, что не заметил подбежавшего к нему Клавихо.
— В чем дело? — грозно спросил он бледного от ужаса капитана.
— Ва… ва…
— Да, мое высокопревосходительство желает знать, что там у вас происходит?!
— Они разбежались.
— Корсары?
— О, если бы! Добровольцы. Осталось только несколько сержантов.
— Разбежались?!
Лейтенанты Гарсиа и Асприлья, за секунду до этого проявлявшие чудеса активности, замерли, когда до их сознания дошел смысл этих слов.
Дон Антонио обратил в сторону ручья, обязанного служить непроходимым рубежом обороны, удивленный взгляд. Удивленный и растерянный.
— Куда же подевалась моя армия? — тихо спросил он. Вопрос ни к кому не был обращен, никто на него и не ответил.
— И получаса не пройдет, как они будут здесь, — прошептал капитан Клавихо.
Дон Антонио поглядел в сторону своих канониров, они стояли возле пушек с зажженными фитилями. Ему показалось, что руки их трясутся от страха. Еще меньше уверенности содержал в себе облик аркебузиров. Они нервно оглядывались, как бы примеряясь, какой путь к бегству наиболее будет удобен при появлении надвигающегося через джунгли жуткого врага.
Было понятно, что надеяться на эту армию не стоит, она уже заранее чувствует себя побежденной.
— Сколько у нас есть лошадей? — спросил дон Антонио, и все офицеры с облегчением вздохнули.
Солдаты тоже отнеслись с пониманием к намерению их главнокомандующего отступить.
— Пушки придется бросить, — заметил лейтенант Лопес.
— Там, куда мы отступаем, пушек достаточно. Там мы укрепимся как следует, и этим дикарям до нас не добраться, — во всеуслышанье заявил дон Антонио, и заявил он это таким тоном, что намечавшееся бегство с поля боя должно было предстать как один из способов самого решительного наступления.
Глава одиннадцатая
— Они просят тебя выйти, — сказал Шарп, разглядывая носки своих сапог. Ему было неудобно.
— Даже после этой победы ты собираешься бежать? В своем ли ты уме, Том?
Шарп тяжко и протяжно вздохнул.
— Через два часа мы выступим и на их плечах ворвемся в Маракаибо. Все добровольцы дона Антонио разбежались, несколько сотен солдат мы перебили, им нечего нам противопоставить. А кроме того, у нас есть мощный союзник — паника, которая сидит в душе каждого испанца.
Воклен, ле Пикар и Ибервиль, державший на перевязи раненую руку, молчали, но чувствовалась, что они полностью поддерживают своего вожака.
— Я им говорил все то, что ты говоришь мне сейчас, но они не хотят больше ждать, они хотят уплыть и требуют свою половину денег. Они говорят, что оказали тебе сегодня большую услугу, и требуют справедливого воздаяния.
Олоннэ, не говоря больше ни слова, взял со стола шляпу, водрузил на голову и, твердо ступая, вышел во внутренний двор. Там за давешним столом сидело человек восемь или десять английских и голландских корсаров — выборные от команд тех двух кораблей, что признавали своим командиром Шарпа.
— Садиться за стол в чужом доме без приглашения хозяина невежливо.
— Так в чем же дело, Олоннэ, пригласи. Ведь у нас есть о чем потолковать, — весело крикнул, обнажая огромные желтые зубы, капитан Баддок, его товарищи поддержали его одобрительным галдежом.
— К своему столу я приглашаю только друзей, — сухо заметил Олоннэ.
— А-а! Вот как ты заговорил. Подумай, кому ты угрожаешь? Тем, кто только что добыл тебе победу! — продолжал вещать Баддок. — Мы хотим только одного: получить те деньги, что полагаются нам по договору. Если ты человек чести, то ты не станешь торговаться, как не стали торговаться мы, когда дон Антонио хотел взять тебя за горло.
— Он хотел взять за горло всех нас,
— Тебя в первую очередь. Из-за тебя он проявил столько прыти, собирая испанских псов по всему Мэйну. Не я, не Шарп и не ле Пикар с Вокленом убили его дорогого сыночка Педро. Надеясь отомстить тебе, он гоняется за тобой по всем морям. Возле мыса Флеао мы от него отбились, сегодня, с Божьей помощью, тоже. Но третий раз испытывать судьбу желания нет. Ни у меня, ни у людей из моей команды.
Олоннэ выслушал эту речь достаточно спокойно. Свидетели перепалки считали, что он немедленно постарается заткнуть пасть наглецу. Олоннэ так бы и сделал, но он слишком хорошо знал: так же, как этот бристольский крикун, думают очень многие, даже из числа французов, и с этим приходилось считаться. Драка между командами нужна ему сейчас ничуть не больше, чем утром. Победа над людьми Шарпа и Баддока, скорей всего, стала бы поражением в войне с доном Антонио.
— Хорошо, — сказал Олоннэ.
— Что хорошо?! — все с тем же напором спросил Баддок.
— Моя совесть чиста, я сделал все, чтобы спасти вас от этого, но вы сами рветесь в бездну.
— В какую еще бездну!? Перестань говорить загадками. Скажи лучше, когда отдашь деньги.
— Сейчас.
— Сейчас?!
Такого поворота не ждал никто, даже самые оптимистически настроенные англичане.
— Половину? — подозрительно прищурился Баддок.
— Конечно, как договаривались на Тортуге.
Теперь полезли глаза на лоб у ле Пикара, Воклена и Ибервиля.
— Как я вижу, ваши выборные уже здесь, правильно? Воклен при вас откроет сундуки. Если понадобится взвесить что-то, можете принести свои весы.
Радость на лицах Баддока, Шарпа и остальных англичан сменилась сомнением. Такая безропотная и полная сдача позиций походила на ловушку.
— Чего молчите и чего ждете? Воклен, доставай ключи.
— Почему это ты стал таким добрым, а, Олоннэ?
— Нет, добрым я не стал. Особенно по отношению к вам. Я вас считаю не только предателями, но и дураками. За двести пятьдесят тысяч реалов вы в моем лице приобретаете врага по гроб жизни.
— Угрозы можешь оставить при себе.
— Да, ты прав. Пустые угрозы — это то же самое, что собачий лай. Я забыл сказать, у меня будут к вам два условия.
— Что еще за условия? — насторожился Баддок.
— Вы сейчас объявите, что не будете претендовать на те деньги, которые я добуду после того, как наши пути разойдутся.
— Это само собой разумеется.
— Лучше, если вы об этом объявите прилюдно.
Соответствующие слова были произнесены.
— Какое второе условие? — поинтересовался Шарп, не принимавший до этого активного участия в разговоре.
— Второе? Вы немедленно, как только погрузите ящики с деньгами на борт, отплывете.
— Как, ты не дашь нам даже запастись питьевой водой?! — Возмущение Баддока было справедливым, по законам «берегового братства» так поступать не полагалось.
— Хочу тебе напомнить, мой любезный враг, что озеро Маракаибо пресноводное. Когда солнце коснется тех деревьев, я буду считать себя вправе атаковать вас.
С этими словами Олоннэ вернулся в дом, где приступил к прерванному обеду. Ле Пикар, Ибервиль и Воклен присоединились к нему немного позже. Они не могли позволить, чтобы процедура раздела добычи прошла без их наблюдения. Присоединившись же, они обрушили на своего капитана шквал недоумения:
— Что ты делаешь?!
— Что ты задумал?!
— Что нам сообщить командам?!
— Они нас разорвут на части!
Олоннэ был невозмутим:
— Успокойтесь и попробуйте этого черепахового супа. Знаете, доктор, — обратился он к Эксквемелину, принимавшему участие в трапезе, — аппетит у меня совершенно восстановился. А ведь сегодня утром сама мысль о еде была мне неприятна.
Он решительно разорвал тонкую маисовую лепешку.
— И еще, доктор, чем больше я размышляю над природой моего недомогания, тем определеннее прихожу к выводу, что никакая это была не лихорадка.
Доктор еще более выпучил свои и без того выкаченные глаза.
— А что?
— Если бы это была лихорадка, она бы поразила еще хотя бы одного из той массы людей, что толчется вокруг меня, а?
Эксквемелин достал платок и промокнул сделавшийся мокрым от пота лоб.
— С научной точки зрения и по здравой логике…
— Говорите прямо, доктор, не надо прятаться за словами. Было во всей нашей эскадре еще одно заболевание с такими же симптомами, как у меня?
Голова с выпученными глазами отрицательно покачалась из стороны в сторону.
Олоннэ удовлетворенно улыбнулся:
— Хорошо, что вы признали это, доктор. Если бы вы стали упорствовать, я бы начал подозревать вас в попытке отравить меня.
— Меня?!
— Но успокойтесь, я же сказал уже, что не подозреваю. Хотя, по зрелом размышлении, надобно признать, что отравитель должен был бы находиться в близком моем окружении. Может быть, не ближайшем, — Олоннэ обвел взглядом своих соратников, — но близком.
— Это происки Баддока, — заявил Ибервиль, — я это знаю.
— Неужели знаешь? — заинтересовался капитан.
— Ты же сам имел возможность наблюдать сегодня, как он к тебе относится.
— Ну если ты основываешь свои выводы только на этом… Ладно, оставим пока. Насколько я понял, вы хотели задать мне несколько вопросов.
— Да, — угрюмо сказал ле Пикар, — мы хотели узнать, что нам говорить нашим людям. Они придут в такую ярость, когда узнают…
— А они не узнают.
— То есть?
Олоннэ отрезал себе кусок ветчины и с наслаждением впился в него зубами.
— Вы же им не расскажете ничего. Я тоже. Доктор, как человек благоразумный, тоже предпочтет молчать.
Доктор энергичным жестом подтвердил, что будет нем как рыба. А если надо, то и слеп как червь.
Тут в разговор вступил Воклен. До этого момента он не принимал никакого участия в беседе, и стороннему наблюдателю могло показаться, что он оказался здесь случайно. Когда шла речь об отравителе, он изо всех сил старался поймать взгляд капитана, дабы тот оценил, сколь тверд и честен его, Воклена, взгляд.
Олоннэ не посмотрел в его сторону. Это можно было истолковать двояко. Или капитан даже в ничтожнейшей степени не считает своего старого соратника способным на предательство, или уже уверен, что отравитель именно он.
Почесывая короткими волосатыми пальцами бугристую, до темно-коричневого цвета загоревшую лысину, он сказал:
— Но слишком долго скрывать нашу щедрость не удастся. Плохие сведения имеют обыкновение распространятся мгновенно.
— А вы для чего?! Постарайтесь, если даже такие слухи начнут расползаться, чтобы они расползались медленно.
Олоннэ встал со своего места и подошел к окну.
— Видите, солнце коснулось тех древесных вершин. Шарп и Баддок уже отшвартовались. Когда стемнеет, выступаем и мы.
— Зачем? — спросил Ибервиль.
— В погоню.
— И мы будем с ними драться?
— Не стали этого делать на суше, но сделаем на море? — раздались голоса изумленных капитанов.
— Идиоты! — с чувством сказал Олоннэ.
Никто не обиделся на подобное титулование. По тону, каким оно было произнесено, все поняли, что они действительно ведут себя как идиоты.
— Мы будем следовать в некотором отдалении. Мы не догоним Шарпа и Баддока и высадимся на берег чуть южнее Маракаибо. Наших друзей поджидает неприятная встреча. Дон Антонио ждет в гости меня, а попадутся к нему на прием наши слишком жадные и глупые друзья. Потопив их, он сядет пировать или ляжет спать. И тут явимся мы. Причем не с моря, а с суши. Что мы с ним сделаем?
Воклен снова почесал свою лысину:
— А его не насторожит то, что вместо шести кораблей явилось всего два?
— Вслед за кораблями Шарпа мы направим барк Ибервиля, груженный соломой, с двумя-тремя добровольцами на борту. Дон Антонио потопит и его. А поскольку он уверен, что во время сегодняшнего боя мы не могли не понести ощутимых потерь, он решит, что народу у нас хватило только на половину кораблей.
— Мудрено, — покачал головой Ибервиль.
— Это только так кажется. И потом, тебе просто жаль свою старую посудину. Не переживай, старина. Корабли так же смертны, как и люди. Клянусь, из этого похода ты вернешься на собственном сорокапушечном трехмачтовом галионе, веришь мне?
— А что мне остается делать, ты все равно настоишь на своем.
Олоннэ удовлетворенно захохотал.
— А теперь надо немного потрудиться. Нам не следует слишком сильно отставать от англичан. Погоня должна все-таки напоминать настоящую погоню.
Когда все разошлись, Олоннэ отправился на свидание с Лупо. Он был весьма удивлен, увидев, что заключенный спит. Олоннэ подошел вплотную.
А может быть, не спит?
Может быть, сердце не выдержало от страха?!
Он толкнул лежащего носком сапога в бок. Тот шумно вздохнул и пошевелился. Открыл глаза. Понял, кто перед ним находится, и попытался сесть.
Сел.
— Так ты действительно спал? — спросил Олоннэ. — Я рассчитывал застать тебя трясущимся от страха за свою дрянную жизнь, а ты…
— Если вы усматриваете в этом что-то оскорбительное для себя, готов принести извинения.
— Ты так уверен в себе, потому что я обещал тебя не убивать?
— Тут на все твоя воля.
— Правильно отвечаешь, но моего отношения к тебе это не меняет. Я уверен, что тебя послали убить меня. Меня многие хотят убить. Раньше эти люди ненавидели меня издалека, теперь они подобрались вплотную.
Лупо шмыгнул носом.
— Я рассказал свою историю, вы мне не верили, а зря.
— Я тебе не верю, и правильно делаю. С твоей помощью хотели погубить меня вместе с эскадрой. Это не удалось. Я перерезал до пяти сотен этих испанских свиней и потерял меньше сорока своих корсаров. Теперь у тебя другая цель — убить хотя бы одного меня. Путем выдачи планов дона Антонио ты рассчитывал попасть ко мне в доверие, приблизиться и, выбрав удобный момент, пырнуть ножом.
Пленник застонал, как стонут несправедливо обиженные.
— Но поскольку вы держитесь такого мнения, убейте меня.
— Убил бы. И даже не просто убил бы, но подверг бы очень жестокой казни. Но так получилось, что живой ты мне принесешь больше пользы. Пока.
— Что ж. — Лупо опустил уродливую голову на грудь.
Олоннэ иронически улыбнулся:
— Ты так безропотно приемлешь свою судьбу? Помнится, ты жаловался, что у тебя болят руки от туго стянутых веревок.
— Да. — Лупо исподлобья поглядел на всесильного собеседника.
— Развяжите его, — приказал Олоннэ.
Двое телохранителей капитана исполнили это приказание.
— Теперь встань, Лупо, или как там тебя зовут на самом деле.
Пленник встал.
— Подними их.
— Руки?
— Руки. Пусть кровь отливает. Мы сейчас отплываем. Ты будешь постоянно находиться подле меня. И вот чтобы у тебя никогда не возникало желания…
Тускло сверкнуло в полумраке комнаты лезвие отточенной абордажной сабли, и обе кисти генуэзца шлепнулись на солому. Лупо поднес к лицу обрубки, из которых хлестала кровь.
— Ну вот, кажется, и все, — сказал Олоннэ, выходя на свежий воздух, — пошлите за доктором. Он ни в коем случае не должен умереть.
Глава двенадцатая
После страшного разгрома, устроенного ему корсарами на подступах к Гибралтару, дон Антонио не был столь уверен в окончательном успехе, как в начале своего крестового похода. Теперь он на победу надеялся. Состояние надежды значительно более трепетно, чем состояние самодовольной уверенности.
За те двое суток, что ушли на возвращение на батарею под Маракаибо, холеная внешность его высокопревосходительства претерпела сильные изменения. Губернатор осунулся, глаза ввалились, он сделался молчалив и задумчив. Ему и в самом деле было о чем поразмышлять. Что он напишет в своем докладе, который через месяц надлежит направить в Эскуриал? Где те полтора миллиона реалов, что необходимо отсчитать в королевскую казну? Где четыре галиона королевского флота, лишь весною этого года прибывшие из Старого Света для несения службы в Новом?
Ответов на эти вопросы у дона Антонио не было.
Единственное, что могло бы его оправдать, это голова Олоннэ.
Возможность заполучить ее еще сохранялась.
Может быть, последняя возможность.
Подобные мысли вертелись в голове губернатора, когда он стоял на каменном выступе побережья с приставленной к правому глазу подзорной трубой, направленной туда, откуда должны были появиться ненавистные корсарские паруса.
Ничего не видно.
Что эти скоты опять задумали?!
Его высокопревосходительство направил линзу трубы на сушу. Шестьдесят четыре орудия были тщательно замаскированы в развалинах форта. Кулеврины, мортиры, обычные корабельные пушки. Поскольку корсарские суда будут проплывать всего в полукабельтове перед их стволами… Дон Антонио хищно улыбнулся, представив, что произойдет.
Но может быть, эти бешеные звери захотят снова атаковать со стороны суши? Вооруженный взгляд губернатора ощупал густые заросли, начинавшиеся прямо от самого берега. Что можно высмотреть в этом зеленом аду!
Нет, не потащатся они через джунгли, бросив свои корабли, с тысячами фунтов награбленного добра. Они ведь считают его, дона Антонио, разгромленным и спрятавшимся за стенами Маракаибо. Они рассчитывают спокойно продефилировать к выходу из озера. Там им тоже нечего бояться, поскольку оборонительные сооружения приведены в негодность самими корсарами еще в начале налета.
На самый крайний случай (а события последних месяцев приучили его высокопревосходительство к мысли, что случиться может всякое) дон Антонио предусмотрел пути отступления. В нескольких сотнях шагов от батареи форта, выше по берегу, в укромной заводи, стоял галион «Сантандер», флагман эскадры, призванной защищать берега острова Эспаньола. Адмирал де Овьедо был против того, чтобы бросать крупнейшую испанскую колонию на Больших Антилах без всякой защиты, но губернатор настоял на своем. Сорокавосьмипушечное чудо кораблестроительной техники ожидало в засаде на тот случай, если какой-нибудь из корсарских посудин удастся прорваться по смертельной протоке между Большой Желтой отмелью и артиллерийским изобретением дона Антонио.
И как последний путь к отступлению «Сантандер» тоже был очень хорош. Днище его совсем недавно было очищено от ракушечных напластований, а парусное вооружение позволяло достичь огромной скорости, чуть ли не двенадцать узлов. Правда, о возможности такого использования корабля дон Антонио вслух не говорил.
— Ваше высокопревосходительство! — услышал дон Антонио голос капитана Клавихо.
— В чем дело?
— Они появились.
Рука капитана, одетая в перчатку из рыжей воловьей кожи, указывала на юг. Губернатор направил туда свою трубу.
— Да, какие-то паруса, — без всякого воодушевления сказал дон Антонио. Ему было неприятно, что не он сам заметил приближение противника.
— Это могут быть только корсары, никаких других судов в той части озера нет, — слишком уверенным тоном заговорил капитан Клавихо.
Ничего здравого в ответ на это замечание дон Антонио сказать не мог, поэтому сосредоточился на процессе созерцания своих будущих жертв.
— Однако, насколько мне известно, у Олоннэ осталось не менее пяти кораблей, а я наблюдаю всего два. Нет, в некотором отдалении заметен третий. Что вы на это скажете, капитан?
— Остальные корабли они могли бросить, чтобы не тратить время на длительный ремонт. Да и людей корсары потеряли немало во время похода, остальными судами просто некому управлять.
— Эх, если бы эти подонки из добровольческих рот не разбежались при звуке первого выстрела, мы бы еще под Гибралтаром покончили со всей этой компанией! — сказал капитан Пинилья, стоявший за спиной у беседующих.
Его высокопревосходительство не любил напоминаний о недавней неудаче, поэтому, оторвавшись от окуляра, недовольно оглянулся на говоруна. Тот заметно смешался, но все же счел возможным добавить к уже сказанному:
— Банда Олоннэ дышит на ладан, через несколько часов правота моих слов станет очевидной для всех.
— Знали бы вы, Пинилья, до какой степени мне хочется, чтобы вы оказались правы. Но…
Стоявшие в непринужденных позах капитаны приняли строевое положение.
— Потушить все костры. Стрелкам лечь на землю. Знамена также положить. Они не должны догадаться, что их здесь ожидает. Они вообще не должны заметить, что здесь кто-то есть.
Отдав еще ряд необходимых приказаний, губернатор перешел в тень большого фигового дерева, чтобы его фигура не маячила на фоне неба, и снова обратился к своей подзорной трубе.
Он внимательно наблюдал за всеми, даже малейшими маневрами корсарского флота, но при этом не знал, что сам является объектом наблюдения.
Олоннэ вместе с пятью дюжинами матросов, превратившихся на время в кавалеристов, расположился на лесистом холме как раз над артиллерийской позицией испанцев.
Лошади передвигаются быстрее кораблей, поэтому ему удалось обогнать Шарпа и Баддока. Его корабли, на которых остались лишь матросы, необходимые для управления парусами, не слишком спешили к месту событий. Воклену, оставленному за старшего, велено было проявлять большую осмотрительность и ни в коем случае не выдать свое присутствие ни Шарпу с Баддоком, ни дону Антонио.
У Олоннэ тоже была подзорная труба, и, поскольку его точка обозрения оказалась довольно высоко вознесена над округой, ему отлично были видны и пушки испанцев, и суда корсаров.
— Как только начнется канонада, ты возьмешь четыре десятка человек и начнешь спускаться вниз, -сказал он ле Пикару, лежавшему рядом в сухой траве.
— Лошадей мы оставим здесь?
— Разумеется, ты должен подобраться незаметно. В этом весь смысл. Посмотри, у них осталось еще не менее двух сотен человек. Придется применить наше обычное оружие — ярость; помножив ее на внезапность, мы получим результат, который нас устраивает. Полную победу.
— А ты?
— За меня не беспокойся, — ухмыльнулся Олоннэ, — без дела я не останусь.
Некоторое время они лежали молча, наблюдая, как суетятся испанцы, наводя последние маскировочные штрихи на свою позицию. Но слова, произнесенные спустя полчаса этих наблюдений: «Что это с ними?!» — относились отнюдь не к людям дона Антонио. Олоннэ был удивлен и раздражен поведением Шарпа и Баддока — они вдруг легли в дрейф.
— Неужели что-то заподозрили?
— Их смутил барк Ибервиля, — предположил ле Пикар. — Не перехитрили ли мы самих себя, капитан? Мы слишком заботились о впечатлении дона Антонио, но позабыли, что у наших бывших друзей тоже могут возникнуть кое-какие мысли по этому поводу.
Ле Пикар был абсолютно прав. В тот момент, когда он произносил свою речь, шлюпка с корабля капитана Баддока причаливала к борту «Эвеланжа». И уже через несколько мгновений взобравшийся на борт и вбежавший на мостик Баддок спрашивал у своего рыжего собрата, что им теперь делать. Как им расценивать тот факт, что Ибервиль, судя по всему, решил присоединиться к их эскадре?
— На кой черт он нам сдался!
— Может быть, он поссорился с Олоннэ и хочет предложить свою дружбу нам? — задал риторический вопрос Шарп, сделавшийся вдруг рассудительным.
— Я сорок лет жил без его дружбы, проживу и еще столько. Его послали проследить за нами.
— Зачем им это? — пытался возражать ирландец. Он чувствовал себя обязанным Олоннэ за Женевьеву и после ссоры со столь великодушным французом пребывал не в своей тарелке. Ему не хотелось искать в действиях своего бывшего союзника низменные мотивы. Баддок ничем капитану Олоннэ обязан не был, а если бы и был, то смог бы очень быстро и легко об этом забыть. Ничего, кроме мотивов корыстных и подлых, он в действиях других людей видеть был просто не способен.
— Зачем им за нами следить, ведь он знает, что мы в любом случае окажемся на Тортуге.
— Ты в любом случае окажешься на Тортуге, там у тебя жена, я же не собираюсь слишком долго маячить перед носом нашего кровавого безумца со слишком синими глазами. И он это знает.
— Так что ты намерен делать?
Баддок положил руки на перила, огораживающие мостик.
— Признаться, я уже принял решение и прошу тебя об одном: не мешай мне.
Вскоре перед многочисленными, хотя и невидимыми с воды зрителями разыгралась короткая огнедышащая драма. «Марктир» — тридцатидвухпушечный массивный корабль капитана Баддока — сблизился с барком капитана Ибервиля и без всякого предупреждения, внезапно отвалив орудийные порты, нанес бортовой залп из заранее заряженных пушек. Барк вспыхнул, как вязанка сухого хвороста.
— Они начали истреблять друг друга! — потирал руки дон Антонио.
— Ничего удивительного — дикари, — счел нужным заметить капитан Пинилья.
— Почувствовав себя победителями, они стали задумываться над тем, как поделить захваченное богатство. Результат перед нами. Золото не только возвышает, но и губит, — сказал капитан Клавихо, обнаруживая философический взгляд на вещи.
— Не будем спешить с выводами. Еще неизвестно, как эти разбойники поведут себя дальше.
— Признаться, на такой поворот я не рассчитывал, — сказал Олоннэ, глядя, как полыхает огромный плавучий костер. — Интересно, как собирался объяснить мне при встрече смысл своих действий этот хам Баддок.
— По-моему, он просто не собирался с тобой больше встречаться.
— Кажется, его желанию суждено осуществиться.
Ле Пикар тихо усмехнулся и потерся о траву татуированной щекой и носом.
— Одно можно сказать со всей определенностью: обратно Баддок с Шарпом вернуться не посмеют.
— Они поднимают кливера и марсели, ваше высокопревосходительство! — восторженно зашептал капитан Клавихо. — Они не разглядели нашей ловушки.
— Зажечь фитили! — также шепотом скомандовал дон Антонио.
Канониры в специально устроенных укрытиях застучали кресалами, ни одна струйка дыма, неосторожно взвившаяся над берегом, не должна была смутить подозрительных бандитов.
— У меня прямо слюна течет, — сладострастно улыбнулся губернатор, — как будто к моему столу несут жирного каплуна.
Пинилья и Клавихо угодливо захихикали.
«Эвеланж» и «Марктир» плавно приближались к берегу, чтобы войти в глубокий естественный проход, проложенный самой природой вдоль обрывистого берега.
— Они потопят их быстро, двумя-тремя залпами. Слишком большая плотность огня, слишком маленькое расстояние. Шлюпки англичанам в такой ситуации спустить не удастся, — сказал Олоннэ.
— Это точно, — подтвердил ле Пикар.
— К берегу они будут добираться вплавь, а там их уже будет ждать капитан Пинилья. Кажется, он выжил, я не видел его трупа среди мертвых испанцев. Они будут колоть и рубить тех, кто выберется на отмель, а тех, кто останется в воде, будут добивать из аркебуз вон с того базальтового козырька.
— Мне ударить до того, как они займутся этим?
— Нет, — Олоннэ поскреб свою заросшую переносицу, — особенно спешить не нужно. Ты сам видел, как наши английские «братья» относятся к нам, мы имеем полное право ответить им взаимностью. Если команды «Эвеланжа» и «Марктира» уменьшатся, скажем, на две трети, я не впаду в отчаяние.
Ле Пикар снова потерся носом о траву.
— Очень почему-то чешется, — пояснил он.
— Но слишком уж разгуливаться испанцам не давай. Пинилья — большой мастер истребления корсаров на песчаных пляжах. Ты ударишь в тот момент, когда они полностью втянутся в эту игру и у них не останется глаз на затылке, как говорят в Провансе.
— У нас в Пикардии тоже есть такая поговорка.
— Ну тогда, значит, ты понял все.
— Пинилья, говорят, у вас была уже одна возможность прикончить Олоннэ, — заговорил дон Антонио, надевая на голову украшенную серебряными накладками каску.
— К сожалению, я эту возможность упустил, ваше высокопревосходительство. — Капитан, на голове которого была каска без всяких украшений, опустил виновато голову.
— Не упустите своего случая сегодня.
Дон Антонио поправил перевязь со шпагой, поудобнее устроил за поясом пистолеты и вышел на каменную площадку, господствовавшую над местностью.
— Все, — сказал он, последний раз оценив ситуацию, — теперь у них обратной дороги нет. К орудиям!
Все произошло так, как рассчитывал губернатор Эспаньолы и предполагал глава корсарской эскадры. Корабли Шарпа и Баддока, влекомые достаточно свежим ветром, по мягкой кривой двигались вдоль обрывистого, сложенного из рыхлых каменных пород берега. За несколько сот футов до того места, где им предстояла встреча с ядрами испанской батареи, они поняли, что попали в засаду. Драматизм их положения состоял в том, что ни повернуть назад, ни остановиться не было никакой возможности, равно как и возможности подготовиться к бою.
Сбиваемые с толку торопливыми, часто взаимоисключающими командами, матросы носились по палубам и вантам, пытаясь воспрепятствовать тому, что должно было произойти, но их усилия были тщетны, а иногда и вредны. Например, совершенно напрасно были открыты порты левого борта. Канонирам не удалось подготовить пушки к стрельбе. После первого же залпа береговой батареи «Эвеланж», получив ряд страшных пробоин, лег на бок.
В этой ситуации открытые орудийные порты сыграли роль дополнительных отверстий для воды. Вода же, всегда готовая хлынуть внутрь судна, не замедлила это сделать. Все, кто вовремя сообразил, что происходит, стали прыгать с рушащегося в бездну борта в озеро.
Судьба «Марктира», увы, оказалась ничуть не радостнее. Капитан Баддок, увидев, что происходит, оставил мостик и сам кинулся к румпелю рулевого колеса. За годы плавания по морям Мэйна он сделался не только закоренелым негодяем и предателем, но и прекрасным моряком. Виртуозно сманеврировав, он сумел избежать столкновения с тонущим кораблем Шарпа. Баддок рассчитывал, что за пороховым облаком, которое возникло после испанского залпа, ему удастся проскочить. Кроме того, тонущий «Эвеланж» некоторое время играл для его корабля роль укрытия.
Ему бы удалось достичь желаемого, если бы дон Антонио чуть хуже подготовился к встрече и будь у самого Баддока чуть побольше времени. А так…
Пороховое облако рассеялось.
«Эвеланж» скрылся под волнами страшного озера Маракаибо намного быстрее, чем можно было ожидать.
«Марктир» медленно, слишком медленно полз по сиреневым мелким волнам. Сорок черных, хищных зрачков держали ее в своем прицеле.
Капитан Клавихо громко повторил команду, отданную доном Антонио.
Сначала капитан Баддок услышал хруст сокрушаемого испанскими ядрами дерева, почувствовал содрогание корабельного корпуса, и лишь потом в левую щеку ему ударил грохот пушек.
— Ну что ж, капитан, пришел ваш час, — сказал дон Антонио, убирая подзорную трубу во внутренний карман камзола. В ней больше не было надобности, картина боя была прекрасно видна и невооруженным глазом.
Пинилья вытащил из ножен шпагу, коснулся серединой лезвия козырька своей каски, давая понять, что понял приказ. И бросился вниз по склону холма к зарослям кустарника, где до времени укрылась его рота.
Отдавая на бегу команды, Пинилья первым выскочил на песчаную отмель и со шпагой наголо атаковал выползающего на берег корсара. Тот попытался увернуться, но был слишком мокр и неуклюж. Клинок капитана попал ему точно в солнечное сплетение.
Выбравшиеся на берег корсары из команды «Эвеланжа», стоя по пояс в воде, судорожно вытаскивали шпаги и кинжалы. Они готовы были сражаться, даже оказавшись в столь ужасном положении, но было видно, что, несмотря на всю свою решимость, организовать настоящего сопротивления им не удастся.
— Выдвигайте стрелков, Клавихо.
Это было своевременное приказание. Корсары со второго тонущего корабля, увидев, что их ждет на песчаной отмели, решили не выбираться на берег немедленно, а попытались проплыть чуть дальше, до того места, где заросли вплотную подходили к воде.
Думая, что они нашли путь к спасению, корсары Баддока ввергли себя в страшную ловушку: им пришлось проплывать под базальтовым козырьком, нависшим над водой на высоте не более пятнадцати футов. Вот на этот козырек и вышли по приказу его высокопревосходительства стрелки Клавихо. Они лупили из аркебуз и пистолетов по плывущим корсарским головам практически в упор. Чистая озерная вода не просто окрасилась кровью, а превратилась в омерзительное месиво из разжиженных человеческих мозгов.
Надо ли описывать чувства дона Антонио?! Что ж, хотя бы отчасти его сын Педро мог считаться отомщенным, а имя рода де Кавехенья с сегодняшнего дня засияет, как не сияло никогда прежде.
Но…
Дон Антонио услышал какие-то звуки справа сзади от себя. Еще ничего не успев сообразить, он сделал инстинктивно несколько шагов влево, прячась в густой тени тропических деревьев.
Корсары!
Потрясая пистолетами и саблями, они неслись вниз по склону соседнего холма, чтобы ударить в тыл людям Пинильи.
Откуда?!
Зачем?!
Еще множество столь же отчаянных и столь же бессмысленных вопросов теснилось в голове губернатора. Сердце его как бы исчезло из груди, и на его месте образовалась пугающая пустота. Ужаснее всего было понимание того, что нет никакой возможности вмешаться. Пинилья слишком увлекся славным и приятным делом истребления мокрых корсаров. Ему и в голову не придет обернуться и посмотреть, что происходит у него за спиной.
А-ах!
Корсарские сабли обрушились на головы испанских солдат. Кровавый азарт победоносной атаки сменился самой омерзительной паникой.
Дон Антонио надеялся, что на берегу завяжется бой и он успеет оповестить Клавихо вместе с его людьми…
Нет, не успеть, аркебузиры и пикинеры Пинильи уже превратились в стадо перепуганых баранов. Оружие посыпалось на песок.
Сдаются!
Мразь!
Дальнейшее развитие боя просматривалось со всей очевидностью: сейчас корсары обогнут скалу с раздвоенной вершиной и выйдут в тыл Клавихо. Его стрелкам будет непросто понять, каким это образом тир внезапно превратился в настоящую войну. Пока они будут приходить в себя, их сбросят в воду, туда, где тонут корсарские тела, разорванные пушечными ядрами.
К чести его высокопревосходительства надо сказать, что он лишь на краткий миг потерял самообладание. Переход от сияющих перспектив победы к зловонной бездне поражения был слишком резким. Но какой смысл отчаиваться! Отчаиваться даже опасно, поскольку еще предстоит заниматься делом собственного спасения.
Впрочем, здесь все было более-менее ясно.
«Сантандер»!
Сделав знак лейтенанту Лопесу и еще двоим находившимся рядом штабистам, дон Антонио направился в лесную чащу. Как человек благоразумный готовясь к победному бою, он позаботился о путях унизительного отступления. Одному ему известная тропинка соединяла его командный пункт и ту озерную заводь, где стоял укрытый от чужих глаз сорокавосьмипушечный корабль, флагман эспаньольской эскадры.
Несмотря на свою дородность, дон Антонио передвигался очень быстро. Лопес и штабисты едва поспевали за ним. Они не знали, куда он направляется, но были почти уверены, что он спешит на помощь капитану Клавихо, чтобы организовать отпор корсарам. Перед их глазами еще стояла картина разгрома роты капитана Пинильи, и они были уверены, что стрелков Клавихо постигнет та же участь. И очень скоро. Они были уверены и в том, что сопротивляться этим французским и английским зверям невозможно, и поэтому с вожделением поглядывали на подступавшие вплотную к тропинке заросли.
Может быть, лучше отсидеться в чаще?
Не останутся же корсары навечно на этом необустроенном берегу.
О тайной бухте и о «Сантандере» им ничего не было известно.
Дон Антонио был занят своими мыслями. Чтобы успокоиться, он бормотал про себя, что все не так уж плохо. Что так или иначе корсарский флот он уничтожил. И самое главное: вероятность того, что во время боя погиб этот людоед Олоннэ, весьма и весьма велика.
Его могло убить ядром.
Он мог утонуть. И сейчас его мозги плавают по поверхности розоватых вод страшного озера Маракаибо, безуспешно пытаясь понять, что же это случилось!
Дону Антонио так понравилась эта мысль, что он даже рассмеялся на ходу.
Сопровождавшим его людям этот смешок послужил убедительным знаком того, что его высокопревосходительство под воздействием жутких впечатлений проигранного боя сошел с ума. Такой вывод давал им не только рациональные, но и моральные основания расстаться с ним и не сопровождать в увлекательном путешествии в ад.
Таким образом, когда тропинка подошла к последнему своему повороту, к обомшелой влажной скале, за которой стояло на якоре прекрасное деревянное чудо, галион «Сантандер», его высокопревосходительство, обернувшись, увидел перед собою одного лишь верного Лопеса. Два других офицера испарились. Дон Антонио все понял сразу.
Он усмехнулся горько и ехидно одновременно. Его не удивила человеческая ненадежность, в последнее время он слишком часто сталкивался с ее проявлениями. И он порадовался, что в данном случае эта зловредная человеческая слабость — предательство — будет наказана немедленно.
— За мной, Лопес, за мной! Не жалей об этих ублюдках. Клянусь страданиями святого Иеронима, Господь наградит тебя за верность.
Они спустились к воде. В зарослях была укромно и удобно спрятана лодка. Губернатор, не чинясь, вместе с лейтенантом сел на весла.
— Повторяю, мой верный Лопес, Господь наградит тебя. Не знаю, правда, когда, никто не может заглянуть в замыслы Всевышнего. Со своей стороны, я хочу сказать тебе, что ты отныне не лейтенант, а капитан. У меня в каюте есть шкатулка с заполненными офицерскими патентами, как только мы отойдем от берега, я заполню один из них.
Говорливость и несоразмерная щедрость его высокопревосходительства объяснялась легко — он испытывал огромное облегчение оттого, что ему удалось уйти от огромной опасности. Только отплыв от нее на некоторое расстояние, он мог рассмотреть как она была велика.
Борт шлюпки глухо ударился в борт корабля.
Сверху свалилась веревочная лестница. Вахтенные узнали приплывших.
Дон Антонио со всею скоростью, на которую был способен, стал карабкаться вверх.
Когда он, тяжело дыша и обливаясь потом, перебирался через фальшборт, с его мокрой головы свалилась каска и ударила в плечо карабкавшегося следом Лопеса.
— Ничего, капитан, — весело крикнул губернатор, наклонившись вниз, — это последняя неприятность в вашей жизни!
После этого он повернулся, чтобы позвать дежурного офицера и скомандовать немедленное отплытие, и увидел перед собой дуло пистолета. Пистолет этот держал огромный курчавобородый человек с серьгой в ухе и в красном платке, намотанном на голову.
— Что такое? — спросил мгновенно все понявший губернатор. Голос у него внезапно сел, так что могло показаться, что он спрашивает шепотом.
Человек, державший пистолет, корсиканец по имени Беттега, один из людей, пользующихся особым доверием капитана Олоннэ, усмехнулся:
— Вы боитесь кого-то разбудить, ваше высокопревосходительство?
— Кто вы?
— Кто я, вам знать необязательно. Но никто не собирается держать вас в неизвестности. Пойдемте, я отведу вас к человеку, который вам все объяснит.
Дон Антонио увидел, как через фальшборт перебирается новоназначенный капитан Лопес. Увидел, как его быстро и умело скручивают два здоровенных, голых по пояс корсара.
— Куда идти?
Ему было указано.
Беттега с издевательской предупредительностью отворял перед доном Антонио одну дверь, другую. Потом третью. Губернатор Эспаньолы остановился на пороге своей роскошной каюты.
За письменным столом сидел человек, углубившийся в чтение. Он, кажется, действительно был очень захвачен текстом раскрытого перед ним манускрипта, поскольку не сразу отреагировал на появление хозяина библиотеки.
Когда он поднял голову, дон Антонио увидел то, что боялся увидеть больше всего на свете. Густые, сросшиеся на переносице брови, пронзительно синие глаза, немного крючковатый нос. Ворон с небесным взором.
— Здравствуйте, дон Антонио.
Все поплыло перед глазами губернатора, как пишут в романах. И он начал медленно оседать с явным намерением потерять сознание на полу своей каюты.
Обладавший настоящей корсарской реакцией корсиканец с кольцом в ухе не дал ему это сделать. Он подхватил обмякшее тело под мышки. Но тут произошел маленький казус. Дело в том, что корсиканец держал в правой руке пистолет, так что, когда на ней повисла безвольная тяжесть губернаторского тела, палец непроизвольно нажал на спусковой крючок.
Раздался выстрел.
Когда рассеялся пороховой дым, Олоннэ оглянулся и увидел, что одно из цветных стекол в витраже, украшавшем широкое заднее окно каюты, разбито.
Причем было разбито то стекло, до которого пуля могла добраться, только пролетев точно через голову капитана Олоннэ.
Беттега пришел в ужас. У него перехватило от волнения горло. Все еще держа на руках двухсотфунтовое губернаторское тело с выпученными, быстро наливающимися кровью глазами, корсиканец попробовал оправдываться.
Олоннэ спокойно закрыл книгу и сказал:
— Без стрельбы все-таки не обошлось. Посади его высокопревосходительство в кресло, и можешь убираться.
Глава тринадцатая
По традиции жертву, назначенную для пытки, привязывали к грот-мачте. Народу вокруг собиралось обыкновенно много. Корсары воспринимали это действо как развлекательное. Хохотали, шутили, бились об заклад, кто из испанцев окажется выносливее. При этом в толпе бродили бутылки с ромом и вином.
Здесь же находились те, кому предстояло встать на место замученного до смерти. Прежде чем получить свою порцию страданий физических, они должны были пострадать морально.
Корсары, прекрасно понимая их состояние, всячески старались их «ободрить». Предлагали сделать глоток рома и очень хохотали, когда предложенная несчастному бутылка оказывалась пустой. Вслух рассуждали, как будут переживать родители и возлюбленные «этих несчастных».
Глядя на текущие из глаз приговоренных слезы, они с христианской серьезностью в голосе предлагали сообщить им, корсарам, в каком городе живут их близкие: «Мы отправим им что-нибудь на память».
Корсары клялись, что исполнят предсмертную просьбу. Многие испанцы ухватывались за эту возможность, и тут им предлагали на выбор: или вяленое ухо, или высушенный скальп.
Предпоследним пытали Лопеса.
Он оказался твердым человеком, и довольно долго из него не удавалось вырвать ни слова. Причем в его мужестве не было никакого смысла, потому что из предыдущих жертв корсары успели вытянуть все те сведения, в которых нуждались.
Было отлично известно, где находятся корабли адмирала де Овьедо, сколько их и собираются ли они двигаться к Маракаибо.
Очень подробно было выяснено, как лучше подойти к городу, сколько в нем осталось солдат и где вероятнее всего есть возможность обнаружить то, что всегда интересует джентльменов удачи, — золото и драгоценности.
Под пыткой человек рассказывает иногда и то, о чем его не спрашивают, ибо надеется: пока он говорит, его не станут мучить.
Капитан Лопес слышал все, что сказали его предшественники у грот-мачты, знал, что скрывать ему совершенно нечего, но тем не менее решился не открывать рта. К нему был применен весь арсенал пыточного оборудования, имевшийся в распоряжении корсаров. Зажженные фитили между пальцами, деревянные иголки под ногти, подожженные волосы.
Толстяк Бруно, специализировавшийся на «Мести» по делам подобного рода, даже сбросил кожаную безрукавку — в такой пот вогнал его упорный испанец.
Он укорачивал ему пальцы сустав за суставом, загонял горящие угли в интимные места. Ничто не помогало. Лопес корчился, но молчал.
И Бруно, и прочие корсары прониклись уважением к этому человеку.
— Скажи хотя бы, как тебя зовут, и мы немедленно тебя прирежем, — уговаривали они его.
Перед смертью он произнес несколько слов, но это были не совсем те слова, которые рассчитывали услышать победители.
— Да живет вечно мой добрый король, да отомстит он за меня французским собакам! — вот каковы были эти слова.
Вышвыривали его тело за борт корсары без всякого удовольствия. Не было приличествующих случаю шуточек и прибауток. Радовались те, кто выиграл благодаря выдержке капитана Лопеса пари.
После этого настала очередь Пинильи.
Он выглядел скверно. Одежда была вся в запекшейся крови и засохшей грязи. Левая рука прострелена, лоб рассекала неглубокая, но опасная рваная рана. Один глаз заплыл, и капитан почти ничего им не видел.
Пинилью знали многие. О том, как он обошелся с корсарским экипажем на берегу Кампече, ходили легенды, очень многие хотели лично отомстить ему. Так что у Бруно появилось много добровольных помощников. Но полуголый гигант, несмотря на некоторое утомление от общения с предыдущими пленниками, не желал никому уступать честь и удовольствие лично вытащить жилы из знаменитого Пинильи.
Но, как выяснилось, не все решают палачи. Когда Бруно стал помешивать в переносной жаровне угли, выбирая тот, что погорячее, к нему подошел сам капитан и тихо сказал:
— Дай-ка я.
В течение всей экзекуции Олоннэ сидел в кресле, специально вынесенном из каюты и поставленном посреди палубы шагах в десяти от грот-мачты. Рядом в таком же кресле располагался дон Антонио. Ему были отлично видны все детали кровавого спектакля. Губернатору пришлось повидать на своем веку много казней, большая часть которых производилась по его собственному распоряжению. Он не возмущался жестокостью корсаров, ибо его палачи поступали с пленниками из числа членов «берегового братства» еще круче. Он был занят тем, что старался определить, какая ему самому уготована роль. Что означает тот факт, что Олоннэ усадил его рядом с собой, переведя из разряда жертв в разряд зрителей? Может быть, это изощренная форма издевательства? Может быть, он хочет порадовать своих грязных зверей зрелищем того, как высокий испанский сановник будет низринут с вершин своего положения на дно кровавого унижения? Или он решил уже не убивать своего высокородного пленника ввиду того, что рассчитывает получить за него большой выкуп?
И первое и второе могло оказаться правдой.
Правдой могло оказаться и третье — Олоннэ еще просто не решил, что ему выгоднее сделать с губернатором Эспаньолы. Делая вид, что он любуется пыточным зрелищем, он на самом деле взвешивает аргументы «за» и «против» немедленной расправы с пленником.
Когда Олоннэ встал и направился к мачте, его высокопревосходительство внутренне содрогнулся, ему показалось, что корсарский капитан принял какое-то решение.
Какое?!
Бруно отступил на шаг от жаровни, оставив внутри свои щипцы, как бы уступая их Олоннэ. Тот даже не посмотрел в сторону горящих углей.
Во внезапно наступившей тишине он подошел к привязанному и остановился, внимательно глядя ему в глаза.
Капитан Пинилья пытался убедить себя, что он ничуть не боится этого голубоглазого изувера, что он должен умереть такой же гордой смертью, как и Лопес, но под взглядом Олоннэ обреченно склонил свою голову.
— Пи-ни-иль-я, — хрипло прошептал капитан, едва заметно покачиваясь с носка на каблук.
Испанский капитан, до этого сохранявший довольно бравую позу, поник, повис на веревках.
— Пи-ни-иль-я, — снова раздался хриплый шепот, от которого даже у стоявших вокруг корсаров поползли по телу огромные муравьи.
Дон Антонио осторожно поглядел по сторонам, прикидывая, сможет ли он несхваченным добежать до борта и броситься вниз.
Вряд ли.
Несмотря на то что все корсары как завороженные смотрели в сторону грот-мачты, проскользнуть мимо них не удастся. Слишком их много!
Олоннэ в третий раз произнес имя жертвы и стал медленно вытаскивать из-за пояса свой нож. Тот самый, которым он убил алхимика-врача на Тортуге. Нож этот со слегка искривленным лезвием и грубой рукояткой не вязался с костюмом капитана. Олоннэ, захватив «Сантандер», не стесняясь попользовался гардеробом его высокопревосходительства. А вкус у дона Антонио был великолепный, он по праву считался одним из самых блестящих щеголей на Аламеде, пышном мадридском бульваре. Так вот, корсарский капитан выглядел как вельможа, только что явившийся с приема в Эскуриале. Среди своих потных, грязных, окровавленных и татуированных друзей он выглядел некой райской птицей.
Райской, но очень жестокой.
— Пи-ни-иль-я, — прошептал он и коротким, расчетливым движением вонзил нож в живот испанца. Тот вскинул голову, в глазах ужас, рот распахнулся. — Зачем ты убил столько моих людей? — Не дожидаясь ответа на свой, честно говоря, совершенно риторический вопрос, Олоннэ наклонился вперед и потащил рукоять ножа вверх.
Кровь ленивым фонтаном хлынула на кружевную манжету и расшитый золотой ниткой обшлаг.
— Пи-ни-иль-я, помнишь Кампече?
Сколь ни невероятным это может показаться, испанец попробовал ответить. На его губах вырос большой, отливающий розовым пузырь слюны. Но то, что он желал сообщить, находилось внутри его, и поэтому никем не было услышано.
А капитан между тем продолжал «допрос»:
— Зачем ты явился сюда, Пинилья?
Пузырь на губах несчастного лопнул, голова стала выворачиваться куда-то влево. Нож, раздирая внутренности, продолжал подниматься вверх по телу. Кровь залила не только рукав Олоннэ, но и весь камзол, правую ногу, каблуки его башмаков месили мелкую липкую лужу.
Истерическая судорога пробежала по телу испанца, из горла полетели красные хлопья мокрого хрипения.
Нож Олоннэ замер в своем движении вверх. Мешала веревка, перехватившая тело Пинильи. Олоннэ вытащил нож из распоротого по вертикали тела и, отступив на шаг, облизал двумя длинными, страстными движениями языка. Потом покосился вправо, влево на замерших корсаров и усмехнулся кровавым ртом.
Даже многое повидавшие на своем веку джентльмены удачи окаменели. Или, наоборот, обмякли.
Но это было еще не все.
Олоннэ, засунув нож за пояс, вдруг снова набросился на агонизирующее тело и с размаху запустил руку под ребра привязанному телу. На мгновение палач и жертва застыли как бы в последнем объятии, потом палач с глухим, но радостным рычанием отскочил, сжимая в руках комок красной, сочащейся плоти.
Сердце!
Олоннэ поднял его над собой, как будто стараясь этой невероятной казнью потрясти воображение корсаров. Потряс. Соратники попятились, прижимая руки к груди.
Если бы Олоннэ вырвал свое собственное сердце, он мог бы впоследствии стать героем романтического рассказа, а так он остался всего лишь героем горькой истории своей жизни.
Сердце испанского капитана шлепнулось на палубу. Безжалостный каблук Олоннэ обрушил на него свой презрительный гнев. Красные струи брызнули в разные стороны.
Пожалуй, эта последняя кровавая точка была излишней. Тут Олоннэ слегка изменил его инфернальный вкус. Сердце — вещь достаточно упругая, даже каблуком тяжелого башмака его не сразу расплющишь. Мышечный сгусток выскользнул из-под ноги капитана и весело запрыгал по палубе.
— Пинилья, — усмехнувшись, вдруг заявил капитан, — ты еще рассчитываешь от меня сбежать?!
В толпе корсаров нашлись люди, которые даже в подобных ситуациях держат наготове свое чувство юмора. Поэтому когда Олоннэ вместе с полуобморочным доном Антонио покидал место экзекуции, то был сопровождаем не слишком многоголосым, но искренним хохотом.
Оказавшись снова в губернаторской каюте, капитан уселся за письменный стол и откинулся в кресле, положив неодинаково испачканные кровью рукава на подлокотники. Плохо владеющего своими членами губернатора усадили напротив.
Олоннэ взял в рот раскуренную Беттегой трубку.
— Держу пари, ваше высокопревосходительство, что смехом, который сейчас доносится с палубы, вы шокированы сильнее, чем той неприятной процедурой, при коей вам пришлось присутствовать. Угадал?
— Какое это имеет значение?
— Какое-то имеет. Я ничего не делаю совсем зря, только для удовлетворения своих звериных, как вы думаете, наклонностей.
Дон Антонио дернул бледной щекой. Внезапная склонность этого людоеда к резонерству смущала его еще больше, чем хохот корсаров на палубе, играющих в изобретенную их капитаном игру под названием «Кто раздавит сердце Пинильи».
— В каком-то смысле мои люди — да, да, эти монстры и уроды — настоящие дети. Они мне порой кажутся даже невиннее некоторых избалованных еще в колыбели развращенных младенцев.
— Я не очень понимаю, что вы говорите…
— Слушайте внимательно, тогда будете понимать, очень. Чем дети отличаются от взрослых? Как вы думаете? Человеку взрослому плохо, когда он один. Да и то не всегда. Дети же несчастны, сколько бы их ни было вместе, когда они одни, когда рядом с ними нет взрослого. Я единственный взрослый среди этих кровожадных младенцев. Я могу сделать то, до чего им вовек не додуматься. Поверьте мне, теперь каждый корсарский капитан, захватив в плен испанца, станет вырывать у него сердце и давить каблуком на глазах у всех.
— Это интересная педагогическая теория…
— Пытаетесь иронизировать, а это не всегда безопасно в моем присутствии.
Дон Антонио иронизировать и не думал, поэтому его отчаяние стало еще глубже.
— В конце концов, дорогой мой дон Антонио, я брожу по этому свету отнюдь не потому, что сжигаем жаждой обогащения или чем-то в этом роде. Я брожу в поисках взрослого человека. Если еще не поняли меня, то хотя бы постарайтесь понять. Это в ваших интересах. Впрочем…
Олоннэ выпустил аккуратный клуб пахучего дыма. Какая-то новая мысль свернула его с прямого пути рассуждений.
Дон Антонио почувствовал это и содрогнулся. И внутренне и внешне. Нет ничего хуже, когда у человека, в руках которого ты находишься, обнаруживается богатое воображение.
— Если вы соблаговолите изложить хотя бы еще несколько силлогизмов, мне кажется, я бы смог постичь смысл вашей… э-э… теории.
Олоннэ махнул в его сторону трубкой. Цепочка красных капель пересекла письменный стол.
— Да ничего вы не постигнете!
— Я буду стараться и, может быть, все же…
— Я передумал, не надо мне вашего старания. Мы по-другому поведем наш разговор.
— Как вам будет угодно.
— Вот именно, как мне угодно, так и будет. Видите на столе вот этот свиток?
— Он из моей библиотеки.
— Верно, из вашей. Но читали ли вы его?
— Не помню. Как нельзя знать по имени каждого солдата в войске, так же нельзя прочесть все книги своей библиотеки.
— Пусть так. Но этот свиток вам прочесть придется.
— Сейчас?
— Именно! Берите и читайте!
ГОРОД ЛУНЫ
…— Да, да, общеизвестно, что Луна притягивает бычий мозг.
— Ну так вот, добыть свежего бычьего мозга, как вы понимаете, мне не составило никакого труда. Обмазавшись им в тени деревьев, я вышел в полнолуние на лесную поляну неподалеку от моего дома. Постелил на траву плащ и лег на него. Ночь в июле в наших местах очень тепла, но вскоре я ощутил, что непривычная прохлада охватила члены моего тела, это был не ветер.
— Лунный свет?
— Да, коллега, это была Луна, это было ее притяжение. До этого я испробовал многие старинные способы, но ни сосуды, наполненные дымом от сожжения жертвоприношений и обязанные стремиться вверх, к Богу, ни магнитное вещество самой лучшей очистки, извлеченное мною из расплавленного магнита, не дали заметных результатов… Едва мой бедный мозг осознал… я почувствовал, что медленно, всем телом, приподнимаюсь над землей; я едва успел схватить свой плащ, и хорошо, что успел, иначе бы мне пришлось испытать большое неудобство при первой встрече с селенитами.
— То есть…
— Вот именно, коллега, вот именно. Но все по порядку: надо сказать, что во время моего необычного путешествия я сохранял полнейшую ясность сознания, и, если мне доведется встретиться с нашими астрономами и механиками, я бы мог удивить и озадачить их большим количеством неожиданных фактов, опровергающих многие их вычисления и теории. По моим подсчетам, перелет занял не менее трех с половиной часов. Так что идея о том, что на Луну люди могли попасть во время потопа, когда воды поднялись так высоко, что Ноев ковчег на короткое время пристал к Луне, не выдерживает никакой критики. Пространство между Землей и Луной заполнено неким газообразным составом, по всей видимости эфиром, существенно уступающим по плотности воздуху, так что, к примеру, мне не составляло никакого труда удерживать на весу мой плащ, что было бы утомительно во время хорошей скачки верхом на кавалерийской лошади. Почему я не мог закутаться в плащ, тем избавив себя от забот по его удержанию, вы, конечно, понимаете…
— Прекратилось бы взаимодействие бычьего мозга с лунным притяжением?
— Разумеется.
— Не явилась ли следствием столь малой плотности эфира затрудненность дыхания? Меня как врача это волнует.
— Отнюдь, я вдыхал и выдыхал даже реже, чем обычно, пульс, правда, был несколько учащен, но я это отношу на счет понятного в подобном случае волнения. Слегка мне досаждала прохлада, я старался не обращать на нее внимания… Климат Луны, как мне показалось, несколько суровее нашего, не такой, как в гиперборейских странах, но тем не менее… это наложило некоторый отпечаток на характер селенитов. Я не сразу с ними встретился. Местом моего прибытия оказался пустынный и мрачноватый уголок, поросший кустарником, напоминающим слегка наш можжевельник. Я закутался в свой плащ и огляделся по сторонам. Местность была каменистой, везде рос уже упоминавшийся мной кустарник. Я увидел тропинку, извивавшуюся меж камней, и очень обрадовался: значит, у меня есть надежда встретить людей, и, может быть, даже скоро. Я быстро пошел по тропинке. Дорога шла под гору, и я понял, что спускаюсь с возвышенного места в лунную долину. Мои надежды встретить аборигенов довольно быстро оправдались. Миновав небольшую рощу деревьев, чем-то схожих с нашими кленами, но более низкорослых, я увидел двоих… Бурное волнение, охватившее меня в этот момент, легкообъяснимо, оно уступало только моему любопытству. Не думаю, что кому-либо из европейцев выпадала такая удача. Селениты тоже меня заметили и остановились. Их, как потом выяснилось, смутил мой наряд — длинный, черный, спадающий до пят плащ. Они были одеты несколько на античный манер — короткие легкие туники и сандалии, одежда мне показалась немного не соответствующей климату. Один селенит был уже стариком, о чем свидетельствовала седая шевелюра и седая же борода. Но он не утратил благородной осанки, глаза его сверкали живым огнем. Рядом с ним стоял юноша очень привлекательной, хотя и простоватой наружности. Он был строен, худощав, и поза его выдавала глубокое чувство собственного достоинства. Другими словами, внешне они мне показались привлекательными людьми. Я поприветствовал их по-английски, по-немецки, по-итальянски, и на итальянское приветствие они немного откликнулись. Оказалось, что они на Луне говорят на языке, напоминающем немного видоизмененную латынь.
— Это поразительно!
— Да, и я в этом усматриваю еще одно доказательство божественного происхождения языков. Нам остается только исследовать причины их видоизменения и распространения.
Поскольку латынью я владею в совершенстве, наше общение легко наладилось. Имена моих новых друзей селенитов напоминали слегка исковерканные древнеримские, для удобства рассказа я позволю называть себе своих первых лунных друзей Пизон и Люций. Пизон, так звали старика, выслушав рассказ о моем путешествии, спросил, не утомлен ли я и не желаю ли привести себя в порядок, отдохнуть и подкрепить свои силы. Я, разумеется, согласился. Они развернулись, и мы двинулись в обратном направлении. Не прошло и получаса, как перед нами показались обработанные поля, за ними виднелась средних размеров деревня.
Чуть ниже деревни по течению реки виднелась мельница. Я, конечно, самым внимательным образом приглядывался ко всему, что попадалось мне на глаза. Дома селенитов были сложены по большей части из камня. Чем-то они походили друг на друга — размерами, пожалуй что, и общей ухоженностью. Только одно строение резко выделялось своим видом. Я указал на этот дом и спросил у Пизона, не является ли он храмом местного божества, и получил удовлетворительный ответ.
Внутри жилище селенита оказалось скудным, никаких предметов роскоши мне заметить не удалось. Зато порядок и чистота бросались в глаза. Пизон был главой большого семейства, с ним вместе жили его жена, крепкая, подвижная, жизнерадостная женщина лет пятидесяти, двое сыновей с женами и детьми, причем и жены и дети поражали своей свежестью, живостью и добродушием. Все одевались примерно одинаково — в простые, если не сказать бедные, холщовые рубахи или туники. Мы пришли как раз к обеденному времени. Мне дали возможность привести себя в порядок, проявляя несомненное чувство такта, что было мной отмечено, — для этой цели меня проводили в отдельное помещение и оставили в одиночестве. Обед оказался чрезвычайно прост. Подали что-то похожее на нашу бобовую похлебку, по кружке простокваши и небольшому ломтику хлеба из муки грубого помола. Обед продолжался недолго и в полном молчании, сразу после него молодые селениты покинули жилище, хотя, как я мог понять, любопытство просто раздирало их, гость из нашего мира был для них, конечно, в новинку. Я спросил Пизона, куда все ушли. «Работать», — отвечал он. «Но среди них есть еще и совсем малыши». — «Для каждого находится дело», — сказал глава селенитского семейства. Я хотел было пуститься в рассуждения о том, к чему приводят излишние строгости в области воспитания, может быть, даже к искажению человеческой природы, собирался сослаться на авторитет Пикко делла Мирандолы, но вспомнил живые, умненькие личики детей, красивые, благородные и спокойные лица взрослых селенитов, их гармоничные тела, мысленно сравнил их с нашими крестьянами, временами напоминающими скорее животных, нежели людей, и решил, что, по совести говоря, у меня нет пока оснований пускаться в нравоучения. Я перевел свой взгляд на Люция, сидевшего в углу с какой-то книгой, и Пизон, не дожидаясь моего вопроса, сказал: «Люций проявил способности к наукам, и было бы неразумно заставлять его весь век ухаживать за скотиной или работать на пашне». Я задал мальчику несколько вопросов из геометрии и математики и был поражен ясностью и быстротой его ответов. Не менее глубоки были его познания в астрономии, правда, деление небесного круга у селенитов отличается от нашего, и «благоприятные дома» у них часто называются «неблагоприятными», «дом детей» поменялся местами с «домом чести», а «дом прибыли» — с «домом пороков». Мы не сошлись с ним и еще в одном: он утверждал, что мозг, находящийся в черепе человека, столь же горяч, как и его кровь, я хотел было урезонить его авторитетом Аристотеля, утверждающим обратное, что головной мозг холоден, но вовремя вспомнил, что этот аргумент не произведет здесь нужного действия.
«Мы как раз отправлялись с Люцием в город, — сказал Пизон, — настало время отдать его в обучение наилучшим учителям из храма науки».
«Так я помешал вашему замыслу своим появлением?» — воскликнул я и стал всячески извиняться.
Пизон и Люций, казалось, не поняли смысла моих извинений.
«Долг гостеприимства выше любых частных планов», — было мне замечено.
В тот же день я познакомился с жизнью остальных жителей деревни. Все они встречали меня приветливо. Добрый и искренний народ! Я побывал почти во всех домах и. не обнаружил ни одного, где имелась бы хоть какая-нибудь роскошь. Не заметил я также ни одного грязного, неприбранного жилища. Отсутствие роскоши заменялось изобретательностью, многие дома были со вкусом украшены простейшими предметами из обыденного обихода. Какая-нибудь необычная ветка, сплетенный из полевых цветов венок… Я спросил у Пизона: неужели во всей деревне нет ни одного дома, который бы выделялся своим богатством? «Нет», — ответил он и, как мне показалось, был несколько недоволен моим вопросом.
Вечером вернулись с работы юные, молодые и взрослые, поужинали, причем ужин отличался от обеда только тем, что был скромнее, и отправились на деревенскую площадь, где состоялось нечто напоминающее наши народные гулянья, только было веселей, благородней, без пьяных и без драк. Прозвучало много песен — и мелодичных, и грустных, и задорных, развернулись игры и танцы. Я подумал сначала, что это действо затеяно в связи с моим появлением: у нас дикари часто принимают путешественников за некие божества и устраивают в их честь празднества; оказалось — нет. Молодые и юные селениты таким образом выплескивали не растраченную за день энергию. Праздники, подобные этому, были для них обычным явлением.
Песни их мне понравились чрезвычайно, столько было в них глубины, спокойного благородства и задушевности. О танцах и говорить нечего, я уже упоминал о том, что все селениты были отлично сложены, и таких вещей, как раздавшееся брюхо или толстый зад, почти невозможно было встретить.
Спать легли довольно рано. Утром, когда я еще спал, утомленный впечатлениями, селениты посетили свой храм и вновь отправились на работу.
Утром же я увидел странную сцену. В деревню въехало пять или шесть повозок, запряженных невысокими, коренастыми лошадьми местной породы. Повозки остановились перед складами, расположенными на площади напротив храма, двери склада открылись, и повозки стали наполняться различными тюками, бочонками, свертками, корзинами. Я подошел поближе и рассмотрел, что в работе совместно с возчиками участвуют несколько местных парней. Причем участвуют охотно, перешучиваются с возчиками. Я присмотрелся к тому, что грузится: в тюках оказалась отличная шерсть, в бочонках — прекрасное масло, в корзинах и свертках — колбасы и сыры, то есть все то, чего нельзя было увидеть на столах местных селенитов. Стало быть, возчики были чем-то вроде наших сборщиков податей, но тогда почему к ним дружелюбно относятся местные парни? Почему так радостно отдают то, чем не могут попользоваться сами и их семьи? Я обратился с возникшими у меня вопросами к Пизону, но он не ответил на мой вопрос, он сказал, что они завтра с Люцием снова отправляются в город, если я хочу, то могу отправиться вместе с ними, там я получу ответы на все вопросы.
Дорога к городу заняла два дня. Мы шли по узкой тропинке через каменистое нагорье, поросшее можжевеловыми кустами. Где-то здесь находилось место моей первой встречи с селенитами. Потом мы спустились в долину, и дорога стала шире. Нас окружали по большей части колосящиеся хлеба. Редкие встречные путники приветливо с нами здоровались, на горизонте были время от времени видны некие строения. Чтобы как-то скоротать время, я выспрашивал у Пизона об особенностях жизни на Луне. Выяснилось, что имеется посреди пересекаемой нами равнины один большой город. Равнина — это центр единственной плодородной области, известной на Луне и окруженной каменистыми пустынями и неприветливыми морями. Я спросил, нет ли в этих морях каких-нибудь чудовищ — левиафанов, плавающих драконов. Пизон ответил, что есть какие-то драконы и всевозможные чудища, но развивать эту тему не стал.
Деревень, подобных той, что приютила меня, на равнине оказалось несколько тысяч, а может, и больше — Пизон просто не знал точного числа, — и везде уклад жизни селенитов был примерно одинаков. «А все богатые живут в городе», — вставил я, намекая на случайно увиденную мной сцену у складов. «Не так все просто, — ответил Пизон, — скоро мы придем на место, и там ты увидишь все собственными глазами». Дальнейшие вопросы с моей стороны были бы признаком невежливости, я замолчал и, чтобы развлечь себя, стал вспоминать высказывания наших ученейших авторитетов, касающиеся Луны, ее природы и населения. Признаюсь, это занятие доставило мне немалое развлечение. Непостижимо далеки были от наблюдаемого мной их описания и утверждения, и еще более непостижимой была их уверенность в непреложной правдивости своих мнений. И Посидоний, и Плиний, и Бэда Достопочтенный, и Абу-М-Шар, и Бернар Сильвестр считали Луну безводной пустыней и объясняли приливы в земных морях ее воздействием, попыткой перетянуть часть влаги к себе. Незадолго до отлета я перечитал известные сочинения Гонория Августодунского «Ключ к физике» и «Образ земли», и теперь мне оставалось только ухмыляться, вспоминая тех невообразимых монстров, которых он счел нужным поселить в лунных чащах…
— Да, это уму непостижимо.
— Говорят, что одна из утерянных книг Страбона посвящена описанию Луны…
…Город мы увидели издалека. Несмотря на то что вокруг него не было заметно никаких оборонительных сооружений, впечатление он производил внушительное. Я забыл сказать, что Пизон мне сообщил, что всю единственную плодородную лунную равнину занимает одно государство и, стало быть, воевать ему не с кем и нужды в оборонительных сооружениях нет. Мое несколько улегшееся за последние два дня любопытство разыгралось вновь. Люций тоже напрягся, глаза его заблестели, и я спросил Пизона о причине. Он мне ответил, что селениты крайне редко путешествуют, не ведая в этом никакой нужды, и большинство из них никогда не видело города, так что волнение мальчика объяснимо, хотя и огорчительно: значит, душа его подвержена низким, мелочным эмоциям. Он уже достиг возраста, когда должен понимать, что ничего такого, что ему не суждено, не угрожает ему, а то, на что он не имеет права, его не постигнет. Так что волнение неуместно. Мне показалось неправильным требовать от ребенка столь философского отношения к жизни, но возражать было некогда, мы пересекли последнюю хлебную ниву и уже приближались… Поскольку надвигался вечер, мы направились в странноприимный дом. Гостиницей это скудно обставленное, но чистое и уютное заведение назвать было нельзя. Там не брали никакой платы с путников, к тому же все получившие пристанище под крышей этого заведения проявляли ту обычность поведения и настроения, которые мы находим у наших паломников. К совместному религиозному бдению в имевшемся внутри строения храме я приглашен не был, и, поужинав куском вкусного хлеба и кружкой целебной родниковой воды, я лег спать под чистым, прекрасно пахнущим душистой травой одеялом, уже не удивляясь его бедности и вытертости.
Утром начался осмотр столицы. Пизон был здесь уже не впервые, а мы с мальчиком жадно оглядывались по сторонам. В целом горожане-селениты своими привычками и одеждой мало отличались от селенитов-поселян, судя по всему, им тоже был знаком и физический труд, и благородное воздержание. Они прогуливались меж: прекрасных строений по улицам, освеженным усердными водоносами. Свое время, не занятое работой в мастерских, обсерваториях, селениты делили между мусейонами, палестрами [13] и прогулками в окружающих город рощах. Чистота улиц и других общественных мест просто поражала. Я все время сравнивал с широкими улицами столицы селенитов, благородно спланированными и украшенными необычными, разнообразными строениями, убогие улочки наших городов — даже самых крупных и просвещенных, — залитых помоями. На ум мне приходили наши дикие торговые площади, полные снующего люда и орущего скота. Здесь же мелькали грациозные лошадки аккуратных лунных пород, мерно вышагивали верблюдообразные животные с притороченными к горбам тюками, но никаких следов навоза и никакого дурного запаха.
— Как же добиваются этого селениты?
— Должен вам признаться, коллега, что это осталось одной из не разгаданных мной загадок. Обращаться с прямыми вопросами по этому поводу мне показалось несколько неуместным, но я как-нибудь все-таки разведал бы это, ибо в науке нет второстепенных вещей, однако меня отвлекло одно странное обстоятельство… Вообще селениты крайне обходительны, это у них, насколько я могу судить, в характере. К любому можно обратиться с любой просьбой, и он почтет своим священным долгом вашу просьбу выполнить, если только это в его силах. Беседовать с абсолютно любым селенитом — неизъяснимое удовольствие. Я подходил к мирно отдыхающим старикам, к купающимся в фонтанах детям, к весело балагурящим юношам, вышедшим после занятий гимнастикой из палестры, и всегда находил интересных, мыслящих собеседников, умеющих свободно поддержать разговор о чем угодно: о движении планет, об архитектуре, об истине, о красоте, причем они умеют выслушать собеседника и попытаться его понять. Так вот, единственное, о чем никто из них говорить не желал и отказывался, хоть и с виноватой улыбкой, но решительно, — это о том странном сооружении, которое я заметил в самом центре города, -насколько можно было судить по моим наблюдениям и приблизительным расчетам.
Город был велик, я бы даже сказал очень велик, куда больше Кельна или Флоренции, может быть, его размеры превосходили размеры Парижа, окончательно выяснить мне это не удалось. Странность его планировки была в том, что посреди было помещено, по всей видимости, круглое сооружение. Размеры оно имело громадные. Сначала оно мне показалось крепостью, внутренним укреплением, и я спросил у Пизона, так ли это. Он пожал плечами и сказал, что в каком-то смысле это так, это действительно внутреннее укрепление. Больше он ничего говорить не стал и попросил подождать меня еще совсем немного, ибо мы направляемся туда, где мне дадут ответы на все вопросы. Мы продолжали двигаться по улицам города, почти не приближаясь к серой стене таинственного сооружения. Она все время оказывалась у меня перед глазами и, несмотря на все яркие впечатления дня, завладела моими мыслями. Рискуя попасть в неловкое положение, я в тот момент, когда Пизон и Люций на минуту оставили меня, чтобы попить воды из бьющего прямо посреди улицы родника, весьма искусно украшенного каменными фигурками, обратился к погонщику верблюдообразного гужевого зверя. Что это за стена? Он посмотрел на меня очень странными глазами. Не знаю, сразу ли он распознал во мне чужестранца, но весь вид его говорил, что если я даже чужестранец, то мой вопрос совершенно неуместен, неловок и невозможен. Хорошо, что у меня закалка настоящего ученого и я хорошо усвоил, что поиск истины должен вестись, невзирая ни на какие трудности, опасности, жертвы и уж конечно ни на какие условности, пусть даже и религиозные. Я обратился со своим вопросом к молодому водоносу, старательно увлажнявшему улицу, — реакция была примерно такой же.
Между тем мы приблизились к тому месту, где должно было происходить испытание Люция и где, по всей видимости, находились люди, знающие ответы на вопросы. Огромный храм, украшенный каменными колоннадами и пилонами, немного неестественно выглядящими, на наш вкус, впрочем, как и все здесь, принял нас в свои гулкие и прохладные объятия. Внутри стоял полумрак, в отдалении — размер залы был громаден — горели светильники, осторожно освещавшие испещренную то ли письменами, то ли чертежами стену. При виде их мне пришел на ум небезызвестный аббат Тритем — криптограф, оккультист и колдун.
Откуда-то сбоку — мне показалось, что он сгустился из полумрака, — к нам подошел человек в белой тунике с абсолютно лысой головой. По тону его говора сразу стало понятно, что он человек сведущий и ответственный. Он выслушал рассказ Пизона, не глядя в мою сторону, потом повернулся ко мне, поприветствовал обычным селенитским способом, но без особого радушия, и предложил следовать за ним. Во время этого не слишком короткого путешествия в недра невообразимого храма «жрец», так я его назвал про себя, чтобы как-нибудь назвать, шел впереди меня. Огни «лампад», украшавших и освещавших не только главную залу храма, но и все коридоры, время от времени отражались в его зеркально выбритом затылке. Жрец со мной не разговаривал — ему, кажется, без всяких разговоров было ясно, что со мной делать. Путь наш оказался длиннее, чем я мог предположить, принимая во внимание размеры храма; или храм был велик неимоверно, или меня вели сложным путем. Я волновался, и, несмотря на то что внимательно присматривался ко всему, что оказывалось в освещенном лампадами пространстве, мне не удалось определить, чем же, собственно, является пересекаемое мной по длинному маршруту строение — языческим ли колоссальным капищем, жилищем ли неизвестного мне, чуждого, может быть, но все же единого божества.
Путешествие, однако, скоро кончилось, ибо бесконечным ничто не является на Луне, как и Земле, и меня ввели в маленькую келью. Когда меня в ней покинули и закрыли за мной крепкую дверь, я понял, что это скорее не келья, а камера. Жесткое дощатое ложе, крупный кувшин из мрачной глины в углу, треугольный, с дырой посередине, табурет, окошко хоть и без решетки, но под самым высоченным потолком — вот и все мои приятели по заключению. Из окошка лился характерный лунный свет. Вроде бы и светло, но все предметы как будто в тончайшей голубоватой дымке… Тут я неуместно вступаю в область поэзии, ибо отнюдь не она цель моего рассказа.
— Пожалуй.
— Я сделал, очевидно, традиционный в таких случаях круг по своему нечаянному узилищу и лег на ложе, чтобы предаться естественным в моем положении размышлениям.
Пролежать мне пришлось значительно дольше, чем я мог предположить: не меньше четырех дней я оставался в безрадостном и неправедном заключении, лишенный всякой возможности догадываться о своей судьбе. Вера моя в добропорядочность и незлобивость селенитов начала потихоньку истощаться. Они слишком долго совещались, как со мной поступить, — очевидно, факт моего появления стал глубоким вторжением в самые основы их жизни, и они боялись ошибиться. Добродушное отношение окраинных жителей государства к любому путнику и иноземцу, оказывается, не исчерпывало характер этого народа. У них наверняка имелись и заповедные тайны, и божественные секреты. Несмотря на опасения за свою жизнь, характер естествоиспытателя и охотника за чистой научной истиной, не замутненной никакими переживаниями, заставлял меня все время отдавать взвешиванию возможностей проникнуть в эти секреты и приобщиться к этим тайнам.
Дни тянулись невыносимо для моей деятельной натуры, любительницы чтения и экспериментов. Перебарывая не столько гордость, сколько уверенность в бессмысленности таких попыток, я не пытался заговаривать со служителями, приносившими мне два раза в день скудную пищу: кусок хлеба с самым черствым сыром и кружку простокваши на обед и кусок хлеба с пустой водой на ужин. Все же откуда здесь такая нищета и куда исчезают повозки с отличной снедью, виденные мной в деревне Пизона?
Наконец мое заключение кончилось. Однажды на исходе дня в мою келью вошли три жреца. Они предложили мне подняться и следовать за ними. Мы вновь долго кружили по полутемным коридорам в таком же полном молчании, как и в первый раз, пока меня не ввели в довольно обширную залу без окон, но хорошо освещенную многочисленными светильниками, совершенно, по-видимому, не дававшими гари, потому что потолок оставался идеально белым. Прямо передо мной располагался ряд каменных сидений, на которых помещались молчаливые бритоголовые люди, тоже, видимо, жрецы, но более высокого ранга, чем те, что привели меня сюда. Руки они держали на коленях и не шевелясь рассматривали пришельца. На меня начала нападать тяжелая жуть, возможно, я стоял на грани обморока, и в этот момент один из сидящих заговорил. Он сидел не в центре полукруга, и я не сразу его увидел.
— Чужеземец, — говорил он, — мы долго совещались, решая твою судьбу, но поскольку мы не пришли к единому окончательному выводу касательно твоего происхождения и появления на нашей планете, поскольку в преданиях нашего народа нет описания встреч с людьми, подобными тебе и утверждающими, что они явились из другого мира, и нам не с чем сравнивать, и поскольку наше государство — противник всяческого насилия, кроме того одного его вида, о коем тебе будет сообщено, мы решили оставить право выбора за тобой. Мы поведаем тебе об устройстве нашего государства, о его тайне, о его главном законе, и ты сам сможешь выбрать — кем стать.
Я не знал, как мне нужно было себя вести и что говорить. Сидящий замолк, и опять воцарилось тягостное молчание.
Внезапно один из приведших меня жрецов положил мне руку на плечо, и мы отправились. Опять началось завораживающее кружение по коридорам. Молчаливость и таинственность моих сопровождающих меня уже не столько пугали, сколько утомляли. В тот момент, когда я подумал, что путешествие наше будет вечным, оно закончилось. В небольшой каменной келье мне указали на встроенные в каменную кладку одной из стен окуляры. Я приблизился к ним, неуверенно оглянулся на своих стражей — меня можно было понять, ведь тайна этого странного народа могла оказаться отвратительно ужасной!
Наконец я пересилил себя и припал к окулярам. Ничего ужасного не произошло; не сразу, но все же я понял, что именно я вижу. Это был зал, скорей всего трапезный, некоего дворца. Даже если опустить различия между нашей архитектурой и селенитской, можно было со всей определенностью сказать, что это именно дворец, причем дворец роскошный. Об этом говорили и изумительной красоты мозаики на стенах, и причудливая лепнина, и вымощенный блестящим камнем, с соблюдением сложного рисунка, пол. Колонны, поддерживающие потолок, были своеобразно убраны золотыми пластинами. Свет солнца, проникая в искусно устроенные под потолком окна, сдержанно освещал все это великолепие.
Правда, первое впечатление беззаботной пышности и благополучного богатства постепенно начинало смущаться кое-какими деталями, которые разглядели опомнившиеся от первого восторга глаза. Отчего-то золототканый занавес, отгораживавший дальнюю часть золы, надорван у верхнего края и сильно заляпан бурой гадостью у нижнего; в мраморном углу, под героической фреской, куча, если присмотреться, битой посуды, рядом — грубый измочаленный веник. На громадном, величественном столе благороднейшего дерева поблескивает лужа непонятного происхождения, а в ней — обрывки, огрызки то ли еды, то ли чего-то еще более отвратительного. Под столом несколько огромных корзин; из них торчат горлышки бутылок, хлеб, колбасы, фрукты и прочее в том же духе. Можно было бы долго изучать эту воистину загадочную картину, если бы не важное событие — появление человека. Он появился из-за занавеса, тяжело шаркая кривыми волосатыми ногами в стоптанных, но расшитых золотыми нитями туфлях. На нем кое-как висел богатый засаленный халат, вяло подвязанный на животе золотым поясом с истрепанными кистями. Халат приоткрывал бледную, старческую грудь; волосы появившегося были всклокочены, лицо выражало что-то среднее между страданием и раздражением. Он дошаркал до стола, присел на скамью рядом с ним, огляделся и вдруг страшно заорал. Речь его была, может быть, и членораздельной, но совершенно непонятной, хотя в ней и мелькали отдельные знакомые словечки. Он явно кого-то звал, звал длинно и нетерпеливо. Наконец призываемая им появилась. Ею оказалась довольно молодая и миловидная особа. Ее туалет тоже нес следы недавнего очень продолжительного и нелегкого сна. Она мрачно покосилась в сторону вопившего и что-то выпалила в ответ. Потом подошла к столу и вытащила из-под него тряпку, комком бросила в лужу, занимавшую центр стола, и стала брезгливо сталкивать жидкость на пол, при этом она морщила нос, из чего я заключал, что жидкость дурно пахла. Старик опять начал орать — никому бы не понравился такой способ домашней уборки, но не всякий стал бы так из-за этого переживать. Девица мгновенно взвилась, швырнула тряпку в старика, достала из-под стола корзину со снедью и грохнула на стол, предлагая крикуну закусить, а сама, размахивая руками и выкрикивая проклятия, удалилась за золотой занавес.
Я на мгновение оторвался от этого зрелища и оглянулся на своих спутников. Их лица не выражали ничего, они даже не смотрели в мою сторону. Когда я вернулся к созерцанию завтрака в запущенном дворце, то увидел, что возле стола находится еще несколько человек, надо понимать, родственники старика или домочадцы. Все они выглядели нехорошо, нездорово — мужчины были не выбриты, женщины — не причесаны, все одеты кое-как, явно, что только-только покинули свои постели. Они неторопливо, без всякого удовольствия ели, доставая многочисленные продукты из расставленных на столе корзин. Появилась давешняя девица, тоже уселась за стол и потащила к себе корзину с фруктами. Старик, бывший, судя по всему, главой семейства, сделал ей замечание, она показала ему язык, он гнусаво запричитал, очевидно обличая нравы молодежи, и кто-то из парней ударил хамку по подбородку, она больно прикусила язык и вскочила, зажимая рот обеими руками, что-то мыча и пританцовывая от обиды и ярости. Все сидевшие за столом хрипло и весело захохотали.
Я снова отвернулся, и один из жрецов сделал мне знак следовать за ними. Я подчинился и через несколько сот шагов оказался рядом с узкой бойницей, открывшей мне внутренность ещё одного роскошного жилища. Я сообразил, что мы путешествуем внутри стены, окружающей центральную часть города. Картина, увиденная мною, мало чем отличалась от предыдущей. Сопровождавшие меня жрецы получили, видимо, строгое указание от своих старших братьев и поэтому постарались, чтобы я увидел многое. Мы переходили от одного тайного окуляра к другому в течение нескольких часов, я увидел десятки жилищ, горы роскоши и пропасти несчастья; океаны изобилия и бездны отчаяния; меня ужаснула картина полного вырождения человеческих качеств на фоне мрамора и золота. Уже в самом начале этой необычной демонстрации меня стали одолевать различные мысли. Что это за мир за каменной стеной? Что за селениты заключены в этом гигантском каменном узилище? А может быть, и не заключены, а сами там укрылись? Несомненным было то, что они отличаются от тех селенитов, которых я имел возможность и удовольствие наблюдать по эту сторону стены. Они несли на себе черты всех вообразимых и невообразимых пороков. Сколько уродов я увидел за несколько часов, сколько толстяков, параличных, бьющихся в падучей, прокаженных, сколько грустных, сварливых, нечистоплотных и странных существ! Как невообразимо было их поведение и отношение друг к другу! Среди них встречались, правда, здоровые на вид и даже красивые особи, но крайне редко… Язык их довольно сильно отличался от обычной селенитской полулатыни, и я его почти не понимал. Я так и не смог решить, можно ли их отнести к какому-нибудь иному племени, отличному от того, что живет вокруг стены.
Этот вопрос был первым, который я задал жрецам, когда меня привели в зал с каменными сиденьями и сказали, чтобы я спрашивал обо всем, что мне непонятно и интересно. «И да и нет», — ответили мне. Когда я выразил неудовлетворенность таким уклончивым ответом, мне рассказали древнюю селенитскую легенду об одном богопреступном селените, который нарушил древнейший завет, заповеданный богами первым селенитам, и вступил в брак с холоднокровным чудищем, обитавшим в глубинах омывавшего остров океана.
И от этого селенита, по преданию, и пошло странное и вредное племя с рыбьей кровью, внешне его представители ничем или почти ничем не отличались от обычных селенитов, но на самом деле были в глубине своего существа хитрыми, жадными, коварными и неутомимыми в своих кознях. Они не поселились отдельно в какой-нибудь всем известной деревне, а, наоборот, постарались раствориться среди селенитов, смешивая свою рыбью кровь с благородной кровью исконных жителей Луны. При этом они ненавидели хозяев планеты, но до определенного времени считали нужным скрывать свою страшную природу. В результате на Луне оказались два внутренне несовместимых, но тесно переплетенных народа.
Я подумал, что на Земле тысячи народов и они переплелись как нельзя более тесно, но никто в этом не видит корень тех зол, что истязают испокон века население планеты.
Мне продолжали рассказывать. Я узнал, что с момента появления рыбьего народа среди селенитов Луна стала стремительно преображаться, ибо рыбья кровь способствует разного рода головоломным и на первый взгляд полезным выдумкам, облегчающим труд крестьянина и ремесленника. Я узнал, что Луна очень древняя планета, много древнее Земли, и что здешний народ знавал периоды необыкновенного могущества и самого невообразимого разнообразия жизни и изобилия. Я слушал и не мог, как ни старался, представить те механизмы и устройства, которыми обладали в свое время селениты. Я верил и не верил описанию успехов селенитской медицины, которые давали возможность постигать немыслимое блаженство и долголетие. Оказалось, что успехи наук слишком дорого обошлись и Луне, и ее жителям; селениты, бездельничая, занимаясь искусствами и потворствуя своим страстям, привели планету к упадку, жизнь зашла в тупик, общество превратилось в грязную помойку, появились невиданные болезни, начались дикие войны, открылись неописуемые преступления, казалось, некому было их обуздать, мир стоял на краю гибели. Тогда жители Луны на самом краю бездны остановились и задумались, попытались что-то предпринять. Но никакие рецепты, теории и жертвы не приносили результатов. В рецепты вкрадывались ошибки, теории незаметно и страшно извращались, жертвы, приносимые народом, вели лишь к усугублению ужасов. И тогда обратились к этой легенде и поняли, что всему виной — рыбья кровь.
— Что же было дальше?
— Я тут же спросил об этом, коллега, и не поверил своим ушам. Они просто собрали всех без исключения людей с рыбьей кровью — а заражен был примерно каждый десятый — и поместили их в заключение, изолировали от остальных селенитов.
— А вы не разузнали у них, что это было за плавучее чудище? Как оно выглядело и как человек мог с ним совокупиться? С точки зрения современной науки легенда выглядит путаной.
— О коллега, я уверен, что во вселенной есть много такого, что с точки зрения нашей науки покажется или несуществующим, или путаным. Но вернемся к рассказу. Заключение, в которое были помещены селениты с рыбьей кровью, было не слишком мучительным, ибо насилие и убийство, в общем, не в натуре коренных жителей Луны. Они стремились прервать возмущающее, соблазняющее действие рыбьей крови, отгородившись от нее во всех смыслах. Для этой цели подошла старинная и громадная крепость, занимавшая издавна центр города. Туда свезли всех узников и прервали с ними всяческое общение. Крепость была очень большой, там без всякой тесноты с удобствами могли разместиться несколько десятков тысяч человек. Постепенно селениты оставили свои грязные и злобные механизмы, зарыли их в землю или бросили в океан, вернув их тем самым чудищу, которому они были обязаны своим появлением, и вернулись в покинутые деревни, к естественному труду, теперь ничто не мешало им заниматься, не замутняло сознание, не будило вредных страстей. Неуклонно, хотя и очень медленно, жизнь на планете стала выправляться, очистились реки и озера, окрепли леса, заколосились пашни, отступили повальные болезни, счастье посетило дома селенитов. Новые поколения почти ничего не знали о городе и тех, кто был за стеной; постепенно у них вырабатывался мистический страх перед образом стены и уважение к касте жрецов, хранителей завета, и храмовой страже, охраняющей мир от вечной заразы, копошащейся в крепости, пожирающей бесконечную дань и всегда готовой вырваться наружу. Поскольку работать все приучились очень много, то избыток производимых продуктов и изделий, под видом этой самой дани, и отправлялся в крепость, где шла своя странная, даже жуткая, на взгляд простого селенита, жизнь. Племя лукавой рыбьей крови получало все: и пищу, и ткани, и драгоценности в самом немыслимом изобилии. Все, кроме одного — власти. По каким правилам и обыкновениям развивается их жизнь, никто, даже сама храмовая стража, в точности не знает. Никакого, НИКАКОГО общения не происходит, ибо с племенем рыбьей крови нельзя вступать в диалог, достаточно заговорить хотя бы с одним, из спора невозможно выпутаться, а в сердце чувствительного селенита неизбежно поселяется жалость. Стоит хотя бы одному селениту ввязаться в разговор хотя бы с одним носителем рыбьей крови — и стена, с таким трудом воздвигнутая, рухнет, и все начнется сначала. Настроения и устремления рыбьего племени сейчас непонятны и неизвестны, можно только заметить, что это физически и нравственно деградирующий народ — многовековое даровое изобилие не проходит бесследно. Кажется, у них есть нечто похожее на власть, но они по самой своей природе ненавидят любую власть, кроме таинственной, скрытой, любое публичное, открытое государство им противно, как гласят старинные предания. Изменилось ли что-нибудь сейчас, установить не удается, никто не исследует всерьез состояние их жизни, наблюдательные амбразуры устроены таким образом, чтобы любой, только зарождающийся бунт в тот же момент был пресечен. Попытки в одиночку покинуть крепость, предпринимавшиеся в незапамятныe времена, пресекались с такой жестокостью, что теперь не повторяются чаще, чем раз в десять — пятнадцать лет. Б общих чертах известны две теории, вернее, два поверья, владеющие разумом жителей страны горького изобилия. Первое гласит, что не они, окруженные стеной, находятся в заключении, а, наоборот, те, кто вокруг, то есть селениты. Что работяги-селениты воздвигли эту стену, отделяя город-храм от своего низкого, ничтожного мира, и поклоняются жителям крепости-храма как живым божествам, о нем свидетельствуют и безумно щедрые, регулярные подношения. Другое поверив считает продукты и изделия, доставляющиеся из окружающего мира, не подношениями, а кормежкой, и что их всех, окруженных стеной, просто откармливают для того, чтобы рано или поздно сожрать. Они как-то вычисляют определенные дни, которые, по их поверью, должны стать роковыми, и тогда за стеной намечаются жуткие волнения…
— На этом текст обрывается, — сказал дон Антонио, отпуская нижний край свитка, тем самым давая ему свернуться.
— И что вы скажете по поводу прочитанного?
— Очень странный рассказ. С одной стороны, воображено все очень живо и смело…
— Ну-ну! — Олоннэ выдохнул большой клуб дыма, сунул трубку обратно в зубы и резко наклонился вперед.
— А с другой стороны — как бы слишком смело. За гранью здравого смысла и привычного представления о вещах и мире. Не безумен ли этот автор? Мне не приходилось никогда читать ничего подобного.
Говоря это, дон Антонио попутно пытался сообразить, означает ли факт его вовлечения в литературный диспут то, что ему можно уже не бояться самого худшего.
— То, что вы не читали ничего подобного, говорит всего лишь о вашей скудной образованности.
Его высокопревосходительству было крайне забавно слышать подобные слова из уст обыкновенного бандита, но он не позволил себе показать это.
— Сэр Фрэнсис Бэкон пописывал в подобном роде, вам не попадались его рассуждения об Атлантиде? Или «Город солнца» Кампанеллы, название прочитанного вами отрывка явно перекликается с названием поразительного сочинения этого итальянца. Не читали?
Дон Антонио виновато и отрицательно покачал головой.
— Если я вас не повешу, дам вам прочитать латинский перевод. У меня имеется, как память об одном из родственников.
Его высокопревосходительство не обратил никакого внимания на вторую часть фразы, поскольку был потрясен первой.
— Господин Олоннэ, вы играете со мной, как кошка с мышью, то вовлекаете в высокоученый спор, как бы давая понять, что готовы видеть во мне человека, жизнь коего для вас имеет некоторую ценность, то вдруг объявляете о возможности немедленной виселицы. Прошу вас, объявите мою участь, дабы я мог помолиться и привести в порядок если не дела свои, то хотя бы мысли. Прошу вас.
Капитан жестом сожаления развел руки. Кровь подсохла, с обшлагов больше не капало.
— Я не могу вам объявить то, чего не знаю сам. Ваша участь в огромной степени зависит от того, что вы станете мне отвечать на вопросы. Не «как», заметьте, а «что».
Дон Антонио шумно сглотнул слюну:
— Я готов.
— Отлично. Для того чтобы вы по ходу нашего расследования задавали себе как можно меньше недоуменных вопросов, чтобы это не мешало вам размышлять над вопросами моими, я объясню вам общие очертания моего интереса. Собственно, я уже начал это делать своим рассуждением о взрослых и детях.
— Я помню… — угодливо закивал его высокопревосходительство.
— Так вот, я убежден, что автором этого отрывка является, говоря моими словами, человек взрослый. Они чрезвычайно редки в нашем мире, а в этой части мира и подавно. Мне нужно его отыскать. Во что бы то ни стало.
— Но если он мертв!
— Тогда мне нужно отыскать его труп и тех, кто его похоронил.
— Но он, может быть, живет не в Новом Свете, вообще, может быть…
— У меня есть основания считать, что он живет именно в Новом Свете.
— Спрашивайте, господин Олоннэ. Я отвечу. И обещаю полную искренность.
Капитан выколотил трубку и снова набил ее табаком. Не торопясь раскурил. Совершаемые им движения ничуть не походили на приготовление палача к своей мрачной работе, но дон Антонио тем не менее чем дальше, тем больше чувствовал себя привязанным к грот-мачте.
— Но ведь может статься, что этот текст очень старинный, и тогда, как бы я ни старался вам помочь, вы все равно останетесь недовольны.
— Разве вы сами, читая это свиток, не ощутили, что писал его наш современник? Более того, мысли, в нем заключенные, весьма напоминают мне мысли, высказывавшиеся человеком, коего я знавал не более чем десять лет назад. Такой человек должен быть признан нашим современником, не правда ли?
— Согласен с вашим мнением.
— Тогда скажите мне, откуда у вас этот свиток?
— Он появился у меня недавно вместе с другими свитками и книгами. Их доставили мне, зная о моей склонности к разного рода древностям и загадкам, из Сан-Педро.
Олоннэ встрепенулся:
— Из Сан-Педро?
— Именно. Тамошний алькальд дон Каминеро год назад проводил какую-то карательную экспедицию против местных индейцев. Там ведь проживают вдоль реки Святого Иоанна, называемой также Дезаньядера, даже людоеды. Они дики и воинственны.
— Откуда у диких людоедов могли оказаться книги и свитки?
Дон Антонио кивнул, показывая, что заключенное в вопросе недоверие считает обоснованным:
— Я и сам задался таким вопросом и обратился с ним к офицеру, сопровождавшему груз. Офицер был из новеньких, только что переведенный из Фландрии за какие-то провинности, он не смог удовлетворить моего любопытства. Да и то сказать, оно не было таким острым, как ваше.
— И вы забыли об этом свитке.
— Нет. Ведь мне, ради того чтобы навербовать добровольцев, пришлось отправиться в глубь Никарагуа. В Сан-Педро я, разумеется, встретился с доном Каминеро. Не в числе первых, не буду лгать, но я задал ему вопрос о переданных им в мое распоряжение рукописях и книгах.
— Он отказался отвечать?
— Вы почти угадали. Он на эту тему говорил неохотно. Лишь кратко упомянул о том, что помимо дикарей его солдаты столкнулись и с одним культурным индейским поселением; у жрецов, возглавлявших поселение, эти книги и были изъяты. Почему это пришлось сделать, он не объяснил и никаких запоминающихся подробностей относительно этих культурных индейцев не привел.
Олоннэ поскреб мундштуком переносицу и крикнул, полуобернувшись:
— Роже!
Явился седой камердинер.
— Я здесь, господин.
— Принеси мне что-нибудь переодеться. А то это, — капитан не без усилия стащил с себя камзол, — невозможно носить.
Состоялся акт переодевания. Дон Антонио был вынужден на нем присутствовать. Когда в Эскуриале ему приходилось наблюдать церемонию перемены августейшим лицом его одежд, он считал себя польщенным. Но сейчас кем он должен был себя считать, рассматривая голого бандита?
Никакой возможности возмутиться не было.
Его высокопревосходительство покорился судьбе. Хотя и не полностью. Он отвел глаза.
После окончания процедуры Олоннэ вдруг спросил:
— А, вы еще здесь?!
Удивление, прозвучавшее в голосе капитана, было столь поддельным, что дон Антонио содрогнулся, — издевательства продолжаются.
— Я жду решения своей участи.
— Вы знаете, не такой простой это вопрос — ваша участь.
— Отчего же?
— Да оттого. На Тортугу я вас взять не могу, да, судя по всему, и вы сами не хотите туда.
Губернатор закашлялся.
— Вы не купец какой-нибудь, вы большой чиновник испанской короны. Я могу поставить в неудобное положение господина де Левассера. Королю Людовику придется объясняться с королем Филиппом.
— Это правда.
Роже пододвинул к капитану тщательно протертое кресло, тот вальяжно в него уселся.
— Но отпустить на свободу я вас также не могу.
— Но почему? Клянусь…
— А что скажут мои боевые друзья, они столько крови пролили, чтобы добраться до вашего горла, а я вдруг в решающий момент разрешу вам удалиться. Невозможно.
— Что же, нет никакого выхода?
— Один выход всегда есть в запасе — вздернуть вас на рее, ко всеобщей радости.
— Но мне почему-то кажется, что вы не склонны прибегать к нему.
Олоннэ улыбнулся:
— Вы проницательный человек. Я не повешу вас сегодня.
— Выкуп?
— Да. Это даст мне возможность держать вас возле себя, не убивая. Пока.
Дон Антонио с облегчением вздохнул, как вздохнул бы всякий человек, услышавший, что казавшаяся неизбежной смерть сделала шаг назад.
— Но почему вы со мной так откровенны, капитан?
— Потому что мне на вас наплевать.
Глава четырнадцатая
Этой ночью все на борту «Сантандера» напились вдрызг. Корсары умели собираться при наличии опасности, особенно смертельной, но ничто не могло помешать их веселью над трупом побежденного врага.
Олоннэ знал, разумеется, об этом свойстве своих подчиненных, поэтому и не пытался протестовать. Вместе с Ибервилем, новым капитаном «Сантандера», переименованного в «Монпелье» (так назывался родной город бельмастого), и дюжиной бутылок крепкой мадеры вовсю веселился в большой каюте. Веселье заключалось в том, что он лежал лицом на столе, не подавая признаков жизни. Столь же оживленными и жизнерадостными выглядели Ибервиль и другие офицеры.
Бодрствовали лишь Роже и Беттега. Первый — потому что не любил состояние опьянения и особенно те последствия, что оно с собой приносит. Второму было приказано бодрствовать и не прикасаться к вину.
— Слишком многие хотят меня здесь зарезать, — сказал Олоннэ своему телохранителю.
— Так прикажи их убить.
— Если бы я точно знал кто, не раздумывал бы ни секунды. А так боюсь ошибиться. Так что будь внимателен. И если я завтра проснусь с кинжалом в спине, тебе не поздоровится.
Уже поздно ночью, после четвертой склянки, Беттегу подозвал к себе Воклен, покачивающийся на четвереньках в углу каюты. Он напился раньше всех и теперь просил, чтобы его отвели освежиться.
— Иначе… — Воклен показал, что будет иначе, изобразив струю, хлещущую изо рта.
Беттега подхватил его под мышки и выволок на свежий воздух. Перевалил верхнюю часть пьяного туловища через планшир и со словами:
— Дальше сам, приятель, — вернулся в каюту. Там он не обнаружил ничего интересного. Все тот же пьяный капитан, все тот же пьяный Ибервиль. Тяжелая смесь из табачного и винного перегара.
Значительно интереснее было там, где он оставил капитана Воклена. Когда телохранитель Олоннэ скрылся, лысый толстяк пришел в себя, перестал оглашать окрестности желудочными воплями, встал на ноги. Огляделся. И быстро направился к люку, что вел на нижние палубы.
Как вскоре выяснилось, целью его был карцер, за дверью которого лежал, размышляя над превратностями своей судьбы, губернатор Эспаньолы. Было темно, одна тусклая свеча, деревянный закут. Корсар, игравший роль стражника при дверях карцера, был конечно же пьян. Удар рукоятью пистолета по голове усугубил его состояние. Ключи сняты с пояса, замок отперт.
— Выходите, — прошептал в темноту Воклен.
Человек в темноте некоторое время напряженно молчал. Наконец из карцера донеслись слова тревожного вопроса:
— Что вы задумали и кто вы такой?
Первой мыслью, явившейся дону Антонио, была мысль о том, что перепившиеся корсары, недовольные мягкостью Олоннэ в обращении с губернатором Эспаньолы, пришли свести с ним счёты.
— Да выходите же, черт вас возьми!
— Или вы сейчас уйдете, или я…
— Не будьте идиотом, я пришел вам помочь.
— Помочь?!
— Бежать, бежать помочь.
— Куда? Ну, да…
— До берега футов сто, доплывете как-нибудь. Пойдемте, пока все пьяны и никто ничего не соображает.
Воклен вывел губернатора к той стороне корабля, что не была освещена луной, перебросил через планшир веревку.
— Полезайте. Скорее, ваше высокопревосходительство, скорее.
— Я сейчас, да. Но только скажите мне, зачем вы это делаете? Ведь вы…
— Да, меня зовут Воклен.
— И вы помогаете мне спастись?!
— Когда-нибудь удача оставит Олоннэ, и он попадет к вам в руки. Так было почти со всеми, так будет и впредь. Так вот, когда я окажусь у вас в плену вместе с Олоннэ, вы уж не забудьте об этом ночном эпизоде.
С этими словами толстяк стал разматывать веревку, и голова губернатора скрылась за бортом.
Когда хитроумный Воклен вползал обратно в каюту, мотая головой, очень натурально измазанной блевотиной, Беттега бросил в его сторону лишь один презрительный взгляд. Этот человек был не способен воткнуть нож в спину капитана, а значит, был неинтересен.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Корсары были, конечно, очень огорчены бегством губернатора, они не получили от него ни денег, ни крови. Как ни странно, недовольство в связи с этим обрушилось на капитана Олоннэ. Недовольство было глухое, но несомненное. Они не понимали, зачем капитан уединялся с испанцем, и почему, после состоявшейся беседы, губернатора не вздернули на рее. Не задумал ли Олоннэ каким-нибудь образом присвоить деньги, которые могли бы составить выкуп столь высокопоставленного человека, как губернатор Эспаньолы?
Олоннэ попробовал произвести расследование, но ответом ему было только одно слово — ром. Ром смывает все следы. Никто ничего не помнил.
Пришлось ограничиться наказанием несчастного охранника — его лишили доли в добыче — и плыть на Тортугу.
Несмотря на недостойное — мягко говоря — поведение капитана Шарпа во время экспедиции, причитавшиеся ему деньги сполна получили жена и тесть.
Женевьева даже не пожелала взглянуть на ящики с монетами и драгоценностями — часть того, что удалось поднять с борта затонувшего корабля.
Господин де Левассер, напротив, был очень доволен.
Надо сказать, что он уже догадался, что за замужеством дочери стоит какая-то тайна и роль капитана Олоннэ в этой истории весьма туманна. Но он решил, что благоразумнее вообще не ворошить прошлое. Женевьева отказывалась обсуждать с ним тему своего замужества. Губернатор переживал по этому поводу, но не слишком. А деловым сотрудничеством с Олоннэ был так и вообще доволен. А Женевьева?.. Ее положение нельзя назвать невыносимым. Во-первых, ей удалось избавиться от явно нелюбимого мужа. А во-вторых, она занимает положение, о котором мечтают очень многие женщины. Юная богатая вдова — что может быть заманчивее для мужчин!
Прибывшие с Олоннэ на Тортугу корсары нашли своим деньгам обычное применение. А получили они по двести шестьдесят реалов на человека, плюс многим досталась доля погибших друзей и родственников. С такими денежками можно было разгуляться. Как будто специально именно в эти дни прибыли на Тортугу два корабля, груженные спиртным — разными винами и водками. И загудела Тортуга.
Через три недели спустившие все до последнего мараведиса [14] корсары стали по двое, по трое являться к Олоннэ с просьбой снова взять их с собою в плавание, если таковое им намечается.
— С тобой, Олоннэ, мы готовы хоть к черту в зубы! — в порыве похмельной слезливости заявляли они ему.
Олоннэ не участвовал в их пирушках и вообще мало появлялся на людях. Он вел уединенный образ жизни и, по слухам, проводил целые часы, обложившись книгами и картами. У кого-то это вызывало насмешки, другим было, наоборот, приятно, что их вожак не шалопай какой-нибудь, а человек образованный и знающий. Так или иначе и те и другие сидели без денег, поэтому поднимали совместные тосты за то, чтобы капитан Олоннэ поскорее придумал, куда стоит отправляться за новой порцией золотишка.
И капитан не обманул их ожиданий.
Однажды вечером он послал своего верного Роже в «Жареный фрегат», где в тот момент сидели Воклен, Ибервиль и ле Пикар, и потребовал, чтобы они немедленно явились к нему.
Эти трое собрались именно затем, чтобы обсудить планы на будущее. Они видели, что сидеть без дела далее нельзя, корсары начинают волноваться. Но пускаться в плавание в одиночку было слишком рискованно, действуя же в составе эскадры, да еще под началом такого удачливого вожака, как Олоннэ, можно было рассчитывать на значительно большую добычу при значительно меньшей вероятности сложить голову.
— А если Олоннэ не захочет? Если он навсегда засел за свои книги?
Этим вопросом задавались все трое, и ответ им приходил только один: надобно плыть без него. Опять-таки объединенной эскадрой, но без Олоннэ. Но тут сразу же возникала проблема единого начальника. Конечно, каждый считал наиболее предпочтительным в этой роли себя и каждый с другими был совершенно не согласен.
Так они сидели и попивали белое винцо, перебрасываясь легкими шутками, ибо понимали, что всякий серьезный разговор рискует закончиться поножовщиной.
— Что это ты зачастил в губернаторский дворец, Воклен? — спрашивал Ибервиль, поправляя повязку на своем безработном глазу.
— Что значит зачастил? — отвечал толстяк, проверяя состояние своей лысины. — Я был там всего два раза, когда помогал Олоннэ отнести деньги, и на следующий день, когда передавал мадам Женевьеве вещи Шарпа. Кое-что от него все-таки осталось.
— А что, это нельзя было передать одновременно — вещи и деньги?
Ибервиль подмигнул ле Пикару, мол, смотри, как врет. Причем подмигивание в исполнении одноглазого человека значительно выразительнее, чем у нормального. Воклен прищурился и снова потянулся к лысине, он почувствовал, что она покрывается потом. Неужели этот бельмастый о чем-то догадывается? И кто ему рассказал о второй встрече?!
Воклен действительно встречался в саду с вдовой капитана Шарпа, и речь во время этой встречи шла совсем не о том, как погиб ирландец, но о том, почему жив француз.
— Он слишком внимателен. Он завел себе телохранителей, они бодрствуют день и ночь.
— Нет такого человека, которого нельзя было бы убить.
— Да, мадам, и я пытался. Я отравил его в Гибралтаре. Он болел две недели, но выжил.
— Вы выбрали негодный яд.
— Годный, мадам, годный. С его помощью я отправил на тот свет троих. Олоннэ выжил. И после этого случая стал весьма подозрителен. Он не ест со всеми, он…
— Я плачу вам деньги, Воклен, большие деньги.
— Целую ваши руки, но прошу заметить, что ни за какие деньги я не смогу купить себе вторую жизнь. Он мгновенно уничтожит меня, если заподозрит в намерении вредить ему. Мое спасение сейчас в том, что он подозревает всех и не в состоянии выбрать — с кого начать.
— Все эти ваши объяснения меня мало волнуют.
— Понятно, — опустил голову толстяк, и в глазах его сверкнула сдерживаемая злость.
— У вас нет другого выбора — вы должны его убить, иначе Олоннэ узнает, кого именно из своего окружения должен опасаться больше других.
Воклен замер. Он не ожидал такого поворота. Ему дают понять — эта девчонка! — что он у нее в руках, а он-то думал, что это она находится в его власти в случае чего. Что же он там такое ей сделал, Олоннэ, если она так его ненавидит?!
— Я буду стараться, мадам. Но не здесь, конечно, не на Тортуге.
— Я думаю, вы скоро отправитесь в плавание. Корсары пропили все заработанное.
Толстяк с поклоном удалился.
— Что молчишь, Воклен? — допытывался Ибервиль.
— Почему я не передал все сразу?
— Да, объясни!
— Мадам Женевьева не вышла, когда мы принесли деньги… И потом, зачем же связывать деньги и память о любимом муже…
— С каких это пор ты стал таким мягкосердечным? — захохотал ле Пикар.
— Врешь ты все. Ты лучше скажи сразу — подъезжаешь к вдовушке, а?!
— Какую чепуху ты мелешь, Ибервиль!
— Почему же чепуху? Чем ты хуже других? Ты человек состоятельный.
Воклен почувствовал, что в этих словах пьяного соратника всплывает старый намек на то, что груженный добычей корабль, которым ему было поручено командовать, находится отнюдь не на дне морском, а в какой-нибудь тихой заводи. И денежки, коими он был гружен, лежат в глубокой пещере, о пещере этой известно только одному человеку, потому что кости остальных уже обглоданы прибрежными крабами.
Толстяк не отреагировал на этот намек. Пусть себе болтают. Ибервиль не унимался:
— А собственно, чего ты удивляешься? За Шарпа пошла? Пошла. А ты чем хуже?
— Ты перестанешь болтать или нет?!
Ибервиль начал подниматься из-за стола, опершись на него двумя руками. Собеседник тоже, ему изменила его обычная выдержанность. Иногда даже самый терпеливый человек говорит себе — хватит!
Ле Пикар не вмешивался, более того — он забавлялся. Зрелище дерущегося на дуэли Воклена — это было для него внове.
Уже руки схватились за рукояти, уже все три глаза налились кровью, когда появился Роже. Он быстро понял обстановку и мгновенно вмешался.
Предложение капитана Олоннэ прибыть к нему с немедленным визитом было достаточным аргументом против почти назревшего поединка. Последние слова еще не были сказаны. Воклен шумно выдохнул. Ибервиль сплюнул. Ле Пикар усмехнулся. И все отправились на зов Олоннэ.
Глава вторая
Прошло примерно полтора месяца.
За это время капитану Олоннэ удалось сделать многое.
Он собрал под своими знаменами всех талантливых корсарских капитанов.
Оснастил эскадру из шести кораблей и возглавил целую армию не менее чем в тысячу человек.
Проделал труднейший путь к той части света, что впоследствии была названа Центральной Америкой. Плавание оказалось трудным из-за того, что в этот раз на Олоннэ ополчились помимо испанцев еще и силы природы. Эскадра перенесла два шторма и несколько приступов изнурительного штиля.
Олоннэ бомбардировал с моря испанский город Пуэрто-Морено, а потом, высадившись на берег с несколькими сотнями корсаров, взял его приступом.
Высадиться он был вынужден, потому что его люди стали роптать: им надоело болтаться по морям без всякого толка — ни один груженный золотом галион за все полтора месяца плавания не соизволил попасться им на пути.
Корсары послали своих представителей к капитану Воклену, пользовавшемуся среди джентльменов удачи самым большим уважением после Олоннэ. Кроме того, Воклен считался рассудительным человеком.
После первого разговора Олоннэ выставил вон «рассудительного человека» и заявил, что его целью является Сан-Педро и никакие другие цели его не интересуют.
— Иди и скажи им это!
Воклен безропотно поклонился и ушел. Но ему было суждено вернуться. Штиль оказался на его стороне. Настало утро, и корсары снова увидели эту ужасающую картину — беспомощно висящие на мачтах паруса. Они собрались на палубе и стали требовать, чтобы капитан вышел к ним.
Олоннэ вышел.
— У нас почти не осталось питьевой воды.
— В бочках одна гниль вместо солонины!
— Все сухари сожрали крысы!
— Еще несколько дней такой жизни — и мы будем не в силах натянуть фал!
— Что вы хотите от меня?! Это не я рассовал все испанские суда по укромным бухтам. И не я управляю погодой.
— Наши желудки не понимают слов. Дай нам еды и работы.
— До места высадки осталось всего двадцать миль. Мы перевалим через небольшой хребет, и в наших руках будет один из самых богатых городов провинции Никарагуа. У вас будут не только еда и работа, но и деньги. Много денег. Спросите у тех, кто ходил со мной на Маракаибо, довольны ли они своим заработком и держу ли я свое слово.
Голоса в возмущенной толпе начали стихать. Авторитет капитана делал свое дело. И тогда заговорил Воклен. Он вызвал этим огромное удивление Олоннэ. Никогда скрытному толстяку не приходило в голову открыто выступить против своего капитана.
— Ты хочешь что-то сказать?
— Да. — Воклен повернулся к команде. — Мы все очень уважаем нашего капитана, но… В общем, зачем нам идти до Сан-Педро, когда есть чем поживиться значительно ближе?
Толпа опять заволновалась:
— Где?
— Что?
— Пуэрто-Морено, он находится вот за этим мысом. Городишко небольшой и не такой уж богатый, но для того, чтобы перевести дух и поесть вдоволь, он сгодится.
— Что ты мелешь! Какой еще Пуэрто-Морено! — начал было Олоннэ поднимать голос на неуместного говоруна, но почувствовал, что слова Воклена произвели на собравшихся сильное впечатление. Одним криком не обойтись, нужны более основательные аргументы. — Еще пять лет назад здесь был простой рыбацкий поселок. Здесь жили индейцы, которые охотятся на черепах. Этих тварей мы можем наловить и сами.
Олоннэ говорил с раздражением и понимал, что его слова звучат все менее убедительно.
Воклен тоже видел: капитан не в ударе.
— Да, — заговорил он снова, — городок совсем небольшой. Его вообще построили как пристань, испанцы там перегружают товары, чтобы потом отправлять их в глубь континента. Охрана там есть, но не слишком большая, и мы…
— Ладно, — махнул рукой Олоннэ, — если завтра утром не будет ветра, мы обойдем этот мыс.
— Как это мы сделаем при таких парусах? — закричали в толпе.
— Верповать будем, понятно. Триста человек высадятся на берег.
Сделав еще кое-какие распоряжения, Олоннэ ушел в каюту. Надо было обдумать сделанные сегодня открытия. Например — почему так осмелел Воклен? Почему промолчали Ибервиль и ле Пикар? Не могут же они перейти на сторону Воклена. Потому что перейти на его сторону — это значит встать под его команду. Для настоящего лихого моряка и воина стать подчиненным такой посредственности, как капитан Воклен, непереносимо обидно.
Может, все-таки завтра появится ветер. Он был готов молиться Богу, черту, кому угодно, чтобы это произошло.
Этого не случилось.
Наутро корсары, назначенные для пешего боя, стали высаживаться на берег.
Другие занялись верпованием — тяжелым, нудным делом. То есть перетаскиванием кораблей вдоль берега вручную с помощью веревок, наматываемых на растущие на берегу деревья. Это была самая нелюбимая работа, чем-то схожая с бурлацкой. А может быть, и очень схожая.
Потом был бой.
Испанцы, естественно, не ожидали, что кто-то в подобную погоду сможет приблизиться к их городу. Так что появление корсарских кораблей явилось для них настоящим шоком. Двумя залпами удалось полностью разогнать те полторы сотни испанских солдат, что выгнал на берег местный алькальд. Они отступили в глубь города, наивно рассчитывая подготовиться к какому-то отпору. Но тут из леса повалили дьяволы Ибервиля. Да еще в таком количестве, которое могло присниться местным жителям только в страшном сне.
Разумеется, они тут же стали сдаваться на милость победителя, хотя прекрасно знали, что этот победитель менее всего склонен осыпать их милостями.
Воклен оказался прав. Пуэрто-Морено действительно оказался лишь пристанью. Причем пристанью, заваленной товарами. Испанцы прекрасно знали о том, что время от времени пути передвижения ценностей из Старого Света в Новый и наоборот становятся корсарам известны, поэтому пускались на хитрости, то есть меняли пути подобного передвижения. Пуэрто-Морено был одним из таких новых маршрутов, или, вернее сказать, пунктов на маршруте. Причем устроен он был совсем недавно, товары через него двигались в огромных количествах, потому что испанцы не боялись нападения.
Корсары имели возможность убедиться, в каких размерах осуществляется испанская торговля. Они бродили по набережной, с восхищением подсчитывая, сколько тут тюков и мешков.
— Кошениль! [15]
— Индиго!
— Кожи!
Причем они не могли не оценить, что все это богатство досталось им почти без всякого риска. Бойто вышел смехотворный. И в один голос все твердили, какой все же умный человек этот толстяк Воклен.
Репутация толстяка, и без того достаточно твердая, приобрела и некие романтические, и героические краски.
Сам Воклен, конечно, не рассчитывал на такой успех, но предпочел о том, что на его стороне в этот раз сыграла счастливая случайность, не распространяться.
Он ходил между горами мешков и благосклонно принимал восторги в свой адрес.
Самое интересное, что корсарам эти богатства были в общем-то ни к чему, они просто не имели возможности их увезти с собой и лишь пускали слюни, подсчитывая, сколько бы это все стоило на рынках Тортуги, а еще лучше — Европы.
Перепало победителям, конечно, и немного серебра с золотом. Не так много, как они рассчитывали приобрести при наилучшем исходе экспедиции, но все же кое-что.
— Что мы будем делать со всем этим, капитан? — поинтересовался Ибервиль.
— Сжечь! — коротко ответил тот.
— Огонь перекинется на город.
— Обязательно.
Ибервиль поправил повязку на глазу.
— Ты мне хочешь что-то сказать? — спросил внимательно наблюдавший за ним капитан.
— Нужно кое-что обсудить.
— Выкладывай. Впрочем, я и сам догадываюсь, в чем там у вас дело. Кое-кто раздумал продолжать поход, я правильно тебя понял?
— Я еще ничего не сказал, а ты меня уже понял.
— Так или иначе мы пойдем на Сан-Педро.
— Не думаю, что многие последуют за тобой.
— А ты, ты, Ибервиль?
Корсар опустил глаз.
— Я пойду. Пойду, хотя знаю, что это гибельное предприятие. Я не знаю, что тебя так влечет в этот город, но догадываюсь, что не деньги. Я ценю нашу дружбу и ради нее готов пойти против своих интересов, но на большее не рассчитывай, таких, как я, не слишком много.
Олоннэ закурил, выражение лица его из разъяренного сделалось задумчивым.
— Послушай, Ибервиль, а Воклен?
— Что тебя интересует?
— Не он ли сбивает с толку моих людей? Я слишком доверял ему в прежние времена и боюсь, он каким-то образом воспользовался моим доверием. А теперь открыто выступил против.
— Он не посмел бы этого сделать, не чувствуй он огромной поддержки в команде. Да, все понимают, что Олоннэ — великий воин, но пойдут за Вокленом, потому что им хочется за ним пойти. А что касается его души… у нас в Латрансе говорят, что душа темнее ночи. Как можно проникнуть в мысли человека без помощи палача?
— Он ведь был надсмотрщиком на галерах.
— Я тоже не из Лувра прибыл сюда.
— Ладно. Скажи им, что я желаю поговорить с командой.
— Где их собрать?
— На набережной, как раз напротив того места, где громоздятся горы мешков.
— Когда?
— Когда стемнеет.
Доверив исполнение этой части своего замысла Ибервилю, исполнением второй Олоннэ занялся сам. В находившийся поблизости от места сбора дом было доставлено несколько девушек из родовитых испанских семей. Когда большая часть корсаров собралась в условленном месте, из дома начали доноситься хорошо знакомые давним матросам Олоннэ звуки. Капитан развлекался. Особую пикантность этим забавам придавало то, что девушкам, делившим ложе с капитаном, предстояло всенепременно умереть.
Не было ни одного исключения за всю многолетнюю историю взаимоотношений капитана с женским полом. Очень многие мечтали узнать, что же там все-таки происходит вне глаз команды, но никто не решался подсмотреть, все понимали, что в такие минуты шутки с капитаном плохи.
Когда, судя по доносившимся звукам, дело стало приближаться к кульминации, специально назначенные Олоннэ корсары подошли с горящими смоляными факелами к кучам с колониальными товарами и подожгли их.
Удивительно быстро горит то, что дорого стоит. Словно куча сухого хвороста, занялись мешки с индиго и крашеные толедские кожи. Пламя поднялось футов на двадцать над землей. Жуткие отражения лизали прибрежную воду. Жар бил в спины и лица корсаров. В спины тех, кто не мог отвернуться от сотрясаемого кровавой страстью дома, и в лица тех, кого больше волновал вид гибнущего добра. Им было жаль его, хотя они прекрасно понимали, что воспользоваться им можно лишь тем способом, который применил Олоннэ.
Массы огненных искр уносились к звездному небу, как бы дразня живостью и блеском своих отдаленных родственниц, неподвижно застывших на глади гигантского купола.
Десятки мыслей теснились в головах собравшихся на набережной корсаров.
И вдруг над этим напряженным сборищем возвысился еще один крик.
Самое интересное, что не женский. Кричал мужчина.
Корсары зашевелились, повернулись к дому и те, кто больше интересовался костром.
Неужели он взялся за мужиков?! Таков был общий немой вопрос.
Возрождение даровало европейскому человеку не только многочисленные копии античных статуй, но и более богатые представления о сексуальной жизни. Стоящие на набережной Пуэрто-Морено корсары не принадлежали к передовой части человечества, но все же имели представление о том, что между мужчиной и мужчиной может иметь место то, что принято называть любовью. Представление имели, но не приветствовали. Замеченных в половых поползновениях подобного рода джентльмены удачи с кораблей изгоняли. Капитана в их глазах не извиняло и то, что противоестественному использованию подвергался, скорей всего, испанец. Конечно, этих кастильских собак надо истреблять, но не подобным же образом.
Но через мгновение выяснилось, что кричат-то не по-испански.
По-французски кричат.
Хорошенькое дельце!
Толпа, загудев и не сговариваясь, стала надвигаться на дом невыносимого разврата.
Но все кончилось так быстро, что пожар возмущения не успел как следует разгореться, чтобы соответствовать размерам пожара на пристани.
Двери дома распахнулись, и на пороге показался молодой корсар, вполне одетый, хотя вид у него был сумасшедший. Безумно вращая глазами, в которых отражались пляшущие огни гигантского костра, он заговорил, но успел сказать всего несколько слов:
— Вы знаете, что там происходит?! Я сейчас…
Больше он ничего сказать не успел.
Раздался выстрел. Человек, решившийся подсмотреть, что и как делает с пленными испанками капитан Олоннэ, сделал непроизвольный шаг вперед. Изо рта у него хлынула кровь. Он встал на колени. Губы шевелились, несмотря на ранение, он желал говорить.
Рана оказалась смертельной. Пират упал, отдав свой последний страстный поцелуй деревянному настилу набережной.
Убил его, разумеется, Олоннэ. Он стоял в дверях и держал в руках пистолет с дымящимся стволом.
— Так будет с каждым, кто осмелится мне помешать, — сказал он.
Никто не выразил сомнения внешне в его словах и не усомнился внутренне.
Эпизод на этом не закончился.
Две оставленные без присмотра испанки выскочили из-за спины капитана и попытались скрыться. Одна бросилась вправо, другая — влево. Олоннэ успел отбросить пистолет и схватил обеих за волосы.
Они что-то кричали на своем наречии. Кричали и простирали руки к столпившимся в десяти шагах от них корсарам. Ошибиться было невозможно — они требовали помощи. Молили о ней! Кое-кто из французов знал немного испанский язык. Правда, лишь в той степени, чтобы объясниться при купле-продаже. Сбивчивые, истеричные, запутанные в слезах и воплях девиц молитвы остались ими не поняты.
Олоннэ не стал ждать, когда смысл чуждых речений дойдет до сознания собравшихся. Он потащил за собой по настилу обеих. Потащил к пылающему костру.
Толпа молча расступалась перед ними.
Подойдя, насколько это было возможно, к стене огня, Олоннэ приподнял испанок и с размаху ударил лбами друг о друга.
Предусмотрительный!
Он понимал, что, если просто швырнет их в огонь, они обязательно выскочат из пламени. А ему нужно было, чтобы они сгорели наверняка.
Несмотря на все старания Олоннэ, план его был выполнен не полностью. Одна девушка рухнула в кучу горящих мешков и осталась там навсегда. Вторая под воздействием неистового пламени очнулась и, превратившись в живой факел, зашагала к воде с невоспроизводимым воплем в горле. Впрочем, путешествие ее оказалось недолгим. Оно уложилось в три шага. После чего испанка рухнула и замерла, пылая.
Олоннэ повернулся к толпе свидетелей:
— А теперь можно и поговорить.
На фоне благовонного пламени (занялись ящики с душистыми травами и нюхательными солями) его крупная фигура выглядела гигантской…
И зловещей.
Надо сказать, что большинству пошедших с ним в поход людей он именно таким и нравился, именно такой он и вызывал у них восхищение. Столь неподдельное и столь глубокое, что оно перевешивало порой стремление к золоту. Порой? Что значит порой?! Вот в этот самый момент и перевешивало.
— Кто пойдет со мной на Сан-Педро?! — с каким-то свирепым великолепием произнес Олоннэ.
— Я!
— Я!
— Мы!!!
Голосов было много, но они не слились в единодушный хор. Слишком многие корсары удержались в пределах трезвого взгляда на вещи, устояли на страже своих шкурных интересов.
Встав на почву трезвого выяснения дальнейших планов, корсары пришли к компромиссному решению, которое выглядело следующим образом.
Олоннэ и Ибервиль с тремя сотнями человек отправляются к Сан-Педро. Остальные ждут их на опаленной пристани Пуэрто-Морено. Оставшиеся не считаются предателями и скотами, но при этом безусловно теряют всякое право на ту добычу, что будет взята без их участия.
— Кто же останется вашим капитаном? — с нескрываемой иронией спросил Олоннэ.
— Воклен! — прозвучал громкий ответ большей части корсаров.
— И ле Пикар, — раздались голоса меньшего, но все же немалого количества людей.
Олоннэ подошел вплотную к татуированному другу и попытался посмотреть ему в глаза. Это ему не удалось. Костер почти догорел, луна еще не взошла.
— Ле Пикар, ты остаешься?
— Я остаюсь, Олоннэ.
— Почему?!
— Все говорят, что ты идешь в Сан-Педро не за золотом. Значит, не ради нас. А ради чего, ты не хочешь сказать.
— Ты был мне другом, ле Пикар, а дружба заключается в основном в том, что веришь человеку на слово. Я даю тебе слово, что после этого похода мы будем богаты, сказочно богаты.
Ле Пикар медленно покачал головой:
— Я бы, может, и пошел с тобой, но со мной не пойдет моя команда.
— Ты один стоишь десятка человек.
— Ты начинаешь льстить, Олоннэ, значит, твои дела плохи.
Олоннэ кивнул и отошел, не глядя на старого друга.
— Ложиться спать. Завтра на рассвете выступаем, мы должны достигнуть Сан-Педро за одни сутки.
Глава третья
— Что это? — спросил Ибервиль, указывая на неровную зеленую стену, видневшуюся в отдалении на фоне белых домов Сан-Педро.
— Терновник, — сухо ответил капитан, — живая изгородь. Я однажды уже видел такое на Эспаньоле. Кусты посажены очень густо, иглы длиной в палец.
Ибервиль оглянулся назад. Колонна корсаров, сумевшая в течение одного дня достичь Сан-Педро, представляла собой жалкое зрелище, если не сказать больше. Как будто флибустьеры уже раз двадцать прорвались сквозь терновую стену. И самое неприятное было в том, что почти ни у кого не осталось на ногах обуви. Голые дикари с пистолетами и саблями.
— Ничего, — сказал Олоннэ, проследив за взглядом Ибервиля, — Сан-Педро вознаградит нас за труду. Мы добудем за его терновыми стенами не только одежду. Но попотеть придется изрядно. Видишь, там, между домами?
— Что?
— Установлены пушки. Штук десять или двенадцать. Они откроют огонь, когда мы будем преодолевать полосу кустов. На это время мы станем почти неподвижной мишенью. Проклятый штиль! Будь здесь с нами наши корабли, мы бы подавили эту батарею.
— Так, может, стоит обождать денек, может статься, ветер переменится.
— Имея за спиной триста оборванных головорезов, да еще к тому же голодных и злых, ждать не рекомендуется.
Дальше все произошло так, как и предсказывал Олоннэ.
Корсары с ходу пошли в атаку. Против своего обыкновения, испанцы не перепугались одного их вида и не бросились бежать. Они открыли беглый огонь из аркебуз и начали прицельное бомбометание в тот момент, когда первые корсары, неся в руках факелы (они пытались поджечь кустарниковое заграждение), приблизились к терновой стене. Среди защищающихся оказались весьма толковые пушкари: ядра не пропадали даром. Перед стеной неприступной зелени осталось не менее десятка трупов. Вопли раненых разносились на сотни ярдов вокруг.
Отогнав корсаров, испанцы не спешили радоваться, они прекрасно знали, что войну с этими морскими дьяволами еще никому не удавалось выиграть одним удачным залпом. Они торопливо перезаряжали аркебузы, забивали заряды картечи в стволы пушек.
— Не нравится мне это, — вздохнул Ибервиль, — еще две такие атаки…
Корсары произвели еще четыре.
Лучшие стрелки из их числа вели огонь по испанским канонирам. Вслед за двумя-тремя десятками прицельных выстрелов в бой шла вся корсарская лавина. И всякий раз откатывалась назад, утаскивая раненых.
Единственный успех, достигнутый в ходе этих кровопролитных прорывов, состоял в том, что испанские орудия начали стрелять менее уверенно. Видимо, профессиональных канониров все же удалось убить или ранить. Несколько ядер взорвались в гуще терновых кустов, что привело к образованию трех широких просветов в шипастой стене.
— Нам везет! — вскричал Олоннэ. — В атаку! Теперь-то мы до них доберемся!
Почти никто не откликнулся на этот призыв. Корсары валялись на земле, тот, кто не был ранен, находился на последней степени измождения.
— Они не пойдут, — сказал Ибервиль, вытирая рукавом окровавленной рубашки черный пот со лба.
Капитан и сам это понимал, понимал и то, что, если испанцы контратакуют, они сметут его войско. Он переводил взгляд с испанской батареи на валяющихся под деревьями корсаров, а на лице у него застыла маска отчаяния. Ситуация была безвыходная. Отступление от естественных стен Сан-Педро не могло не обернуться поражением во всем этом походе.
Спасение пришло с самой неожиданной стороны.
Но не в виде сотни стрелков ле Пикара. Татуированный со своими людьми так и не появился на поле боя.
Над испанской батареей взвился белый флаг.
— Они сдаются?! — вне себя от удивления воскликнул Ибервиль, протирая свой единственный глаз.
— Не думаю. Мне кажется, они всего лишь предлагают нам переговоры.
— Но в нашем положении и это немало.
— Правильно. Беттега!
Телохранитель выступил из-за спины капитана.
— Ты ведь немного говоришь по-испански?
— Да, господин.
— Сходи узнай, чего они хотят. Постой.
Олоннэ подошел к валяющемуся на спине корсару, тот еще дышал, и одним движением разорвал на нем рубаху.
— Нет, не годится, слишком грязная. Придется мою.
Из потной капитанской рубахи был сделан белый флаг, и Беттега во главе делегации из троих человек отправился к изгороди.
От окраинных домов отделилась группа горожан.
— Если они предложат выкуп… — начал было излагать свою мысль Ибервиль.
— Я откажусь! — отрезал капитан.
Сошлись как раз возле одного из «проломов» в живой ограде. Переговоры были недолгими.
Олоннэ сплюнул.
— Черт! Я не предупредил его, чтобы он потянул время, каждые полчаса сейчас имеют значение. Мы хотя бы раны успели перевязать.
— Нечем уже и перевязывать.
— Понадобится — используем подштанники.
— И голыми в атаку?
— Этих скотов главное испугать. Не важно чем!
— Они просят перемирия, — издалека объявил Беттега.
— Перемирия?
— На два часа.
— За это время они вывезут из города все ценное, — заметил Ибервиль.
Олоннэ поскреб пальцами голую грудь.
— Для этого они и затеяли переговоры.
— Они сказали, капитан, — продолжил Беттега, — что уверены в вашем благоразумии.
— Они что, догадываются, как плохи наши дела?
— Боюсь, что да, капитан.
Олоннэ хлопнул себя по ляжкам и длинно выругался.
— Тогда почему они не атакуют? — спросил Ибервиль.
— Просто не знают, насколько плохи! — прорычал Олоннэ. — Иди и скажи им, что мы согласны. Мы даем им два часа.
— Этим согласием мы показываем свое полное бессилие, тебе не кажется?
— Не зли меня, Ибервиль, я и так уже разозлен до предела. Иди, мой верный Беттега, иди и скажи, что два часа подождать мы согласны. И веди себя понаглее. Пусть почувствуют, что они не зря собираются прятать и вывозить свое золото! Рано или поздно, через два часа или через двадцать два, мы этот колючий город возьмем!
Олоннэ выполнил свое обещание, ибо не было нужды сдерживать корсаров. Когда прошло оговоренное время, кое-как приведшие себя в порядок и состояние ярости морские разбойники вновь напали на город.
Окончание боя получилось кровавым, но, к счастью, коротким.
Дальше все развивалось по отлаженной схеме. Были схвачены все те, кто мог знать, в каком направлении вывезены из Сан-Педро ценности. Несмотря на лютую усталость, нашлись охотники немедленно отправляться в погоню. Их возглавил Ибервиль.
Бросились в муниципальные конюшни, но застали там лишь хрипящих, с перерезанными горлами мулов.
— Конюхов повесить, конюшни сжечь, — скомандовал одноглазый.
Алькальд города дон Каминеро отдал приказ уничтожить всех мулов и животных, которые не понадобились для перевозки того, что предназначалось для спасения. Это был хороший замысел. Пешком изможденные корсары ни за что не догнали бы караван из навьюченных лошадей. Но в этом замысле оказалось два слабых места. Один добряк и один негодяй послужили причиной тому, что спасенные ценности вновь оказались под угрозой.
Первым был конюх, до такой степени любивший лошадей, что смог ослушаться высокого приказа. И на свой страх и риск вывел десяток лучших лошадок в граничивший с городом овраг.
В качестве второго выступил местный торговец, сообщивший Ибервилю о неблагоразумном поступке конюха. Он рассчитывал, что, учитывая оказанную помощь, корсары пощадят его дом. Корсары выделили торговца только в одном отношении: они его дом ограбили первым.
А потом и подожгли.
Провожая свою импровизированную конницу в погоню, Олоннэ сказал своему одноглазому помощнику:
— Мне нет дела ни до золота, ни до людей, которые его сопровождают. Кроме одного.
— Кроме одного?
— Дон Каминеро, здешний алькальд. Пожилой человек, почти старик.
— Его зарезать первым или не трогать вообще?
— Он должен остаться цел и должен прибыть сюда невредимым.
— Понятно.
И конница ускакала, канув в облаке пыли. Олоннэ обернулся лицом к городу. Он частью горел, частью был покрыт дымом, наползавшим со стороны горящей части. Отовсюду доносились крики тех, кто испытывал на себе корсарское отношение к жизни и претерпевал их представление о справедливости. Олоннэ усмехнулся. Его люди заслужили право делать то, что они сейчас делают. Ему было нисколько не жаль тех, кто кричал. Они не поверили в дурную славу, сопутствующую джентльменам удачи на всех морях Мэйна, и, вместо того чтобы разбежаться, теперь получают то, что заслужили за свою глупость и жадность.
— Беттега!
— Я здесь, господин.
— Ты выяснил, где находится дом сеньора Каминеро?
Телохранитель поднял окровавленную шпагу:
— За этой церковью.
— Ну что ж, хотя это и невежливо — заходить в дом без хозяина… сделаем это.
Они обогнули указанное белое строение, спустились по четырем каменным ступенькам, миновали густую тень магнолиевых деревьев и оказались перед невысокой глинобитной стеной. Калитка в стене оказалась заперта.
Беттега и два других корсара, сопровождавшие капитана, обрушили на нее приклады своих мушкетов. Калитка оказалась крепкой. Приклад Беттеги, трудившегося усерднее других, разлетелся в щепы. Пришлось стрелять. После третьего выстрела калитка подалась, и капитан Олоннэ в сопровождении телохранителей и густых клубов дыма вошел в тихий небольшой сад.
Никого.
Прислуга, конечно, разбежалась. Собственные жизни слугам были дороже хозяйского имущества. Так подумал Олоннэ и, к своему удивлению, несколько ошибся. У дверей дома его встретила худая, вся в черном старуха — лет восьмидесяти, не меньше — и преградила путь!
Разумеется, это препятствие было смехотворным, несмотря на то что старуха кричала шумно, слюной брызгала щедро, цыплячьи свои лапки поднимала угрожающе. Капитана остановили слова, которые она при этом кричала.
— Что, что ты сказала, повтори, старая ведьма?!
Ему послышалось, что она требует, чтобы они не входили к дону Каминеро, ибо он очень плох.
— Так он здесь?
— Здесь, здесь, и вы к нему не войдете, иначе я…
Глаза капитана загорелись густым синим огнем, губы растянулись в хищной улыбке. Он шагнул вперед, одновременно отшвыривая престарелую защитницу вожделенного дона.
Здесь самое время рассказать о другом доне, а именно о доне Антонио. Куда он, собственно, исчез, спустившись за борт «Сантандера»? Сразу скажем, его не сожрали аллигаторы, не укусила змея, он не умер с голоду, не заболел тропической лихорадкой. Крупные хищники также не нападали на него. Он благополучно добрался до берега, два часа продирался сквозь густые, негостеприимные заросли, гонимый вперед одним желанием — как можно дальше уйти от пьяного пиратского лагеря. Уснул он на небольшой поляне, согревая себя мыслями о неизбежной и скорой мести этим кровавым скотам. Сила этого чувства удвоилась в нем. Теперь корсары были должны ему не только за его сына, но и за него самого.
Пробуждение слегка видоизменило настроение его высокопревосходительства. Оглядевшись вокруг, он понял, что заблудился. Кое-как сориентировавшись по солнцу и выбрав направление на север, где еще должны были находиться неразоренные испанские города, он двинулся вперед. Путешествие его было длинным, мучения, которые ему пришлось испытать, поддаются описанию с трудом, поэтому и не стоит их описывать. И закончилось оно не в испанском городе, а в индейской деревне. Его схватили, когда он выходил из озера. Он зашел в него, чтобы напиться. Зайти пришлось довольно глубоко, ибо берега были слишком затинены. Индейцы, которым выпало его найти, не видели того момента, когда он в воду входил, они увидели его выходящим. Вернее, даже узрели. Ибо озеро это у племени икачиа считалось священным. Племя было дикое, с испанскими властями состоявшее в отношениях крайне враждебных но, на счастье дона Антонио, находившееся в плену собственных суеверий. Если бы он появился откуда угодно, только не из озера, его бы немедленно принесли в жертву местному богу с абсолютно непроизносимым именем. А так он им показался похожим на посланца того же самого божества. Внешний вид его, правда, отличался от того, в каком должен был прийти, по преданию, этот посланец, что впоследствии вызвало толки и брожение умов. Но даже самые недоверчивые были подавлены тем фактом, что он появился именно из озера.
Сообразив, что немедленной смерти он не подвергнется, дон Антонио вздохнул свободнее. Когда же стало ясно, что ему воздаются почести, смысл которых до него дошел не сразу, он вообще приободрился. В тот момент, когда вождь племени объявил ему, что он бог, у него появилась надежда на спасение.
Напрасная надежда.
Посланец бога должен был, согласно преданию, сидеть в уединенной хижине, пожирать приносимые ему плоды и маисовые лепешки и ждать того момента, когда воды священного озера всколыхнутся и из них появится сам Тиутакалькан. [16]
Роль посланника заключалась в том, чтобы предстать перед богом и похлопотать за народ икачиа, убедить его, что в отсутствие своего бога народ вел себя хорошо.
Итак, в тот момент, когда капитан Олоннэ входил в темную комнату, где должен был найти разбитого параличом алькальда Сан-Педро, бывший губернатор Эспаньолы лежал на подстилке, представляя собой огромную разъевшуюся тушу с испуганными глазами и воспаленными веками (от непрерывно воскуряемых благовонных трав), и трясся от страха, потому что перед его хижиной стояли вооруженные и возмущенные почитатели бога Тиутакалькана и требовали, чтобы им дали убить «мокрого человека». Ибо в предании сказано, что посланец бога должен был выйти из воды сухим. Дон Антонио не думал о мести, он думал о том, что с каждым днем толпа желающих расправиться с ним становится все больше.
Дон Каминеро выглядел еще хуже. У него полностью отнялась правая половина. Удар его хватил в тот момент, когда ему сообщили, что город атакуют корсары. Его удивление, переходящее в паралич, можно понять.
Капитан Олоннэ осмотрел старика и понял, что ему немного осталось. Надо было спешить.
— Вам привет от дона Антонио. Меня бояться не надо. Я не хочу вашей смерти. Мне нужны ваши карты.
На губах дона Каминеро образовались один за другим несколько пузырей, по левой щеке потекла. струйка слюны.
— Я не только вас не убью, я буду вас лечить. Вечером сюда прибудет доктор Эксквемелин, он голландец, у него есть диплом Геттингенского университета. Он облегчит ваши страдания. Но только в том случае, если вы поможете нам найти одно индейское племя. Оно где-то в этих местах. Вы были там. Вы видели этих индейцев. Ими управляют какие-то жрецы. То ли это одичавшие миссионеры…
У дона Каминеро снова начала пузыриться левая часть рта.
— Что вы хотите сказать?! Может быть, вы напишете? Бумагу, чернила!
Все телохранители разом бросились выполнять приказ.
В липкие пальцы паралитика вложили гусиное перо, развернули свиток.
— Чего вы ждете?! — несколько нервно поинтересовался капитан. Он начал сомневаться, что испанец вообще его понимает. — Пишите! Пишите же!
И рука поднялась и приблизила к желтоватой поверхности чернильное острие. Алькальд был не левшой, поэтому те пять букв, что он вывел, вызвали бы отчаяние в душе каллиграфа своим видом.
Составленные вместе, эти буквы образовали слово «город».
— Какой город? Какой?! Возле какого города находится это индейское поселение?
У алькальда задергалась щека.
— Он недоволен, — прошептал Беттега.
— Я тоже, — бросил ему Олоннэ.
Дон Каминеро понял, что его не понимают, да простится нам это тавтологическое построение. Рука снова поднялась, ткнулась по пути в чернильницу и написала на бумаге пять букв. Тех же самых.
— Опять «город»! — воскликнул Беттега, получивший, видимо, в детстве азы грамоты. Остальные корсары стояли много ниже его в смысле образованности.
— Он издевается над нами, капитан!
— Нет, — усмехнулся Олоннэ, — он не издевается, он торгуется.
— Торгуется?!
Олоннэ не обратил внимания на этот вопль справедливого возмущения и наклонился к дону Каминеро:
— Вы хотите, чтобы я не трогал Сан-Педро, тогда вы мне скажете, где находится индейское поселение, я правильно вас понял?
Дон Каминеро удовлетворенно закрыл глаза.
Пока глаза параличного алькальда были закрыты, Олоннэ позволил себе улыбнуться.
Глядя в открытые глаза, он сказал следующее:
— Я не просто обещаю, я вам клянусь, что с городом ничего не случится, мне нет дела до Сан-Педро, моей целью является это индейское поселение. Стал бы я забираться в такую глушь, прибрежные города намного богаче.
Старик снова поднял руку, Олоннэ взволнованно замер. Кажется, удалось!
В этот раз дон Каминеро написал всего три буквы:
«Дым».
Все корсары непроизвольно раздули ноздри. В комнате действительно ощущался запах гари.
— Это не дым, дон Каминеро, ни в коем случае. Это… ваша служанка топит печь соломой. Хотите, я вам докажу?
Олоннэ стремительно вышел во двор. Есть! Хижина для черной прислуги! Он содрал с крыши клок соломы. Выхватил из-за пояса пороховницу, сыпанул на каменный порог пороха. Ударил один раз кресалом, сунул во вспыхнувшее пламя добытую солому и с этим «доказательством» вернулся к ложу умирающего. Вся эта процедура заняла буквально несколько мгновений.
— Видите, дон Каминеро, видите?
Старик закрыл глаза. Трудно было сказать, поверил ли он. Скорее всего, нет. Ему было нужно, чтобы его убедили. Кроме того, если у него осталась способность соображать, он мог рассудить, что чем раньше он сообщит Олоннэ то, что его интересует, тем скорее корсары уберутся из Сан-Педро, что само по себе благо для города.
Перо снова потребовало чернил. Бумага снова распростерлась перед ним. И началась длительная, кропотливая работа, ибо слово теперь было длинное,
— Гва-те-ма-ла, — медленно прочитал Беттега.
— Что значит эта «Гватемала»? Где находится то, что я ищу? Южнее города, севернее, восточнее или…
Дон Каминеро закрыл глаза при слове «восточнее».
Олоннэ снова улыбнулся своей хищной улыбкой:
— Значит, восточнее Гватемалы?
Глаза утверждающе закрылись.
— Хорошо. В Сан-Педро есть проводники, знающие туда дорогу?
И снова положительный ответ.
— С кем мне поговорить по этому поводу, дон Каминеро? Раз начали, так уж заканчивайте. Почему вы не открываете глаза? А?! Что с вами?!
— Он умер, — вслух произнес Беттега то, что капитан и сам уже понял.
Глава четвертая
Получив приказание отправить в Сан-Педро безрукого преступника Лупо, Воклен потерял сон. Ему бы по логике вещей надо было радоваться, что синеглазый безумец затевает предприятие, которое неизбежно приведет его к гибели. Он мог бы представить его смерть как следствие своих усилий и получить от мадам Женевьевы причитающиеся ему за это двадцать тысяч реалов. Плюс к этому он из всей этой истории должен был выйти и с другими прибылями: деньги и ценности, добытые в Пуэрто, хранились на его корабле. В случае исчезновения капитана Олоннэ он становился их верховным распорядителем.
Дальнейшая судьба рисовалась ему только в радужном свете. Он мог, на выбор, сделаться королем «берегового братства», после смерти Олоннэ у него не осталось бы соперников (ле Пикар был хоть и излишне татуирован, но не слишком умен), или, добыв себе рекомендации с подписью господина де Левассера, спокойно убыть в Европу и поселиться в тихом французском городке (вроде Ревьера), где были бы только рады появлению еще одного богатея.
Но, несмотря на все эти великолепные перспективы, сердце старого сборщика податей и галерного надсмотрщика было неспокойно. Его мучило то, что он не мог найти ответа на вопрос, зачем Олоннэ направляется в Гватемалу.
Он допросил пленников, и они ему кое-что порассказали об этом городе. Великолепная крепость, четырехтысячный гарнизон. Что в этой ситуации можно сделать с тремя сотнями корсаров, измученных трехнедельным путешествием?
Ничего!
Может быть, это какой-то особенный способ самоубийства?
Нет.
Такие люди, как Олоннэ, самоубийством не кончают.
Сборщик податей метафизически принюхался и почуял запах старой, странной, как бы слегка подгнившей тайны.
Что это могло бы быть?
Богатейший золотоносный рудник? Эльдорадо всегда искали южнее, в бассейне реки Ориноко, и не находили, потому что на самом деле эта легендарная страна располагалась где-то поблизости от того места, где испанцы построили город под названием Гватемала.
Воклен, как и всякий житель Нового Света, наслушался за свою жизнь индейских историй о золотых долинах и алмазных пещерах и относился к ним (к историям) со справедливым отвращением. Но, с другой стороны, дыма без огня не бывает. Просто когда слишком много вокруг дыма, трудно сообразить, где именно находится источник огня. Олоннэ открыл способ ориентироваться почти в абсолютном дыму?
А может быть, не рудник?
Может быть, сокровищница индейских царей? В тех местах жили в свое время богатые индейские племена. При приближении испанцев они могли собрать все свое золото и спрятать в недоступной горной местности.
Нет! Надо выбросить из головы эти бесполезные мысли.
Воклен постучал себя кулаком по лбу. Тот, у кого в руках кошелек с золотом, не лезет в зубы к дьяволу, чтобы добыть мешок. Мечта — враг счастья. И возраст уже не тот. Никакого индейского клада не существует. Олоннэ обыкновенный безумец.
Именно безумец!
Достаточно вспомнить его поведение на протяжении прошедших лет.
Воклен вспомнил и понял, что абсолютно прав. Достаточно рассмотреть его взаимоотношения с женским полом. Почему умирали все женщины, с которыми он делил ложе? Для бывшего надсмотрщика эта тема давно перестала быть животрепещущей, редкие позывы плоти он укрощал с помощью какой-нибудь случайной шлюхи, поэтому баснословные любовные подвиги синеглазого изувера были ему особенно удивительны и представлялись пределом ненормальности.
Прежде чем отправить Лупо к его хозяину, он велел привести урода к себе. Безрукий жил вместе с матросами на коечной палубе, во избежание каких-то его выходок (каких именно, никто не знал) он был прикован к вертикальному столбу железной цепочкой. Впрочем, достаточно длинной для того, чтобы он мог самостоятельно посещать гальюн.
Меры предосторожности против этого искалеченного человека были столь велики, что это невольно вызывало к нему определенное уважение. Он молча, без единой жалобы переносил тяготы путешествия, хотя ему приходилось много тяжелее, чем остальным. В те времена на кораблях царила страшная теснота. Канониры часто спали прямо возле орудий, если судно несло на себе отряд для десантирования, что в корсарских походах бывало почти всегда. На каждого члена экипажа приходилось места вряд ли более квадратного ярда. Стоило подняться небольшому волнению, как задраивались орудийные порты, и нижние палубы превращались в настоящий ад. За глотком чистого воздуха приходилось подниматься на верхнюю палубу, скользя каблуками по лестницам, обильно политым извержениями человеческого желудка. Морская болезнь не щадит даже бывалых мореходов. Длина цепочки, приковывавшей Лупо к столбу, не позволяла ему подняться наверх. Он сидел в дальнем углу каземата, обхватив голову обрубками рук, и целыми днями молчал.
Когда урода ввели к Воклену, последний, не удержавшись, поморщился — столь густой вонью обдал его вошедший. Капитан «Венеры» велел дать ему вина.
— Да, видать, недаром корабль, где ты находился, называется «Месть».
— Не понимаю, о чем ты говоришь.
— Олоннэ так измывается над тобой, будто за что-то мстит, я угадал?
— Нет, я не сделал капитану ничего плохого.
— Но можешь сделать?
— Не понимаю, о чем ты говоришь.
— Что тут понимать, он отрубил тебе руки, посадил на цепь, наверное, потому что думал, что ты хочешь его убить. Я даже не буду спрашивать, угадал ли я, ибо уверен, что дело обстоит именно так.
Лупо ухмыльнулся, и жуткие шрамы на его лице затанцевали:
— Как бы ты сам поступил с человеком, который хочет тебя убить?
Воклен тоже ухмыльнулся:
— Да, ты прав, урод, такого человека я бы убил, и так бы поступил всякий. А ты жив.
— Жив, — нехотя согласился Лупо; было видно, что он не вполне в этом уверен.
— Значит, — бодро продолжил допрос командир «Венеры», — ты ему нужен, настолько нужен, что он пошел даже на то, чтобы оставить тебя в живых. Для чего ты ему нужен, урод?
Улыбка снова нарушила мозаику на лице Лупо:
— Даже если бы я знал, то побоялся бы сказать.
Воклен налил вина в высокий бокал и собственноручно поднес его ко рту безрукого:
— Пей.
— У тебя какое-то предложение ко мне, лысый капитан, и ты желаешь меня для начала задобрить?
— Пусть так, пей.
Лупо медленно, с удовольствием выпил.
Воклен улыбнулся и налил еще.
Урод выпил и сказал, облизав усы длинным подвижным языком (язык, кстати, тоже нес на себе следы каких-то пыток):
— Спрашивай.
— Он вызывает тебя к себе. Он начинает поход в Гватемалу. Уж не знаю, как ему удалось убедить своих людей, что это необходимо. Чтобы бросить их на штурм Сан-Педро, ему пришлось спалить целую набережную товара и город Пуэрто-Морено в придачу. Интересно, что он сжег на этот раз?!
— Я не слышу вопроса.
— Услышишь.
Воклен налил себе вина в другой бокал, не в тот, из которого пил Лупо.
— Почему Олоннэ тебя изувечил, я понимаю, но для чего ты ему нужен — нет. Что он хочет найти в Гватемале? В чем ты ему должен помочь?
Урод опустил голову на грудь, задумался. Собеседник молча наблюдал за ним, вращая в пальцах ножку бокала.
Так продолжалось довольно долго.
Наконец голова поднялась. На губах играла характерная улыбка, на которую невозможно было смотреть без омерзения.
— Не знаю.
Воклен медленно, но густо покраснел.
— Ты издеваешься надо мной. Несмотря на то что я не Олоннэ, я найду способ сделать так, чтобы ты очень пожалел о том…
— Я и не думал издеваться. А смеялся над собой, над своей судьбой.
— Мне плевать на твою судьбу! Говори, что Олоннэ нужно в Гватемале? Говори, иначе по дороге в Сан-Педро… Короче говоря, ты не доберешься до Сан-Педро.
— Можешь верить мне, можешь не верить, но интересует его только одно — индейский поселок по дороге в Гватемалу. Город ему взять не под силу.
— Это я знаю.
— Этот поход он придумал с одной целью, чтобы не выглядеть безумцем в глазах своих людей. Так мне кажется. Никто не станет рисковать жизнью ради какой-то нищей индейской деревни. Олоннэ это понимает.
— Но может быть, деревня не нищая?
— Я хорошо знаю эти места. Здесь не только нет золота, но даже слухов о нем. Вдоль реки Святого Иоанна живут только дикари, которые даже не понимают, что такое деньги. Обо всем этом я рассказал Олоннэ еще в Маракаибо. Он чуть с ума не сошел от волнения. Как будто я поведал ему, как проникнуть в подвалы Лондонского королевского казначейства. Олоннэ несколько раз заводил со мной разговоры на эту тему. Он был уверен, что я подослан убить его, но оставил в живых, чтобы использовать в качестве проводника.
Воклен хлопнул себя пухлыми ладонями по ляжкам:
— Куда?! Куда ты его должен отвести?!
Лупо развел руками:
— Больше мне сказать нечего.
Толстяк прошелся из угла в угол каюты.
— Хочешь еще вина?
— Я хочу дать тебе совет.
— Мне? Совет? Не слишком ли ты много на себя берешь?! Впрочем, говори.
Воклен уселся в кресло и попробовал положить ногу на ногу. Это ему удалось, но не с первого раза.
— Выслушай мою историю, капитан. Я не тот, кем меня считают здесь. Я обманул Олоннэ там, в Маракаибо.
— Судя по тому, как он с тобой обошелся, не очень-то он поверил тебе.
— Это правда. Олоннэ подозрителен, как сам дьявол. Клянусь душой своей дочери, клянусь спасением души своей, я еще не встречал человека более страшного.
Капитан «Венеры» сделал нетерпеливое движение рукой. Он не любил, когда при нем восхваляли удачливого Олоннэ.
— Тогда слушай.
Лупо рассказал заинтригованному французу историю испанского разбойника по имени Горацио де Молина. История получилась довольно длинной и, само собой разумеется, впечатляющей. Он привел такие подробности, которые придумать было невозможно, как бывалый человек Воклен это понимал. В его рассказе не было противоречий и различимого поверхностным взглядом вранья.
— Как, ты говоришь, тебя зовут?
— Горацио де Молина.
— Я что-то слышал о тебе.
Воклен не добавил, что слышанное не находится в противоречии с только что изложенным.
— Это неудивительно, обо мне наслышаны и по ту сторону океана, и по эту.
— Замечательно, осталось только узнать, для чего ты мне рассказал все это?
— Ты производишь впечатление умного человека. По крайней мере, практичного. Ты, наверное, уже мысленно взвесил, сколько золота прошло через мои руки.
— Продолжай.
— Согласись, одному человеку трудно потратить столько.
— Если постараться, можно потратить любые деньги.
— Остроумно, но неумно.
Воклен поморщился:
— Ты все время дерзишь мне. Я не столь вспыльчив, как Олоннэ…
Лупо-Горацио махнул на него правым обрубком:
— Большую часть денег я спрятал.
— Клад? — насмешливо спросил толстяк.
— Клад, — серьезно ответил урод.
— И где же он?
— Это я тебе скажу в свое время.
— Знаешь, почему я тебе не верю? Потому что человек, у которого имеется столько денег, сколько, по твоим рассказам, было у тебя, старается не рисковать более своей шкурой, он ищет способ вернуться к нормальной жизни, купить себе место под солнцем закона.
Де Молина насмешливо вздохнул:
— Это зависит от характера. Ты рассказывал о том, как бы ты поступил; ты — толстый, хитрый, основательный. Я совсем другой человек. Я разбойник по натуре.
— Но разбойник — любой, даже такой, как ты, — по натуре не обязан быть дураком. Зачем тебе со всеми деньгами, уже тобой добытыми, нужно было пускаться в столь рискованное дело, в которое ты пустился? Неужели ты рассчитывал обмануть Олоннэ? Ты только что сам говорил, что это невозможно.
— Почему невозможно! Тебе-то вот удается.
Воклен вспотел от нахлынувшего ужаса:
— О чем ты?
— Так, к слову пришлось. Призываю Матерь Божью в свидетели. А что касается моего вояжа в Маракаибо… Я это делал по приказу дона Антонио, губернатора Эспаньолы.
— Дона Антонио, — со странной интонацией произнес капитан «Венеры».
— Да. В руки этого человека попала моя дочь.
— При чем здесь дочь? Впрочем, что я спрашиваю, очень даже при чем.
— Теперь, можно сказать, я рассказал все.
— И?..
— На мой взгляд, все очевидно. Зачем тебе связывать свою жизнь с безумцем, который ради своих непонятных прихотей готов сотни людей загнать в джунгли? Ему все равно, что там с ними случится.
— Что же делать? — Судя по тону, Воклен спрашивал скорее себя, чем собеседника, но тот счел возможным ответить.
— Насколько я мог рассмотреть, команда твоего корабля относится к тебе с уважением. Собери сходку, объясни им, чего от них хочет Олоннэ, и спроси, желают ли они участвовать в самоубийственном походе на Гватемалу. Что они ответят, предугадать нетрудно. Ведь от штурма Сан-Педро они отказались, значит, они уже на полпути к тому, чтобы окончательно порвать с сумасшедшим дьяволом Олоннэ.
— Одно дело — уклониться от участия в малопонятной операции, другое — полностью дезертировать. Само собой разумеется, если мы сейчас оставим его, то станем его врагами. А как он обходится со своими врагами, особенно с теми, кто перешел в этот разряд из разряда друзей, слишком хорошо известно. Вспомни Баддока и Шарпа.
— Мстить будет некому. Олоннэ не вернется из похода на Гватемалу.
— Откуда ты можешь это знать?
— Я это чувствую.
Воклен презрительно усмехнулся:
— Сильный аргумент.
— Других нет, но и его достаточно.
— Тебе легко говорить, ты же просто хочешь спасти свою шкуру.
— Как будто ты хочешь чего-то другого! Кроме того, заметь, у тебя есть возможность неплохо заработать при этом.
— Ты думаешь, я поверил в твою сказку о кладе?
— Думаю, да. Кроме того, чтобы сильнее тебя заинтересовать, я пообещаю тебе в разговоре с другими корсарами молчать об истинной цели нашего плавания.
Воклен насупился. Он взвешивал все «за» и «против». Против был только один аргумент — страх перед Олоннэ. Но зато сильный страх.
— Решайся, Воклен. Если судьба будет к нам хотя бы отчасти милостива, ты уедешь в Европу задолго до того, как синеглазый безумец выберется из малярийных болот Гватемалы. Если ему суждено выбраться. А ему не суждено этого сделать.
Глава пятая
— Предатели! — мрачно сказал Олоннэ, услышав о том, что корабли Воклена и ле Пикара вышли из гавани Пуэрто-Морено и удалились в неизвестном направлении. Капитан был зол, но не удивлен. К самому худшему он был готов уже после отказа большей части корсаров штурмовать Сан-Педро. Исчезновение лукавого урода Лупо его тоже не лишило дара речи. Он нашел ему замену в лице двоих местных индейцев. Они брались привести экспедицию корсаров в «редукцию» — так между собой они называли поселок, интересующий капитана. Они неплохо понимали по-испански, и когда Олоннэ подробно изложил им все, что ему было известно со слов Лупо и дона Каминеро о таинственном поселении, индейцы понимающе закивали и всячески подтверждали, что все то, о чем идет речь, они знают. Да, говорили они, там живут индейцы, совсем не похожие на дикарей-людоедов, они одеваются чисто, работают в поле. У них есть два вождя, но сами эти вожди (или жрецы, понять было трудно) не индейцы. Люди они очень уважаемые, каждое их слово — закон. У каждого отдельный дом. Ходят в одежде до пят и зимой и летом. Один — старый, другой — молодой.
В этой ситуации переживать по поводу исчезновения безрукого бандита смысла не было.
Капитан Олоннэ развил бурную деятельность. Он не собирался откладывать экспедицию на долгий срок. Одной недели для отдыха измученным людям вполне достаточно. Этого же срока всем легкораненым должно было хватить для выздоровления. Тем, кому не суждено выздороветь через неделю, не суждено было выздороветь вообще. Раны гноились во влажном климате, и скоротечная лихорадка пожирала пиратов одного за другим.
Была и еще одна причина спешки. О ней капитан предпочитал не распространяться, но сам в уме держал ее непрерывно. Дело в том, что Сан-Педро оказался городом совсем не богатым. Осмотрев все склады, и королевские и частные, Олоннэ пришел к выводу, что продуктов едва-едва хватит на то, чтобы обеспечить экспедицию. Ни о каком роскошестве не могло быть и речи. Каждый мешок муки, каждый бочонок масла был на учете. Каждый мул и носильщик-индеец — тоже. Большинство разбежалось, последовав за своими хозяевами, испанцами. Негры же были плохо приспособлены для переноски тяжестей в местных джунглях.
Накануне выступления Олоннэ публично, даже, если так можно выразиться, с помпой казнил троих корсаров. Изрубил собственноручно. Негодяи пробовали склонять колеблющихся к бунту против Олоннэ.
Куда мы идем?
Зачем?
Нет там никакого золота, и мы все там сдохнем. Посмотрите на Сан-Педро, ради взятия которого положено столько жизней! Это ведь нищий город. Нищий город на окраине нищей страны.
В Гватемале четырехтысячный гарнизон, они перестреляют нас как куропаток. Даже с людьми Воклена и ле Пикара у нас не было шансов. Что же говорить теперь!
Многие думали так же, но предпочитали отмалчиваться. Не поддерживали бунтовщиков, но и не спорили с ними. Вероятность погибнуть от клинка Олоннэ казалась пока больше вероятности нарваться на испанскую пулю или индейское копье.
Беттега прознал о заговоре.
Олоннэ велел схватить говорунов и привести к нему.
Они вели себя нагло и своей вины не отрицали. Это больше всего разозлило капитана. Преступник должен трепетать, лгать, изворачиваться.
Ибервиль советовал капитану казнить их тихо. Не устраивать из казни представление. Как бы не получилось хуже.
Ибервиль оказался прав.
Пока безжалостная рука Олоннэ расчленяла первого заговорщика, остальные обращались со смелыми речами к собравшимся вокруг корсарам. Завидуйте нам, говорили они, ибо такая смерть, что обрушилась на нас, может считаться благом по сравнению с тем, что предстоит вам. Куда вы стремитесь, несчастные? Вы стремитесь в место, по сравнению с которым ад не так уж страшен.
И прочее в том же духе.
Много наговорить им не удалось. Поняв всю вредоносность этих речей, Олоннэ мгновенно прикончил всех троих.
— Те, кто согласен с этими трусами, могут выйти сюда, и я мгновенно избавлю их от страхов перед грядущими опасностями.
Произнеся эти слова, Олоннэ обвел тяжелым взглядом собравшихся. Все, на кого попадал этот взгляд, опускали глаза. Более желающих протестовать и умереть не нашлось.
На рассвете следующего дня отряд из трехсот двадцати корсаров, сотни носильщиков и пятидесяти мулов вышел из развалил Сан-Педро и взял курс на север.
Впереди рядом с проводниками шагал Олоннэ. Одет он был в обычный, груботканый сюртук, а на теле под рубашкой, в специально сшитом из тонкой кожи футляре, хранилась рукопись, найденная на борту «Сантандера». За поясом капитана торчали два пистолета и кинжал. Шпага ритмично ударяла по боку. Каблуки новых сапог из мягкой, хорошо выделанной козлиной кожи отбивали ритм безнадежного, по общему мнению, путешествия.
Стояла хотя и сухая, но душная и тяжелая жара. Несмотря на раннюю пору, солнце уже начинало свою испепеляющую работу. Пройдя миль около четырех, пришлось останавливаться на привал. Избрали место на берегу неширокого ручья под сенью пышных тропических деревьев: цизальпиний, маншинелл и пальмито. Впрочем, может быть, растения, давшие укрытие корсарам, назывались и как-то иначе.
Олоннэ не скрывал своего раздражения:
— Такими темпами мы будем добираться до Гватемалы месяц.
— Что делать, — усмехнулся Ибервиль, вытирая мокрый лоб, — удобнее, конечно, было бы плыть на корабле, а не топтать эту раскаленную сковородку.
Один из проводников, седой, но еще крепкий старик, наклонился над ручьем, зачерпнул воду и замер в непонятной задумчивости.
— Что там еще? — недовольно спросил Олоннэ.
— Скажи своим людям, что воду из этого ручья пить нельзя.
— Почему это?!
— Внутри будет огонь, сначала в животе, потом везде.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю, — пожал плечами индеец, — всегда знал.
— Так это что, мы и воду должны на себе тащить?! — восхитился Ибервиль.
— Скажи, старик, а есть там дальше хорошая вода? Которую можно пить?
— Такая вода есть. Я покажу.
— Беттега! — позвал капитан.
— Я слушаю.
— Слышал?
— Да.
— Объясни нашим людям, что если они не хотят подхватить лихорадку, пусть воду из этого ручья не пьют.
Когда жара стала спадать, двинулись дальше вдоль берега того же «плохого» ручья. Места были пустынны. Слишком пустынны. Олоннэ поинтересовался у проводника, живет ли здесь кто-нибудь.
— Да, здесь есть лесные жители. Они следят за нами сейчас.
— Да-а?
— Но это неопасно.
— Надеюсь, когда станет опасно, ты нам скажешь?
— Скажу. Если будет опасно, то и для меня, а не только для вас.
Олоннэ ответ не понравился, но он решил не вдаваться в детали.
Еще перед началом путешествия проводник на вопрос, сколько дней займет путешествие до редукции, ответил, что сам бы он дошел за неделю. С бледнолицыми людьми придется затратить десять. Он показал растопыренные пальцы двух рук.
Проводникам было строго-настрого приказано скрывать истинную цель путешествия, чтобы они ненароком не проговорились. Олоннэ старался, чтобы они держались в стороне от корсаров. Да они и сами не горели жаждой общения. Во время отдыха сидели на земле спиной к спине, опершись руками на длинные палки, поставленные между ногами, и, казалось, дремали.
На рассвете второго дня миновали заброшенный поселок. Вернее, даже не поселок, а что-то вроде загородного дома с большим количеством мелких построек вокруг главного здания, выстроенного в классическом испанском колониальном стиле. Белые стены домов заметно потрескались, дворы захвачены буйно растущей зеленью.
— Чей это дом?
— Ничей.
Олоннэ поморщился.
— Ты можешь отвечать нормально? Кто здесь жил?
— Сеньор. И его дети. Потом сеньор умер. Дети уехали. Рабы разбежались.
Капитан махнул рукой, поняв, что ничего большего он не добьется. Но тут сам проводник сказал нечто любопытное:
— Старый сеньор был другом белого человека из редукции. Старого белого человека.
Дальнейшие расспросы, с которыми не замедлил навалиться на индейца Олоннэ, ничего не дали.
На третий день пути местность сделалось более холмистой, появились нагромождения камней, двигаться стало тяжелей. Над головами орали бесчисленные тропические птицы, проплывали кроны громадных деревьев, сыпались за шиворот и безобидные и опасные насекомые. Пятнистые спины косуль мелькали за стволами.
— Из этого родника можно пить? — непрерывно спрашивали у проводников измученные духотой корсары.
Мулы одуревали от слепней и прочих кровососущих тварей. Определить пройденное расстояние было трудно: путь оказался извилист, и временами Олоннэ казалось, что они просто топчутся на месте.
— Почему мы здесь свернули?
— Там нет дороги. Там город. Дорога здесь.
Такие диалоги возникали то и дело. Капитан чувствовал себя неуютно. Морская стихия была ему привычнее, палуба корабля казалась надежнее базальтовых плит, покрытых скользким мхом, по которому можно съехать в невидимую за лианами и листьями пропасть.
Несколько человек нашли в таких естественных ловушках свою гибель.
Перелом ноги в условиях такого путешествия — почти верная смерть. И даже не почти, а именно и единственно смерть.
По ночам часовые с интересом оглядывались по сторонам, крепко при этом сжимая оружие и пытаясь определить, какому хищнику принадлежат горящие в темноте глаза.
Разумеется, для такой толпы вооруженных мужчин дикие звери провинции Никарагуа особой опасности не представляли. Несколько больше волновало Олоннэ поведение местных индейских племен. Столкновение с ними не входило в его планы. А нарваться на столкновение было просто, стоило, например подойти к границе какой-нибудь священной долины предков — и война обеспечена.
— Кто может знать, что творится в башке у этих дикарей? — говорил капитан, оглядываясь по сторонам. — Посмотри хотя бы на наших проводников. Я иногда думаю, стоило ли так полностью им доверяться?
— Теперь уже поздно размышлять на эту тему, — пожимал плечами Ибервиль.
Утром пятого дня изрядно изможденная корсарская армия подошла к ущелью, которое называлось, если дословно перевести его с языка индейцев каварайя, тутошних жителей, Горловина Вперед-Назад.
— Дурацкое название, дурацкое ущелье, дурацкая жизнь! — в сердцах произнес Олоннэ.
— Что с тобой? — поинтересовался одноглазый друг. В голосе зазвучал живейший интерес. Вдруг сейчас Олоннэ скажет, что ему опостылело это путешествие черт знает куда, и он прикажет поворачивать.
Капитан уловил настроение Ибервиля:
— Нет, зря надеешься. Сейчас мы полезем в эту горловину. И только вперед.
Глава шестая
Когда солнце поднялось в зенит, продвижение остановилось. Корсары расползлись меж камней в поисках затененных мест. Кто-то отправился на поиски воды, кто-то — на охоту, дичи вокруг было полно. Возможность добывать в изобилии свежее мясо отчасти облегчало корсарам тяготы экспедиции.
Олоннэ на месте не сиделось. Взяв с собой Беттегу, еще двоих корсаров и старого проводника, он отправился вперед, на разведку. О своих неприятных предчувствиях он никому, кроме Ибервиля, не рассказывал, дабы не посеять в рядах своей армии панические настроения.
Отойдя от корсарской стоянки ярдов на триста, капитан указал на толстое сухое дерево, переломленное посередине давнишней бурей. Оно представляло собой естественный наблюдательный пункт в силу того, что не загораживало обозрение листвой своей кроны.
Телохранители помогли капитану схватиться за нижнюю ветку, остальное он сделал сам. Взобравшись на зазубренную трухлявую вершину, он спугнул небольшую стайку ярко раскрашенных птиц и достал из кармана пропотевшего сюртука подзорную трубу.
Взгляд его беркутом заскользил над провалом густо заросшего ущелья. И очень быстро Олоннэ обнаружил, что имел все основания для предчувствий самого отвратительного характера. Примерно в полутора сотнях ярдов от того места, где он находился, между кустами и камнями он заметил многочисленных вооруженных людей.
Засада.
Там были не только испанцы. Меж тускло поблескивающих касок испанских стрелков виднелись пышные головные уборы индейских касиков. Сколько их там? Сотни три-четыре, не меньше.
Итак, засада.
Не подавая виду, Олоннэ спустился вниз.
— Ничего интересного? — спросил Беттега.
— Ничего, — ответил капитан и, выхватив неуловимым движением кинжал, воткнул его в горло старому проводнику. Тот, хрипя, упал на колени.
— Ничего интересного, кроме испанской засады. Эти твари обманули нас. Обманули, но не до конца. Мы их немедленно атакуем. Они не ждут нас раньше, чем через несколько часов. Этим надо воспользоваться.
Когда Олоннэ стремительным шагом приближался к расположению своей армии, впереди послышались беспорядочные выстрелы. Звуки организованного боя должны были слышаться совсем по-иному.
— Что это? — удивленно спросил Беттега, вытаскивая из-за пояса пистолет.
Ответ он получил не от капитана, и ответ этот пришел в форме стрелы, вонзившейся ему в левое плечо. За кустами восторженно загалдели индейские голоса, радуясь попаданию. Но, что называется, рано радовались. Гигант Беттега был всего лишь ранен. Правой рукой он легко сломал древко стрелы, даже не поморщившись, и когда перед ним появились два потрясающих томагавками местных жителя, одного он уложил из пистолета, второго проткнул шпагой. В том же духе действовали и остальные корсары, не говоря уж о самом капитане.
Оставшиеся в живых дикари ретировались.
Олоннэ бросился к лагерю. Он уже представил себе, что там происходит, и предчувствия, уже в который раз за сегодняшний день, его не обманули. Корсары подверглись нападению нескольких сот индейцев. Вооружены они были, правда, только своим природным оружием — луками да копьями, oтчего нанесенный ими урон был не слишком велик. Первым бесшумным залпом было убито человек шесть или восемь, десятка два ранено. После этого индейцы атаковали лагерь, но, несмотря на внезапное появление из-за кустов и камней, в ужас армию морских разбойников им повергнуть не удалось. Даже умирающий от жажды и усталости корсар остается корсаром — реагирует на опасность мгновенно, стреляет без промаха, колет и рубит наверняка.
Оставив меж камней корсарского лагеря до пятидесяти трупов и унося в своих телах до сотни пуль, дикари разбежались. Сейчас они были разбиты, напуганы, но кто мог знать, сколь долго продлится этот испуг.
В этих зарослях даже обыкновенные пожиратели черепах могли представлять опасность. Особенно ночью.
Ибервиль подтащил к Олоннэ связанного проводника:
— Что с ним делать?
— Не знаю, как ты настроен, но седого я уже зарезал.
— Понятно.
Олоннэ отдал команду — приготовиться к бою.
— Впереди испанская засада! — объявил он в ответ на недоуменные возгласы.
— Засада?! — К Олоннэ подскочил невысокий коренастый корсар в изорванной одежде и с окровавленной грудью. — В хорошее же место ты нас завел, капитан!
— Что ты хочешь этим сказать?
— А ты не слышишь?! — Окровавленный рванул на себе рубаху. Рот его был полон розовой пеной, он оглядывался по сторонам, как бы предлагая и другим присоединиться к его возмущению.
Что делать в таких случаях, Олоннэ знал прекрасно. И сделал. Достал из-за пояса пистолет и выстрелил крикуну в лоб. И скомандовал снова:
— К бою!
Испанцы, облаченные во все боевые доспехи, томились в духоте тропических трав в ожидании появления бешеных морских псов капитана Олоннэ, но появление это стало для них внезапным. Кажется, еще мгновение назад ничего не предвещало опасности, и вдруг беда обрушилась со всех сторон.
Тишина сменилась ревом и улюлюканьем.
Обыкновенная полуденная жара обернулась сущим адом.
Первая линия тайной испанской обороны была подавлена почти без выстрелов, но тем не менее свою главную задачу она выполнила. Основные силы поняли, что им следует приготовиться.
Когда прозвучали один за другим три плотных залпа из аркебуз и идущие рядом с капитаном в атаку корсары стали десятками валиться с воплями на землю, Олоннэ понял, что история, имевшая место в сражении под Маракаибо, вряд ли повторится. Испанцы учли свои ошибки.
Был отдан приказ залечь и зарядить мушкеты и пистолеты.
По всем правилам войны вслед за отбитой атакой должна последовать контратака. Испанцы видели, что их залповая стрельба принесла им успех, поэтому должны осмелеть. Они бросятся вперед, начнется рукопашный бой, а это игра с обоюдными шансами.
Корсары ждали, истекая кровью, и дождались.
Выставив перед собой пики и пистолеты, испанцы стали пробираться меж камней вперед, подбадривая себя старинными кастильскими кличами времен Реконкисты. Их контратака шла, если так можно сказать, сверху вниз, по наклонному дну ущелья. В этом месте его ширина была не больше трехсот футов, поэтому плотность атаки оказалась огромной, вселяя в нападавших дополнительную уверенность и ощущение собственного превосходства.
По команде Олоннэ корсары, когда до столкновения оставалось каких-нибудь двадцать шагов, сами бросились вперед — это было необходимо, чтобы погасить инерцию испанской атаки, заставить кастильцев остановиться.
Раздался пистолетный залп, и сразу же зазвенела сталь. Враг мгновенно был лишен преимущества в огневой мощи. Стрелки из Гватемалы побросали свои тяжелые аркебузы и потянулись за шпагами и тесаками.
И вот среди каменной неразберихи вулканического происхождения, да еще и поросшей густой тропической флорой, затеялась кровавая неразбериха рукопашного боя.
Особенность этой схватки была в том, что с ее началом Олоннэ потерял, ввиду сильно пересеченной местности, всякую возможность руководить своими людьми. Он видел только тех пятерых-шестерых, что бились в непосредственной близости. Остальные были предоставлены самим себе.
Испанцы, как всегда, сражались не слишком умело, но упорно. Сдаваться в плен никто не собирался, может быть, кстати, Олоннэ сам был отчасти виноват в этом. Гватемальские стрелки и пикинеры знали, кто им противостоит, а значит, прекрасно представляли себе, что их может ожидать в плену.
Но, несмотря ни на что, корсары продвигались вперед, устилая трупами и ранеными дно ущелья.
Через час кровопролитнейшего боя оборона испанцев была прорвана. До полутора сотен корсаров (считая и легкораненых) следовало за Олоннэ. Победа их нисколько не радовала. У них не осталось ни пищи, ни боеприпасов. Окружающая местность, как выяснилось, кишела враждебно настроенными индейцами, к тому же никто не был уверен в том, что разгромлены все испанские силы.
— Еще одна такая победа…
Олоннэ покосился на Ибервиля, и тот не стал заканчивать свою умную мысль.
Капитан и сам понимал: если в течение одного, максимум двух дней на пути не появится испанское поселение, где можно будет поесть и отдохнуть, он погиб. Для расправы над неудачливыми капитанами существовал во время сухопутных военных действий очень жестокий способ. Человека подвешивали за ноги над муравейником, так, чтобы голова касалась его вершины.
Олоннэ помотал своей головой, отгоняя неприятные мысли. Теперь он уже жалел, что был так торопливо жесток с проводниками. Из них можно было бы попытаться вытянуть кое-какие сведения, и туман неизвестности оказался бы не столь плотен.
Наконец было решено остановиться на отдых.
Уже начали подыскивать место.
Уже подыскали удобную, достаточно защищенную полянку с двумя холодными прозрачными ключами, как выяснилось, что отдыхать не придется.
А придется снова воевать.
Испанцы, видимо, всерьез решили разделаться с надоедливым французом.
Оказывается, только что разгромленная засада была не последней.
— Смотрите! — крикнул Ибервиль.
Странно, что именно одноглазый увидел, как на дальнем конце поляны раздвигаются кусты и появляются поблескивающие в лучах заходящего солнца ружейные стволы.
Как завороженные смотрели измученные до последней степени джентльмены удачи на то, как неудачно разворачивается для них ситуация.
— Что ж, готовьтесь, ребята, сейчас спляшем! — усмехнулся Олоннэ, вытаскивая шпагу.
Его прогноз оказался верным: последовал ужасающей силы залп. Многие корсары рухнули на землю, бессмысленно размахивая руками, у агонизирующих непроизвольно дергались ноги. Картину кровавого «танца» закрыла волна порохового дыма.
Вожак отличается от рядового бандита тем, что может быстрее и правильнее оценить ситуацию, а стало быть, и принять верное решение.
— Ибервиль, — схватил остолбеневшего помощника капитан, — посмотри туда!
Олоннэ, сразу же после того как определил, что не убит и не ранен, догадался, что спастись можно, только вскарабкавшись на один из «берегов» ущелья. Они ведь далеко не отвесны. Пока испанцы будут расправляться с теми, кто станет им оказывать сопротивление, можно будет скрыться в густых кустах и глубоких трещинах.
Экспедиция закончилась неудачей, но это еще не значит, что закончилась жизнь.
Ибервиль и Беттега последовали за капитаном. Расчет его оказался верным; хватаясь за выступы камней и корни деревьев, все трое быстро продвигались вверх по неровной каменной стене.
Внизу еще кипел безнадежный бой, а они уже поднялись над дном Горловины Вперед-Назад футов на сто, причем оставаясь при этом абсолютно невидимыми для тех, кто был внизу.
Вытаскивая из-за пазухи набившихся туда насекомых, вытирая грязный пот со лба и при этом тяжело дыша, Олоннэ тихо прошептал, глядя сверху вниз на испанскую расправу:
— Клянусь всеми святыми, всеми чинами ангельскими и архангельскими, клянусь кораблем и берегом, клянусь штормом и штилем, я еще отомщу за вас.
Ибервиль лежал на колком мху навзничь. Колючий кустарник сорвал у него повязку, и поэтому он глядел в тускнеющие небеса своим окончательно потускневшим глазом.
Беттега, шипя от боли, возился с наконечником стрелы, глубоко вошедшим в плечо.
— Не рви, — сказал ему Олоннэ, покончивший со своей молитвой-клятвой, — надо разрезать руку. На острие есть крючок, ты вытащишь себе все жилы.
Операцию капитан проделал сам. Чтобы продезинфицировать рану, он насыпал на нее пороху и поджег. Беттега зарычал от боли и рухнул на колени.
— Все, — сказал Олоннэ, — идем.
— Может быть, заночуем здесь? — поинтересовался Ибервиль. — Кто нас тут…
— Не найдя моего трупа, они начнут обыскивать окрестности. Нам надо уйти от этого ущелья как можно дальше.
Они стали карабкаться выше, забирая все левее, где склон был более пологим. Наконец скрылось из глаз поле несчастного боя. Темнота сгущалась. Двигаться дальше без риска сломать себе шею стало невозможно.
— Ладно, — сказал Олоннэ в ответ на немые пожелания своих измученных и израненных спутников. — Остановимся здесь. Видите это углубление, что-то похожее на пещеру. Огня разжигать не будем. Ложитесь спать. Я останусь на часах первым.
Сидя прислонившись спиной к шершавому, медленно остывающему камню, Олоннэ пережил и восход луны, и ее закат и только после этого разбудил Беттегу. Ему он отдал единственный заряженный пистолет и растянулся на неровном каменном ложе.
Проснулся он оттого, что кто-то взял его за руки. Олоннэ не успел спросить, в чем дело, как его перевернули на живот, и он почувствовал, что у него на запястьях закручивается веревка. Потом его приподняли и посадили, и он увидел, что оба его спутника находятся точно в таком же положении, как и он сам.
Глава седьмая
За время путешествия — а оно заняло время от рассвета до полудня — пленившие корсаров индейцы не сказали ни слова. Не только французам, но и между собой. Видимо, у них заранее было все оговорено и выполняемый ими план не нуждался ни в обсуждении, ни в уточнении.
Это были странные индейцы: не только одинаково молчаливые, но и одинаково одетые. И не просто одинаково, но и одинаково бедно. Кожаные, очень потертые штаны и выцветшее перо в волосах. Зато вооружены до зубов. У каждого помимо копья и томагавка имелось по два пистолета. В конце семнадцатого века индейцы еще не стали похожи на тех блестящих стрелков и кавалеристов, которых нам щедро демонстрирует киноэкран, рассказывая сказки из времен покорения Дикого Запада. Ко всему огнестрельному они относились с предубеждением и даже страхом. А пойманных лошадей чаще всего приносили в жертву своим многочисленным и, по понятиям европейцев, странным богам.
Очень скоро выяснилось, что конвоируют они своих пленников отнюдь не в лагерь испанского генерала, устроившего столь остроумную двойную засаду в Горловине Вперед-Назад. Олоннэ воспринял это как обнадеживающий факт, но когда попробовал поделиться этим соображением со спутниками, получил довольно ощутимый тычок тупым концом копья в спину. Странные индейцы не только молчали сами, но и желали, чтобы в их присутствии все поддерживали молчание.
В полдень, когда пленники были уже совершенно измучены жарой и дорогой, впереди показались очертания невысокого деревянного строения. На вид заброшенного.
Олоннэ и его спутников ввели внутрь. Усадили на голую землю.
Ибервиль, разведя пальцы связанных рук, изобразил чашу и поднес к ее губам, показывая, что хочет пить. Очень хочет.
Индеец, стоявший напротив него, никак не отреагировал на эту весьма выразительную пантомиму. Более того, когда одноглазый попытался выбраться, точно рассчитанным движением приставил острие копья к его кадыку, так что поток бранных слов мгновенно пересох.
Впрочем, как вскоре выяснилось, индейцы сами подумали о том, что после длительного путешествия по жаре бледнолицым необходимо восстановить запасы жидкости в организме.
Молча появился в хижине индеец с длинногорлым кувшином и тремя чашками. В чашки полилась густая белая жидкость. Но это было не молоко, у жидкости оказался растительный вкус. Правда, распробовать напиток как следует у пленников не было возможности, так быстро они его проглотили. Олоннэ хотел попросить еще, но не стал этого делать. Бесполезно. Хотя выпитая полупинта травяного молока почти не приглушила жажду.
Он попробовал размышлять над тем, в какое они, собственно, попали положение, но мысль не желала его слушаться. Потом он заметил, что его перестает слушаться зрение. Предметы начинают сплываться и таять.
— Что это? — успел он прошептать. Ответа он бы не услышал, даже если бы кто-то захотел ему ответить.
Он спал.
Второе пробуждение за этот день было не менее интригующим, чем первое.
Во-первых, он не был связан.
Во-вторых, он обнаружил себя лежащим не на земле, не на камне, а на нормальном человеческом ложе.
В-третьих, он был один.
Нужно еще несколько слов, чтобы описать обстановку, сопутствовавшую пробуждению. Пират очнулся в комнате с каменными стенами и сводчатым потолком, чем-то напоминающей монастырскую келью. Увидев в головах кровати распятие, корсар уверился в том, что это келья и есть. В противоположной стене вырисовывалась невысокая, но массивная на вид и явно намертво запертая деревянная дверь.
На подставке у изголовья — свеча. Олоннэ покосился на нее. Она не оплавилась и на четверть, значит, он находится в этой келье совсем недолго. Хотя, может быть, это и не первая свеча.
Олоннэ подумал, что надо бы встать, чтобы подробнее изучить свое узилище, но, прислушавшись к своим ощущениям, понял, что этого делать не следует.
В питье подмешали снотворное, сообразил пират, но от того, что он это сообразил, ему веселее не стало.
В общем, все говорило за то, что надо спокойно лежать и ждать развития событий.
Так оно обычно и бывает: как только перестаешь суетиться, окружающий мир немедленно обращает на тебя свое внимание.
Лязгнул металл внешнего дверного запора.
Заколебалось пламя свечи.
В дверном проеме появилась высокая фигура в серой сутане. То, что рост вошедшего есть обман зрения, Олоннэ понял позднее. Виной тому было его лежачее положение. Вначале плененный корсар обратил внимание совсем на другое. На овал лица вошедшего монаха, цвет глаз, конфигурацию бровей.
— Ты?! — удивленно воскликнул он.
— Я, — ответил вошедший.
Подойдя ближе, он снял с подставки глиняную тарелку, в которой плавилась свеча, и поставил ее на пол. После этого сел на подставку.
— Дидье!
— Жан-Давид.
— Вот мы и встретились.
— Насколько я понимаю, ты давно стремишься к этой встрече, много сделал для того, чтобы она произошла, отчего же я слышу столько удивления в твоем голосе?
Лежащий брат усмехнулся в ответ на слова брата сидящего:
— Да, я знал, что разыщу тебя, но временами переставал верить, что ты существуешь.
Дидье покивал головой, как человек, который никогда никому ни в чем не верит. За время, что прошло с тех пор, как он последний раз виделся со своим старшим братом, в его облике не произошло особых изменений. Он был тихим, вяловатым, тусклооким подростком — и сделался сухощавым, хитро-задумчивым, хладнокровным мужчиной. Голос у него не изменился вообще. В нем всегда присутствовала неуловимая, ускользающая интонация, отчего собеседник через несколько мгновений после начала беседы с ним начинал подозревать, что беседа эта господина Дидье Hay ничуть не интересует. Это оскорбляло собеседника, смущало его, но и некоторым образом ставило на место. Вежливое безразличие, оно даже в разговоре с принцем крови позволяет оставаться на высоте.
— Это все слова, Жан-Давид. Причем слова, от которых за десять лье разит стремлением выразиться красиво.
— Пусть так.
— Но согласись, что в устах кровавого животного, каким ты считаешься в этих краях, это стремление выглядит комично.
— Пусть так.
— Ты демонстрируешь незаурядную выдержку, хотя о твоей неукротимости ходят легенды. Впрочем, объяснение этому феномену найти просто.
— Найди.
Дидье постучал четками и улыбнулся улыбкой, полной затаенной радости, непонятно по какому поводу возникшей.
— Все просто: ты у меня в руках, моих намерений ты пока не знаешь, поэтому и вынужден держаться в рамках благоразумия.
Олоннэ еще раз попробовал подвигать руками и ногами, но понял, что они все еще не желают ему повиноваться. Почти совсем.
— Может быть, ты мне — по-родственному — сообщишь о своих намерениях?
— Сообщу. Но после того, как ты ответишь мне на несколько вопросов.
— Спрашивай.
Дидье порылся в складках своей сутаны, собираясь что-то извлечь на свет, но передумал.
— Нет, для начала вопрос самый главный. Как ты догадался, что я перебрался из Европы в Новый Свет?
— Это было довольно просто. Во время одного из наших разговоров, еще до события на мельнице, ты как-то упомянул, что ваши алхимические и натурфилософские опыты привлекли внимание иезуитов.
— Ну и что?
— А то, что твой барон тоже бывал со мной иногда откровенен.
— А ты знаешь, что он здесь? — перебил брата Дидье.
— Де Латур-Бридон?
— Именно. Очень, правда, постарел и из ума почти полностью выжил. Если захочешь, я тебя ему представлю. Возобновишь знакомство.
— Он что, меня забыл?
Дидье очень притворно вздохнул:
— Он многое забыл. Но вернемся к твоему интересному рассказу. Что же тебе втайне от меня рассказал наш дорогой барон?
— Что для многих естествоиспытателей единственным способом избежать тюрьмы или, того хуже, костра был переход под эгиду ордена иезуитов. Поставив свои знания на службу ордену, можно было не только сохранить жизнь, но даже сохранить поле деятельности.
— И примеры, наверное, привел?
— Да, он назвал несколько имен. Я вспомнил их, когда через полгода после событий на мельнице вернулся в замок.
— И никого там не обнаружил, да? — дружелюбно закончил эту мысль Дидье.
Лежащий пират тяжело вздохнул и сказал:
— Я понял, что, убивая Ксавье, ты старался не для меня, а для себя. Ты тоже любил Люсиль.
— Ну, хоть в том, что я не меньше тебя ненавидел нашего добряка и гиганта, ты не стал сомневаться?
— Нет, Дидье, нет. Я знал, что ты ненавидишь его намного сильнее, чем я. Ты умел скрывать эту ненависть от других, даже от самого Ксавье, но только не от меня.
— Да, некоторой проницательностью ты обладал, но, как показывают последующие события, не в достаточной степени. Да, братец?
— Пожалуй. Большое искусство скрывать ненависть, но выше его стоит искусство скрывать любовь.
— Неужели все корсары мыслят так афористично?
— Хочешь издеваться надо мной — издевайся, я в твоей власти. Но поверь, твоя ирония меня ничуть не задевает.
— Верю. Но ты не закончил, Жан-Давид.
Олоннэ попробовал поднять руку, но добился лишь того, что по ней прошла волна нервной дрожи.
— Напрасно, Жан-Давид, напрасно. Как бы тебе ни хотелось схватить меня за горло и задушить, это не в твоих силах.
— Но почему, если вышло из подчинения все тело, так ясна голова и так свободен язык?
— Я потом тебе расскажу, если захочешь. После того как изложу свои намерения. А теперь продолжай.
— Я возненавидел тебя. Я думал, мы заключили честную сделку. Я получаю Люсиль, а ты — освобождение от подозрений во всех тех убийствах, что так и остались нераскрытыми. После моего бегства и смерти Ксавье никто не сомневался в том, что убийца я. Кстати, зачем ты зарезал столько народу?
— Мне были нужны деньги, — просто сказал Дидье.
— Только из-за денег…
— Уж не собираешься ли ты начать морализаторствовать, братец? Как будто ты сам убивал людей только из любопытства или по особого рода вдохновению.
— Но…
— Нам нужно было с бароном закончить один очень важный опыт. Компоненты, необходимые для использования в нем, стоили чрезвычайно дорого. Семейство де Латур-Бридон было к тому времени полностью разорено и тонуло в долгах. Что оставалось делать?!
— Выходить с ножом на большую дорогу, резать глотки носителям толстых кошельков, а потом сваливать все на безвинного, с ума сходящего от безнадежной любви брата.
— Ты теперь пытаешься иронизировать, но должен тебе заметить, что я к подобным уколам еще менее чувствителен, чем ты.
— Не сомневаюсь в этом. Так вот, сообразив, что ты обвел меня вокруг пальца, что ты не только списал на меня всю пролитую тобой кровь, но и присвоил себе любимую мной женщину, я поклялся тебя разыскать. Я рассудил, что человек не может исчезнуть, не оставив никаких следов.
— Может… но продолжай.
— Я вспомнил об иезуитах, я вспомнил о Бартоломео из Вероны, о Жераре де Кастре…
— Как все-таки болтлив наш барон, — сокрушенно помотал головой Дидье.
— Я встретился с теми, с кем мне удалось встретиться, сопоставил факты и сделал соответствующий вывод. Вывод оказался правильным, как показали дальнейшие события.
— Пожалуй что так, пожалуй что так. А скажи мне, почему ты здесь разворачивался так долго? Ведь, насколько мне известно, первое время ты здесь был… как это у них называется — буканьером. Лесным мясником.
— Это очень просто объяснить. Чтобы продолжать поиски, мне были нужны средства. Сначала я попытался заработать их относительно честным путем. Но вскоре выяснилось, что на этом пути терний значительно больше, а возможностей значительно меньше, чем на пути разбойничьем. Последней каплей к моему перевоплощению оказалась пуля, пущенная мной в лоб сынку губернатора Эспаньолы.
Дидье кивнул:
— Наслышан. Я вообще очень внимательно следил за твоими подвигами. И, не скрою, временами мной овладевало чувство, близкое к гордости.
— Я тронут.
— В самом деле. Ты станешь одной из самых замечательных личностей своего времени. По крайней мере здесь, в Новом Свете. Сражение при мысе Флеао, захват Маракаибо — об этих эпизодах будут вспоминать сотни лет и, может быть, даже напишут книги. Правда, книги, скорей всего, окажутся лживыми, и из них ни за что нельзя будет понять, кем был Жан-Давид Hay, по кличке Олоннэ, на самом деле.
— Зачем ты мне это говоришь?
Дидье пожал плечами:
— Не знаю. Бог с ними, со всеми будущими биографами-графоманами. Ты лучше скажи мне, как брату, зачем тебе понадобилось убить всех врачей на Тортуге? И еще нескольких в Европе, а? Я не потому спрашиваю, что имею особо трепетное отношение к врачебному сословию, они по большей части шарлатаны, да еще шарлатаны своекорыстные. И не потому, что против пролития крови, сам ее не так уж мало выпустил на поверхность грешной земли. Например, очень одобряю твои выходки с вырыванием сердца из груди пленника — это устрашает окружающих, и врагов и друзей. Но ни за что мне своим умом не дойти до понимания того, зачем нужно истреблять именно врачей, причем тайно. Когда бы ты их казнил публично, да еще за отвратительное выполнение своих профессиональных обязанностей…
— Хватит!
— Ты злишься, значит, что-то скрываешь.
Олоннэ потянулся всем телом:
— Ничего я не скрываю. Я подхватил болезнь, ну, ты понимаешь меня?
— Понимаю, что ты врешь, нет такой болезни, которая бы лечилась протыканием врача при помощи кинжала. Но Бог с ним, пусть это остается твоей тайной. У меня, например, от тебя много тайн, должно же и у тебя быть что-то за душой. Я хочу перейти ко второму вопросу.
— Переходи.
— Сейчас.
Дидье порылся снова в складках своих серых просторных одежд, и на свет явилась уже хорошо известная читателю рукопись.
— Узнаешь?
— С чего это тебе пришла в голову мысль обыскать меня?
— Пришла. Но не в этом дело. Меня занимает такой вопрос: откуда она у тебя взялась? В Европе ты ее отыскать не мог.
— Почему?
— Потому что она составлена здесь, в редукции.
— А что это такое, редукция? Я слышал это слово от многих, но никто толком не мог объяснить, что это такое.
Дидье погладил манускрипт.
— Чтобы понять, что такое редукция, надо пожить здесь хотя бы год. И лучше в качестве рядового индейца.
— А все-таки?
— Говоря кратко и просто — мы здесь создаем нового человека. Превращаем дикарей в людей.
— Кто это «мы»?
— А ты еще сам не догадался? Мы, братья ордена иезуитов. На этом поприще нам удалось добиться успехов, и немалых. Наша с бароном де Латур-Бридоном редукция — глухая провинция на карте великого начинания святого ордена иезуитов. Главные дела вершатся на южном материке, в бассейне реки Параны, там в числе обращенных сотни тысяч гуарани. Индейцы каварайю, с которыми по большей части имеем дело мы, еще более дики, чем гуарани, больше склонны к анархии и самому угрюмому язычеству.
Олоннэ закашлялся, а когда преодолел приступ, то сказал:
— Кажется, начинаю понимать, вы со стариком поставлены здесь в качестве надсмотрщиков.
— Взгляд грубый, взгляд примитивный. Надсмотрщик есть принадлежность плантации и ставится для того, чтобы всеми способами, понуждая к труду негров и каторжников, доставлять богатство хозяину плантации. Индейцы по самой своей природе не предназначены для такого труда. Мы не ждем от них никакой прибыли, и не в этом наша высшая цель. Они живут у нас как дети в воспитательном доме. Я лично отмерил каждому участок земли, на котором он ищет себе плоды пропитания. Дал каждому пару быков, чтобы имелась у него тягловая сила, дал семена и инвентарь. Все произведенное они сдают на общий склад, откуда получают пищу по потребности. То же и с одеждой. Каждому взрослому мужчине полагается в год холста одиннадцать локтей, женщине — девять.
— Ты говоришь «дал», а откуда ты все берешь, чтобы дать? Ведь ничего не получается из ничего.
— Радостно видеть, что склонность к философскому взгляду на вещи есть, несомненно, родовая наша черта.
— Но ты не ответил, Дидье.
— Не думай, что ты меня поймал на противоречии. Все дело в том, что наша редукция молодая. Семь лет назад, когда нам с бароном удалось обратить в истинную веру население этой долины, у нас не было почти ничего. Здешние жители вели существование примитивное, и даже сойдясь вместе, собрав воедино все средства, они не сделались богаче. Общественные склады помогли нам наполнить братья из редукций более старых, лучше укоренившихся. Они же дали средства на постройку храма, что стоит в центре поселения, ты еще увидишь его.
— И что, все жители вашей деревни — христиане?
— Это первейшее условие. На первом месте вера в Бога, на втором — вера в патера, то есть в барона и в меня.
— Вера в тебя?! — Олоннэ невольно усмехнулся, и по бледному лицу Дидье пробежала ядовитая улыбка.
— Что тебя удивляет? Эта вера столь же естественна, как вера детей в собственного отца, в его справедливость и всемогущество. Они привыкли, они едят и пьют то, что я им велю и когда я им велю; они ложатся спать по распорядку, который я им установил; они женятся на тех, на ком я приказываю; они считают своими врагами тех людей, которых я назвал врагами.
— Все морские разбойники и буканьеры Тортуги трепетали передо мной и уважали меня, но я никогда не имел над ними и десятой части той власти, которой обладаешь ты над своими индейцами.
— Договаривай.
— Я сказал все, что хотел.
— Нет, братец, ты еще хотел добавить, что этой моей власти ты нисколько не завидуешь, что эта власть сродни той, которой пользуется пастух над своим стадом. Я угадал? Отвечай, Жан-Давид!
— Если ты настаиваешь, я тебе отвечу: угадал. Не завидую я тебе. А если бы мечтал о таком успехе, пошел бы смотрителем в воспитательный дом и наслаждался бы своим положением.
— Ты прав в одном, мои индейцы — сущие дети. У них даже и преступления детские. Чаще всего они грешат тем, что убивают общинных, то есть выданных мною, быков, чтобы вдоволь поесть мяса, а мне заявляют, что они их потеряли. Они при этом знают, какое ждет их наказание за нерадивость, и охотно подставляют спины под палочные удары. Охотно и безропотно.
— Я смотрю, у тебя здесь не только голод, но и палочная дисциплина.
— Никакого голода, просто рациональное питание. Ибо излишек мяса в рационе гонит кровь к голове и перевозбуждает их. Чтобы они не совокуплялись непрерывно и как попало, я держу их на растительной, легкой пище. Мясо регулярно получают только те, кто служит в охране.
Олоннэ почувствовал, что уже отчасти способен управлять своими руками, но не подал виду.
— Да, да, мы с Ибервилем и Беттегой имели возможность убедиться, что жареная буйволятина им действительно время от времени перепадает. Кстати, где они?
Дидье не сразу понял, о чем его спрашивают. Резкая смена разговора подействовала на него как внезапное пробуждение.
— Кто «они»?
— Ибервиль и Беттега.
— А-а, недалеко. И живы. Я пока не решил еще, что мне с ними делать.
— А со мной?
Дидье перевел взгляд на глиняную плошку со свечой. Она почти догорела. Патер громко щелкнул пальцами, входная дверь отворилась, и появился громадный индеец с новой, уже зажженной свечой.
— Вот видишь, Жан-Давид, они повсюду, дети мои, и они повинуются каждому моему жесту. Не задумывай ничего неразумного. Я вижу, действие напитка прекращается, и тебе в голову полезли отвратительные мысли. Признайся.
— Еще в самом начале разговора я сказал тебе, для чего пустился на поиски брата-обманщика. Как ты думаешь, для чего?
— Ну Бог с ним, разговор наш пора заканчивать.
— Воля твоя.
— Не торопись, ведь ты мне кое-что обещал.
— Обещал?
— Да, обещал рассказать, откуда у тебя эта рукопись. Или я не у тебя под рубашкой нашел ее?
— Я отыскал ее в библиотеке дона Антонио.
— Губернатора Эспаньолы?
— Да.
— И как она попала к нему, ты, конечно, не знаешь.
— Знаю. От дона Каминеро, алькальда Сан-Педро.
Патер печально усмехнулся:
— Как все просто! А я себе уже навоображал таких сложностей, таких мистических причин навоображал. Хотя, если разобраться, я не так уж далек от правильного понимания того, что произошло. Ведь ничем, кроме как высшим промыслом, нельзя объяснить, почему во время очередного налета на мою редукцию головорезов дона Каминеро из миллиона предметов, здесь имеющихся, был украден лишь один маленький сундучок. И именно тот, в котором хранился начертанный моей рукой текст. И почему этот полуграмотный алькальд из Сан-Педро не сжег в порыве ярости содержимое сундучка, не обнаружив там денег. Почему он решил подарить его именно дону Антонио де Кавехенья, именно тому человеку сыну которого ты прострелил башку. Почему он взял эту рукопись в поход против тебя, хотя ей приличнее было лежать в шкафу его библиотеки. Почему также во время боя она не погибла, почему у тебя нашлось время рыться в манускриптах после победы, тогда как, по всем корсарским правилам, ты должен был хлестать вонючий тростниковый ром со своими головорезами.
— На этом список твоих «почему» кончается?
— Да, потому что все остальное легкообъяснимо. Пролистав рукопись, ты не мог не уловить мой стиль, ведь тебе приходилось в свое время читать некоторые вышедшие из-под моего пера опусы. И направление мыслей, заключенных в этом торопливом тексте, тебе тоже должно было показаться знакомым. Я убежден, что мое давнишнее рассуждение о взрослых и детях как о типах, на которые делится человечество, глубоко запало тебе в сознание. На твоих устах опять играет какая-то непочтительная, богомерзкая улыбочка. Ты снова хочешь сказать мне какую-то гадость?
— Что ты, братец, я просто хочу спросить тебя, каким образом ты все же рассчитываешь добраться до Луны, неужели всерьез рассчитываешь на действие бычьего мозга? Судя по рассказам, в твоей редукции содержится огромное количество быков. Не для этих ли целей?
— Текст еще не закончен, и, значит, надобно прочитавшему отрывок его, и прочитавшему без позволения автора, воздерживаться от замечаний критических. Что же касаемо Луны, то только прямолинейный идиот не поймет, что здесь выражена простая аллегория. На поверхность ночного светила я отправляю моих горожан исключительно силой мысли, отсюда и мозг, хотя бы и бычий. Когда я закончу то, что начал, и мысль моя явится перед просвещенными читателями во всем блеске неотразимых доказательств, мелкие критические укусы станут мне не страшны. Люди вечно были разделены на царей и слуг, богатых и бедных, счастливых и несчастных, рабов и свободных; все эти сословия и цензы, цехи и реестры, вероисповедания и секты — можно длить и длить это скорбное перечисление — так вот все это служит только целям замутнения простой и безусловной истины: все люди разделены на пастырей и паству. На тех, кто знает, и на тех, кто верит, на тех, кто ведет, и на тех, кто идет. И пока эта тайная истина не будет положена в основу реального повсеместного порядка, нам не укротить безумий нашего мира. И не важно, какому братству принадлежит пастырь. Будет ли он доминиканцем, иезуитом, членом тайного общества или закоренелым безбожником.
— И это не важно? — усмехнулся Олоннэ, потирая запястья рук.
— Да, не важно, сколь бы дерзкими ни показались тебе мои слова. Книга моя будет состоять из девяти частей, тебе удалось прочесть только первую треть первой части. Так вот, в последней, самой главной, все венчающей, все разъясняющей части будут указаны и доказаны, красочно описаны и подробно изложены все те способы, при помощи которых мы можем провести черту через дикость человеческую, по одну сторону оставляя тьму и сонмы тех, кто рожден только подчиняться и слепо верить, а по другую…
— Оставляя тебе подобных.
В момент произнесения этой речи Дидье сильно видоизменился, в нем как будто разгорелся некий огонь, бледно-голубые глаза превратились в ярко-синие обжигающие угли. Осанка сделалась горделивой, наконец, ему и этого не хватило, и он встал.
— Да, Жан-Давид, да.
— А мне, — вопросительно поднял руки корсарский капитан, — а мне ты какую уготовил роль? Я по какую сторону этой твоей черты должен располагаться?!
После невероятного мыслительного взлета патер впал в задумчивость. Прямой вопрос брата вывел его из этого состояния.
— Ты?
— Да, я. Мне что делать?
— Ты все время пытаешься представить мои рассуждения в смешном свете, иронизируешь, однако это поведение раба. Но я твой брат и знаю, что не это является твоей сутью.
— Может, ты мне скажешь, что именно?
— Скажу, братец, скажу. Ты еще не избавился от смешной надежды обрести обыкновенное человеческое счастье.
— Что же ты замолчал, я слушаю тебя внимательно.
— А счастье для тебя, как это ни забавно, заключается в обладании любимой женщиной. Не просто, заметь, женщиной, но любимой. Какое хрупкое основание! Для этого ты и затеял все эти бесконечные и кровопролитные войны. Это всего лишь были поиски Люсиль, правда ведь?
— Какое же тут открытие, если я и сам тебе об этом сказал в самом начале разговора?
— Я не говорю, что сделал открытие… Впрочем, наш разговор затянулся. Мне надоело.
Патер встал и направился к двери.
— Постой, один последний вопрос.
— Говори.
— Что ты собираешься со мной сделать? Хотя бы это я имею право знать?!
Стоя вполоборота к сидящему на ложе Олоннэ, Дидье наморщил лоб. Он явно думал о чем-то своем. Наконец он оторвался от своих размышлений — только для того, чтобы бросить безразличным тоном:
— Сейчас тебя отведут к Люсиль.
Олоннэ, вдруг снова потерявший силы, рухнул на свое ложе.
Словно по чьему-то приказу, прошипев бессмысленную фразу, погасла свеча.
Глава восьмая
Когда Олоннэ вошел в тростниковую, обмазанную глиной хижину Люсиль, капитан Воклен вышел из себя. Это произошло из-за того, что стало совершенно очевидно: «Венера» основательно села на мель. Славившийся своей выдержанностью и рассудительностью сборщик-надсмотрщик топал ногами и извергал целые потоки ругательств. Штурман Антуан Дюшерри, прямой виновник случившегося конфуза, был бледен как полотно, как молоко, как бумага. По неписаным законам «берегового братства» за подобный просчет он лишался половины своей доли в добыче. Дюшерри о деньгах сейчас не думал, он был озабочен тем, как бы не лишиться головы.
До берега оказалось совсем недалеко, каких-нибудь два кабельтовых. С одной стороны, это было неплохо — в случае чего можно до него добраться и вплавь. Но, с другой стороны, берег этот был на вид абсолютно диким и к тому же являлся испанским. Рано или поздно появится береговая охрана, и тогда всем членам экипажа можно будет спокойно заказывать последнее деревянное пристанище.
Единственный разумный выход — немедленно высаживаться и искать удачи на суше. Если поблизости есть гавань, можно захватить какой-нибудь корабль и продолжить начатое. Но «Венеру» бросать было жаль. Когда еще удастся добыть такое судно?
— Что же ты молчишь, умник? Ты сам умудрился отыскать эту мель, так теперь умудрись придумать, как нам с нее сползти!
Воклен подошел вплотную к штурману.
— Можно сбросить за борт пушки, — осторожно сказал тот, стараясь не встречаться глазами со взглядом разъяренного капитана.
— Этот способ известен каждому юнге. Чем станет «Венера», лишившись своих пушек?!
— Других способов нет, — еще тише сказал Дюшерри.
Воклен постоял некоторое время, опершись обеими руками о мачту. Ему не хотелось расставаться с вооружением корабля, и его разрывала ярость от сознания того, что другого пути нет.
Де Молина сочувственно наблюдал за ним, скрестив на груди свои культяшки.
Собравшиеся тут же матросы молча ждали приказаний. Терзания капитана они понимали, но сочувствовали ему не очень. Бог с ними, с пушками, когда речь идет о спасении собственной шкуры.
— Ладно, — махнул рукой Воклен, и через минуту послышался стук открываемых портов и тяжелые всплески по обе стороны корпуса.
Сначала хотели было по две пушки с каждого борта оставить, чтобы корабль не остался совсем уж беззащитным, но в конце концов они тоже полетели за борт. Но пользы от этого оказалось так же мало, как и от потопления всех предыдущих. «Венера» стояла устойчиво, как остров.
— Надо высаживаться, пока не поздно, — сказал Дюшерри. Он был абсолютно прав, но именно это его и сгубило. Лучше было бы ему помалкивать.
Не оборачиваясь к нему, Воклен рявкнул:
— Высаживаться?
— Да, капитан, — медленно произнес штурман.
— Но ведь таким образом мы лишимся корабля.
— По всей видимости, капитан.
— Хорошего корабля, Дюшерри
— Очень хорошего, капитан.
— Но если мы лишимся корабля, нужен ли нам будет штурман?
Дюшерри сглотнул слюну:
— Пожалуй что нет. Там, на берегу, я штурманом уже не буду.
— Ты перестанешь быть им еще здесь.
— Я не понял тебя, капитан.
— Сейчас поймешь.
С этими словами Воклен вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил Дюшерри в лицо. Пуля вошла в правую щеку, пробила голову насквозь и отколола щепу от планшира. Штурман рухнул на палубу, обеими руками схватившись за голову. Рана была, конечно, смертельная, но было неизвестно, как долго будет выть и извиваться на глазах у всех бывший штурман.
Воклен, переняв у Олоннэ манеру командовать, не пристрастился к таким картинным, кроваво-назидательным зрелищам.
— Выбросьте эту мразь за борт, — сухо бросил он, — если из-за этого «Венера» стронется с места, будем считать, что Дюшерри погиб не зря.
Несколько человек засмеялись в ответ на эту циничную остроту, но в целом корсары не сочли ее блестящей.
Дидье Hay стоял под развесистым тамариндом и терпеливо ждал, когда его старший брат насладится встречей со своей возлюбленной. Он столько претерпел ради этой встречи.
Два бронзовокожих, по пояс голых и совершенно бессловесных индейца стояли у него за спиной.
— Как, однако, там тихо! — сам себе сказал Дидье и пожалел, что некому оценить изящество его замечания. До индейской редукции дошли россказни о том, как шумно происходят уединенные беседы капитана Олоннэ с дамами. Отчего он сегодня изменил себе?
Патер Дидье оглянулся, но увидел только непроницаемые, как бы чуть-чуть сонные лица. Дети, сущие дети, подумал он. Только они да впавший в детство барон де Латур-Бридон — вот и весь круг собеседников. Дидье вздохнул, впрочем скорее притворно, чем всерьез: по-настоящему в серьезном, разумном собеседнике он не нуждался. Ему нравилось его фактическое затворничество. Оно поднимало его в собственных глазах, ему не нужно было, чтобы его понимали, достаточно, чтобы подчинялись.
Желательно, чтобы подчинялись безоговорочно. Пусть тупо, но всецело.
А заветные мысли можно доверить бумаге.
Тростниковая дверь хижины заколебалась, приподнялась, наружу медленно, как бы даже задумчиво выбрался капитан Олоннэ. Было видно, что имевшая место беседа произвела на него очень сильное впечатление.
Дидье сделал несколько шагов ему навстречу, ибо старшему брату все еще непросто было передвигать ногами.
— Поговорили? — приятно улыбнувшись, спросил младший брат у старшего.
— Что ты с ней сделал?
Дидье развел руками:
— Видишь ли, я, собственно, монах…
— Что ты с ней сделал?!
— Можешь мне, конечно, не верить, но я пальцем к ней не прикоснулся, не говоря о другом…
— Тогда, — Олоннэ мотнул головой в сторону хижины, — что это такое?
— Понимаешь, она сошла с ума еще там, в Ревьере. Сразу после приключения на мельнице. Понять ее, в общем, можно — жуткая смерть мужа и прочее. Я надеялся, что сознание у нее помутилось временно. Путешествие поможет ей развеяться. Не забывай, я любил ее так же сильно, как и ты, а может быть, еще сильнее. Я готов был ждать. Год, два, сколько нужно, чтобы она превратилась… чтобы она вернулась в человеческое состояние.
— Ты пробовал ее лечить?
— Разумеется. Все новейшие способы перепробовал, равно и все старинные. Но все мои усилия, усилия разных врачей — все было впустую. Болезни духа и душевные раны пока вне влияния методов современной науки. Ее состояние даже ухудшалось. Раньше бывали периоды просветления, сейчас их почти нет. Вот, собственно, и вся история. В сущности, я украл у тебя то, чего не было, а ты всю жизнь гонялся за тем, что я у тебя не крал. Женщина по имени Люсиль не существует. Существует весьма износившееся, поблекшее тело, а душа… надо, видимо, считать, что она присоединилась к душе любимого, убитого мной мужа.
Олоннэ помассировал руками лоб, лицо, как бы стараясь удалить пелену наваждения. Потом, обойдя Дидье и его телохранителей, двинулся вдоль по улице между двумя рядами тростниковых хижин.
— Куда ты? — весело крикнул младший брат. — Может быть, расскажешь, куда направился?
Олоннэ остановился, он конечно же не знал, куда и зачем пошел. Просто невозможно было оставаться на месте.
— Да, я забыл, что в этой глинобитной дыре ты самый главный.
— То-то.
— И что ты собираешься со мной делать, патер?
— Ты уже спрашивал меня об этом…
— И ты так толком мне ничего и не сказал.
Дидье снова заулыбался:
— Поверь, братец, это не от природной скрытности. Я просто ничего еще не решил. Наши отношения, согласись, весьма запутанны. Я не знаю, имеет ли мне смысл тебя бояться, или, может быть, наоборот, я мог бы на тебя рассчитывать. В какой-то степени.
По губам Олоннэ пробежало некое подобие улыбки, очень вымученное и ехидное подобие.
— Я еще не понял, чем для моего иезуитского рая является твое появление. Опасен ты или…
— И если опасен…
— Я убью тебя не задумываясь, братец.
— Не сомневаюсь.
— Приятно разговаривать с понимающим человеком. Твоя экспедиция, насколько я понимаю, лопнула. Во всех отношениях. И люди перебиты, и корабли разбежались, и Люсиль рехнулась. По-моему, имеет смысл посидеть на месте, подумать.
— Насколько я понимаю, в любом случае — другом ты меня сочтешь или врагом — я останусь твоим пленником.
— Вот здесь ты абсолютно прав. Отпустить на волю такую сильную и мстительную тварь, как ты, было бы с моей стороны величайшей глупостью. Сейчас тебя отведут в твою келью, там тебе предстоит провести ближайшие месяцы. А может быть, и годы.
Глава девятая
Дидье оказался прав только наполовину. Олоннэ препроводили в келью, но провел он там всего несколько часов. А потом произошло следующее. Лежащему на уже описанном ложе капитану послышался какой-то шум за дверьми его узилища. Потом дверь отворилась, и он увидел капитана Ибервиля, за спиной которого маячила заросшая густой щетиной физиономия Беттеги.
Оба улыбались.
Олоннэ вскочил на ноги.
— Скорее, капитан! — прошептал Ибервиль и сделал энергичный жест, показывающий, что ноги, на которые вскочил Олоннэ, пора уносить.
Брат говорливого патера не заставил себя долго уговаривать. Натянув сапоги, он бросился вслед за своими спасителями. На пороге кельи споткнулся о тело индейца. Индеец лежал в луже крови, но у Олоннэ не было ни времени, ни желания выяснять, каким именно образом эта кровь из него выпущена.
Оказавшись снаружи длинного каменного строения, в котором помимо его кельи имелись, надо понимать, еще и иные хорошо изолированные помещения, Олоннэ, оглядываясь, спросил у своих подчиненных, что, собственно говоря, происходит.
— Некогда, — сказал Ибервиль, тоже оглядываясь. — Надо сначала выбраться из этой милой деревеньки. У них тут какие-то неприятности, надо этим воспользоваться.
В подтверждение слов Ибервиля раздались мушкетные выстрелы на противоположном конце редукции. Беглецы двинулись в сторону, противоположную той, где разворачивались сопровождаемые стрельбой события.
По улицам время от времени пробегали вооруженные индейцы, из камышовых хижин выглядывали любопытные детские глаза. При появлении на их пути первого вооруженного аборигена корсары, естественно, напряглись, но он проследовал мимо.
— Он не получил приказа за нами следить, поэтому мы для него как бы не существуем, — сказал Олоннэ. — Мой брат, здешний жрец, кое-что мне рассказал о нравах местных жителей.
— Понятно, — ответил, усмехнувшись, Ибервиль, — не знаю, как кому, а мне эта черта здешних дикарей нравится.
Они двигались наугад, но, как выяснилось вскоре, довольно правильно. Сделав три или четыре поворота, беглецы оказались у земляного вала, укрепленного сверху деревянным частоколом. На расстоянии шагов в двадцать друг от друга вдоль этого частокола стояли индейцы, вооруженные копьями. Повернувшись спиной к домам поселка они что-то высматривали в окружающих редукцию маисовых полях.
— У нас есть какое-нибудь оружие? — поинтересовался Олоннэ.
— Несколько ножей. — Беттега продемонстрировал, сколько именно. — Мы забрали их у наших охранников.
— Слушай, — сказал Ибервиль, — а может быть, нам и здесь стоит изобразить из себя привидения и эти идиоты на нас не обратят внимания?
— Не будем рисковать, лучше прирежем парочку и перелезем через ограждение, — высказался Беттега.
Капитан согласился с телохранителем.
— А как мы их убьем?
— Вот так, смотри, Ибервиль.
Олоннэ взвесил на руке один из ножей и швырнул в спину одному из стражей. Тот умер, так, видимо, и не поняв, что произошло. Беттега последовал примеру капитана, его бросок, правда, получился менее удачным, раненный его ножом индеец что-то закричал, валясь на колени. Стоявшие неподалеку стражники с нескрываемым удивлением посмотрели на своих издыхающих товарищей.. Чтобы понять, что происходит нечто неподобающее, им потребовалось секунд пять, а то и десять. За это время, выбежав из-за окраинной хижины, корсары успели добраться до ограды и вскарабкаться на нее. Успели даже перепрыгнуть на ту сторону и съехать в довольно глубокий ров, выкопанный сразу за частоколом.
Когда они начали карабкаться по противоположной стене рва наверх, над остриями частокола показались индейские головы и над оградой вознеслись длинные копья. Олоннэ отчетливо ощутил холодок входящего в незащищенную спину металла. Если бы индейцы пустили в дело свои метательные орудия сразу, три корсарских трупа остались бы лежать во рву. Но индейцы медлили, и спасшиеся беглецы так до конца своей жизни и задавались вопросом — почему? Вероятнее всего, ждали распоряжения от какого-нибудь из своих касиков. Через них патеры в редукциях управляли всей жизнью. И тот из них, кто отвечал за порядок на этом участке внешнего ограждения, припозднился. Корсары выкарабкались из рва. Раненного в левое плечо Беттегу Ибервиль и Олоннэ выволокли за здоровую руку и вместе бросились к зеленым зарослям маиса, переходящим в зеленые заросли джунглей.
Побег удался.
Как ни странно, это случилось благодаря испанскому полковнику Герреро, тому самому, что одолел корсарскую армию при помощи двойной засады в Горловине. Не найдя среди убитых вожделенного трупа со сросшимися бровями, он бросился на его поиски. Индейцы гуарани, враждебно относившиеся к факту существования на их землях непонятной редукции, подсказали полковнику, где нужно искать интересующих его беглецов. Охотники гуарани видели, как касик из редукции захватил в плен троих бледнолицых.
Герреро помчался к иезуитскому поселению. Но его нетерпение сыграло с ним плохую шутку. Он просто-таки набросился на патера Дидье с требованием выдать ему троих корсаров, доставленных накануне в редукцию его индейцами. Надо заметить, что иезуитские поселения пользовались в определенной степени правами экстерриториальности и были неподотчетны местным испанским властям. (Да простится мне этот набор современных канцеляризмов, но в данном случае это самый короткий путь к сути дела. ) Патер Дидье в полной мере воспользовался своим правом не выдавать полковнику то, что принадлежит по праву редукции. Полковник в ответ заявил, что в таком случае он возьмет силой то, что ему отказываются отдать добром.
— Попробуйте, — предложил молодой иезуит.
Полковник грязно выругался и повел своих пехотинцев в атаку. В ответ полетели стрелы и зазвучали выстрелы. Французские корсары услышали их и, не зная, что именно происходит, поняли, что этим нужно воспользоваться.
И воспользовались.
Когда троица удалилась от стен старинного поселения на достаточное расстояние, чтобы не опасаться немедленной погони, Олоннэ первым делом поинтересовался у своих друзей, каким образом им удалось выбраться из своих келий.
— Вот, — сказал Ибервиль не без самодовольной нотки в голосе, — это она нас спасла.
Он продемонстрировал свою флягу.
— Не понимаю.
— А что тут понимать? Получилось так, что я уговорил одного из краснорожих кретинов, что сидели вместе с нами — отдельного помещения нам не выделили, — хлебнуть из фляжки. Что было дальше, ты и сам себе можешь представить. Эти краснорожие звери никогда в жизни не пробовали спиртного. Так что при помощи пинты ямайского рома мы сумели сделать то, что и при помощи четырех пистолетов не совершить.
— Забавно.
— Еще бы. Думаю, что они до сих пор ползают там и орут. Наверняка местный священник не похвалит их за подобное поведение.
Олоннэ привалился к обомшелому стволу дерева вальпарайо и закрыл глаза.
— Этот патер — мой брат.
— Брат?
— Да, родной брат. Младший брат.
Ибервиль протер свой единственный глаз.
— Но если… зачем же мы тогда бежали оттуда? Он бы мог нам как-то помочь.
— Он не только мой брат, но и настоящий сукин сын.
— Но пусть даже и сукин сын, но все же француз. По-моему, встретить среди этих дикарей с красными рожами и квадратными мозгами и испанских собак влиятельного француза — большая удача. Ведь он влиятельный здесь человек?
Олоннэ глубоко зевнул.
— Настолько влиятельный, что если бы захотел нас вздернуть, это желание было бы выполнено немедленно.
Ибервиль открыл свою флягу, перевернул над своим открытым ртом.
— Сухо.
Беттега выразительно облизнулся.
Олоннэ приоткрыл веки и сказал:
— Да, неплохо было бы чего-нибудь поесть. Да и решить, что мы будем делать дальше, — тоже.
— Сначала доберемся до Сан-Педро… — начал Ибервиль.
— И там нас поджарят на медленном огне вернувшиеся из леса горожане, — закончил капитан.
— Обязательно поджарят, — вздохнул Беттега, ощупывая обмотанное грязными тряпками предплечье.
— Все равно нужно пробираться именно к берегу, может быть, корабли нас еще ждут.
— Маловероятно, — снова зевнул Олоннэ, — слух о разгроме нашей армии уже распространился по округе. Проверять этот слух наши люди не станут. В этом я уверен.
— Почему?
— Потому, Ибервиль, что наши люди тоже сукины дети. Не такие, как мой брат, в своем роде, но тоже.
— Ну, я не знаю… — начал было какую-то тираду Ибервиль, но капитан опередил его:
— Но как бы там ни было, пробираться к берегу надо. Нет другого выхода. Я очень-очень не люблю положений, из которых есть только один выход… но будем рассчитывать на то, что нам повезет.
Так они и поступили. Отдохнув каких-нибудь полчаса, корсары двинулись сквозь джунгли. Впереди шел капитан Олоннэ, шел, слегка прихрамывая — давала себя знать подвернутая во время форсирования рва нога. За ним плелся, покачиваясь, Ибервиль. Он ничего не повредил себе во время бегства, просто навалилась усталость, а, как известно, именно она является самым тяжелым грузом. Замыкал шествие к побережью Беттега, он нянчил на ходу свою несчастную руку и поглядывал по сторонам. Он не забыл о своей телохранительской роли, хотя блеск его черных глаз говорил о том, что у него начинается жар. Причиной тому была, разумеется, рана на руке. Во влажном тропическом климате проникшая в нее вместе с острием стрелы зараза вызвала нагноение и оказала на могучий организм корсиканца свое губительное воздействие.
Передвигались очень медленно, и не только потому, что чувствовали себя отвратительно, но и потому, что джунгли Центральной Америки как будто специально задуманы для того, чтобы мешать передвижению по ним. Под ноги лезли бесчисленные извивающиеся корни, стволы погибших деревьев. Держали наготове свои пасти засыпанные опавшей листвой ямы. Сучья, сучочки и сучищи хватали за остатки одежды и за воспаленную кожу, сверху сыпались насекомые, радуясь возможности порыться в волосах путешественников. Орали над головами птицы, названия которым на европейских языках еще не было. А змеи? Змеи больше всего занимали воображение Олоннэ. Накануне, лежа в келье, уготованной ему нелюбимым братом, он вспомнил эпизод своего детства. Наверное, причиной подобных воспоминаний стало действие зелья, которым его опоили днем раньше. Оно что-то сдвинуло в сознании капитана. А вспомнил он о том, как на осенней ярмарке старая отвратительная цыганка нагадала ему, что умрет он от укуса змеи.
Почему ему вспомнилось об этом только сейчас? Только ли индейское зелье тому виной?
Олоннэ все время сжимал в руках кинжал. Ибервиль спросил его, зачем он это делает, чьего нападения ждет? Но Олоннэ ему не ответил.
Только когда кончились густые заросли и они вышли на большую красноземную пустошь, поросшую редко стоящими кактусами, он спрятал кинжал за пояс.
— Черт бы подрал эту старую ведьму.
— О чем ты? — спросил все более качающийся из стороны в сторону Ибервиль.
— Цыганка.
— Какая еще цыганка?
— Потом расскажу.
Во время сиесты, если их времяпрепровождение можно было так назвать, они лежали на берегу ручья.
— Любопытно было бы узнать, можно ли из него пить воду, — сказал Олоннэ, наклонившись над тихим, кристально прозрачным потоком.
— Ты сам прирезал лучшего специалиста по этой части.
— По-моему, он нас просто дурачил, чтобы набить себе цену.
— Он дурачил нас не только по поводу воды.
— Ты напоминаешь мне о засаде, Ибервиль?
— Не для того, чтобы тебя задеть.
— Не-ет, дружище, что-то такое звучит в твоем голосе. Договаривай.
Олоннэ опустил лицо в воду и то, что сказал ему лучший друг, выслушал именно в таком положении.
— Хоть сейчас-то ты можешь мне объяснить, какого дьявола мы все потащились по этим треклятым джунглям? У меня такое впечатление, что ты нашел то, что искал. Но счастья тебе это особого не принесло, как и тем трем сотням ребят, что остались валяться на дне этой Горловины.
Олоннэ резко поднял голову из ручья и повернул к Ибервилю свое мокрое лицо:
— Ты всерьез беспокоишься об этих тварях, которые шли за мной только потому, что рассчитывали заработать, пользуясь моей удачливостью, и готовых в любую минуту предать, когда удача отворачивалась от меня? Они получили то, что заслужили. Может быть, чуточку раньше, чем рассчитывали, но это уж случилось по распоряжению судьбы.
— Ты зря распинался так долго. Мне, так же как и тебе, в сущности, наплевать, как закончили жизнь люди, которые сами эту свою жизнь ни в грош не ставили. Я о другом тебя спрашивал.
Олоннэ снова потянуло к воде.
Утолив жажду, он вытер лицо грязными руками.
— А, черт с ним, расскажу.
Беттега, лежавший без движения неподалеку, приподнялся на локте здоровой руки. Значит, и до этого слушал внимательно. Олоннэ бросил в его сторону насмешливый взгляд.
— Все, что произошло, произошло, как ни дико это для вас прозвучит, из-за бабы.
— Из-за какой такой бабы?
— По имени Люсиль. Моей возлюбленной. Жены моего брата. Я полюбил ее еще во Франции.
Ибервиль почесал огромной пятерней мокрую щетинистую щеку.
— Жены того брата, от которого мы сбежали?
— Нет, — улыбнулся Олоннэ, ему начал нравиться этот разговор.
— У тебя было несколько братьев, да?
— Вот теперь ты меня понял правильно. У моего старшего брата Ксавье была жена. Была ли она красавицей, я не знаю. Не в этом дело, а в том, что я почему-то в нее зверски влюбился.
— А Ксавье?
— Его убили.
— Ты?
— Нет, тот брат, от которого мы сбежали. Он спас меня, потому что я украл Люсиль. Меня схватили. Дидье помог мне, причем очень решительно. Он убил Ксавье.
— Семейка, — с чувством сказал Беттега.
Олоннэ кивнул:
— Да, семья у нас была странная. Так вот, рассказать осталось уже немногое. Убив Ксавье, Дидье скрылся с его женой. Она, как оказалось, вскружила голову не только мне, но и ему. Он сделался иезуитом и скрылся в здешних джунглях. Люсиль сошла с ума от таких перемен в судьбе. Я ведь направился в Новый Свет именно за тем, чтобы ее разыскать. И все эти годы был не столько корсаром, сколько занимался поисками дамы своего разбитого сердца.
Ибервиль длинно, витиевато и совершенно непечатно выругался. А потом добавил:
— Никогда в жизни не поверил бы, когда бы кто-нибудь мне об этом рассказал. А все эти изнасилованные и прирезанные девицы на кораблях и в портах?
— Что — девицы?
— Это развлечение в отсутствие той единственной?
Олоннэ вдруг резко помрачнел:
— Если хочешь, считай так.
— А как еще прикажешь мне считать?
— Хватит, этот разговор мне надоел.
Ибервиль не сразу успокоился. Он повалился на землю, бормоча: «Ну, надо же!», «Кто бы, черт подери, мог подумать!», «Нет, все равно не верю!».
— Заткнись!
Ибервиль заткнулся, но, как оказалось через секунду, не потому, что получил такое приказание. Он сел и, внимательно глядя на капитана, произнес:
— Слушай, а почему тебе пришло в голову об этом рассказать? Почему?
Олоннэ поморщился:
— Что значит «почему»? Захотел, и все.
— Не потому ли, что ты решил, что нам отсюда уже не выбраться и, значит, мы с Беттегой ничего не сможем разболтать?
— Не поэтому, — тихо ответил капитан, но слушатели явно ему не поверили. Однако высказать свое недоверие им было не суждено. Дело в том, что внезапно они обнаружили, что окружены.
— Они нас догнали! — крикнул Ибервиль, оглядываясь.
Из-за кустов и деревьев виднелись разрисованные индейские лица. Можно было также рассмотреть наконечники копий и луки, заряженные стрелами.
— Нет, — сказал Олоннэ, внимательно посмотрев по сторонам, — это другие.
— Пожалуй. Осталось только решить, хорошо это или плохо.
— Очень скоро мы это узнаем.
— Сколько можно попадать в плен к этим индейцам! — простонал Беттега. Ему становилось все хуже. Он повалился на траву, тяжело дыша.
Между тем разрисованные лица приближались. Медленно, но неуклонно.
И бесшумно.
И эта бесшумность стала самым пугающим элементом происходящего.
Ибервиль вытащил из-за пояса нож.
— Убери, — велел Олоннэ, — если не хочешь умереть прямо здесь.
С этими словами капитан демонстративно, чтобы приближающимся это было хорошо видно, отбросил свой нож в сторону. И поднял руки, показывая, что у него нет больше оружия. То же самое проделали и остальные корсары.
Индейцы начали приближаться решительнее и вскоре опоясали группу бледнолицых плотным вооруженным кольцом.
Опоясали и замерли. Надолго. Корсары стояли спиной к спине, вглядываясь в темные, разрисованные красной и желтой краской лица. Разрисованы были не только лица, но и руки, ноги и животы. Если не считать ожерелий, сделанных из мелких птичьих черепов, и травяных набедренных повязок, индейцы были голы.
— Так, — пробормотал Ибервиль, — и долго мы будем так стоять?
Словно в ответ на его ни к кому не обращенный вопрос сквозь толпу голых воинов протолкался приземистый старик на худых кривых ногах. Он внимательно осмотрел пленников, поглаживая серебряное кольцо, вдетое в ноздрю, и вдруг сказал:
— Пашли.
По-испански сказал. Впервые в своей жизни корсары испытали радость, услышав испанскую речь.
Так, не выпуская их из плотного кольца разрисованных копьеносцев, гостей-пленников доставили в находившуюся неподалеку деревню. Она выглядела значительно беднее той, из которой корсары бежали, спасая свои жизни. По берегу вдоль ручья было разбросано десятка три конусообразных вигвамов, сделанных из жердей и покрытых вытертыми шкурами. Перед некоторыми бессильно дымились прогоревшие костры. Три пузатые женщины плескались в мелких водах ручья. Вид этого купания подействовал на пленников особенно удручающе.
К конвоирам присоединились мальчишки и собаки. Они не считали нужным хранить молчание, поэтому вхождение процессии в деревню получилось довольно шумным, можно даже сказать веселым.
Гостей подвели к самому высокому и «роскошному» на вид вигваму. Из него появился крупный и мрачный индеец. Его одежда отличалась от облачения прочих в выгодную сторону, можно было заключить, что он здесь вождь или что-то в этом роде. К вождю подбежал старик с серебряным кольцом в ноздре и заговорил по-своему — наверное, рассказывал ему о великой, небывалой победе, одержанной его воинами, о великолепном и смелом пленении трех бледнолицых. На ходу возникала страница племенного эпоса, которому предстояло лет через двести пятьдесят поразить воображение европейских ученых своей красочностью и достоверностью.
Пока старик болтал, Олоннэ позволил себе оглядеться. Ничего, пожалуй, особенного высмотреть ему не удалось. Эта деревенька мало отличалась от того, что ему приходилось видеть до этого. Примерно так же жили и охотники за черепахами, поселения которых он в свое время разорил во множестве. Смутил его немного лишь торчащий возле главного вигвама шест. Он возносил на пятнадцатифутовую высоту оскаленный человеческий череп.
Ибервиль проследил за его взглядом и сказал:
— Англичане называют это «веселый Роджер».
Наконец рассказ старика иссяк, и он, склонившись в полупоклоне, отошел в сторону. Заговорил вождь. Он был лаконичнее старика. Произнеся несколько фраз, он указал на тростниковую циновку у входа в вигвам.
Серебряная Ноздря объяснил:
— Лежать.
Потом извиняющимся образом помотал головой и поправил сам себя:
— Сидеть.
Пленники, разумеется, тут же выполнили это. Во-первых, спорить было бессмысленно, а во-вторых, давила усталость.
— Хорошо, что хоть связывать не стали, — прошептал Беттега.
Многочисленные охранники и не думали расходиться, они продолжали стоять в пяти шагах перед сидящими, наставив на них свои жутковатые копья. Причем не все острия были металлические. Большинство костяных.
Только Ибервиль хотел высказаться в том смысле, что ему желательно было бы знать, что именно с ними собираются сделать эти обнаженные молчальники, как вооруженный строй расступился, и появились три женщины. Одна пузатая, две другие нет, почему-то отметил про себя Олоннэ.
В руках каждая из них несла по широкому мелкому блюду, сделанному из черепаховых панцирей и наполненных едой. Когда перевернутые панцири были установлены перед каждым из пленников-гостей, те смогли рассмотреть, что именно им предложили.
— Пить, — сказал толмач, но тут же себя поправил: — Есть.
— Это какие-то моллюски, — сказал Ибервиль, осторожно прикасаясь пальцами к неаппетитной слизистой массе.
— Есть! — энергично потребовал Серебряная Ноздря.
Любой придворный при дворе Людовика XIV в мгновение ока сообразил бы, что именно за блюдо ему подано — свежие питательные устрицы, и начал бы их бодро поедать, даже в том случае, если бы не был голоден. Корсары были неосведомлены о гастрономических манерах высшего света, даже в резиденции губернатора господина де Левассера, стремившегося во всем подражать лучшим домам метрополии, такой гадости, как сырые моллюски, не ели. Поэтому, даже умирая от голода, три француза с неохотой приступили к трапезе.
Судя по тому, как подгонял их толмач, он был очень удивлен их нерасторопностью в деле поедания лакомства. Видимо, устрицы считались изысканным блюдом не только в Лувре, но и в этой прибрежной индейской деревне, поэтому Серебряную Ноздрю задевала привередливость бледнолицых. Им дали самое лучшее, а они скривили свои поросшие грязными волосами физиономии.
Олоннэ показал пальцами на свой рот и сказал по-испански:
— Пить.
Толмач отрицательно покачал головой и резко парировал:
— Есть.
— Пока все не сожрем, ни капли воды не дадут, — подвел итог этому обмену мнениями Беттега.
— Я не раз слышал, что индейцы очень гостеприимны, — заметил Ибервиль.
Когда блюда были опорожнены, гостям действительно дали напиться. Потом препроводили в древесную тень, и голосом, не терпящим возражений, им было объявлено:
— Спать!
Глава десятая
Капитан Олоннэ был кошмаром испанских морей, но ему самому никогда не снились кошмары.
А тут…
Олоннэ — спящий — вдруг вскрикнул и резко принял сидячее положение. Огляделся. Увидел перед собой острия терпеливых копий. Беттега и Ибервиль были рядом. Причем второй не спал. Он даже спросил:
— Что с тобой? Что-то приснилось?
— Рожа Роже, — глухо и сухо ответил капитан.
— А-а, — протянул бельмастый друг, — а, кстати, где он? Неужели сбежал с Вокленом?
— Мне было бы это неприятно. Но Бог миловал, его застрелили в Пуэрто-Морено.
— Рад за него, — зевнул Ибервиль.
Олоннэ окончательно проснулся и снова попытался выяснить, что происходит вокруг:
— Сколько мы проспали?
— Я не сомкнул глаз. Беттега тоже долго не мог заснуть. Это у тебя железные нервы.
— А костер?
— Какой костер?
Неподалеку от главного вигвама лежала довольно большая куча сухих веток. Раньше ее не было.
— А, этот? Не знаю.
Проснулся Беттега. Открыл воспаленные глаза, морщась, ощупал распухшую руку. Хотел было что-то сказать по этому поводу, но раздумал.
— Чего-то они зашевелились, — заметил наблюдательный Ибервиль.
— Зашевелились? — прищурился Олоннэ.
— Да, пока мы спали, поселок напоминал кладбище, а теперь, посмотри, забегали.
— Осталось понять, к чему они готовятся — к празднику или к казни.
— Праздник лучше, — сказал Беттега. Это заявление не было попыткой пошутить, он говорил серьезно.
— Как бы там ни было, это оживление имеет к нам непосредственное отношение, — бросил реплику гасконец.
— Да, Ибервиль, да, и, судя по всему, очень скоро мы узнаем, какое именно.
— Боюсь, что даже скорее, чем мы думаем.
К сидящим приближался носитель серебряного кольца. Подойдя к пленникам, он упер руки в бока и сказал речь на своем, ни на что вразумительное не похожем языке. Он горделиво стоял перед корсарами, явно демонстрируя, что начинается самое главное.
— Что он говорит? — растерянно спросил Беттега. Его вера в капитана простиралась до уверенности в том, что тот знает все языки на свете.
Серебряная Ноздря между тем, закончив свою речь, перешел к ее краткому изложению на испанском:
— Женщина, мужчина, семя.
— Что он говорит? — снова влез со своим вопросом Беттега.
— Женщина, мужчина, семя. — Толмач замолк. Было видно, что он уверен в том, что не понять его мог только круглый идиот. Мысли французов растерянно блуждали в трех испанских словах. Индеец снизошел до их интеллектуальной немощи и добавил четвертое. — Кто? — спросил он.
— Кажется, я понял, — сказал Олоннэ, глядя на вигвам вождя, в который в этот момент вводили одну из обнаженных местных красоток.
— Что ты понял? — Ибервиль проследил за взглядом капитана и прошептал: — Кажется, я тоже понял. Судя по всему, нам предлагают развлечься. Какой гостеприимный народ!
— Не в этом дело. Они вырождаются, им, как ты слышал, нужно наше семя. Для усложнения крови. Я слышал, что у диких племен есть такие обычаи.
— Я ничего не слышал о таких обычаях, но готов его уважать. Но, — Ибервиль посмотрел на Олоннэ, — я пойду вторым. После тебя.
— Ты пойдешь вторым, но после Беттеги.
— Кто? — напряженным голосом повторил свой вопрос Серебряная Ноздря.
Олоннэ пристально посмотрел в воспаленные глаза своего телохранителя и твердо велел:
— Иди.
Верный Беттега начал медленно отрываться от земли, упираясь в землю единственной рабочей рукой.
Встал.
Заметно покачиваясь, пошел в указанном направлении. Глядя ему вслед, Ибервиль усмехнулся:
— Ради тебя он готов на все.
— А ты?
Ибервиль повернулся к капитану, и его поразило увиденное. Рядом с ним сидел незнакомый человек. Олоннэ был бледен как полотно, как смерть, как утренний туман в северных горах. Даже опаленная тропическим солнцем кожа не могла этого скрыть. Даже налипшая грязь, даже щетина. Загорелое привидение.
Одноглазый хотел было что-то спросить, но вовремя понял, что никакого ответа не получит.
Олоннэ тоже не склонен был предаваться обмену ироническими мнениями. Он полностью сосредоточился на созерцании того вигвама, который находился шагах в тридцати от корсарской «спальни». Олоннэ и Ибервиль напряженно прислушивались, но до их слуха не долетело ни одного звука, по которому можно было бы представить то, что происходит внутри.
Так продолжалось долго. Или показалось сидящим, что долго. Охраняющие их воины не выказывали между тем ни волнения, ни любопытства. Не было ни сальных шуточек, ни понимающего перемигивания, без чего не обошлись бы в их положении любые европейцы. Происходящее они воспринимали как акт священнодействия.
Наконец Беттега появился. С расстояния в тридцать шагов трудно было определить выражение его лица. О том, чего ему стоило приключение, которое он только что претерпел, можно было судить по тому, насколько сильно он качался, возвращаясь на свое место, по сравнению с тем, как он шел, направляясь к вигваму.
Подошел к своим и рухнул.
Беззвучно.
— Надеюсь, они удовлетворены, — сказал Олоннэ.
Ибервиль отрицательно покачал головой:
— Нет, видишь, ведут вторую.
— Ну что ж, иди.
— Ну что ж, пойду. Я и в обычное время довольно спокойно отношусь к женскому полу, а уж после всего, что с нами было…
— Кто?! — резко взвизгнул Серебряная Ноздря.
Ибервиль вздохнул и процедил сквозь зубы:
— Сволочь.
В ответ на это толмач возмущенно помахал руками и сделал несколько угрожающих выкриков. Могло показаться, что он понял, кем его считают.
Когда одноглазый носитель семени заковылял в направлении заветного чертога, к Беттеге подошли два индейца. Один с ножом, второй с небольшим глиняным горшком. Раненый посмотрел на них сонным взглядом. Ему было все равно, убьют его или нет.
Оказалось, что убивать его никто не собирается, а, наоборот, ему собираются оказать медицинскую помощь. Индеец с ножом был «хирургом», первым движением остро отточенного ножа он распорол замызганную повязку, охватившую воспаленное предплечье Беттеги. Вторым вскрыл большую опухоль. Гной так и хлынул. Раненый облегченно закрыл глаза, ему стало получше. Тогда второй индеец, подождав, пока рана очистится, вывернул на нее содержимое горшка. Это оказалась темно-зеленая кашицеобразная масса. Беттега попытался шевельнуться, но палец «врача» предупредил его, чтобы он этого не делал. Корсар подчинился и снова закрыл глаза.
Олоннэ перевел взгляд с него на вигвам, и как раз вовремя. Ибервиль кончил свою миссию и появился на пороге. Когда он подошел поближе, стало заметно, что выражение лица у него удовлетворенное.
— Слушай, они не зря кормили нас этими моллюсками.
— Да? — рассеянно спросил Олоннэ.
— Девочки у них, конечно… но если надо, то надо. Смотри, вон и твоя появилась. Или тебе обязательно нужно, чтоб было не меньше трех?
Капитан наотмашь саданул веселящегося товарища в единственный видящий зрак:
— Заткнись.
— Кто?! — раздался дежурный вопль.
Капитан медленно, но решительно поднялся.
До вигвама было тридцать шагов, пока он преодолевает это расстояние, есть время рассказать о том, что происходило с теми людьми, кто сопутствовал Жану-Давиду Hay, капитану Олоннэ, на страницах этого сочинения.
Командор Ангерран де ла Пенья был уже неделю как мертв; умер, как и ожидалось, от апоплексического удара. Он считал свое невероятное полнокровие следствием каких-то таинственных природных причин и совершенно был не склонен винить непомерное обжорство и пристрастие к хересу. За что и был» наказан.
На следующий день после описываемых событий Женевьева де Левассер перенесет выкидыш, а лет через пять-шесть превратится в желчную, раздражительную тетку. Более жестокой и жадной плантаторши не было на всем Антильском архипелаге.
Юный красавец Анджело де Левассер в этот момент наносил пощечину трудноразличимому на таком расстоянии негодяю, чтобы утром следующего дня на задворках Люксембургского дворца наткнуться левой частью груди на его безжалостную шпагу.
Брат капитана, иезуит Дидье, отразив первую атаку полковника Герреро, не стал дожидаться второй и распахнул ворота редукции. Он понимал, что зашел в своем свободомыслии слишком далеко, и решил пойти на сотрудничество с властями. Но сотрудничество это не принесло никаких результатов.
После того как раздраженный полковник удалился, ретивый патер выяснил, по чьей вине состоялся побег его брата с дружками, и, отдав приказ казнить всех, хоть сколько-нибудь виноватых, засел за продолжение своего «Города Луны».
Моисей Воклен не менее чем на полгода засел на маленьком островке, получившем свое название Лас-Перлас лет через пятьдесят после гибели бывшего сборщика налогов. Корабли обходили стороной эти места, и даже испанские разъезды, которых так опасались корсары, не желали здесь появляться. Корсары кормились тем, что ловили черепах и выращивали бобы. Время от времени им приходилось отбивать атаки местных индейцев. Чем там все закончилось, сказать с уверенностью трудно. Скорей всего, все погибли. Например, Горацио де Молина свой жизненный путь завершил следующим образом: пытаясь бежать из опостылевшего корсарского лагеря, он бросился в реку в надежде переплыть ее и затеряться в джунглях и, может быть, договориться с индейцами. Но вместе с отрубленными капитаном Олоннэ кистями рук его оставило и умение плавать. Он пошел ко дну на радость местным крокодилам.
Дочка же его, кстати, выросла в привлекательную, если не сказать более, девушку. В нее влюбился кастильский аристократ, находившийся на Эспаньоле в ссылке за дуэль с особой королевской крови. Но аристократ — он и в ссылке аристократ, а дочь разбойника всегда ею останется, сколь бы очаровательной ей ни удалось сделаться. Был роман, много страсти, слез, терзаний. Потом был отъезд аристократа, внебрачный ребенок, но это уже текут чернила следующего романа…
Кто там еще остался?
Падре Аттарезе.
Несмотря на часто повторяющиеся припадки, он продолжал здравствовать и шпионить в пользу Испании. Единственное, в чем изменилась его тактика, — он стал осторожнее и хитрее.
Если учесть, что губернатор Тортуги, славнейший господин де Левассер, под воздействием свалившихся на его голову несчастий пристрастился к барбадосскому рому и утратил свойственный ему трезвый взгляд на вещи, старому итальянцу не грозило никакое разоблачение.
Описать, что ли, кончину ле Пикара? Но что нам до этого татуированного болвана!
Мы возвращаемся к капитану Олоннэ. Ибо он уже сделал свой двадцать девятый шаг.
Стоявший у входа в вигвам индеец предупредительно поднял тростниковый полог перед носителем семени.
Ибервиль внимательно и заинтересованно следил за тем, что происходит. Беттега был не в состоянии открыть глаза. Ибервиль, посверкивая единственным глазом, ждал, во что выльется столкновение сексуального гиганта с представительницей вымирающего племени. Произведет ли он на нее такое же впечатление, как на женщин цивилизованных народов?
Когда послышались женские вопли, Ибервиль удовлетворенно улыбнулся. Он был рад за капитана и горд тем, что имеет в друзьях такого умельца.
Но удовлетворение длилось недолго. Голая толстушка выскочила из вигвама и стала что-то возмущенно высказывать стоящим у входа воинам. Она была вне себя. Старик с кольцом в ноздре, переместившийся от Ибервиля с Беттегой к месту основного действия, что-то угрожающе прокричал ей. Толстушка была вынуждена вернуться в вигвам.
— Что там происходит? — пробормотал Ибервиль.
— Что ты говоришь? — спросил Беттега, не открывая глаз.
Одноглазый не успел ответить — снова раздался возмущенный женский крик, снова произошло препирательство толмача с толстушкой. Ее в третий раз заставили отправиться в объятия корсарского капитана.
Но на этом все не закончилось. Было еще много возмущенных криков. Появился вождь. Он внимательно выслушал деву своего племени и сделал знак, который можно было истолковать только одним образом — «пошли, сходим вместе».
— Да что же там происходит?! — удивлялся Ибервиль. Свой ни к кому не обращенный вопрос он завершил длиннейшим ругательством.
Поднялся тростниковый полог, появился вождь. Если бы Ибервиль находился поближе к нему, он бы увидел, насколько у вождя обалдевшее лицо.
Вождь поднял руку, он указывал на кучу хвороста, сложенную рядом с вигвамом. Возникла множественная суета. Кто-то притащил пылающую головню и бросил в хворост. Трое дюжих индейцев бросились в вигвам и через мгновение выволокли оттуда упирающегося Олоннэ.
— Смотри! — крикнул Ибервиль, и Беттега открыл глаза.
Шумно треща, пламя распространялось внутри костра, но, заглушая этот шум, орал Олоннэ, извиваясь в руках индейцев. Ибервиль инстинктивно вскочил, чтобы броситься ему на помощь, но костяное острие больно уперлось ему в грудь.
Капитан Олоннэ почти вырвался из вцепившихся в него лап, но тут на его голову обрушился удар сучковатой дубины.
— Все, — сказал Беттега.
Он был и прав и не прав. С лежащего капитана сорвали остатки одежды, подволокли к столбу, увенчанному черепом, обмотали ноги волосяной веревкой, перебросили конец через перекладину, имевшуюся на столбе на высоте семи футов, и подняли. Оттого, что кровь резко прилила к голове, Олоннэ очнулся и начал извиваться, пытаясь руками дотянуться до веревочных узлов. Тогда один индеец, тот самый, что вскрывал рану Беттеги, схватил капитана за волосы и перерезал ему горло одним аккуратным экономным движением.
В этом племени лекарь и палач были одним лицом.
Чтобы хлещущая кровь не пролилась на землю, две индианки подставили блюдо из черепахового панциря, и тогда Ибервиль понял, в чем суть происходящего.
— Это людоеды, — прошептал он.
Волна жуткой тошноты подступила к горлу, но он удержался от рвоты.
— Но почему они хотят съесть именно его? — спросил Беттега.
На этот вопрос ни он, ни Ибервиль ответа не нашли, хотя размышляли над этим всю оставшуюся жизнь, а жизнь им обоим досталась длинная. Людоеды, сожрав капитана, спутников его отпустили. И даже дали им проводников до ближайшего поселения бледнолицых.
Единственное, что им приходило в голову, — что выбор людоедов был как-то связан с тем, что случилось в вигваме, то есть в постели с индианкой. Каков же он был, этот сексуальный фокус, если ответом на него явилось желание сожрать его изобретателя?
Этот вопрос не давал покоя ни Ибервилю, ни Беттеге долгие годы, бессонными ночами они размышляли только об этом. Оба оставили воспоминания, основной частью которых являются рассуждения на эту щекотливую тему.
Заслуживают внимания и мемуары еще одного человека, хорошо знавшего знаменитого злодея. Имеется в виду доктор Эксквемелин.
Узнав о кончине капитана Олоннэ и, главное, о том, каким именно образом она совершилась, он, правда в очень осторожной форме, предположил, что причиной гнева людоедов стало не особое сексуальное извращение, к которому Олоннэ якобы склонял девушку-людоедку, но, наоборот, нежелание дать семя. Другими словами, капитан был импотентом. Дикари не могли себе представить, что такое может быть, поэтому неспособность корсара вступить в соитие с девушкой восприняли как нежелание. Оскорбления более жуткого нельзя было и представить. Они принесли охальника в жертву и сожрали.
Свою теорию доктор сопровождает рассуждениями о причинах слабости капитана. Якобы в самом начале жизненного пути он перенес тяжелую травму, ставшую причиной его мужской немощи. Что же касается жутких любовных концертов, которые он закатывал вместе с пленными испанками, то делалось это для отвода глаз и для поддержания капитанского авторитета.
Он пытался лечиться, но вынужден был убивать врачей, посвященных в его тайну. Кто-то из знахарей сказал ему, что его слабость есть проявление глубокой привязанности (этот умник тоже, кстати, был зарезан) к одной женщине, с которой Олоннэ не может соединиться. Вылечиться же он может, только отыскав ее и женившись на ней. И капитан посвятил жизнь поискам Люсиль. Все разбойничьи подвиги Олоннэ были, оказывается, всего лишь стремлением избавиться от импотенции. На наш взгляд, это слишком научно-медицинское и в то же время легковесное объяснение. Доктор Эксквемелин выступает в своей книге этаким предшественником известного венского доктора, за что и пользуется незаслуженным авторитетом у ряда не заслуживающих никакого внимания исследователей.
Мысль о том, что всякое страшное кровопролитие есть проявление полной импотенции, кажется нам неубедительной.
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Многочисленные и часто противоречивые документальные источники по истории пиратства оставляют немало белых пятен. И это неудивительно, ведь свидетели того или иного похода джентльменов удачи зачастую оказывались на дне морском.
Однако некоторыми достаточно достоверными данными мы все же располагаем. Так, например, известно, что в нападении на Маракаибо в 1666 году вместе с Олоннэ участвовал капитан Мигель Баск. Помощники знаменитого пирата — Воклен и ле Пикар реально существовавшие лица, правда разные документы по-разному цитируют нам их имена: ван Вайн, ван Вэйн, Пьер Пикар, Пикардиец.
Губернатор Левассер действительно правил Тортугой, но в 1652 году был убит, после чего остров на какое-то время захватили испанцы. Однако уже в 1659 году новый губернатор Бертран дю Россе возвращает Тортугу Франции. В 1662 году на этом посту его сменил губернатор Бертран д'Ожерон.
Реальное лицо — врач Эксквемелин, оставивший записки о своих плаваниях с Олоннэ и Морганом. В 1678 году в Голландии увидела свет и с тех пор неоднократно переиздавалась на многих языках мира его книга «Пираты Америки».
Судьба же главного героя этого романа, одного из самых жестоких пиратов, Жана Давида Hay, Олоннэ, слишком загадочна. И поэтому, хотя в историографии пиратства утвердилась версия, что Олоннэ был растерзан и съеден индейцами-каннибалами, достоверных доказательств не существует. Очевидцев не осталось в живых. Более того, одна из версий представляет аргументацию, что свою жизнь знаменитый пират окончил монахом в иезуитском монастыре.
В связи со всем вышесказанным известная доля вымысла, допущенная мной в романе, имеет право на существование и в качестве версии представляется равновероятностной остальным.
Ноябрь, 1997 год
Москва
М. ПОПОВ
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
Анкерок — бочонок с водой.
Бакштаг — натянутый канат, поддерживающий мачту с кормовой стороны.
Бар — песчаная подводная отмель, образуется в море на некотором расстоянии от устья реки.
Бейдевинд — курс парусного судна относительно ветра, когда направление составляет с направлением судна угол меньше 90 градусов.
Бизань — нижний косой парус на бизань-мачте, последней, третьей мачте трехмачтового корабля.
Брандер — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, во времена парусного флота применялось для поджога вражеских кораблей.
Брас — снасть, служащая для поворота реи.
Бриг — двухмачтовое парусное судно.
Бушприт — горизонтальный или наклонный брус, выступающий впереди форштевня и служащий для вынесения вперед носовых парусов.
Ванты — оттяжки из стальных или пеньковых тросов, которыми производится боковое крепление мачт, стеньг или брам-стеньг.
Верповать — передвигать судно с помощью малого якоря — верпа, его перевозят на шлюпках, а потом подтягивают к нему судно.
Вертлюжная пушка — пушка, вращающаяся на специальной установке — вертлюге.
Вымбовка — рычаг шпиля (ворота, служащего для подъема якоря).
Гакаборт — верхняя часть кормовой оконечности судна.
Галион — большое трехмачтовое судно особо прочной постройки, снабженное тяжелой артиллерией. Эти суда служили для перевозки товаров и драгоценностей из испанских и португальских колоний в Европу (XV-XVII вв.).
Галс — направление движение судна относительно ветра.
Гандшпуг — рычаг для подъема тяжестей.
Гафель — перекладина, к которой прикрепляется верхняя кромка косого паруса.
Гик — горизонтальный шест, по которому натягивается нижняя кромка косого паруса.
Гинея — английская монета.
Грот — самый нижний парус на второй от носа мачте (грот-мачте).
Испанское море — старое название юго-восточной части Карибского моря.
Кабельтов — морская мера длины, равная 185, 2 м.
Камбуз — корабельная кухня.
Капер — каперское судно, владельцы которого занимались в море захватом торговых судов (XVI-XVIII вв.).
Квадрант — угломерный инструмент для измерения высот небесных светил и солнца. Применялся в старину до изобретения более совершенных приборов.
Квартердек — приподнятая часть верхней палубы судна в кормовой части.
Кильватерная струя — след, остающийся на воде позади идущего судна.
Кливер — косой парус перед фок-мачтой.
Кильсон — брус на дне корабля, идущий параллельно килю.
Кордегардия — помещение для военного караула, а также для содержания арестованных под стражей.
Кренговать — положить судно на бок для починки боков и киля.
Крюйс-марс — наблюдательная площадка на бизань-мачте, кормовой мачте судна.
Кулеврина — старинное длинноствольное орудие.
Лаг — простейший прибор для определения пройденного судном расстояния.
Люггер — небольшое парусное судно.
Нок-рея — оконечность реев, гафелей, бушприта и вообще всех горизонтальных или наклонных рангоутных деревянных частей на судне.
Нирал — снасть для спуска парусов.
Оверштаг — поворот парусного судна против линии ветра с одного курса на другой.
Пиастр, дублон, реал, мараведис — старинные испанские и мавританские монеты.
Планшир — брус, проходящий поверх фальшборта судна.
Полубак, или бак — носовая часть верхней палубы судна.
Порты — отверстия в борту судна для пушечных стволов.
Рангоут — совокупность деревянных частей оснащения судна, предназначенных для постановки парусов, сигнализации (мачты, реи, гики и т. д.).
Рея — поперечный брус на мачте, к которому прикрепляют паруса.
Румпель — рычаг для управления рулем.
Салинг — верхняя перекладина на мачте, состоящая из двух частей.
Скула — место наиболее крутого изгиба борта, переходящего в носовую или кормовую часть.
Стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением мачты; брам-стеньга — продолжение стеньги.
Сходный тамбур — помещение, в которое выходит трап — лестница, ведущая в трюм.
Табанить — грести назад.
Такелаж — все снасти на судне, служащие для укрепления рангоута и управления парусами.
Траверс — направление, перпендикулярное направлению курса судна.
Утлегарь — рангоутное дерево, являющееся продолжением бушприта.
Фальшборт — легкая обшивка борта судна выше верхней палубы.
Фал — веревка, при помощи которой поднимают на судах паруса, реи, сигнальные огни и т. п.
Фартинг — мелкая английская монета.
Фелюга — узкое парусное судно, которое может идти на веслах.
Фок-зейл — нижний прямой парус фок-мачты, первой мачты корабля.
Форштевень — носовая оконечность судна, продолжение киля.
Фут — мера длины, равная 30, 48 см.
Шканцы — палуба в кормовой части парусного корабля.
Шкот — снасть для управления нижним концом паруса, а также растяжки паруса по рею или гику.
Шпигат — отверстие в фальшборте или в палубной настилке для удаления воды с палубы.
Шпиль — ворот, на который наматывается якорный канат.
Штаг — снасть, поддерживающая мачту.
Шлюп — одномачтовое морское судно.
Шкафут — широкие доски, уложенные вдоль бортов. Служили для прохода с бака на квартердек (или шканцы).
Юферс — блок для натягивания вант.
Ярд — английская мера длины, равна 3 футам (около 91 см).
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1630 год
Родился Жан-Давид Hay, Олоннэ, в местечке Сабль-д'Олоннэ.
1650 год
Олоннэ отплывает в Вест-Индию из Ла-Рошели.
1650 — 1653 годы
Олоннэ — буканьер на Эспаньоле.
1653 год
Первое появление Олоннэ на Тортуге.
1653-1659 годы
Олоннэ совершает ряд экспедиций и грабит несколько городов. Потеря первого корабля во время шторма.
1666 год
Разграбление испанских городов Маракаибо и Гибралтар.
1667-1670 годы
Походы в Никарагуа и Гватемалу.
1671 год
Смерть Олоннэ от рук индейцев в Дарьенском заливе на острове Бару.
Примечания
1
…стал одним из лучших буканьеров. — Буканьер — так называли заготовщиков мяса на Антильских островах. Название произошло от индейского слова «букана» — способ приготовления долго хранящегося мяса.
(обратно)2
…первым любовником на морях Мэйна. — Мэйн, или Вест-Индия, — так называли район Карибского моря и прилегающих заливов.
(обратно)3
…на полях Тридцатилетней войны… — Тридцатилетняя война (1618-1648) между Испанией, католиками Австрии и Германии, с одной стороны, и Францией, Швецией, Данией и протестантами Германии — с другой.
(обратно)4
После разгрома Великой Армады… — Великая Армада — испанский флот, отправившийся на завоевание Англии в 1588 г. В ожесточенной битве он был разбит англичанами в проливах Па-де-Кале и Ла-Манш.
(обратно)5
…а на просьбы о посылке новых Эскуриал выказывает признаки сильного раздражения. — Эскуриал — дворец испанского короля в Мадриде.
(обратно)6
…тонкими пальцами щеголя с Аламеды… — Аламеда — бульвар для прогулок в Мадриде, где собиралась вся столичная знать.
(обратно)7
…главный податной инспектор и алькальд… — Алькальд (исп.) — городской голова, мэр, глава муниципального совета.
(обратно)8
Клянусь стигматами святой Клементины… — Стигматы — от греческого «стигма» (stigma) — клеймо, метка. Особые отметки у различных святых, проступающие в местах (ладони, ступни), где гвозди вошли в тело Иисуса Христа во время распятия.
(обратно)9
…стоял стражник с аркебузой. — Аркебуза — старинное фитильное ружье, использовавшееся испанскими солдатами. В Англии, Франции, Голландии в это время уже перешли на более современное оружие — мушкеты, отличавшиеся большей дальностью стрельбы, большей скорострельностью и меткостью.
(обратно)10
…флибустьеров и каперов. — Каперами называли не только корабли, но и людей, плававших на таком судне.
(обратно)11
…в Наветренном проливе. — Наветренный пролив — пролив между Кубой и Эспаньолой (ныне Гаити), шириной около 80 километров.
(обратно)12
…что ошибся коррехидор… — Коррехидор — королевский чиновник в феодальной Испании, выполнявший судебные и административные функции в городах и провинциях.
(обратно)13
…делили между мусейонами, палестрами… — Мусейон (греч. museion) — музей; палестра (греч. palaistra) — гимнастическая школа.
(обратно)14
…спустившие все до последнего мараведиса… — Мараведис (мараведи) — мелкая разменная монета средневековой Мавритании и Испании.
(обратно)15
Кошениль — название насекомых, используемых для получения краски — кармина. В данном случае — мешки с засушенными насекомыми. Индиго — растение, из которого добывали синий краситель.
(обратно)16
…появится сам Тиутакалькан. — Тиутакалькан — местное божество индейцев Центральной Америки.
(обратно)

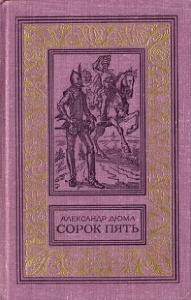



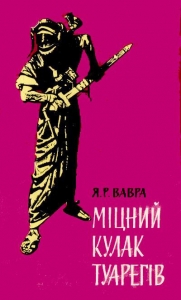
Комментарии к книге «Паруса смерти», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев