Глава 1
До того, как быть втянутым в тайную войну, сотни лет ведущуюся между секретными обществами опричников и стрельцов, Гриша Грязин вел вполне себе обычный образ жизни. Ни о каких опричниках или стрельцах Гриша никогда не слышал, потому что в школе учительские речи смело пропускал мимо ушей и учебников не читал: знал заранее – все равно аттестуют, никуда не денутся. Из всех стрельцов знал только Колю Скунса (Коля получил свое прозвище за могучий ядреный аромат, источаемый его ногами). Коля никогда не имел своих сигарет, и вечно стрелял их у всех вокруг.
Учился Гриша плохо, но не уровень успеваемости определил его дальнейшую судьбу, а платежеспособность родителей. Денег на оплату ВУЗа и взятки преподавателям у них не было, так что Гриша, отмотав положенный срок в рядах вооруженных сил, вернулся домой и устроился грузчиком.
По правде сказать, Гриша ни о каких карьерных высотах и не мечтал, учиться не хотел, а хотел он, чтобы все мыслимые блага обрушились на него в полном объеме и сразу. Однажды Грише приснилось, что он нашел в лифте ничейный чемодан, полный долларов, и Гриша, не приходя в сознание, испытал самый яркий организм в своей жизни.
У Гриши была подруга Маша, работавшая продавщицей в ларьке на автобусной остановке. Ничего на свете Гриша так не боялся, как того, что подруга может от него забеременеть. Вместе с Гришей работал молодой человек, чей долг по алиментам уже перевалил за сотню тысяч. Львиная доля заработка несознательного отца отходила в пользу потомства, оставшихся крох едва хватало на пиво и сигареты. Наблюдая жуткую участь напарника, Гриша впал в такую паранойю, что последние два месяца любил подругу исключительно в тыл. Страх перед возможными алиментами был столь велик, что даже презерватив уже не внушал никакого доверия.
График работы у Гриши был щадящий – два через два. То есть, два дня он самоотверженно трудился по двенадцать часов, а следующие два дня так же самоотверженно бездельничал. Гриша любил пиво и водку, не пренебрегал смешной травой. Гриша мечтал жениться на дочери богатого бизнесмена (желательно, чтобы сразу после свадьбы папаша богатой дуры склеил ласты), после чего зажить в свое удовольствие. Гриша был даже согласен на то, чтобы богатая невеста оказалась горбатой, хромой, жирной, кривоногой, прыщавой, лысой и вот с таким вот огромным носом. За большие деньги Гриша готов был жениться на ком и на чем угодно, и даже, если бы так повернулось, готов был выйти замуж. Только бы денег отвалили.
Гриша мечтал купить крутую тачку, поставить на нее оглушительно громкую музыку, неоновую подсветку под днище, нарисовать на капоте череп, на правом борту леопарда, на левом голую телку, на заднем бампере написать самое народное слово. А затем посадить в тачку трех блондинок, проехать по городу десять раз и повергнуть всех в пучину черной зависти.
Как-то раз Гриша и Колька Скунс сидели на балконе, и пили пиво. Денек был весенний, солнечный, голубое небо раскинулось от края до края горизонта. Внизу шумел город. По улицам шныряли машины, по тротуарам шли прохожие. Гриша, глядя на них сверху вниз, подумал, что вот было бы хорошо взять и плюнуть кому-нибудь из них на голову, а затем чисто конкретно поржать на эту тему. Затем, развивая мысль, подумал о том, что было бы гораздо прикольнее помочиться на пешеходов, оросить их всех уриной своей золотистой, и уже после этого чисто конкретно поржать.
Колька Скунс одним могучим глотком (Колька был тот еще поглотитель пива, на халяву мог выпить больше собственного веса) добил свою банку, смял ее в кулаке и небрежным движением швырнул вниз, на кого бог пошлет. Гриша с замиранием сердца проследил за траекторией полета снаряда, но смятая банка, к его огромному разочарованию, так ни в кого и не попала. Испытывая расстройство, Гришка подумал, что вот бы было замечательно наполнить презерватив водой, и сбросить его вниз. Нужно было сбросить вниз хоть что-нибудь, ведь они уже полчаса как не ржали.
– Сейчас бы негритянку, – мечтательно протянул Колька, и поскреб ногтями сокровенное.
Скунс уже давно грезил негритянкой. Была у него такая мечта. В городе имелось несколько точек, где негритянок сдавали в аренду, но у Кольки вечно не было денег. Помимо несбыточной негритянки у Кольки имелась еще одна страсть – игровые автоматы.
В прежние времена, до введения в силу преступного закона о запрете одноруких бандитов, Колька жил, как в раю. Не успевал получить зарплату, как тут же, за пару часов, спускал ее всю, до копейки, и, со спокойной душой, шел домой, к жене и детям. Детей у Кольки было двое, притом оба не его. Дети шли в комплекте с женой. Вместе с женой в комплекте шла и двухкомнатная квартира, так что дело того стоило.
Так вот, в прежние времена все было замечательно, но затем игровые автоматы запретили, и у Кольки осталась одна единственная радость – глубоко законспирированная точка на окраине. Добраться до игрового подполья живым уже было немалым подвигом. По пути туда и по пути обратно Кольку трижды встречали местные интеллектуалы, и вступали с ним в научный диспут. Последний диспут окончился потерей трех зубов, сотрясением мозга и художественной росписью всего лица в цвета национальной сборной. Впрочем, лобовое столкновение с чужими кулаками отнюдь не отшептало Кольку от игромании. Как и в прежние времена, он нес все добытые денежки одноруким бандитам. Колька мог себе это позволить. Жена получала детское пособие на двух отпрысков, а с учетом того, что отпрыски были питаемы китайской лапшой быстрого приготовления, денег на прокорм и пропой самой мамаши и ее очередного папаши вполне хватало.
Гриша, в отличие от друга, не любил игровых автоматов и не хотел негритянку. После визита к жрице любви (всю ночь искал самую дешевую, а после еще минут сорок торговался), у Гриши зверски чесалось кое-где, так что даже пришлось врачевать себя старым дедовским методом. Гриша вспомнил, как однажды дед выводил у кота блох. Кота засунул в полиэтиленовый пакет, оставил только голову снаружи, а в пакет напустил дихлофоса. Блохи на коте сдохли на третий день, кот на второй. Гриша поступил так же – обильно полил травмированную область старым добрым дихлофосом, притом употребил его в таком количестве, что через четверть часа из-под холодильника вышли строем двадцать три зеленых таракана и выбросили белый флаг. С тех пор Гриша категорически зарекся посещать проституток, какого бы цвета они ни были. Его вполне устраивала Машка. Ей, по крайней мере, не нужно было платить полторы тысячи в час, хватало двух обезжиренных комплиментов и баночки коктейля.
Породив звук, подобный грому небесному, Колька высморкался вниз, на головы прохожим, и хотел что-то сказать, но забыл что.
На работе у Гриши дела шли ни шатко, ни валко. Гриша изо всех сил старался шататься как можно меньше, но поваляться никак не удавалось. Постоянно приходилось таскать какие-то коробки, ящики, упаковки с минеральной водой. Гриша закономерно ненавидел физический труд, считал его уделом позорных лохов. Труд для Гриши был чем-то унизительным и противным. Всякий раз, когда Гришу заставляли работать, он дико злился. Дабы не держать зло в себе, Гриша выплескивал его на тех, по чьей вине ему приходилось напрягаться – на покупателей.
Больше всего Грише нравилось сморкаться в куриные окорока. Те приходили в магазин в больших картонных ящиках, все покрытые льдом, и Гриша, уличив момент, смачно плевал в ящик, а после ставил его в холодильник. Еще Гриша любил пропустить по всем промежностям палку-другую сервелата. Ну а насчет того, чтобы пукнуть на упаковку майонеза, это уже вылилось в добрую традицию, и Гриша, как-то раз, самозабвенно тужась, не рассчитал усилия, и сгоряча забрызгал продуктами жизнедеятельности целый стеллаж.
Вскоре случилась небольшая неприятность. Устав от анального однообразия Гришу бросила Машка. Гриша воспринял известие о разрыве отношений как настоящий мужчина – даже в лице не поменялся. Те же перемены, которые стараниями Гришиных кулаков произошли на Машкином лице, ей еще долго пришлось скрывать большим количеством косметики.
Жизнь неуклонно катилась туда, куда Гриша любил свою бывшую подругу. Таская ящики с зеленым горошком, Гриша думал о том, что рожден не для такого отстоя. Он не понимал, почему вся эта чернуха никак не заканчивается, и не наступает долгожданный хеппи-энд. Почему, всякий раз заходя в родной лифт, он обнаруживает там не кейс с миллионом долларов, а лужу зловонной жидкости известного происхождения? Почему еще не появилась богатая страхолюдина, готовая взять его в щедро оплачиваемые мужья? Почему, на худой конец, у него не обнаружился только что скончавшийся дальний родственник из Лондона, оставивший в наследство бедному родичу из голодной России сто миллионов денег?
Гриша остро чувствовал, что рожден для большего. Он видел себя за рулем крутого спортивного кабриолета, с крутой мобилой и в крутом прикиде, а рядом бежала Машка, и, заливаясь горькими слезами, униженно просила прощения.
– Вот бы уехать куда-нибудь далеко, – как-то сказал он другу Кольке, когда они пили пиво на балконе.
Колька с посвистом и треском пустил ветры зловонные, счастливо улыбнулся, и спросил:
– Куда?
– Да куда-нибудь, – уронив голову, мрачно пробормотал Гриша. – Куда-нибудь, где классно. Где, блин, работать не надо.
Колька подумал, подумал, еще разок прогремел низом, и вдруг вполне разумно высказался.
– Везде надо работать, – произнес он наставительно. – Не будешь работать, не будет денег. Не будет денег, придется....
Тут Колька сунул в рот сосиску, которыми он закусывали, и стал имитировать оральный секс. Глядя на весело ржущего друга, Гриша помрачнел еще больше. Он и сам понимал, что без денег придется сосать, притом совсем не факт, что лапу. Но неужели же во всем мире нет такого места, где можно жить сыто, пьяно, и при этом не ходить на работу?
В общем, Гриша Грязин жил самой обычной скучной жизнью, но вот однажды она самым неожиданным образом прервалась. Случилось это в пятницу вечером. Гриша честно отпахал двенадцатичасовую смену в супермаркете, и домой возвращался затемно, слегка подшофе. Впереди его ждали два выходных, карман отягощала зарплата за прошлый месяц. Богатый и счастливый, Гриша твердо решил в эти же выходные подцепить новую подругу, не такую дуру, как Машка, а нормальную.
На улице уже стемнело, пешеходов было мало. Гриша шел, насвистывая. Хулиганов он не боялся. В кармане у него покоилось травматическое оружие невиданной силы – пакет с дерьмом. В прежние времена Гриша таскал то кастеты, то ножи, но все это оказалось неэффективным. Тогда один умный человек посоветовал ему применить против хулиганов дерьмовое оружие возмездия. И в ходе первых же испытаний новое чудо-оружие доказало свою эффективность. При виде кастета хулиганы только возбуждались, вид ножа вызывал новую вспышку агрессии, но когда они, такие крутые и реальные, вдруг оказались с ног до головы в анализах, гнуть пальцы веером и выяснять, у кого писька длиннее, парням резко расхотелось. Гриша трижды использовал фекальную бомбу, и все три раза успешно. Лишь однажды оружие его подвело, когда пакет с каловой массой раздавили у него в кармане в переполненном людьми автобусе. Дело было летом, в страшную жару, в автобусе было душно, как в преисподней, и когда, лишенная полиэтиленовой оболочки начинка начала интенсивно благоухать, сделалось, мягко говоря, некомфортно. А когда на его шортах вокруг кармана расплылось большое коричневое пятно, Гриша был вынужден спешно сойти на ближайшей остановке, дабы не пасть жертвой народного самосуда.
Так вот, Гриша шел, шел, весь в предвкушении долгожданных выходных, и вдруг в глазах у него потемнело, а сам он начал падать на тротуар. Подозревая недоброе, Гриша, из последних сил, рванул из кармана гранату, и швырнул ее наугад, уже вслепую. До гаснущего слуха долетел крик, полный непередаваемого омерзения:
– Он в меня каким-то говном кинул! Блин! Настоящим говном! Всю куртку измазал, смотри!
Второй голос резко ответил первому:
– Пойдешь пешком! А этого грузите в тачку.
Гриша успел подумать, что это, вероятно, тщательно спланированное похищение, и его, скорее всего, теперь пустят на органы, а затем сознание его отключилось. Вопреки ожиданиям жертвы – не навсегда.
Глава 2
Когда Гриша вернулся в мир живых, первым, что он увидел, оказалась физиономия какого-то незнакомого мужика. Физиономия была бородатая, лохматая и недружелюбная. Не вникая в подробности, Гриша для себя сразу решил, что этот мужик отныне его враг номер один.
– Он очнулся, – прозвучал рядом незнакомый женский голос.
Гриша медленно повернул голову. По другую сторону стола, на котором он лежал яко труп хладный, стояла шикарная девица и таращилась на него с нездоровым любопытством. Гриша сразу понял, что влюбился. По сравнению с незнакомкой, Машка нервно курила по всем параметрам.
– Григорий Грязин, вы меня слышите? – спросил бородатый мужик, обращаясь явно к нему.
– Он еще не полностью отошел от препарата, – заметила девушка. – Ему нужно время.
– У нас нет времени! – сердито отрезал бородатый. – Если мы не отыщем артефакт до известного срока, произойдет катастрофа. Ты это знаешь не хуже меня, Ярославна. Делай все, что хочешь, но приведи это тело в работоспособное состояние.
– Если мы угробим его, он ничем нам не поможет, – покачала головой Ярославна.
Гриша, хоть и был не семи пядей во лбу, даже не пяти, да и, пожалуй, не трех, все же кое-что сообразил. Девушка, которую звали, как выяснилось, Ярославной, пыталась защитить его, а вот бородатый урод явно желал проделать над ним нечто болезненное. Гриша никому такое не прощал. Бородатый не оказался исключением – его тоже не простил.
– Григорий Грязин, – заговорил бородатый мерзким высокомерным тоном, каким обычно разговаривали с быдлом так называемые хозяева жизни, высовывая свои наглые рыла из окон дорогих иномарок, – мы похитили вас, потому что вы можете оказаться нам полезны. Так уж вышло, что только вы можете выполнить одно весьма важное поручение, и если вы все сделаете правильно и в срок, то получите щедрое вознаграждение. Если же нет....
Бородатый сделал паузу, но договаривать и не требовалось. Гриша, обожавший выпуски криминальных новостей, и сам все понял: его насильно склоняли к бездуховным половым забавам. Бородатый извращенец почти прямым текстом поставил ему ультиматум: или он, Гриша, согласится на роль овечки в зоо-порно-триллере «Забавная ферма», или он все равно будет сниматься в кино, но не по любви, а по принуждению. Гриша всегда знал, что мир кишит извращенцами, но не думал, что однажды сам окажется в их лапах.
– С нами лучше сотрудничать, – намекнул бородатый. – Мы очень влиятельная....
Бородатый погнал колотить понты, но Гришу трудно было запугать гнилым базаром. Он стремительно вскочил на ноги и засветил бородатому кулаком в глаз. Тот закричал и упал на пол. Гриша, ощущая боевой азарт, подбежал к поверженному врагу и пустил в ход ноги.
– Охрана! – выл бородатый.
– С ноги! – восторженно закричал Гриша, и пробил извращенцу пяткой в лоб.
– Прекратите! – воскликнула Ярославна, не пытающаяся, впрочем, лезть в драку.
– Номерок дай. Созвонимся! – предложил Гриша, топчась на бородатом извращенце, как на коврике. – Меня Гриша зовут. Тебя как?
– Ярославна.
– Типа имя красивое. И сиськи ничего. Любишь сосиски в тесте? Давай типа на выходных сгоняем в закусочную «У Арифа». Я угощаю! Сосиски в тесте там классные, и чай всего по червонцу. Крепкий. Ариф больше чем на пять стаканчиков один пакетик не использует. И даже сахар кладет… иногда.
Гриша понял, что пора откланяться. Он познакомился с красивой девушкой, наказал бородатого извращенца, и теперь пришло самое время покинуть это место. Выдав бородатому прощальный пинок по печени, Гриша рванул к двери, но та вдруг распахнулась ему навстречу. В дверях стояли двое крепких мужиков. Один из них смотрел на Гришу спокойно и буднично, по-деловому, а вот второй буквально разделывал его взглядом.
– Это ты, пидор, в меня анализами кинул? – закричал он, выхватывая из кармана шприц.
Гриша сразу все понял: вначале посадят на иглу, а затем продадут в сексуальное рабство. Но предварительно вырежут все пригодные на продажу органы.
Гриша метался по комнате, два агрессивных незнакомца преследовали его. Старый извращенец корчился на полу и что-то хрипел, Ярославна прижалась к стене и старалась не мешать сафари.
Недолго Грише удалось побегать. Громилы схватили его, скрутили, и воткнули в тело сразу два шприца. Тот, что гнал какую-то пургу про анализы, злобно прорычал Грише в ухо:
– За новый костюм ответишь! Знаешь, сколько он стоил? А ведь выбросить пришлось.
Гриша хотел ответить незнакомцу, конкретно хотел называть ему адрес, куда бы тому неплохо было бы прогуляться, но тут перед глазами все померкло, и Гриша опять отключился.
Очнулся он спустя неизвестное время, все на том же столе, но уже связанный. Тот факт, что его связали, Грише польстил: связали – значит уважают.
Перед столом стояли все те же лица – бородатый и Ярославна. Физиономия бородатого была расписана красиво и талантливо, он болезненно морщился и охал.
– Григорий Грязин, – заговорил он, – вы ведете себя неразумно. Я же уже сказал вам, что мы очень влиятельная организация....
Гриша дернулся – так и подмывало навалять бородатому повторно, но ремни, стянувшие его руки и ноги, держали крепко. Мужик, впрочем, все равно в страхе шарахнулся от стола. Гриша самодовольно улыбнулся – точно уважают.
– У вас нет выбора, – трусливо проблеял бородатый. – Или вы будете с нами сотрудничать, или вас ждет смерть.
Прозвучали конкретные угрозы, и Гриша призадумался. Умирать ему не хотелось, но и впутываться невесть во что тоже. Он уже догадался, что все эти люди – наркомафия, а ему хотят навязать роль наркокурьера. Это чтобы он в своей прямой кишке двадцать килограмм героина перевез через границу. Гриша для себя решил так: надо притвориться, что согласен, но при первом же удобном случае набить бородатому морду и дать деру в ближайшее отделение полиции, а там уже сдать всю преступную группировку. Всю, кроме Ярославны. На нее у Гриши имелись другие планы.
– Согласен, – проворчал он. – Что надо делать?
– Вот видите, – самодовольно произнес бородатый, обращаясь к Ярославне. – Контакт налаживается. Главное сразу обрисовать человеку его перспективы.
«Отлупить бы тебя, падлу, бейсбольной битой» – страстно возмечтал Гриша.
Бородатый, между тем, вновь обратился к Грише.
– Скажите, – произнес он, – вы что-нибудь когда-нибудь слышали о параллельных мирах?
Гриша уставился на бородатого с лютой злобой. Он терпеть не мог, когда какой-нибудь перезрелый ботаник начинал умничать в его благородном присутствии. Грише сразу начинало казаться, что его пытаются обидеть, нарочно произнося слова, значения которых он не знает. А обид Гриша не прощал. Никому и никогда.
– Для вас это будет новостью, – продолжил бородатый, – но на определенном историческом отрезке линия пространственно-временного континуума распалась на две ветви, которые ныне существуют параллельно. Одна из ветвей – наш мир, тот, в котором вы родились и живете. Но есть и другая реальность. Параллельная.
Внимательно присмотревшись к бородатому типу, Гриша наконец-то вспомнил, где он уже видел эту рожу. Похожий портрет висел в его школе, в классе русского языка и литературы.
– Лев Толстой? – пробормотал Гриша.
Его реплику никто не расслышал. Толстой продолжал умничать:
– Раскол исторической линии на две параллельные ветви произошел в тысяча восемьсот двенадцатом году, из-за кометы, что пролетела в опасной близости от Земли. По всей видимости, комета оказала какое-то необычное влияние на структуру пространства-времени, но так или иначе, с момента ее пролета в одной точке пространства и в одно время существует два разных мира, чье развитие тоже шло по-разному. Истрию нашего мира вы, разумеется, знаете....
Тут Толстой дал промашку – Гриша не знал истории никакого мира, ни своего, ни чужого. Гриша вообще не любил читать, его буквально ломало от этого занятия. Он считал, что чтение, это хобби лохов, и конкретному нормальному пацану заниматься этим просто стыдно.
– Ну а что касается параллельной ветви реальности, то там все совсем иначе, – продолжил Толстой. – Вместо двух мировых войн там была одна, никакой октябрьской революции не было, а в России до сих пор правят представители дома Романовых. В России монархия, понимаете?
– До жопы мне! – огрызнулся Гриша.
– Развитие той, параллельной, России двигалось в совершенно ином направлении. Там до сих пор существует крепостное право, до сих пор всем владеют помещики, а новейшие достижения науки направлены лишь на то, чтобы еще больше подчинить себе крепостных, окончательно сломив их волю, подавив в зародыше даже мысли о непокорности. Но, возможно, именно благодаря этим суровым мерам в отношении холопов, параллельная Россия выстояла во все шторма двадцатого века, а там, поверьте мне, тоже изрядно штормило.
Гриша понял только одно – Толстой слишком долго задержался на этом свете. Пора мочить умника.
– Профессор, переходите ближе к делу, – попросила Ярославна.
– Да, разумеется, – спохватился Толстой. – Так вот, Григорий, мы принадлежим к древней тайной организации опричников. И нам нужен один древний артефакт – жезл Перуна.
– Я его не брал! – тут же открестился от обвинений Гриша, и следом поспешил подставить друга. – У Скунса в кладовке какая-то палка стоит. Не ваш жезл случайно?
– Жезл был утрачен много веков назад, – раздраженно пояснил Толстой. – Нам известно, что его последним владельцем был жрец Перуна по имени Круча.
– Вот у него и спрашивайте, куда он вашу палку дел, – предложил Гриша. – А меня отпустите. Я вообще чужого не беру.
– Вы не понимаете, – покачал головой Толстой. – За минувшие столетия многое произошло, и очень многие знания, до того бережно хранившиеся в тайных местах, были утрачены. Всех людей, которые могли хоть что-то знать о жезле, расстреляли чекисты, документы пожгли или растащили, на месте древних капищ, отмеченных для верности православными храмами, устроили или бассейны, или казармы, или овощные базы. После столетнего хаоса искать что-то, особенно предмет такой важности и ценности, просто бесполезно. Но, к счастью, существует другая реальность, где никаких революций, гражданских войн, коллективизаций, индустриализаций и прочих непопулярных реформ не было. И в той ветви пространственно-временного континуума гораздо легче обнаружить следы жезла. Вы понимаете?
– Руки развяжите, мне в толчок надо, – прорычал Гриша. – Сейчас вам весь стол оболью, вы понимаете?
– Потерпите, – попросил Толстой. – Скоро вы сможете посетить комнату для мальчиков.
– Мне не надо никакой комнаты для мальчиков! – обиделся Гриша. – Мне надо комнату для крутых перцев.
А про себя подумал: «Я не я буду, если мимо унитаза не навалю и все стены им не орошу».
Гриша решил совершить в уборной подвиг в честь новой возлюбленной – написать струей на стене ее имя, или, в крайнем случае, нарисовать сердечко с подтеками.
– В общем, вам придется отправиться в параллельную реальность, и всеми правдами и неправдами отыскать следы жезла в прошлом. Только так мы сможем обнаружить его в этом мире.
– Это куда ехать-то? – не понял Гриша.
– Никуда, – утешил его Толстой. – Телесный переход из одной ветви реальности в другую невозможен. Но мы в силах переслать туда ваше сознание, и внедрить его в тело вашего зеркального двойника. Зеркальный двойник, это ваша точная копия, обитающая в параллельном мире. Лишь у немногих есть такие двойники, так что нам повезло, что мы нашли вас.
– Погоди с согласием, – осадил Толстого Гриша. – Ты скажи по-русски: куда ехать?
– Я же вам уже объяснил, – теряя терпение, проворчал Толстой. – Мы перенесем ваше сознание в тело вашего двойника, живущего в параллельной ветви реальности.
Гриша понял, что Толстой над ним издевается. Точно так же один ботаник в школе долго мучил Гришу, произнося при нем непонятные слова. Дорого поплатился ботаник за свою подлость. Жестоко наказал его Гриша. И вот, кажется, на его жизненном пути возник еще один умник, срочно нуждающийся в перевоспитании.
– Я базарю – по-людски можно, бля, разговаривать, или чего? – возмущенно прокричал Гриша. – Типа нормально скажи, как пацан пацану – куда ехать, сколько денег заплатите, все такое. Хватит про этот параллельный отстой гнать.
Толстой, судя по всему, собрался подписать себе смертный приговор, опять начав говорить непонятные слова, но тут в дело вмешалась Ярославна.
– Профессор, – сказал она, – позвольте я сама ему все объясню.
– Как угодно, – поднял руки Толстой. – Объясняйте ему, как хотите и что хотите, но завтра утром он должен быть готов к работе.
– Будет готов, – пообещала Ярославна.
Едва Толстой вышел из комнаты, как Гриша спешно озвучил заранее заготовленный ультиматум.
– Или страстный секс прямо сейчас, или я завтра готов не буду! – заявил он решительно и твердо.
Ярославна пристально поглядела на него, затем кивнула головой и пробормотала:
– Хорошо. Будет тебе секс.
Гриша весь аж расцвел от счастья, предвкушая скорый оргазм.
– Сейчас вернусь, – пообещала Ярославна, и тоже вышла. Гриша понял, что девушка отправилась принять душ и раздеться подобающим образом. Весь в предвкушении грядущего счастья он пролежал минут пять. Затем дверь опять открылась. В помещение вошла Ярославна, а вместе с ней какая-то жирная баба лет сорока.
– Это наша кухарка Галина, – представила бабу Ярославна. – Она глухонемая.
Тут Ярославна повернулась к Галине и что-то сказала ей языком жестов. Галина покосилась на привязанного к столу Гришу и плотоядно оскалилась. Гришу взяло беспокойство.
– Типа в чем дело-то? – с тревогой спросил он. – Зачем тут эта жирная?
– Ты же хотел секса, – пожала плечами Ярославна. – Вот и будет тебе секс.
– С ней? – ужаснулся Гриша, уставившись на кошмарную Галину.
– Да, с ней, – подтвердила Ярославна. – Других женщин на базе все равно нет.
– А ты как же? – заорал Гриша, но дверь за Ярославной уже закрылась. А Галина уже надвигалась на него, стаскивая через голову белый поварской халат. Из-под халата вывалился огромный дряблый живот, похожий на мешок с жиром, и Гриша, отчаянно боясь поседеть, закричал, что совсем расхотел любовных утех.
Но напрасно он рвал глотку и дергался, привязанный к столу. Галина была глухонемой и уже три года как разведенной.
Глава 3
Следующим утром Гриша был мрачен и угрюм. Ночь прошла ужасно, такой психологической травмы ему давно уже не наносили. Кошмарная Галина удалилась ближе к полуночи, и Гриша, морально страдая от пережитого полового столкновения с этим чудовищем, попытался уснуть. Однако ремни, стягивающие его конечности, мешали устроиться поудобнее, а затылок упирался в твердую поверхность стола (подушку ему никто не предложил). Промучившись до самого утра, Гриша задремал только перед рассветом, и почти сразу же был разбужен появившейся Ярославной.
– Доброе утро, – поприветствовала его девушка. – Как спалось?
Гриша на одном дыхании выдал все матерные слова, какие знал.
– Вы сами виноваты, – покачала головой Ярославна. – Зачем было кидаться на профессора? Теперь вас считают опасным. А вели бы себя хорошо, спали бы в постели.
– С кем? – тут же поставил вопрос ребром Гриша.
– С Галиной, если хотите. Вы ей очень понравились.
Гриша в ярости заскрежетал зубами. Все происходящее ему решительно не нравилось. Его украли из дома, пытаются заставить работать, обращаются плохо, пытают Галиной, не кормят, и, что самое главное, он ни от кого еще не услышал ни одной конкретной суммы. Что ему причитается за все эти муки? Гриша хотел бы знать это заранее.
– Жрать хочу! – потребовал он, лютым взглядом следя за Ярославной.
– Сейчас придет Галина....
– Не надо Галины! – истошно закричал Гриша, силясь разорвать удерживающие его ремни. – Хватит Галины! Фашисты!
– Да успокойтесь, – поспешила объяснить Ярославна. – Галина вам завтрак принесет.
– А кто-нибудь другой мне не может завтрак принести? – заливаясь слезами, взмолился Гриша.
Тут как раз вошла Галина, несущая накрытый большой салфеткой поднос. На неохватной физиономии поварихи застыло выражение неземного счастья. Грише стало дурно.
– Я развяжу вам руки, – сказала Ярославна. – Ведите себя адекватно. Если начнете буянить, то вас будут кормить с ложечки.
– Кто будет кормить?
– Галина.
– Не стану буянить! – поклялся Гриша. – Слово пацана даю.
Ярославна прищурилась, косо поглядывая на пленника. Похоже, у нее имелись определенные сомнения в нерушимости пацанского слова.
– Пацан сказал – пацан сделал! – заверил ее Гриша.
Ярославна тяжело вздохнула, и решила поверить. Как только Гришины руки оказались свободны, его первым порывом было схватить Галину за толстую шею и удушить, дабы кошмарная ночка не повторилась никогда в будущем. Но Гриша сдержался. Он решил вести себя хорошо, тем самым усыпляя бдительность своих тюремщиков, а вот когда те расслабятся и окончательно уверятся в его безобидности, он им покажет! Всем покажет! И Толстому, и Галине, и двум гоблинам, что его шприцами тыкали.
Галина, загадочно улыбаясь, поставила поднос ему на колени и сняла салфетку. Увидав свой завтрак, Гриша едва не расплакался. Перед ним стояла полная тарелка манной каши, над поверхностью которой, словно айсберг над водами океана, возвышался утопленный в ней кусок маргарина.
– А гамбургеров у вас нет? – жалобным голоском обратился он к Ярославне.
– Гамбургеры, это внедряемая западом отрава, – пояснила Ярославна. – Регулярное употребление в пищу этого продукта может вызвать необратимые генетические изменения.
И добавила:
– Приятного аппетита.
– Дайте хоть бутер с колбасятиной! – заныл Гриша, с детства ненавидящий манную кашу. – Не могу я эту парашу лопать.
– Бутерброд – это не еда, – покачала головой Ярославна. – Люди, питающиеся всухомятку одними бутербродами, рискуют своим здоровьем. Но если вам так не нравится каша, можем предложить на завтрак четыре сырых яйца.
Гриша схватил ложку и, боря рвотные спазмы, стал самозабвенно уплетать кашу. Манная каша всегда ассоциировалась у него с тем, что он неоднократно наблюдал в глубинах унитаза, когда отрывал зад от стульчака, и, обернувшись, изучал результаты своих усилий. Трижды каша лезла обратно, выплескивалась через нос, пыталась залиться в дыхательные пути. Но Гриша не останавливался. Он одной мысли, что его могут попотчевать сырыми яйцами, он готов был сожрать что угодно.
Измучившись, Гриша выскреб тарелку и тяжело повалился на стол. Ему было плохо. Он чувствовал, что каша не прижилась в организме.
– А теперь сок, – сказала Ярославна, протягивая ему прозрачный стакан с мутной светло-зеленой жидкостью. – Натуральный продукт. Укрепляет иммунную систему и очищает организм от токсинов.
Гриша с радостью схватил стакан, ибо чувствовал, что мерзкую кашу необходимо чем-то запить. Но едва он успел сделать пару глотков, как глаза его полезли из орбит, а содержимое желудка наружу. Забрызгав кашей и себя, и стол и Галину, Гриша, хрипя и сквернословя, попытался выяснить, что за отвратительную дрянь ему подсунули.
– Оздоровительный коктейль, – пояснила Ярославна. – Сок полыни, сок чертополоха, лопуховый нектар....
– Чтоб тебя дети на старости лет так кормили и поили! – пожелал Гриша Ярославне.
– Это вы с непривычки, – пояснила девушка. – Ваш организм отравлен химией, ему необходимо очиститься, прежде чем он сможет усваивать натуральные продукты.
– Не хочу очищаться! – заплакал Гриша, представив себе, что отныне его будут кормить только натуральными продуктами. – Дайте мне химии. Дайте мне гамбургер. Полцарства за беляш!
Голодный и злой Гриша, под конвоем уже знакомых ему мордоворотов, проследовал за Ярославной в другое помещение. Это место оказалось интереснее его предыдущей камеры. Повсюду громоздилась непонятная аппаратура, мерцали мониторы, мигали лампочки, а в центре, на небольшом возвышении, стоял деревянный гроб, обитый красной материей. От гроба к приборам тянулись пучки проводов. Гриша, испытывая страх, попятился обратно в коридор, но нежные руки костоломов помогли ему одолеть робость.
Лев Толстой тоже был здесь, и в нетерпении прохаживался от стены к стене. Заметив вошедшего Гришу, он как-то недобро заулыбался.
– Ну, он готов? – спросил Толстой у Ярославны. – Сделаем пробный запуск, проверим психическую совместимость и устойчивость канала.
– Нужно хотя бы объяснить ему, что его ждет в той ветви реальности, – в негодовании произнесла Ярославна. – Он же окажется в совершенно ином мире, о котором ничего не знает.
– Да он вообще ни о чем ничего не знает, – проворчал Толстой. – Его учить, что мертвому… пятки щекотать. Сам разберется, на месте. Жить захочет – разберется.
Повернувшись к Грише, Толстой указал рукой на гроб, и предложил:
– Ложитесь.
Гриша опешил.
– Чего? – пробормотал он. – Куда ложиться?
– В гроб.
– В дубовину? Да вы что, вообще охренели? Я туда не лягу!
Крепкие руки гоблинов упали на Гришины плечи, и парень понял, что погорячился с категоричными заявлениями.
– Ляжешь, – сказал ему на ухо один из гоблинов, тот самый, что на своем новом костюме изведал убойную силу фекальной гранаты. – Как миленький ляжешь. А не ляжешь, мы тебе ноги переломаем.
– И руки, – добавил второй. – Чтобы дерьмом больше не кидался.
Костоломы на пинках подвели Гришу к гробу. Гриша дрожал. Он был в известной мере суеверен, и лежание в гробу считал дурной приметой.
– Зачем в гроб-то? – бормотал он побелевшими губами.
– Специальный ложемент еще не изготовили, – пояснила Ярославна, нажимая на пульте какие-то кнопки. – Пришлось импровизировать. Хотели вначале диванчик купить, но тут рядом бюро ритуальных услуг, а у них как раз акция была, большие скидки....
– Скупердяи! – простонал Гриша, с ужасом укладывая себя в деревянный ящик. Гоблины отошли, над ним склонилась Ярославна, и стала подключать к его телу какие-то провода.
– Током не ушибет? – забеспокоился Гриша.
– Не должно, – как-то неубедительно ответила Ярославна. – Хотя вот ягодичный кабель время от времени замыкает.
С этими словами она подключила один из проводов к Гришиному заду.
– Жопу-гриль хочешь приготовить? – простонал Гриша. – Что со мной будет? Пытать станете?
Ярославна, прицепив последний «крокодил» к Гришиному уху, ответила:
– Все будет нормально, ничего не бойся. Помни, то тело, в котором ты окажешься, оно не твое. И что бы с ним ни происходило, это не важно. Но тебе следует беречь то тело, потому что если оно погибнет, ты окажешься бесполезен, и профессор прикажет тебя убить каким-нибудь изуверским способом.
– Умеешь ты подбодрить в трудную минуту, – проворчал Гриша. – А если честно – что сейчас будет?
– Твое сознание перенесется в иную реальность, и войдет в тело твоего зеркального двойника. То есть там, в иной ветви реальности, тоже живет Гриша Грязин, мы блокируем его личность, а ты получишь полный контроль над его телом. Но запомни – там все иначе. Постарайся не делать глупостей. Постарайся вначале вообще ничего не делать. Присмотрись, освойся, ни с кем не конфликтуй. Помни, что твоя основная задача, это сбор информации о местоположении артефакта. Ты должен выяснить, где жезл Перуна находился перед отечественной войной двенадцатого года.
– А зачем вам этот жезл? – спросил Гриша, чисто чтобы потянуть время. Из мутных объяснений Ярославны он понял только одно – что бы с ним ни сделали, ему это точно не понравится.
– Жезл Перуна – могущественный артефакт древности. Ты знаешь, кто такой Перун?
– Ясен пень! Не в лесу вырос. Хороший коктейль. Помню, мы со Скунсом этим Перуном до зеленого поноса ужрались.
– Да нет, это не тот Перун, – отмахнулась Ярославна. – Перун, это древний языческий бог, бог грозы.
– Точно! – обрадовался Гриша. – На бутылке тоже были молнии нарисованы....
– Ну, все, хватит! – прикрикнул Лев Толстой, и Ярославна, пожелав Грише удачи, отошла от гроба. Два гоблина подтащили крышку и стали опускать ее на место.
– А крышка-то зачем? – испугался Гриша.
– Затем, чтобы ты, гад, не сбежал.
Крышку опустили, затем Гриша услышал грохот – это забивали гвозди. В этот момент Гриша впервые серьезно пожалел о том, что сгоряча отметелил Толстого. Нужно было вести себя тихо, глядишь, и отношение было бы иное.
Снаружи глухо звучали знакомые голоса. Толстой крикнул:
– Запуск.
Гриша стиснул зубы и зажмурил глаза – приготовился ощутить своей пятой точкой электрический разряд мощностью в пять тысяч вольт. Но вместо этого ощутил, что проваливается куда-то через пол, затем ниже и ниже, сквозь землю, и вот уже несется со скоростью пули прямо в центр планеты, к железному ядру Земли.
– Да пошло оно все… – закричал он прощально, а затем яркая вспышка поглотила и его и прозвучавшее в космической пустоте пожелание.
Глава 4
– Ты что, животное, спишь? Скотина, я к тебе обращаюсь! Ах ты падаль безмозглая....
«Во кого-то комплиментами осыпают» – сквозь муть в голове подумал Гриша, слыша долетающие из внешнего мира гневные слова. Он с трудом пошевелился, пытаясь привести мысли в порядок, но вдруг что-то твердое, тяжелое и болезненное со страшной силой вонзилось в его бок.
– Мать… – закричал Гриша, скрутившись калачиком. – Суки… Порву! Изувечу!
– Что? – прогремел над ним не столько разгневанный, сколько удивленный голос.
Гриша распахнул глаза и уставился вверх. Прямо над ним навис дюжий мордоворот с широченной красной харей и огромным животом. В руке у мордоворота был кнут.
– Что ты сейчас сказал, холоп? – переспросил страшный незнакомец.
Гриша взвесил все аргументы «про» и «контра», и пришел к выводу, что лучше не пороть горячку.
– Ничего не говорил, – промямлил он. – Так, маму вспомнил.
– Встать!
Гриша с трудом поднялся на ноги. Голова кружилась, во рту был солоноватый привкус, бок, вошедший в тесный контакт с огромным сапогом громилы, чудовищно болел. Моргнув трижды кряду, Гриша нормализовал зрение, и огляделся.
Он стоял посреди какого-то поля, рядом с ним на земле валялась лопата. Поблизости самоотверженно трудились заморенные мужики в лохмотьях, смахивающие телосложением на узников Бухенвальда из нацистской кинохроники. Мужики, обливаясь потом, ковыряли тупыми и кривыми лопатами твердую, как камень, землю, вены на тощих, покрытых тройным слоем грязи и пыли, руках вздувались так, что едва не прорывали загорелую кожу. Еще Гриша отметил одну немаловажную деталь, а именно то, что все труженики как-то единодушно не проявляли ни малейшего любопытства. То есть тут, рядом с ними, кого-то пинают сапогами, а они не бросают работу и не бегут на это жадно смотреть, более того, не вытаскивают мобильники и не снимают все это на память. Как долбили лопатами землю, так и долбят, не поднимая глаз.
Осмотревшись по сторонам, Гриша заметил вдалеке какие-то строения, чуть сбоку большой пруд, а по другую сторону темнеющий лес или рощу. Как он попал в это хрен знает где Гриша вспомнить не мог. Только что он лежал в гробу, и вдруг очутился в чистом поле.
– Слышь, мужик, я где? – спросил он у мордатого здоровяка.
Вместо ответа кулак собеседника заставил Гришу прилечь обратно на землю.
– Да кончай, блин, уже! – разозлился Гриша, сплевывая кровавую слюну. – Ответить, что ли, трудно?
Здоровяк вытащил из кармана какой-то прибор с антенной, похожий на рацию, и сказал в него:
– У меня тут случай бунтарства. Высылайте воспитателей.
– Не надо воспитателей! – прокричал Гриша, пытаясь воздвигнуть себя на подкашивающиеся ноги. – Я уже того… воспитанный. Да что, блин, происходит, а? Эй, мужики?
На этот раз он обратился не к агрессивному здоровяку, от которого, как уже понял Гриша, ничего, кроме побоев, не дождешься, а к другим работягам, таким же, как и он сам. О том, что он тоже работяга, Гриша догадался по своей одежде – на нем были такие же лохмотья, как и на прочих тружениках.
– Мужики, где я? – прокричал он. – Ау? Мужики? Вы что, уши с утра не мыли?
Вдалеке замаячил столб пыли, который стремительно вырос в автомобиль неизвестной Грише марки. Из тачки выпрыгнули трое крепких парней и направились к нему. Гриша нутром почувствовал, что сейчас его начнут воспитывать методами, отнюдь не одобренными министерством образования.
– Который холоп бунтарствует? – спросил один из прибывших у мордоворота.
– Да вот этот.
И толстый палец здоровяка указал прямо на Гришу.
Не успел невинно оклеветанный и рта раскрыть в свое оправдание, как его уже грубо схватили за руки и потащили к автомобилю. Засунули не в салон, а в багажник, где не было никаких сидений, так что Гриша уронил зад прямо на грязный пол. Автомобиль тронулся, Гриша, стиснув зубы, чтобы не откусить язык на ухабах, жадно таращился в пыльное окно, желая поскорее понять, куда занесла его нелегкая.
Автомобиль направился к группе строений, которую Гриша заприметил сразу. При ближайшем рассмотрении это оказалось чем-то вроде усадьбы, где главенствующую роль занимал огромный красивый особняк в три этажа, с колоннадой, с балкончиками, с высокой башенкой, украшенной острым шпилем. Скромный домик был обнесен декоративным забором, а уже вокруг него расположились иные строения, менее шикарные и явно предназначенные не для хозяев жизни. Гриша заметил людей, таких же грязных и заморенных, как и в поле. Тут были сплошь мужчины, детей и женщин не наблюдалось.
«Попал в рабство к олигарху» – смекнул Гриша, который слышал о чем-то таком от друга Скунса.
Автомобиль остановился напротив большого сарая, крепыши вытащили Гришу из багажника и поволокли внутрь.
Как Гриша и подозревал, процедура воспитания главным образом заключалась в агрессивном воздействии на его организм. Вначале его высекли кнутом, затем один из воспитателей схватил черенок от лопаты, и изо всех сил ударил им Гришу по заднице. Черенок переломился надвое, задница, как показалось Грише, на сорок пять кусков. Гриша с истошным криком повалился на солому. Нависший над ним изверг прорычал:
– Встать!
Чудо, но Гриша молниеносно оказался на ногах, забыв обо всех болячках.
– Бунтовать, значит, вздумал? – люто вращая глазищами, спросил садист, и прижал к Гришиному носу свой огромный натруженный кулак. Гриша изучил этот кулак, понюхал, чем тот пахнет, и пригорюнился. Нет, эти руки никогда не держали лопаты, молотка, дрели или иного инструмента. Всю свою долгую жизнь эти кулаки занимались только одним делом – чесались о живых разумных существ.
– Супротив барина своего бунтуешь? – заорал другой садист. – Супротив наместника божьего на земле? Ах ты нехристь!
Гришу опять принялись бить, но уже без прежнего азарта.
– К ветеринару захотел? – орали на него. – Устроим! Он тебя живо покорным сделает.
– Да я покорный, покорный, – бормотал Гриша, пытаясь закрыть от ударов голову.
Его схватили за волосы и потащили к огромной деревянной колоде. Один из извергов взял прислоненную к стене оглоблю. Гриша понял, что это пришла его смерть. Ко всем она приходит с косой, а к нему явилась с оглоблей наперевес.
Охваченный страхом, Гриша, уже мало что соображая, весь отдался во власть инстинкту самосохранения.
– Барина люблю очень! Люблю кормильца! Люблю отца родного! – затянул он навзрыд, не выходя из состояния аффекта. – Простите ради Христа, бес попутал, не сам согрешил.
Его уже уложили на колоду, садист уже занес оглоблю для удара, но услыхав искренние слова раскаяния, передумал.
– Одумался? – спросил у Гриши один из костоломов.
– Одумался, одумался, – тупо кивал Гриша.
– Раскаялся?
– Раскаялся, раскаялся....
– Тогда расскажи нам кредо холопа.
Гриша молчал – на этот вопрос он не знал ответа.
– Ну, что молчишь, животное? – ударил его по голове один из садистов. – Забыл, да?
– Да в их тупых головах ничто дольше одного дня не держится, – махнул рукой второй. – Эй, православный, слушай и запоминай. Завтра спрошу – если не ответишь, я тебя к ветеринару отправлю. Слушаешь?
Гриша кивнул.
– Слушай. Кредо холопа состоит из трех правил. Правило первое: послушание – залог здоровья. Правило втрое: рожденный холопом – холопом и помрет. И правило третье: курица не птица – холоп не человек. Запомнил, скот?
– Запомнил, – промямлил Гриша распухшими кровоточащими губами.
– Повтори!
Гриша кое-как повторил, пять раз сбивался, пять раз его за это избивали, но в итоге садисты все же проявили милосердие, решили, по их словам, дать ему второй шанс.
Окровавленного, чуть живого Гришу окатили из ведра ледяной водой и велели идти на кормежку. Гриша, едва держась на ногах, выполз из сарая, и услышал звук сирены, разносящийся по всей округе. Затем он заметил грязных тощих мужиков, бредущих к небольшому строению метрах в ста от воспитательного сарая. Не видя иного пути, Гриша побрел туда же, куда и все.
Возле сооружения, своей неряшливостью похожего на свинарник, собралась изрядная толпа мужиков, человек с полсотни. Гриша, чуть живой после пережитой воспитательной процедуры, приблизился к толпе и, не смешиваясь с ней, остановился в сторонке. Его неудержимо тянуло присесть, а лучше так прилечь, но что-то подсказывало ему, что делать этого не следует. Помутившимся от побоев взглядом он наблюдал за собравшимися людьми. Публика подобралась утонченная, в том смысле, что болезненно-худая. Грише опять вспомнились кадры хроники из нацистского концлагеря. На всех собравшихся были надеты какие-то рваные лохмотья, грязные до омерзения. Что важно – ни у одного не было никакой обуви, люди твердо стояли на земле, упираясь в нее грязными ногами с огромными черными ногтями. Еще Гриша заметил одну особенность местной публики – от публики зверски воняло. Даже сквозь опухший от прямого попадания кулака, забитый засохшей кровью нос, Гриша ощутил жуткий смрад пота и испражнений. Глянув на ближайшего мужика – дистрофика с огромной бородой до пупа, Гриша увидел у того спереди на штанах обширное желтое пятно. Гадать о природе этого пятна долго не пришлось. А когда мужик повернулся спиной, Гриша, без особого удивления, обнаружил с противоположной стороны аналогичных размеров коричневое пятно.
Обычно, когда люди собираются в кучу больше двух, они тут же начинают безостановочно говорить всякую ерунду, и чем больше толпа, тем громче производимый ею шум. Но в данном случае ничего подобного не было. Мужики стояли молча, не издавая ни звука. Никто не с кем не разговаривал, даже шепотом, даже не обменивались никакими знаками. На всех лицах застыло одно и то же выражение – выражение ученика, вызванного к доске отвечать невыученный урок. Пустые глаза смотрели на мир без тени эмоций. Если бы все эти люди не шевелились и не дышали, их можно было бы принять за манекенов.
Гриша по-прежнему не понимал где он и что происходит. В иной ситуации он бы уже подошел к мужикам и стал их расспрашивать, но воспитательная процедура в сарае кое-чему его научила. Например, тому, что рот следует открывать с осторожностью, тщательно обдумав готовые вырваться из него слова. И все же Гриша нащупал глазами молодого парня, своего ровесника, чье лицо показалось ему наименее тупым. Он решил подойти к нему и тихонько заговорить, не привлекая внимания остальных, но тут в сарае, перед которым они толпились, распахнулось окошко, и властный голос крикнул:
– В очередь, скоты!
Неорганизованная, хаотично сформированная толпа в мановение ока вытянулась в идеально ровную линию. Гриша оказался где-то посередине очереди, хотя мог бы пробиться и ближе к окошку. Но лезть на передовую не хотелось, ведь неизвестно, что именно ожидает его в конце пути.
Очередь продвигалась быстро, и вскоре Гриша выяснил, что они стоят за едой. Отходящие от окошка оборванцы имели в руках синие пластиковые тарелки, из которых что-то жадно вылавливали руками и пихали в рот. Только теперь Гриша понял, что он зверски голоден. Где бы он ни оказался, что бы с ним ни произошло, прежде, чем искать ответы на все эти сложные вопросы, следовало подкрепить силы.
Вот стоявший перед ним человек получил свою порцию, и Гриша оказался у заветного окошка. Оттуда немедленно вылезла волосатая рука, и протянул ему миску. Гриша взял ее, заглянул в нее, и подумал, что у него галлюцинации.
В синей пластиковой миске, старой, грязной, надкусанной в четырех местах, плескалась мутная вода, в которой плавали такие очаровательные ингредиенты, как картофельная кожура, шелуха от лука, нечто неопознанное, похожее на сопли, а на дне белела яичная скорлупа.
Не очень понимая, что происходит, Гриша подошел к мужику, который жадно хлебал из своей миски, и изучил его порцию. Ошибки не было – всем остальным дали то же самое фирменное блюдо, что и ему.
– Что это за помои? – невольно простонал Гриша, с омерзением глядя на мужиков, жадно, с аппетитом, пожирающих то, что не стали бы есть и свиньи.
Рядом появился тот самый парень, с которым Гриша планировал заговорить. Юноша показался умнее прочих, но когда он залпом осушил свою миску, зычно рыгнул и, завершая комбинацию, пустил задом гром и молнии, Гриша понял, что ошибся в человеке.
– Тут всегда так вкусно кормят? – все же спросил он у юного интеллигента.
Парень уставился на Гришу как на новые ворота с еще не высохшей краской. Рот его приоткрылся, из-под нижней губы по подбородку хлынул поток слюны, которая дождем закапала прямо на грязные ступни.
– Эй, зомби, ты живой? – позвал Гриша, с беспокойством поглядывая на своего нового друга. – Я спрашиваю: тут всегда такая кормежка?
– Важно поснедали, – вдруг распевно протянул паренек, у которого оказалась чудовищная дикция.
– А на ужин что? – спросил Гриша.
– Отрыжник.
Гриша даже не стал выяснять, что такое загадочный отрыжник. Название блюда говорило само за себя.
Тут он заметил четверых мужиков, отличающихся прямо-таки отвратительной худобой, и похожих на девушек, которые в погоне за конкурентоспособной внешностью загоняют себя в могилу всякими изуверскими диетами. Эти четверо не стояли в очереди, они сидели у стены сарая и с безразличным видом жевали покрытую пылью траву, которую рвали тут же.
Процесс кормления занял всего минут двадцать, после чего все торопливо сдали свои миски обратно. Гриша незаметно вылил помои под стену сарая, и, избавившись от пустой миски, остановился на месте, не зная, куда ему идти. Естественным желанием было дать отсюда деру, но Гриша не знал, в какую сторону надо бежать, чтобы скорее добраться до лучшей жизни. Всюду, куда он ни устремлял взгляд, простирались возделанные поля, вдалеке чернел лес, но до него было слишком далеко. Рвани он туда, догонят на автомобиле, сунут в багажник, отвезут в сарай повторно и опять подвергнут воспитательной процедуре.
– Эй, ты, скот, – прозвучал вдруг рядом с ним чей-то громкий властный голос.
Гриша вздрогнул, и повернулся лицом к источнику хамства. Перед ним стоял крепкий розовощекий мужик с короткой бородкой, сносно одетый и даже в сапогах. В правой руке у дяди был кнут.
– Что, оглох? – злобно спросил бородатый.
Гриша терпеть не мог, когда кто-то грубил ему, и всегда отвечал на грубость адекватно, а зачастую и неадекватно. Но воспитание в сарае не прошло даром. То, что не смогли сделать учителя за десять лет его пребывания в школе, трое громил сделали за десять минут.
– Слышу, – робко отозвался Гриша, опасаясь новых побоев.
– Иди за мной! – приказал мужик с кнутом.
Гриша покорно поплелся следом за проводником, на ходу гадая, куда и зачем его ведут. Когда они миновали воспитательный сарай, Гриша испустил могучий вздох облегчения. Дальше простирался пустырь, на его дальней оконечности высилась огромная куча ядреного навоза. В кучу были воткнуты вилы, рядом стояла тележка, вся ржавая и мятая, чье колесо было скорее квадратной, нежели круглой формы. Бородатый начальник указал пальцем на кучу, и произнес:
– Грузишь навоз в тележку и перевозишь вон туда.
И указал место передислокации навоза. Оно оказалось метрах в двадцати от кучи.
По мнению Гирши, работы тут было на три недели, но сроки, озвученные руководством, оказались несколько иными.
– Время тебе до вечера, – сказал он. – Не уложишься, получишь десять ударов кнутом и останешься без ужина. Вперед!
Выдав Грише аванс в виде звонкого подзатыльника, начальник, насвистывая, удалился. Гриша с ужасом посмотрел на огромную кучу навоза. Три дюжины коров должны были хорошо кушать целый год, чтобы произвести столько натуральных удобрений. Пустой желудок лип к ребрам, в глазах то и дело темнело. Гриша уже успел пожалеть, что вылил обед на землю. Помои, конечно, но совсем без еды он долго не протянет. Если еще и с ужином пролетит, то завтра рискует не встать на ноги.
Перспектива голодной смерти пробудила в Грише несвойственное ему прежде трудолюбие. Он схватил вилы и стал торопливо наполнять тележку навозом. Вилы оказались корявые и тупые, они упорно не хотели вонзаться в навоз, тележка, едва он загрузил ее до половины, подло перевернулась на бок. Грише захотелось заплакать, и он не стал сдерживать своих желаний. Все, что происходило с ним, напоминало страшный сон, с той лишь разницей, что в страшном сне никогда не бывает так страшно. Гриша восемь раз ущипнул себя за бедро, дважды за руку, трижды за ухо и даже разок за самое свое святое место. После крайне болезненного осквернения святыни отпали последние сомнения – он не спал. Весь этот кромешный ад происходил наяву.
– Да где, блин, я? – в полном отчаянии простонал Гриша.
Еще Грише очень жаждалось выяснить, кто во всем этом виноват, и что с этим виноватым следует болезненное сделать. Но вечные вопросы остались без ответа, а кушать, тем временем, хотелось все сильнее. Гриша понял, что нельзя разгадывать тайны мироздания, когда в твоей утробе воцарился вакуум. Единственный же путь к устранению этого вакуума лежал через огромную кучу навоза. Зловонная куча нагло развалилась между Гришей и сытостью. Всего полчаса назад от одного слова «отрыжник» Гришу едва не вывернуло наизнанку, теперь же он страстно мечтал отведать этот дивный деликатес.
Делать было нечего. Подняв тележку, Гриша вновь взялся за дело. Куча навоза была велика. Это была настоящая гора, и, вонзая в нее вилы, Гриша глубже понял смысл выражения – горы свернуть. Ему тоже предстояло свернуть гору, и не просто свернуть, но и переместить ее на другое место.
Под верхней засохшей коркой скрывалась сочная свежая начинка. Стоило добраться до нее, и в обе Гришины ноздри радостно и бодро ворвался аромат сельской местности. Гриша не был неженкой, не падал в обморок от запаха пота, и не бился в падучей при слове «перхоть». Даже зубы свои Гриша чистил не регулярно, а только когда шел на свидание. Но даже у него из глаз брызнули слезы, стоило глубоко вдохнуть благоухание натурального продукта.
Первая тележка наполнилась, и Гриша, кряхтя от натуги, покатил ее туда, где куче надлежало быть в будущем. Бесформенные колеса глубоко проваливались в мягкую землю, скользкие ручки тележки так и норовили вывернуться из слабосильных пальцев. Над зловонным грузом кружились привлеченные поживой мухи, иные из них садились на Гришу, нагло лезли в нос, в глаза, в уши. Ужасно хотелось Грише бросить тележку, и показать этим мухам, кто в доме венец творения. Но Гриша понимал – стоит поставить тележку, и она тут же перевернется на бок, а весь нагруженный в нее навоз окажется на земле. И вновь придется собирать его, тратить время, а, меж тем, куча, ждущая своей передислокации, еще так запредельно велика.
Страдая от невыносимого голода, Гриша с нежностью и теплотой вспомнил те яства, которыми потчевала его бывшая девушка. Машка не умела готовить. И не пыталась учиться. Не пыталась, главным образом, потому, что сама себя считала знатной поварихой, а свою стряпню – кулинарными шедеврами. Гриша, до знакомства с ней, наивно полагал, что испортить обычную яичницу выше предела человеческих возможностей. Но подруга развеяла это заблуждение. Она приготовила такую яичницу, что ее не стали бы применять для пыток военнопленных сотрудники Гестапо, потому что даже их жестокость знала границы. А когда она однажды испекла торт, Гриша, отведав его, решил, что пробил его смертный час. С ее экзотического салата из овощей Гришу несло три дня и три ночи, а жареным мясом в ее исполнении Гриша так подавился, что даже успел посинеть, прежде чем до Машки дошло стукнуть его кулаком по спине.
В то время стряпня подруги воспринималась Гришей как своеобразная плата за секс. Он соглашался потреблять всю эту гадость, при этом старался не морщиться и не плеваться, а взамен получал то, что хотел. Теперь же он готов был слопать любое Машкино блюдо вместе с тарелкой и самой Машкой.
Вывалив тележку, Гриша покатил ее обратно. Перевезенная им доля навоза составляла крошечную кучку на фоне той горы, что ему еще предстояло перевезти. На Гришу нахлынуло отчаяние. Зачем он обманывал себя, зачем тешил несбыточными надеждами? Пришла пора взглянуть правде в глаза: ему не видать сегодня ужина.
Гриша присел на землю и обхватил голову руками. Он никак не мог сообразить, как попал сюда, и что это за место. Последние несколько дней словно вывалились у него из памяти. У Гриши возникла версия, что он зверски напился до утраты сознания, и его, невменяемого, тайно похитили и увезли невесть куда, то бишь в рабство. Однако интуитивно Гриша чувствовал, что дело куда серьезнее.
Не успел он толком пораскинуть мозгами, как рядом с ним загремели шаги, а затем по Гришиной сгорбленной спине смачно прошелся кожаный кнут.
– Твою мать! – заорал Гриша, взвиваясь на ноги.
– Тебе кто сидеть разрешал, скот? – злобно глядя на него крошечными свиными глазками, спросил невесть откуда возникший мужик с кнутом, принадлежащий к числу здешних надзирателей.
– Да я так… перекуриваю… – промямлил Гриша, все еще морщась от плеточного послевкусия.
– Что ты делаешь? – прищурившись, спросил бугай.
Гриша, резко вспотев, вдруг понял, что ляпнул что-то не то. Похоже, чем-то не тем было слово «перекуриваю». Только сейчас Гриша вспомнил, что никто из оборванцев не курил во время обеда.
– Ничего, – тихонько пропищал Гриша.
– Ничего? – взревел садист, и его рука, взметнувшись со скоростью молнии, еще раз попотчевала Гришу кнутом. – Ты, животное, смеешь ничего не делать? Да ты смутьян!
Гриша не видел ничего страшного в слове смутьян, но тот тон, каким это слово было произнесено, заставил его коленки задрожать. Парень понял, что в его адрес только что прозвучало очень серьезное обвинение, а за серьезные обвинения, как правило, серьезно наказывают. Гриша в ужасе гадал, что его ждет – еще один визит в воспитательный сарай, или нечто иное, куда более суровое – как вдруг бугай выдал такое, что у смутьяна волосы зашевелились по всей поверхности тела.
– Ах ты, нехристь! – вдруг взвыл бугай, взирая на Гришу со смешанным чувством ненависти и страха. – Да ты ж безбожник!
Эти новые обвинения, никак, на первый взгляд, не связанные с прежними, довели Гришу до состояния паники.
– Я верующий! – закричал он истошно. – И не смутьян. Я хороший!
– Почто против бога идешь? – заорал на него надзиратель.
И опять Гриша не понял, каким именно своим поступком он пошел против бога. Не тем ли, что забил на навоз и сел отдыхать? Перевоз продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота трудно было назвать богоугодным делом, но Гриша слабо разбирался в вопросах религии. Он хотел внести ясность и задать своему собеседнику вопросы, способные пролить свет на творящееся вокруг непонятно что, но собеседник не пожелал продолжать разговор в рамках цивилизованных норм. Вновь засвистел кнут, и всякий раз это воспитательное орудие находило Гришино мясо. Крича и плача, Гриша свалился на землю и закрыл лицо руками, дабы гуляющая по его телу плетка не выбила ему глаза.
– Вот тебе, нехристь! Вот тебе! – усердствовал душегуб.
– Помогите! – закричал Гриша, утративший способность соображать. – Милиция… Тьфу ты! Полиция!
– Ага! – вдруг обрадовался садист. – Понял свою вину, иуда! В полицию просишься. Я из тебя, нехристь, все смутьянство выколочу, ты у меня не то, что в полицию, к ветеринару запросишься. Против бога идешь! Против барина своего, божьего наместника на земле!
– Ни против кого я не иду, – простонал Гриша с земли. – Я хороший, хороший....
– Не верю! Ты делом докажи, что хороший. Православным подвигом. Вот перетаскаешь за сегодняшний день эту кучу, дам тебе второй шанс, а нет – завтра же выпишу тебе направление к ветеринару. Понял, скот? Пока кучу не перетаскаешь – спать не ляжешь. А если я еще раз увижу, что ты, ирод, бездельничаешь, я тебя, без всякого ветеринара, своими руками перевоспитаю. Оторву тебе все смутьянство под корень. Ясно?
– Ясно, ясно, – простонал Гриша.
– А если ясно, то какого лешего ты разлегся? А ну встал бегом, и за работу!
После этих слов Грише был выдан стимулирующий пинок в бок и еще один по заднице, в качестве бонуса за расторопность. Находясь в состоянии клинической паники, растерянный, испуганный, доведенный до крайней степени отчаяния, Гриша, спотыкаясь, бросился к тележке, схватил ее, и стал изо всех сил доказывать, что второй шанс ему дали не зря. Надзиратель какое-то время стоял и наблюдал за его работой, затем бросил еще парочку угроз, и направился куда-то по своим делам.
Навозная эпопея завершилась примерно в полночь. Безоблачное небо засыпали мириады звезд, в центре повисла огромная Луна, залившая весь мир мертвенно-белым светом. В этом свете тощий, грязный, чуть живой от усталости и голода Гриша напоминал выходца с того света. Рожая задом ежей против шерсти, он кое-как дотащил до места последнюю тележку, вывалил ее, и сам, обессилев, рухнул следом в результат своих же трудов. Грише уже было все равно, что его физиономия вошла в соприкосновение с навозом. Грише даже было все равно, что с ним будет завтра, и настанет ли оно вообще, это завтра. Сожалел он только об одном – что не уложился в срок и пропустил ужин. Единственное, что сейчас хотел Гриша, это порцию горячего наваристого отрыжника. Ради нее он был готов на все, даже умереть, если потребуется. И он решился.
Из последних сил воздвигнув себя на подкашивающиеся ноги, Гриша потащился к сараю, из которого осуществлялась раздача еды. Гриша готов был вломиться внутрь и сожрать все, что там найдется, а потом пускай уже делают с ним все, что хотят – сытому и помирать не страшно – но когда он обогнул одно из строений, то увидел возле раздаточной толпу мужиков. Это были все те же оборванцы, а в руках у них были все те же миски.
Едва не падая от полного бессилия, Гриша подбежал к окошечку и сунул в него алчущие руки. Но вместо миски с едой по этим рукам, судя по ощущениям, кто-то ударил палкой.
– Куда тянешь культяпки, скот? – глухо прозвучало изнутри.
– Я успел! Успел! – бормотал Гриша, дуя на отбитые пальцы. – Я жрать хочу.
– Раздача окончена, – прозвучало из сарая. – Опоздал. Получаешь внеочередную порцию лечебного голодания.
Гриша собрался протестовать, но вовремя прикусил себе язык. Протесты в том месте, куда его занесла нелегкая, были не только бесполезны, но и опасны: за них били.
Гриша попытался выклянчить немножко еды у таких же бедолаг, как и он сам, но мужики в ответ на его просьбу поделиться с ним пайкой, смотрели на просителя с безграничным удивлением. Казалось, что Гриша просил у них не две ложки отрыжника, а интимных услуг по льготному тарифу. Никто даже не попытался поделиться с ним. Гриша остался голодным.
После ужина прозвучал звуковой сигнал, и все, в том числе и Гриша, потащились к большому, похожему на хлев, строению. Внутри оно тоже мало отличалось от обиталища скотины. На земляном полу была набросана грязная солома, и на этом перечень мебели заканчивался. Сквозь дыры в стенах можно было просунуть руку, сквозь дыры в потолке вести астрономические наблюдения. Только одна деталь указывала на то, что в этом хлеву обитают люди – большой телевизор, повешенный на одну из стен.
Оборванцы стали укладываться прямо на солому, иные падали на голую землю. Гриша, лишившись остатков сил, повалился там, где стоял и сомкнул глаза. Последней мыслью его было: вот бы завтра не проснуться!
Глава 5
Послышался скрежет, треск, затем в глаза Грише ударил нестерпимо яркий свет. Сгоряча он решил, что умер, и теперь его душа входит в рай, но тут над головой возникли уже знакомые лица – Льва Толстого, Ярославны и двух гоблинов.
– Лазарь, иди вон! – торжественно призвал Толстой, и ехидно ухмыльнулся.
Гриша, не сдерживая рыданий, кое-как выполз из гроба и как был, на четвереньках, побрел к выходу. Пронаблюдав за ним, Ярославна метнула на Толстого негодующий взгляд, и резко произнесла:
– Я же говорила – необходим хотя бы поверхностный инструктаж. Вы посмотрите на него – человек в глубоком шоке. От него не будет никакой пользы, если он сойдет с ума, а до этого, судя по его состоянию, осталось два-три сеанса.
– Не сгущайте краски, – отмахнулся от Ярославны Толстой. – Паренек крепкий, и не такое выдержит. Да, Григорий?
Гриша, размазывая по лицу гремучую смесь слез, слюны и соплей, сквозь рыдания промямлил:
– Можете меня хоть убить, хоть в турецкий бордель продать, но я туда ни за что не вернусь!
– А за миллион долларов? – змием-искусителем прошипел Толстой.
Гриша резко прекратил истерику. Все чудовищные воспоминания об ином мире мгновенно вынесло у него из головы одно единственное волшебное словосочетание – миллион долларов. Гриша забыл обо всем. То есть, вообще обо всем. Перед его глазами замаячил окруженный божественным ореолом кейс из крокодиловой кожи, под завязку набитый зелеными банкнотами. Гриша ощутил боль в груди, и понял, что это стрела амура пронзила его сердце. Это была любовь. На самом деле, он всегда любил только этот кейс, с самого своего рождения. Все прочие его интересы, такие как пиво, телки и игровые автоматы, были жалкими пустышками, имитаторами счастья, и лишь он один, миллион долларов США, мог вознести его на вершину блаженства, на Олимп наслаждения, на Эверест крутости и на Килиманджаро оргазма.
– Выполните свое задание, и миллион ваш, – сказал Толстой. – Мы не бедные и не жадные. Мало одного, заплатим два.
Гриша только-только успел свыкнуться с мыслью, что он отныне является обладателем миллиона долларов, как вдруг ему на голову свалился второй миллион. Парень застонал и схватился за сердце – оно готово было разорваться в груди от захлестнувшего его чувства безграничного счастья. Два миллиона долларов! Два! Дважды осуществившаяся заветная мечта!
Перед Гришиными глазами замелькали восхитительные картины его счастливого будущего, одна заманчивее другой. Он увидел себя на запредельно крутой вилле, отдыхающим в шезлонге у бассейна. По правую руку от него из земли торчала труба с краном – это был его персональный пивопровод, протянутый прямиком с пивзавода. По левую руку стоял автомат, по желанию выдающий чипсы, сухарики, арахис или фисташки. Где-то между автоматом, дарующим вкуснятину, и левой рукой Гриши раскинула свои очаровательные формы Ярославна. Формы были прикрыты лишь символическим нескромным купальником. Девушка взирала на Гришу влюбленными глазами и была готова в любой момент воплотить в жизнь любую его сексуальную фантазию. За бассейном по газону на четвереньках ползал Лев Толстой и зубами подстригал травку. Откуда-то доносилось бодрое шуршание – это два драчливых гоблина надраивали высеченный из целого кристалла алмаза унитаз шефа своими зубными щетками. Над забором, огораживающим виллу, маячила голова Машки с круглыми и заплаканными от зависти глазами. Как же горько сожалела она, что бросила Гришу, как же сильно и больно кусала себе локти, коленки, всю себя уже покусала. Все волосы повыдергивала она из головы при одной мысли, что могла бы быть сейчас на месте Ярославны, а вместо этого вынуждена каждый день ходить на работу и самой себя обеспечивать. Откуда-то издалека доносились истошные крики, полные боли и отчаяния – это нанятые за большие деньги садисты-извращенцы четвертый день объясняли тому козлу, к которому Машка убежала от Гриши, почем фунт лиха и за сколько паяльник в жопе. А когда Ярославна как бы между делом капризно сообщила, что ее старая машина (купленная ей три дня назад за сумму, равную десяти годовым бюджетам села Большие Кизяки) ей уже надоела, Гриша громко, чтобы Машка все слышала, пообещал купить ей новую машину, в два раза дороже, в три раза круче, и такую же красненькую. После его слов голова бывшей подруги исчезла за забором – Машка упала в завистливый обморок. Гриша, не останавливаясь на достигнутом, тут же пообещал Ярославне купить еще пять шуб (из уссурийского тигра, леопарда, снежного барса и прочих представителей семейства кошачьих, занесенных в «красную книгу»), три килограмма ювелирных украшений и оплатить еще одну операцию по увеличению груди до девятого размера. Из-за забора прозвучал предсмертный стон – Машка мучительно помирала от зависти. Гриша хотел окончательно добить предательницу, но тут кто-то стал трясти его за плечо, и дивное видение рассеялось. Подняв голову, Гриша увидел над собой Ярославну, но уже не в бикини.
– С вами все в порядке? – спросила Ярославна.
– За два миллиона долларов я штаны сниму и голой жопой на ежа сяду, – сказал ей Гриша. – И три дня с него не встану. Или четыре, если потребуется.
– За такое могут судить, – покачала головой девушка. – Жестокое обращение с животными – уголовное преступление.
Лев Толстой, довольно потирая ручонки, бодро спросил:
– Ну, так мы продолжаем?
– Продолжаем, продолжаем, – поднимаясь на ноги, обрадовал его Гриша. – Деньги готовьте. Да за два миллиона долларов я штаны сниму, и делайте со мной, что хотите.
– Отлично! – возликовал Толстой. – Просто замечательно. У вас потрясающая совместимость с зеркальным двойником. Стопроцентное слияние.
– Не вижу поводов для радости, – нахмурившись, проронила Ярославна. – Мы едва сумели вернуть его обратно. При такой сильной совместимости возможен обрыв связи с телом.
– Зато он сможет находиться в параллельном измерении сколь угодно долго, а не как прочие операторы – по часу-полтора. Ни тебе помех, ни сбоев, полное подавление личности зеркального двойника.
– Там и подавлять нечего, – пробормотала Ярославна себе под нос.
Затем она обратилась к Грише:
– Вам надо поесть и отдохнуть. И я все же попытаюсь ввести вас в курс дела. Иначе вы долго не продержитесь. Да и у вас, наверное, накопилось множество вопросов.
– Есть парочка, – кивнул Гриша. – Во-первых, хочу узнать – нельзя ли мне часть денег выплатить в качестве аванса? Мне много не надо, сто тысяч баксов хватит. И еще вопрос: к вам сюда проституток можно вызвать?
– Сожалею, но деньги вы получите только после выполнения вашего задания, – покачала головой Ярославна. – То же самое касается проституток. Но если вы испытываете неодолимую потребность в женской ласке, могу предложить Галину. Вы ей, кажется, понравились.
– Не надо! – поспешно отказался Гриша. – Я потерплю.
Ярославна отвела Гришу в его новые апартаменты. Это была небольшая уютная комнатка с душем и санузлом. Глядя на широкую кровать с упругим матрасом, Гриша подумал, что спать на таком ложе в одиночестве, это почти преступление. К сожалению, в комнате не оказалось ни телевизора, ни компьютера. Гриша затосковал. Без своего любимого порнографического канала и фотографий голых девок из сети ему жизнь была не мила. Зато имелась книжная полка, а на книжной полке стояли книги. Гриша глянул на эти книги, и по его телу побежали мурашки. Какие они все были толстые! Гриша как-то пробовал читать роман про зону и крутых уголовников, хороший такой роман, интересный, образчик литературы высшего сорта, но, помучившись два месяца, выдохся на двадцать третьей странице. В голову закралось подозрение, что его могут заставить читать книги. За два миллиона долларов Гриша был готов почти на все, но все же существовали границы, которые он не мог перейти. Он бы еще согласился на групповой однополый интим, но читать эти огромные тяжелые книги… нет уж, этого он сделать не мог – воспитание не позволяло.
– Здесь вы будете отдыхать между сеансами, – сказала Ярославна, имея в виду его комнатку. – Как вам?
– А почему телевизора нет? – спросил Гриша.
– Это для вашего же блага. Информационный поток этого мира может сбивать вас с толку, поскольку будет диссонировать с информацией, почерпнутой вами в параллельной реальности. Нужно, чтобы нормы морали и нравственности параллельного мира стали вам понятны и близки, а телевизионные программы будут мешать этому.
– Мне бы только канал с жесткой эротикой, – слезно попросил Гриша.
– Простите, но нет, – отказала Ярославна.
– Тогда я тут со скуки подохну, – проворчал Гриша. – Ящика нет, компа нет, хотя бы журналы с голыми телками принесли.
– Журналов нет. Зато есть книги. Можете читать их.
Оправдались худшие Гришины ожидания – его пытались заставить учиться.
– Я лучше поскучаю, – ответил он, усаживаясь на кровать. – Ну, так что типа происходит? Куда вы меня, блин, засунули? Я в какую-то жопу страшную попал: меня за один день сорок раз избили. А чем накормить пытались! Один раз какими-то помоями, а второй раз я вообще кормежку пропустил – навоз таскал. Навоз! Я! Таскал! Не для того меня мама на свет родила, чтобы навоз таскать. Что это вообще за место?
– Я вам уже говорила – это параллельная реальность, – ответила Ярославна, присаживаясь на кровать с ним рядом. Гриша страстно задышал и попытался обнять девушку. Девушка вытащила из кармана авторучку и спокойным голосом предупредила:
– Не уберешь руку – воткну в глаз.
Гриша руку убрал, даже более того – отсел подальше от Ярославны.
– То есть, это я попал в какой-то другой мир? – попытался внести ясность Гриша.
– Да.
– Но там меня били, а сейчас на мне ни царапины.
– Били не вас, били вашего зеркального двойника. Человека, который живет в том мире, который, как две капли воды, похож на вас и которого зовут так же, как вас. Мы внедрили в его тело ваше сознание, и вы управляли им. Но это не ваше тело, и все повреждения, полученные им, на вас никак не отразятся.
– Странно, – пробормотал Гриша задумчиво, – тело вроде бы чужое, а когда по роже бьют, больно так же, как по своей, родной. Что это вообще за место, и почему там с людьми обращаются, как с дерьмом?
– Это место – Российская Империя, а если конкретнее – имение помещика Орлова. Вы, вероятно, слышали о крепостном праве.
– О каком праве?
– О крепостном. В нашем мире оно было отменено более чем полтораста лет назад, но в той ветви реальности существует и поныне. Более того, за последние полтора века положение крепостных существенно изменилось. Если в нашей ветви реальности был взят курс на послабление помещичьего гнета, на ослабление, если хотите, гнета человека над человеком, то там все сделали с точностью до наоборот. Там в ответ на нарастающее недовольство угнетенного большинства власть не пошла на уступки, а, напротив, как это сейчас модно говорить – затянула гайки. Затянула так, что, похоже, сорвала резьбу. Эта была модель развития, предлагаемая так называемыми славянофилами, считавшими, что отличительные черты русского народа – долготерпение, смирение и покорность. На эти национальные черты и была сделана основная ставка. Их развивали, усиливали, отсекая все остальное, и в итоге получили то, что ты имеешь счастье наблюдать. Крепостных людей умышленно ввергли в скотство, довели до такого состояния, что они напрочь утратили все человеческие черты. Этому немало способствовали достижения науки, в частности – медицины. Вначале всех смутьянов, то есть тех, кто осмеливался возмущаться существующим порядком вещей, просто кастрировали, позднее стали применять лоботомию и электричество. А так как крепостных разделили по половому признаку и держали отдельно, давать потомство разрешалось только особям покорным и пассивным. Это называется искусственным отбором. Ты, вероятно, слышал о евгенике. Последователи этой науки предлагали улучшать человеческую породу, скрещивая высокоинтеллектуальных людей с людьми, наделенными выдающимися физическими данными. Здесь же мы наблюдаем обратную картину: глупых мужиков скрещивают со страшными бабами, получая в итоге русскую национальную идею – внешне похожего на переходное звено и столь же интеллектуально одаренного биоробота, лишенного собственной воли. Благодаря искусственному отбору, а так же небольшому сроку жизни крепостных, всего за сто пятьдесят лет правящему классу удалось вывести как бы новую породу людей – пассивных, недалеких, не способных на протест или борьбу, послушных во всем. В данное время лоботомия и электричество в отношении крепостных запрещены – они признаны бесчеловечными. Но кастрация, как крайняя мера воздействия на особо непокорных холопов, практикуется до сих пор. Так что мой тебе первый совет: не выступай там особо. Тебе-то, конечно, ничего не будет, но вот твоему зеркальному двойнику могут запросто устроить воспитательную стерилизацию.
– Стерилизацию, – повторил Гриша. – То есть, могут....
Договорить он не смог – язык не повернулся произнести вслух этот ужас.
– Могут яйца отрезать, – за него досказала Ярославна.
– Ножиком? – простонал Гриша, решивший, что изрядно продешевил, потребовав два миллиона.
– Это как повезет. Там есть три вида стерилизации. Хирургический – это когда ножиком. Механический – это когда молотком. И кинетический – это когда их отрывают при помощи специальной скоростной лебедки.
Гриша никогда не страдал богатым воображением, но даже его скудной фантазии хватило, чтобы истечь холодным потом.
– Послушание и покорность во всем – вот основной принцип, которым ты должен руководствоваться в том мире, – сказала Ярославна. – Ты должен забыть о чести, о чувстве собственного достоинства, о своей гордости, о том, что ты человек. Лучше всего представь, что это просто игра с такими вот своеобразными правилами.
– Блин, зачем лебедкой отрывать-то? – все еще переживая по поводу почерпнутой информации, пробормотал Гриша. – А молоток.... Какие звери! Куда милиция смотрит?
– Ты что, не слушаешь меня? – громко спросила Ярославна.
– Слушаю, – проворчал Гриша. – Что еще хорошего расскажешь?
– Кастрация, это не единственная мера воспитательного воздействия. Помимо этого крепостных секут плеткой, просто бьют, воспитывают палкой, доской, бревном или оглоблей, в зависимости от тяжести их вины. Помещают в задний проход раскаленную кочергу....
Гришины глаза полезли на лоб, который, в свою очередь, покрылся крупными каплями холодного пота.
– Если холоп гибнет во время воспитательной процедуры, никто не несет за это ответственности. Так же....
– Кочергу в задний проход… – прошептал Гриша, окончательно убедившийся, что изрядно продешевил.
– Раскаленную, – уточнила Ярославна. – Нагревают на огне, пока не покраснеет, и туда ее – чпок! Да ты не трясись, такое проделывают только за очень серьезные проступки. Если не будешь тупить, твой задний проход не испытает никаких новых ощущений. Теперь что касается непосредственно того имения, в котором ты будешь работать. Оно принадлежит помещику Орлову....
Ярославна раскрыла папку, и протянула Грише фотографию. Со снимка на Гришу глядело добродушное сытое лицо мужчины лет пятидесяти, с аккуратно подстриженной бородкой и честным взглядом.
– Помещик Орлов, вдовец, жена умерла лет пять назад. Детей двое. Сын его проживает в Тоскане, дочь обучается в институте благородных девиц в Петербурге.
Грише была предъявлена фотография сына, затем дочери. На дочери помещика Орлова Гриша свое внимание заострил. С фотографии на него смотрела очень симпатичная блондинка. Гриша тут же поселил ее на своей воображаемой вилле, где уже паслась Ярославна.
– Как звать? – спросил он.
– Ярославна, – напомнила Ярославна. – Я же представлялась. Или забыл?
– Да не тебя. Ее.
– Эту? Татьяна. Тут же написано. Кстати, она должна со дня на день вернуться в имение, так что, если сильно повезет, сможешь ее увидеть.
– Увидеть? – поморщился Гриша. – И это ты называешь везением? Повезет, это если я ей задую втихаря.
– Размечтался! – усмехнулась Ярославна. – Если ты только попробуешь к ней приблизиться, или если ты осмелишься с ней заговорить, тебе и лебедку устроят, и кочергу, и еще много всякого. Впрочем, тебе все же придется к ней приблизиться.
– С удовольствием! – заверил Гриша, незаметно пряча фотографию Татьяны под подушку. – Но как?
– Есть только один способ – стать дворовым человеком. Самое лучшее – лакеем.
– И как им стать?
– Нелегко. Только самые преданные из крепостных удостаиваются чести служить господам лично. Например, нынешний лакей барина Яшка совершил ради обретения своей должности настоящий подвиг. Заметив, что на пути прогуливающегося помещика возникла лужа, оставшаяся после недавнего дождика, он бросился к ней, и всю выпил, чтобы барин шел посуху. Вот какой ценой ему это далось. Я уже не говорю о том, что он каждое утро начищает барские сапоги собственным языком: мажет язык гуталином, и облизывает сапоги. А когда барин заболел гриппом, Яшка три дня простоял в церкви на коленях, ничего не евши и не пивши, а только молясь за здоровье любимого хозяина.
– Я, наверное, так не смогу, – признался Гриша.
– Я тебе и не предлагаю сапоги языком чистить. Но ведь у тебя есть то, чего нет у Яшки.
– Что?
– Мозги. Напряги их, и придумай способ попасть в число дворовых. Это необходимо сделать. У помещика часто бывают гости, кто-то из них может что-то знать о жезле и случайно проболтаться.
– Ладно, попробую, – вздохнул Гриша. – А вот еще вопрос – кто эти мордовороты, что ходят с кнутами и всех бьют?
– Как ты уже понял, в том мире существуют помещики, которых очень мало, и крепостные, которых много. Но существует еще один социальный слой в этом бутерброде, а именно надзиратели. Их тоже не много, но для того, чтобы держать в узде пять-шесть сотен крепостных хватит и дюжины хорошо обученных костоломов. Приказы они получают от барина, который контактирует со старшим надзирателем.
– А откуда они берутся?
– Надзирателей набирают из числа холопов еще в детском возрасте. Их отправляют на специальные курсы, откуда они возвращаются кончеными садистами. Главная задача надзирателей – держать крепостных в постоянном страхе. С другой стороны страх им внушают служители культа, грозя геенной огненной за непослушание, смутьянство и прочие грехи. Крепостные не столько боятся кастрации, сколько гнева божьего. К тому же в производители отбирают лишь немногих, а всем остальным холопам что с яйцами, что без – никакой разницы.
– А почему они держат отдельно пацанов и телок? – спросил Гриша.
– Я же объясняла – это искусственный отбор. Пытаются улучшить холопскую породу, сделать ее еще более покорной и бесхребетной.
– И что, те, кого в производители не выбрали, они вообще сексом не занимаются?
Ярославна выразительно посмотрела на Гришу.
– Ты же их видел, – произнесла она. – Как думаешь, им вообще до секса? Да при таком образе жизни, то есть при двадцатичасовом рабочем дне и кормежке в виде помоев, они уже годам к двадцати превращаются в импотентов.
– Я так и знал! – прошептал Гриша. – Все врут, что курение и алкоголь к импотенции приводят. Неправда это. Работа – вот что к импотенции приводит. А алкоголь вообще полезен… Слушай, а можно мне бутылочку пивка, а? И сигарету.
– Здесь нет ни сигарет, ни алкоголя, – обрадовала его Ярославна. – И проституток тоже нет. Могу предложить лопуховый нектар и Галину.
– Тогда спокойной, блин, ночи, – проворчал Гриша, и отвернулся.
Ярославна ушла, пожелав ему сладких снов. Чуть позже заглянула Галина, занесла ужин. Гриша, едва она вошла, заперся в туалете, и крепко держал дверь. Затем, когда угроза полового акта миновала, он покушал и растянулся на кровати. Полежав немного, и подумав о своей непредсказуемой судьбе, Гриша вытащил из-под подушки фотографию Татьяны. Ярославна была хороша, но и Танечка ей не уступала. Гриша так и уснул с фотографией на груди, представляя себя в компании обеих девиц, вдруг резко влюбившихся в него до отсыревших трусиков.
Глава 6
– Подъем, животные!
Начался очередной будний день. Такой же точно будний, как и все остальные в этом мире, ибо холопы не знали выходных и праздников. То есть, праздники были, в основном религиозные, но на такие праздники полагалось пахать в три раза усерднее, с полной самоотдачей, дабы стараниями своими доставить радость отцу небесному и его уполномоченному наместнику на земле – барину. Помимо праздников имелись религиозные посты. Один пост плавно перетекал в другой, и так почти весь год, не оставляя ни малейшего шанса на разговение. Во время поста холопам запрещалось вкушать скоромную пищу, которую они, впрочем, и так никогда не видели в своих мисках. Всех крепостных круглый год кормили помоями, для которых придумывались разные называния, не меняющие суть содержимого.
Особым уважением среди крепостных пользовались травники. Это были холопы, которые питались одной травой. Травники считались великими праведниками, вот только жили почему-то недолго. Святой старец, во время своей очередной проповеди на затасканную тему «Стабильность – наше все, покорность – наше остальное» объяснил темному люду, что травников, как великих праведников, господь прибирает к себе пораньше, дабы те скорее оказались в раю. Люд поверил. Как всегда.
Перед тем, как идти на работы, холопам дозволялось с утра посмотреть телевизор в течение получаса. Гриша, разбуженный грозным окриком из динамика, почесываясь и ощущая непривычную ломоту во всем теле, тоже подполз к коллективу, дабы выяснить, чем живет большой мир.
На экране телевизора возникло приятное личико одетой в сарафан девицы. Бодро читая текст по берестяной грамоте, она распевно, яко былинщик знатный, заговорила:
– Здравствуй, бесправный люд. Это снова я, крепостная девка Параша, и в эфире передача «Доброе утро, холопы». Нынче в нашем выпуске. Послушание залог здоровья: наш корреспондент Федот с репортажем из исправительного центра для непокорных холопов. Мы не сеем и не жнем: интервью с помещиком Даниловым, объясняющим, почему холоп должен кормить барина. Слово пастыря: проповедь святого старца Маврикия о греховности инакомыслия. И, наконец, ваша любимая рублика: порка на конюшне. В сегодняшнем выпуске в прямом эфире будет выпорот крепостной Селифан, за то, что подал барину не начищенные собственным языком сапоги.
Репортаж из исправительного центра для непокорных холопов поверг Гришу в состояние животного пессимизма. А он-то, глупец, считал, что это его реальность жестока и безнадежна. Как выяснилось, нет предела жестокости и безнадежности.
Камера выхватила из полумрака какое-то огромное помещение с закопченными стенами и низкими потолками. Все помещение было заставлено деревянными столами, сколоченными с таким расчетом, чтобы лежащий на них человек при малейшем движении вгонял в свое тело сразу три дюжины заноз, поскольку лежать приходилось голышом.
Непокорные холопы были привязаны к этим столам так, что не могли толком пошевелиться. Воспитатели, могучие костоломы с чудовищно невозмутимыми лицами, делали свое дело, не обращая внимания на съемочную группу. К каждому холопу в воспитательном центре был индивидуальный подход. Одного просто секли розгами, другого воспитывали березовой палкой. Кому-то выкручивали руки из суставов, кому-то ноги. Одного бедолагу ухватили огромными ржавыми щипцами за естество, сильно потянули, и стал он совсем неестественный. Затем показали женское отделение, где происходило примерно то же самое.
После шокирующего видео, состоялось интервью с помещиком Даниловым. Крепкий, лучащийся здоровьем мужик, явно за всю свою жизнь не поднявший ничего, тяжелее полной ложки черной икры, скупо, без изящных оборотов речи, объяснил, что холоп должен кормить помещика по закону природы, ибо таковой порядок установлен свыше. Так было всегда, и так всегда будет, сказал Данилов. Все холопы низшие существа, и без господ сразу же пропадут пропадом, потому что не сумеют даже самых элементарных вещей. Холопы не могут сделать правильный выбор, они все время ошибаются. Вот для того, чтобы делать правильный выбор за них, и существуют господа – высшие существа.
После научного доклада помещик Данилов, в качестве анекдота, рассказал случай из своей жизни, конкретно о том, как он однажды обрюхатил дворовую девку, и, дабы не плодить ублюдков, выгнал ее голую на лед замерзшей реки, а затем велел облить водой из ведер.
На фоне всех этих ужасов слово пастыря Гриша воспринял почти равнодушно. Слушая широколицего, лоснящегося жиром, и явно не соблюдающего ни один пост святого старца Маврикия, проповедующего смирение и послушание, Гриша почти не воспринимал слов служителя культа. Он пребывал в состоянии хронической растерянности, и уже совершенно не понимал, где он и кто он.
Вслед за наставлениями святого старца, настолько жирного, что он даже дышал с большим трудом, началась любимое ток-шоу бесправных холопов – порка на конюшне. В это утро участником шоу оказался крепостной Селифан, имевший глупость подать барину плохо начищенные сапоги. Бедняга, весь запуганный и, судя по нездоровому виду, долго постившийся одной водой, был приведен в студию, декорированную под конюшню. Вот только в стойлах, где полагалось быть лошадям, сидели на трибунах зрители и хлопали в ладоши тогда, когда им приказывали.
Театрализованное представление продолжалось недолго. Вначале Селифана яростно стыдили, обвиняли во всех смертных грехах, напомнили, что даже Библия учит всякого раба беспрекословно повиноваться своему господину. Припугнули адом и чертями, но Селифан, на чьем лице застыло выражение обреченности и готовности к чему угодно, воспринял угрозу почти равнодушно. Кажется, он даже был рад скорее попасть в лапы к чертям, лишь бы при этом вырваться из лап набожных и добрых господ, исправно посещающих церкви и делающих большие пожертвования на строительство храмов.
Отругав Селифана и выставив его чуть ли не врагом родины, ведущий и его помощники приступили к делу: Селифана уложили на скамью, привязали к ней, после чего начали лупить вожжами по голой спине в четыре руки. Селифан истошно орал, холопы, с которыми Гриша делил кров, азартно заорали и замахали руками, требуя сечь подлеца до смерти. Один даже плюнул в телевизор, возмущенный поступком Селифана.
– Так его! Так! – одобрительно гудели холопы. – Секите ирода! Еще ему! Еще!
Селифан вдруг громко взвыл, а затем его голова безвольно упала на лавку. Тело перестало вздрагивать всякий раз, когда по нему проходились окровавленные вожжи. Кровь холопа текла по его рассеченной до мяса спине, лилась на пол студии, брызгала на одежду и лица ведущих. Больше Селифан не издал ни звука и не пошевелился. Когда прозвучал звуковой сигнал, означающий окончание времени экзекуции, Селифана осмотрел ветеринар, и счастливым голосом объявил, что бедолага помер.
– Так ему и надо! – гневно процедил один из холопов рядом с Гришей. – Это же надо – барину грязные сапоги подать! Да я за такое злодейство отца родного запорол бы.
– А то! – поддержал его второй. – Разве же можно барину да грязные сапоги подать? Аль креста на нем нет?
– Нехристь! Православный так бы не сделал. Православный бы умер, а сапоги господские начистил. Вот, брат мой старшой, так тот себя-то не жалел. Так и говорил всегда – мне на барина работать высшее наслаждение. Все по десять кирпичей носили, а он на себя двадцать нагружал. Не могу, говорит, меньше брать, совесть не позволяет. Сорвал себе спину – вот как работают-то! Два дня лежал, встать не мог, так сам барин его судьбой заинтересовался. Послал узнать человека, что с ним. А как узнал, что спину сорвал, так, говорят, даже всплакнул – вот те крест! Огорчился ужасно, вот что значит по-христиански трудиться, на совесть. Что даже господа по тебе плакать будут. Барин тоже плакал. Так со слезами на очах и молвил – оттащите его к рытвинке, на заслуженный отдых. А когда брата тащили, у него лицо такое чистое было, ясное, глаза светлые, и в небо смотрел. Сказал – честно на земле на господина трудился, теперь в раю отдохну. А этот, – холоп зло кивнул на экран телевизора, – разве в рай попадет? Сапоги барские, и те начистить не сумел. В аду ему гореть за это!
– Во дебилы! – потрясенно простонал Гриша, нехотя поднимаясь на ноги. Впереди ждал еще один день, наполненный трудами праведными.
Утренний просмотр телевизора завершился, начался рабочий день. Все холопы вышли и построились у своего барака в две шеренги. Появился староста – крепкий и явно пренебрегающий постом мужик с натруженными кулаками. За ним следом шли четверо крепышей с дубинками.
– Слушать сюда, животные! – заорал староста жирным сытым голосом. – Завтра к нашему благодетелю приезжает любимая доченька из Петербурга, так что после утренней кормежки все на благоустройство территории. Все лужи высушить, всю грязь песком засыпать, все строения покрасить. Так, вы, двое, – палец старосты указал вначале на Гришу, а затем на стоящего рядом с ним мужика – бородатого, грязного и ужасающе вонючего, – вам особое задание. Там куча навоза есть, ее вчера зачем-то с прежнего места перетащили. Чтоб сегодня ее обратно убрали, нечего ей на виду лежать. Ясно?
– Ясно, – хором ответили Гриша и его напарник.
Завтрак оказался питательным, полезным и вкусным. Когда Грише выдали миску, на четверть наполненную обычной водой, он решил, что над ним прикалываются. Но заметив, что остальные холопы получили то же самое, успокоился и смирился.
– Тебя как звать? – спросил Гриша, когда они вместе с напарником направились к своему рабочему месту.
– Тит, – ответил напарник, и тут же сотворил задом дивную симфонию.
– Тит? – переспросил Гриша. – Который конем сзади пробит? Или который недержанием знаменит?
Напарник вместо ответа еще разок громыхнул шоколадным оком.
Гриша уже догадался, что местный контингент отличается непрошибаемой тупостью, но он решил запастись терпением. Никто не говорил, что два миллиона долларов достанутся ему даром. Их придется отработать. И если для этого потребуется таскать навоз в компании тупого Тита, имеющего привычку вытирать задницу ладошкой, а ладошку о бороду, он будет это делать.
– Тит, ты в бане когда последний раз был? – спросил Гриша, вручая мужику вилы. От напарника несло как от огромной потной кучи фекалий. Вся его одежда была покрыта пятнами, притом преимущественно это были пятна, оставленные экскрементами и мочой. Борода у Тита слиплась, во рту маячили четыре гнилых зуба.
– Ась? – переспросил Тит. Как позже узнал Гриша, Тит был туговат на оба уха, ибо однажды подвергся воспитанию поленом. Тит совершил страшное преступление – будучи отправленным за яблоками в господский сад, он пренебрег трудом, и заснул под деревом. Тита начали воспитывать с разбега, не дожидаясь пробуждения. Лупили впятером, и у каждого в руках было полено. С тех пор Тит плохо слышал и страдал непроизвольной дефекацией. Впрочем, страдал не столько сам Тит, сколько люди, его окружавшие. Титу же, похоже, было все равно, что он делает и что делают с ним. Но на тот момент Гриша всего этого не знал, поэтому, когда напарник помочился, не снимая штанов, он с возмущением спросил у него:
– Тит, ты что, идиот?
– Важно! – раскатисто протянул Тит, и начал наваливать навоз в тележку.
– Ты зачем в штаны налил? – не унимался Гриша, все еще пытающийся понять здешние реалии. Он рассчитывал порасспросить Тита о тутошних порядках, но, как оказалось, информатор из бородатого неряхи был никакой. Словарный запас Тита насчитывал примерно полтора десятка слов, но даже эти слова Тит, чаще всего, произносил ни к селу, ни к городу. Гриша осторожно, дабы ненароком не проколоться, стал расспрашивать мужика о порядках, заведенных в имении, о том, как живут господа, и видел ли он барина. Говорил Гриша на русском языке, вопросы свои формулировал ясно и доступно, и все же они, по каким-то причинам, не могли дойти до мозга Тита, а если и доходили, то не могли до него достучаться. На все вопросы Тит отвечал одно и то же.
– Важно! – говорил он.
– Ужель не православные? – говорил он.
Когда Гриша прямо спросил, о чем его собеседник мечтает в жизни, Тит долго думал (то есть просто тупо стоял и молчал, а думал или нет – большой вопрос), а затем ответил громко и решительно, вот только не тем местом, каким обычно отвечают на заданные вопросы.
За два часа содержательной беседы Гриша был готов убить Тита голыми руками. На жизненном пути ему встречались удивительные тормоза, настоящие шедевры природы в плане тупости. Чего только стоил друг Вася из соседнего дома – само воплощение тупости. Он даже умер тупо – был затоптан насмерть в магазине электроники в канун Нового года, когда пытался купить телевизор с сорокапроцентной скидкой. А армейский старшина – прапорщик Думба, мог без проблем взять главный приз на всемирном конкурсе «Тупица года». Но все эти люди казались гениями в сравнении с Титом. Тит был сама тупость, тупость дубовая, стоеросовая и несокрушимая. В его мутных карих глазах было пусто, как в Гришином кармане, если бы мир знал о существовании Тита, анекдоты про недалеких блондинок навсегда утратили бы свою актуальность.
– Тит, тут всегда так дерьмово кормят? – спросил Гриша, стоя в сторонке, и не мешая мужику трудиться. Гриша сразу решил, что сегодня Тит работает один, да и грязнуля, к тому же, не возражал. Он сам наваливал навоз в тележку, сам отвозил его и вываливал на нужное место. Гриша ходил следом за мужиком и пытался добиться от него ответа хотя бы на один простой вопрос.
– Поснедать бы важно, – протянул Тит, поднимая за ручки наполненную тележку.
– Я тебя спрашиваю – тут всегда так кормят, или бывает иначе? – скрипя зубами от злости, повторил вопрос Гриша.
Ничего не ответив, Тит потащил тележку в путь. Гриша с ненавистью уставился в его костлявую сгорбленную спину, и понял, что от этого человека он не добьется ничего. Тит был туп до крайней степени. Если бы он отупел еще чуть-чуть, то превратился бы дубовый пень.
До обеда Гриша самоотверженно бил баклуши. Тит работал без перекуров и отдыха. Глядя на него, Гриша уже было решил, что и крепостным можно жить, не надрываясь, но как только явился надзиратель, осмотреть работу и отправить их на обед, Тит преподнес сюрприз. Едва мордоворот с дубиной на плече подошел к ним, Тит шагнул к нему навстречу, отвесил глубокий поклон с выбросом руки, и рубанул всю правду-матку.
– Гришка холоп не трудился, – сообщил Тит надзирателю. – Сиднем сидел. Не по-христиански это. Ужель не православные?
Надзиратель метнул на Гришу страшный взгляд. Гриша же, вместо того, чтобы начать оправдываться и обвинить Тита в клевете, буквально онемел от такого демонстративного стукачества. В этот момент ему открылась еще одна реалия этого мира – никакой солидарности между холопами не существовало.
– Так ты на барина работать не хочешь? – спросил у Гриши надзиратель, подходя к нему и поигрывая дубиной.
Гриша понял, что время для оправданий упущено, и выдавил из себя первое, что пришло в голову:
– Не по своей воле от работы отлынивал. Бес попутал.
– Ясно, – кивнул здоровяк. – Ну, пойдем, гнида ленивая, будем из тебя беса изгонять.
Сеанс экзорцизма Гриша пережил стоически, наверное, потому, что били слабее, чем вчера. Его привели в воспитательный сарай и отлупили палкой так, что он под конец экзекуции обмочился и обосрался. Затем последовала разъяснительная беседа, в ходе которой Грише было заявлено, что он отныне первый кандидат на поездку к ветеринару.
– Много в тебе смутьянства сидит, – покачал головой один из надзирателей, и ударил Гришу по спине палкой. – Бунтуешь. Против барина бунтуешь, против бога бунтуешь. Аль тебе живется плохо, скотина ты неблагодарная?
– Хорошо живется, – прохрипел Гриша с пола. – Слава богу – здоров, сыт, работой не обижен.
– Вот то-то же, – кивнул надзиратель, и пробил Грише с ноги в бок. – Скотина ты неблагодарная, не ценишь барской доброты. Вот у помещика Денисова, у соседа нашего, всех крепостных поголовно в шестнадцать лет оскопляют. За смутьянство руки ломают, головы дубинами разбивают, и не кочергу в зад вставляют, как вам, неженкам, а лом. Вы тут жрете от пуза, зажрались уже, а у него холопы землю жрут, камни глодают, травы клок за лакомство почитают. Наш же барин добрый, разбаловал вас. На шею ему скоро сядете. Эх, была бы моя воля, я бы вам всем уды поотрывал голыми руками.
– Уши? – переспросил Гриша с пола.
– И уши тоже. На! На! На!
После третьего «на» Гриша был пинком выпровожен наружу и, пошатываясь, направился кормиться. У сарая, из которого происходила раздача еды, уже собралась толпа неблагодарных зажравшихся мерзавцев, не умеющих оценить доброту и щедрость их благодетеля. Все были изнурены тяжким трудом – по случаю прибытия в имение господской дочки все пахали с полнейшей самоотдачей. Кто не отдавался работе полностью, того вразумляли палками и кнутами.
Гриша, не торопясь занимать очередь, сразу направился к Титу. Несмотря ни на что, выходка тупого мужика взбесила его.
– Ты что, урод, стукач местный? – спросил он, вплотную приблизившись к зловонному напарнику.
– Ась? – переспросил Тит.
– Зачем ты, свинья, рассказал садистам, что я не работал? Ты что, думаешь, тебя за это к бабам пустят? Хрен тебя пустят! Таких лохов, как ты, на племя не пускают.
Тит с трудом, но все же понял, в чем состоит суть обращенных к нему претензий.
– Господь учит барина своего, как отца родного, любить и себя не жалея на него работать, – наставительно сказал он. – Кто в этой жизни на барина будет трудиться честно, того после смерти господь в рай допустит.
– Ну, считай, ты уже в раю, – обрадовал мужика Гриша, и пробил ему короткий, но сильный удар по печени. И вновь Тит удивил его, поведя себя совершенно нетипично. Гриша видел, как надзиратели били холопов, и те сносили все это молча, даже не пытались увернуться или закрыться от ударов. Но когда он ударил Тита, тот вдруг завопил на все имение, повалился на землю, и стал самым подлым образом симулировать предсмертные конвульсии, кривляясь на уровне профессионального футболиста. Через мгновение, растолкав холопов, к месту происшествия прибыли двое в штатском и с дубинами.
– Чего орешь? – спросил один из них у растянувшегося на земле Тита.
– Спасите! Помогите! Христом-богом заклинаю! – скороговоркой блажил Тит. – Живота лишают, смертным боем бьют.
– Кто тебя бьет, скотина?
– Он! Гришка холоп.
Две пары недобрых глаз сфокусировались на Грише. Грише стало дурно.
– Я его пальцем не тронул! – закричал он.
– Не ври, окаянный! – вдруг подал голос сгорбленный мужик с оторванным ухом. Ухо ему, как позже узнал Гриша, откусила хозяйская собака. – Богом клянусь, ударил он его. Смертным боем бил.
– Ну что с тобой делать? – спросил у Гриши один из надзирателей. – Похоже, смутьян ты неисправимый. К ветеринару сегодня поздно, а завтра у него выходной. А завтра дочка к барину приезжает. Не дай бог ты, животное, что-нибудь при ней учудишь. Придется своими силами тебе бунтарство укротить.
Напрасно Гриша заверял, что он уже исправился, что он совсем не бунтарь, и все произошедшее является чистейшей воды недоразумением. Его не слушали. Крепыши притащили его обратно в воспитательный сарай, стащили с него штаны, после чего один из них взял в руки кожаный ремень, а второй указал на деревянную колоду, и приказал:
– Вставай на колени, хозяйство клади на чурбан. Живо!
– Да вы чего? – бледнея, простонал Гриша. – Мужики, да хорош, а? Пошутили, и ладно.
Но мужики, как выяснилось, не шутили. Один из них взял с полки дубину, усеянную железными шипами, и предупредил:
– Или делай то, что сказали, или я тебе башку разобью.
Тут Гриша понял, что и это не шутка. Костолом не бравировал и не бросал на ветер пустые угрозы. Он не угрожал, он предупреждал. Ничто не помешает ему разбить холопу голову, и ничего ему за это не будет.
Трясясь крупной дрожью, Гриша опустился на колени и положил на плаху свое мужское достоинство. Тот факт, что это все же не совсем его достоинство, а достоинство его зеркального двойника, мало утешил Гришу. Как бы то ни было, но все замечательные ощущения придется пережить именно ему. Садист сделал замах, кожаный ремень свистнул в воздухе, после чего у Гриши потемнело в глазах, и он повалился на пол, зайдясь истошным криком.
Обед он пропустил по понятным причинам, и когда смог встать на ноги, был отправлен на новое место работы – облагораживать дорогу, ведущую к имению. Чуть живого Гришу привел к дороге один из надзирателей и перепоручил новому напарнику – крепышу Спиридону. Их задача заключалась в том, чтобы брать сваленные кучей большие камни, таскать их к дороге и выкладывать вдоль обочины, дабы было красиво. Спиридон – тощий хромоногий мужик неопределенного возраста, сгорбленный, весь покрытый синяками и ссадинами, схватил камень весом в три пуда, не меньше, и, хрипя от натуги, потащил его к дороге. Гриша, как только надзиратель удалился, присел на обочину и, приспустив штаны, осмотрел свое хозяйство. Хозяйству досталось. Оно опухло, посинело и жутко болело, но Гриша радовался уже тому обстоятельству, что все вроде бы осталось на месте.
Дотащив камень и водрузив его на место, Спиридон, пошатываясь, подошел к Грише и сказал:
– Негоже сиднем сидеть. Бог накажет.
– Пошел ты! – со слезами на глазах простонал Гриша. Ему и сидеть-то было больно, а тут надлежало таскать огромные камни.
– Святой старец Маврикий молвил, что не работать на барина грех великий, – просветил Гришу Спиридон.
Гриша с ненависть покосился на очередного Тита. Тупость окружающих начала его утомлять. Грише впервые в жизни захотелось пообщаться с умным человеком.
– Слышь, ты, Спиридон – штопаный пардон. Что ты доебался? Если хочешь – иди и работай.
– А ты как же?
– А я посижу и отдохну.
Спиридон быстро замотал головой, прямо как осел, и скороговоркой забормотал:
– Да разве ж так можно? Аль креста на тебе нет? Как же это – сидеть? Как на барина не работать? Нет, нельзя так. Пойду, расскажу все.
И, в самом деле, мужик навострил лыжи в сторону бараков, намереваясь сдать надзирателям своего ленивого напарника. Гриша, превозмогая боль, поднялся на ноги, и с отвращением крикнул:
– Ладно, ладно, пошутил я. Пойдем, поработаем, блин по-нашему, по-христиански.
Сказать по правде, по-христиански работал один Спиридон. Гриша выбирал камни полегче, носил их медленно и долго отдыхал между рейсами. Что касается Спиридона, то мужик буквально загонял себя в могилу. Он хватал огромные валуны, и, надрываясь, почти бегом тащил их к дороге. Один раз, с неимоверным трудом оторвав от земли неподъемный булыжник, Спиридон мощно обделался от натуги, пронес камень три шага и упал вместе с ним. Гриша с небольшим камешком в руках подошел к растянувшемуся на земле холопу, и злорадно сказал:
– Ай-ай, как нехорошо. Как не по-христиански. Что святой старец Маврикий базарил, а? Работать надо, лох! А ты развалился тут, как на пляже. Пойду, наверное, сдам тебя садистам. Пускай они тебе, лентяю, кочергу в жопу вставят. И два раза провернут.
Спиридон принял это глумление за чистую монету. Он кое-как поднялся на ноги, снова схватил этот камень, протащил его метров пять, а затем снова упал и больше не встал. Гриша подошел к нему и легонько пихнул напарника ногой в бок.
– Эй, пауэрлифтер, ты чего? – спросил Гриша.
Спиридон лежал на боку и надрывно дышал. Рот его был широко открыт, глаза дико выпучены. Гришу одолело беспокойство. Он присел на корточки возле мужика, и ласково спросил:
– Спиридон, ты как? Встать сможешь?
– Мочи нету… – чуть слышно прошептал Спиридон.
– Я пойду, позову кого-нибудь. Тебе в больничку надо.
– Не надо звать! – зашептал Спиридон, чьи глаза округлились от ужаса.
– Да ладно, не бойся. Я мигом. Пускай тебя к доктору свозят.
– К ветеринару? – пропищал Спиридон, пуская слезу.
– Да, к нему. Он тебя полечит. Будешь как новенький.
И Гриша побежал к баракам, отыскивая глазами кого-нибудь из надзирателей. Садистов он отыскал у столового сарая. Те развлекались весьма оригинальным способом – на спор выясняли, может ли человек съесть кучу дерьма. В качестве подопытного избрали Макара – молодого парня, который, как позднее выяснил Гриша, был одержим бабами. Однажды он даже пытался залезть на женскую территорию, что находилась за высоким забором. Макара поймали и сломали ему ногу. С тех пор Макар хромал. Но тяга к прекрасному в нем не улеглась, и вот надзиратели, посмеиваясь, пообещали ему свидание с одной из девок, если он сумеет умять весьма солидную кучу свежего дерьма. Макар ни секунды не колебался. Он набросился на кучу и стал пожирать ее с таким азартом, будто дорвался до восхитительного деликатеса. Гриша подошел как раз в тот момент, когда Макар слизывал с земли последние капли кушанья.
– Ну, видишь – сожрал! – закричал один из надзирателей другому. – Гони червонец! Проспорил.
– Мы спорили, что человек не сможет кучу дерьма съесть, – заворчал проигравший. – О холопах речи не шло. Холопы не люди.
– Давай червонец! Все тут честно.
– Други, мне бы девку румяную, – вытирая коричневые губы рукавом, напомнил довольный Макар. – Заслужил.
Надзиратели, глянув на него, покатились со смеху.
– Иди работать, говноед! – прикрикнул на него один. – Наелся досыта, еще ему и девку подавай. Обнаглел.
– Обещали же… – тоном обманутого ребенка, пробормотал Макар.
– Перечить вздумал? – заорал на него надзиратель. – Да ты смутьян! А ну иди работать, скотина тупая, не то я тебя палкой....
Макар сорвался с места и, сильно хромая, побежал прочь. Гриша кашлянул, привлекая к себе внимание надзирателей.
– А, опять ты? – проворчал тот изверг, что отбил Грише все хозяйство. – Опять от работы отлыниваешь. Похоже, придется тебе уд отрезать.
– Я не отлыниваю, – поспешил все объяснить Гриша, пока садисты сгоряча не сделали чего-нибудь непоправимое. – Там Спиридон заболел.
– Как это – заболел?
– Не знаю, я же не врач. Лежит на земле, встать не может.
– Ну-ка пойдем, посмотрим на этого симулянта.
Вместе с двумя надзирателями Гриша вернулся к напарнику. Спиридон лежал там же, где Гриша его оставил, даже в той же позе. Покрытое пылью лицо мужика побледнело, глаза смотрели обреченно. Один из надзирателей, для проверки, сильно ударил Спиридона палкой, но тот лишь негромко хрюкнул. Садисты нахмурились, затем один из них сказал:
– Отбегался Спиридон. Отработался. Пора и на заслуженный отдых. Эй, ты, – обратился он к Грише, – приведи сюда любого холопа. Живо!
Гриша бегом помчался к баракам, и, так вышло, что первым он натолкнулся на ненавистного Тита. Мужика он уже конкретно ненавидел, но все же позвал его с собой – надзиратели ведь сказали ему живо. Тит не прекословил, потрусил следом, а Гриша, которого меньше всего заботила судьба Спиридона, думал о том, как бы поизящнее и без последствий отомстить зловонному стукачу.
Глава 7
Когда Гриша с Титом прибыли к дороге, Спиридон лежал уже на спине, а левую половину его лица обезобразила огромная свежая гематома. Один из надзирателей, хихикая, повторял:
– Видал, как я пробил? Видал?
– Да я еще лучше могу, – отмахнулся второй. – Так, – обратился он к прибывшим холопам, – вы, двое. Взяли этого за ноги и тащите за мной.
Тит тут же исполнил приказ – наклонился, хватил ногу Спиридона, и приготовился волочь мужика по земле. Гриша, несмотря на все безразличие к судьбе очередного тупицы, все же не смог равнодушно пережить очередное столкновение с бесчеловечностью.
– Подождите, мы что, так его, волоком, и попрем? – спросил он.
– Да, так и попрете, – ответил надзиратель.
– Ему же плохо. Его в больничку надо.
– Куда его надо? – не понял надзиратель.
– Ну, к ветеринару, или как это у вас называется.
Надзиратели переглянулись и дружно заржали.
– Этому уже ветеринар не нужен, – ответил один из них, и легонько стукнул Гришу палкой по голове, чтобы не задавал слишком много вопросов. – Ему еще в позапрошлом году Фома яйца секатором отрезал.
– За что? – рискнул спросить Гриша, потирая ушибленную голову. Спросил не праздного любопытства ради, а на всякий случай, чтобы знать, за что тут могут секатором стерилизовать, и никогда такого не делать.
– Да просто так. Бражки перепил, вот и потянуло порезвиться. Все, хватит болтать, скоты грязные. Взяли этого, и потащили.
Делать нечего. Гриша впрягся во вторую ногу Спиридона, и они с Титом поволокли мужика прямо по полю, по всем кочкам и ухабам, в противоположную от имения сторону. Надзиратели шли впереди и вели немудреную беседу. Гриша навострил уши, и тут же понял, что разговор идет о бабах. В отличие от простых холопов, надзиратели имели открытый доступ на женскую территорию и активно пользовались этой своей привилегией.
Крепостные бабы, как позднее выяснил Гриша, мало чем отличались от крепостных мужиков. Все отличия заключались исключительно в анатомическом строении тела, не более. Во всем остальном образ жизни и те и другие вели схожий: пахали, как проклятые, по двадцать часов в день и питались отбросами. Как и мужики, не все бабы допускались к спариванию – отбирали наиболее покладистых и тупых. Впрочем, симпатичные молодые девки, приглянувшиеся надзирателям, все же имели определенные привилегии. Их никогда не ставили на тяжелые работы, давали вволю спать, сносно кормили и всегда, перед визитом в казармы надзирателей, водили в баню. Своим любимицам надзиратели даже дарили кое-что из одежды, приносили немыслимое для холопов лакомство – заплесневелый хлеб, и вообще всячески баловали. Впрочем, надзирателям разрешалось баловать только с теми бабами, что не были отобраны на роль производительниц потомства. Если же подружка надзирателя залетала от него, то после родов надзиратель забирал у нее ребенка и закапывал его в поле – дабы удобрение не пропадало. Что же касалось дурнушек, не приглянувшихся надзирателям и не пошедшим на племя, то им о сексе не приходилось и мечтать. Как вскоре выяснил Гриша, подобная ситуация вовсе не способствовала эпидемии гомосексуализма среди холопов – страх перед божьей карой за непотребные деяния был слишком силен. Холопы, с которыми Гриша делил барак, были всерьез убеждены, что стоит им заняться рукоблудием, как явится Илья пророк и испепелит молниями их окаянные отростки. Гриша, выслушав эту басню, пришел к выводу, что по мозгам крепостных Илья пророк уже прошелся электрической дугой изрядной мощности, так что сжег все нейроны до последнего.
У каждого надзирателя была своя любимица, что, впрочем, не мешало им драть и других холопок. Судя по всему, каждый вечер в казарме устраивались настоящие оргии. Об одном из таких мероприятий надзиратели, бредущие впереди, и завели беседу. Гриша слушал и завидовал – описывались вещи приятные и заманчивые, близкие его сердцу. А когда прозвучало волшебное слово «групповуха» Гриша даже пустил слезу – ему до тесноты в штанах хотелось пробраться в казармы и тоже поучаствовать. Украдкой он покосился на Тита, но тупоумный мужик слушал заманчивые рассказы с пугающим равнодушием.
– Тит, – негромко спросил Гриша, – у тебя в штанах все на месте?
– А как же! – громко, на все поле, ответил великий конспиратор, с которым только в разведку ходить. – Все на месте. Обе ноги.
– А то, что промеж ними?
– Пупок? – озадаченно спросил Тит.
– Ой, блин, ну куда я попал, а? – в отчаянии простонал Гриша.
Влачимый за ноги Спиридон, успевший собрать копчиком, хребтом и затылком все неровности русского поля, чуть слышно простонал:
– Други, мочи нету. Дайте дух перевесть. Кончаюсь.
– Что там эта падаль бормочет? – спросил, обернувшись, один из надзирателей.
– Говорит, что кончает, – честно ответил Гриша.
– Други, шибко невмоготу, – слезно бормотал Спиридон. – Чуточку бы полежать.
– Терпи, касатик, терпи, – наставительно посоветовал Тит. – Господь терпел и нам велел.
Прямо по курсу замаячил зеленый забор, огораживающий небольшой участок поля. Но задолго до того, как они приблизились к нему, Гриша ощутил усиливающийся с каждым шагом смрад гниющей плоти. Вскоре зловоние стало настолько нестерпимым, что парня начало тошнить. Ему казалось, что при каждом вдохе он проглатывает какую-то отвратительную мерзкую слизь, пропитавшую воздух. Надзиратели остановились, зажимая пальцами носы. Один из них указал на Спиридона и приказал:
– Бросьте его.
Ноги мужика шлепнулись на землю. Спиридон лежал смирно и смотрел ясными очами в голубое небо, раскинувшееся над ним от края до края горизонта. Казалось, что он видит в этой синеве мелькающие образы ангелов, святых угодников, праведников, вошедших в рай раньше него. Один из надзирателей подошел к нему и снял с плеча дубину. Сделал замах, и с силой опустил оружие на голову холопа. Раздался глухой удар, Спиридон конвульсивно задергал руками и ногами, из расколотого черепа наружу полезла розовая масса, похожая на желе. На сочную зеленую траву брызнула кровь.
– Все, тащите его на заслуженный отдых! – приказал надзиратель, помахивая дубиной, мастерство владения которой он только что продемонстрировал.
Тит, ни секунды не медля, исполнил приказание – схватил еще дергающееся тело Спиридона за ногу и один поволок к зеленому забору. А Гриша все никак не мог выйти из оцепенения. Он много раз видел, как людей убивали в кино, но в кино все всегда выглядело иначе. Там это подавали красиво, иной раз даже сексуально, а тут, на его глазах, произошло что-то запредельно страшное. Настолько страшное, что Гриша никак не мог это переварить. Впрочем, голос одного из надзирателей, в котором сквозила вполне определенная угроза, существенно улучшил его пищеварение.
– Эй ты, скотина? – рявкнул он. – Ты что, уснул? Тоже на заслуженный отдых захотелось?
Как ни велико было Гришино потрясение от пережитой им сцены, но отправиться вслед за Спиридоном в царствие небесное он не хотел. Тит, надрываясь, тупо волок еще дергающийся труп, Гриша подбежал к нему и, боря тошноту, впрягся во вторую ногу.
Возле забора смрад стоял такой, что Гришу вывернуло дважды, и даже непробиваемый Тит стал морщиться и что-то бормотать. Он спиной толкнул калитку, и они втащили притихшее тело внутрь огороженной территории. И вот тут-то Гриша увидел своими глазами, каковы они – врата в рай.
Огромная яма, вырытая то ли экскаватором, то ли, что более верно, руками крепостных, была завалена человеческими останками. Стоило людям проникнуть внутрь, как над ямой поднялась целая туча воронья, и над всей округой разнеслось возмущенное карканье. Трупы громоздились один на другом, все на разной стадии разложения. Некоторые, еще свежие, покраснели, будто вареные раки, и страшно вздулись, от других остались обтянутые высохшей кожей кости. На самом краю ямы, широко разбросав руки, валялась молодая девка, умершая, судя по ее состоянию, дней пять назад. Вороны славно попировали на ней – от лица ничего не осталось, только жалкие клочки протухшего мяса, прилипшие к черепу. В голом животе зияла дыра, черная и страшная. Гриша, глянув на эту дыру, проковырянную клювами пернатых, в третий раз сложился пополам в приступе рвоты. Блевать было нечем и в первый раз, так что Гриша похрипел и погавкал вхолостую.
Тит вытянулся, как столбик, и принялся осенять себя крестными знамениями. При этом он громко и распевно произносил какую-то самопальную молитву, что-то о царстве небесном, где каждый холоп получит возможность жить вечно, никогда не работать и кушать восхитительные отруби. Гриша схватил Спиридона за руки, и прохрипел:
– Давай в яму этого сбросим, да валим отсюда!
Тит взял Спиридона за ноги, они раскачали мужика и послали его на заслуженный отдых. Запущенный в полет Спиридон перелетел девку с выклеванным лицом, затем немного прокатился вниз по крутому склону, и нашел себе последнее пристанище в самой гуще гниющего мяса. Тит размашисто перекрестился, а Гриша в это время уже ломился наружу через калитку. Он бегом добежал до поджидающих их надзирателей, и только здесь позволил себе вдоволь надышаться воздухом. Вскоре приковылял и Тит.
Процесс отправки холопа на заслуженный отдых так сильно потряс Гришу, что он всю обратную дорогу был молчалив и невнимателен, даже не прислушивался к разговорам надзирателей. Даже новость о том, что они теперь отправятся не на работы, а в свой хлев для просмотра какого-то сериала, Гриша воспринял равнодушно. Перед его глазами до сих пор стояла жуткая картина: огромная яма, заваленная отработанным человеческим материалом. По сути своей эта свалка биологических отходов мало отличалась от любого цивилизованного кладбища, но на кладбище хоть как-то удавалось прикрыть смерть вуалью траурной торжественности. Здесь же все было просто и страшно, без всяких лицемерных излишеств и красивостей. Ни высокохудожественных памятников, ни гранитных надгробий, ни фотографий усопших, ни глупых стихотворений, что модно писать на черных плитах, ни пожеланий всего наилучшего на венках. В этой яме смерть показалась в обнаженном виде, такой, какой она бывает без красивых нарядов, обычаев и суеверий. И Гриша, посмотрев на все прелести этой красотки, в очередной раз понял, что продешевил – весь этот кошмар никак не стоил двух миллионов.
Всех холопов согнали в барак – как оказалось, сегодня по телевизору показывали очередную серию мыльной оперы с красноречивым названием «Слуга покорный». Это была единственная телепередача, которую позволялось смотреть холопам, не считая утреннего информационного шоу с сексапильной Парашей.
То ли из-за недавнего визита на холопомогильник, то ли из-за хронической усталости, недоедания и отбитого хозяйства, но фильм Грише не понравился. Шла уже восемьсот пятьдесят третья серия эпопеи, рассказывающей о жизни и судьбе крепостного Кондрата. Жизнь у Кондрата была дерьмовая, а судьба и того хуже. За неполных двадцать три года жизни Кондрат успел испытать на своей холопской шкуре все, что можно и нельзя, и всякий раз злоключения, происходившие с ним, случались не по его вине, а чисто по ошибке. Кондрат, без вины виноватый, дважды побывал в исправительном центре для непокорных холопов, был дважды кастрирован, один раз частично, второй раз начисто, каждый день подвергался издевательствам и сносил зверские побои. Выглядел Кондрат так, как живые обычно не выглядят. Во рту у него давно уже не осталось ни одного зуба, руки и ноги были многократно переломаны, и кости срослись как попало. Кондрату через день помещали в зад раскаленную кочергу, морили голодом, один раз облили спину керосином и подожгли. И при всем при этом Кондрат оставался глубоко верующим человеком, свято убежденным, что всякая власть от бога, а барина он любил больше, чем турнепс, который попробовал лишь однажды в жизни.
Сюжет сериала заключался в том, что Кондрата постоянно наказывали ни за что, а он, продолжая любить барина, верой и правдой служил ему, всякий раз демонстрируя готовность пожертвовать собой ради спокойствия и благополучия хозяина. В просмотренной Гришей серии Кондрат самоотверженно спас носки барина, случайно выпавшие во дворе из тазика прачки. Эти носки попытался умыкнуть смутьян Прокофий (тот исполнял роль отрицательного героя, постоянно подставлял Кондрата и делал барину разные пакости), но Кондрат не позволил мерзавцу похитить носки благодетеля. Он первым подбежал к ним, и, дабы более крепкий Прокофий не отнял их, проглотил сокровище, не жуя. Холопы, застывшие перед телевизором, одобрительно загудели, каждый стал высказываться в том духе, что ради спасения носков любимого барина еще бы и не то сделал. Гриша, глядя на них, вдруг испытал жгучее чувство стыда за то, что он тоже человек. Прежде ему казалось, что существует какая-то грань, ниже которой никто не способен упасть, этакое дно, в которое неизбежно упрешься, откуда ни рухни. Но теперь, глядя на окружающих его холопов, Гриша понял – пропасть бездонна, и падать в нее можно бесконечно долго. Всю жизнь. Пока не разобьют голову дубиной, и не отправят на заслуженный отдых.
После киносеанса все вернулись к работе. В паре с Гришей поставили Тита. Тот, как и покойный Спиридон, хватал самые здоровые камни, и, пачкая штаны, пер их к дороге. Гриша тоже не ленился, хотя и не надрывал себе пуп, как зловонный работяга. При Тите Гриша бездельничать побаивался – тот мог нажаловаться, и тогда вновь придется идти в воспитательный сарай, получать заслуженную награду. Вместо политики агрессии, Гриша избрал иную стратегию – стал беседовать с Титом так, будто планировал вскоре стать его лучшим другом. Но разговор не клеился. Точнее, в голове у Тита перегорели последние три синапса, и он окончательно утратил связь с внешним миром.
– Тит, кочергой по жопе бит, ты своих родителей знал? – спросил Гриша. – Тит, тормоз лютый, ты маму и папу знаешь?
Вместо ответа Тит распевно протянул:
– Пуще отца с матерью надлежит любить господина своего. Так святой старец Маврикий поучал.
– Тит, а лет тебе сколько?
– Не знамо.
– У тебя секс был?
– Ась?
– Секс, говорю, был? Задул какой-нибудь Матрене, а?
– Куды задул? Кто?
– Ты, тупость ходячая! Я спрашиваю, было у тебя с бабами что-нибудь, или нет.
– Что было?
– Вот же связался с идиотом… Ну что у мужика с бабой бывает?
– Что?
– Ты не в курсе? Ну а какие-нибудь варианты есть?
– Кто?
– Тит в пальто. Остолоп хренов, я тебя спрашиваю, ты с бабой когда-нибудь сношался, или нет?
– С бабой… Нет! Что ты! Бог с тобой! С бабами грех. Господь не велит. Святой старец Маврикий молвил, что о бабах думать не можно, иначе в царствии небесное не примут.
Гриша уже понял, что доводами типа «сам дурак» и «сам придурок» тут ничего не добьешься. Он решил логически доказать Титу, что тот неправ.
– Тит, покури минуту, давай поговорим, – сказал он, когда зловонный мужик, гадя на ходу от натуги, волок мимо него огромный валун.
– Что ты! – испуганно перекрестился Тит, установив на место свою ношу. – Курить не можно. Курево – барская забава. Святой старец Маврикий учил, что ежели холоп курево отведает, то у него уши ослиные вырастут, и он помрет в муках.
– У тебя уже мозги ослиные, чего там из-за каких-то ушей беспокоиться? – пожал плечами Гриша. – Да ты не парься, я просто так сказал. Курить не будем, просто посидим, поговорим. Надо ведь и отдыхать иногда. Недаром русская народная поговорка гласит: терпение и труд любого перетрут.
Тит нехотя присел на землю рядом с Гришей. Тот тут же начал рассуждать.
– Вот, Тит, смотри, – медленно и с расстановкой, чтобы дошло до самых-самых тупых, начал Гриша, – ты говоришь, что с бабами сношаться грех, так?
– Ага, – кивнул Тит. – Ужель не грех? Святой старец Маврикий говорил....
– Да погоди ты со своим старцем, запарил им уже! – перебил Тита Гриша. – Я тебе о бабах, а ты о каких-то старцах. Тит, ну смотри сам – если трахаться грех....
– Что делать? – не понял зловонный холоп.
– Сношаться, спариваться, – что тебе больше нравится? Ты понял теперь?
– Ага, – протянул Тит.
– Так вот, если сношаться грешно, и все, кто этим занимаются, в рай не попадут, то все, кто производит потомство пойдут в ад. А если никто не будет сношаться, то род людской прервется, и человечество вымрет. Хочешь сказать, бог желает, чтобы человечество исчезло?
Гриша старался изо всех сил, так умно и складно он отродясь не разговаривал. У него даже заболела голова в районе лба – похоже, перегрелся участок мозга, отвечающий за красноречие. Но от Тита все Гришины старания отскочили со свистом, не сумев пробить трехметровую броню тупости.
– Неисповедимы пути господни, – набожно пропел он, и, поднявшись, отправился за очередным камнем.
– Чтоб тебя пронесло жидко и с посвистом! – с ненавистью глядя ему вслед, пожелал доведенный до отчаяния Гриша.
Тит наклонился за камнем, начал поднимать его, и тут Гришино желание исполнилось: и пронесло, и жидко, и посвист присутствовал.
– Да никакие два миллиона этого не стоят, – пробормотал Гриша, обхватив голову руками. – Пять – не меньше. И незабываемая ночь с Ярославной. Иначе откажусь, и хрен меня кто заставит этим идиотизмом заниматься.
Глава 8
Заскрипели выдираемые из досок гвозди, крышка гроба медленно откинулась, и Гриша, щурясь на свет, осторожно выбрался из своего оригинального ложемента. В аппаратной находились Ярославна и один из гоблинов. Лев Толстой отсутствовал.
– Все хорошо? – спросила девушка. – Вижу, ты уже немного обвыкся.
– Да, уже почти удовольствие получаю. Дай пожрать. Я весь день камни таскал, а чем нас там кормили, о том лучше не спрашивай.
Ярославна заглушила установку и повела Гришу в его апартаменты. Идя чуть впереди, она спросила:
– Есть какие-нибудь успехи?
– А то! – самоуверенно заявил Гриша, не сводя глаз с виляющей прямо перед ним девичьей попки.
– Правда? – резко повернувшись к нему лицом, спросила Ярославна. – То есть, ты уже что-то узнал о жезле?
– До хрена и больше я о нем узнал. То есть, еще пока не узнал. Но есть один чувак, вот он точно что-то знает. Я сейчас как раз с ним работаю. Много он чего знает, но молчит, скотина грязная. Трудно такого расколоть. Я весь день сегодня пытался, и так, и этак. Морально весь выдохся. Мне бы эмоциональное состояние подлечить. Говорят, женская ласка хорошо способствует.
– Я передам Галине твои пожелания, – пообещала Ярославна. – А кто этот надежный информатор? Ты что, уже вышел на дворню?
Гриша уже знал, что дворней в имении называли холопов, живущих не в общих бараках, а непосредственно в особняке барина, за высоким забором. В число дворовых людей отбирали только самых преданных крепостных, готовых жизнь отдать не то что за самого барина, но даже за его плевок.
– Я там уже много на кого вышел, – нагло соврал Гриша. – Но дворня, это ерунда. Вот Тит – это реальный информатор. Я просто нутром чую, что он все о жезле Перуна знает. У него прямо на лбу написано, что знает все. Только тяжело его разговорить. Я пытался, пытался, весь перенервничал. Мне бы сейчас оральный массаж с частичным заглотом, для снятия стрессового состояния. Не для пустого баловства, не подумай. Исключительно в медицинских целях. Слушай, а можно тебе вопрос задать?
– Да, разумеется, – как-то даже обрадовалась Ярославна. – Давно уже пора. Ведь тебе, наверное, хочется больше узнать о том мире, в котором тебе придется жить какое-то время.
– Да в жопу мир. Ты лучше скажи – у тебя кто-нибудь есть?
– Ты о чем? – не поняла Ярославна.
– Я о том типа спрашиваю, что вот ты одна по ночам спишь, или нет?
Ярославна покосилась на Гришу, и спросила:
– С какой целью ты интересуешься моей личной жизнью?
– С целью ее возможного улучшения. Такая девушка не должна спать одна. Вообще никакая девушка не должна. Но такая, как ты, в особенности. Это же преступление. Иметь такие… такие….
Гриша дико уставился на высокую, потрясающей формы, грудь Ярославны, на которой ему даже померещилось клеймо ювелира и номер пробы – твердая волшебная троечка, и все никак не мог подобрать нужных слов. Да и были ли они нужны? За него все сказали затрещавшие нитки на брюках.
– Такие формы! – наконец-то выдохнул он. – При таких формах спать одной никак нельзя. Эгоизм же чистой воды. Тебе все это природа разве одной дала? Тебе это все зачем? Базара нет, можешь и сама себя поласкать в душе, или там перед сном, эротические фантазии порождая, но другим тоже хочется, так и знай. Не будь жадиной.
– Сочту все сказанное комплиментом, – кивнула Ярославна.
– Комплименты любишь? – оживился Гриша.
– А ты на них мастер?
– Ну, не хочу хвастаться, – опустив глаза, скромно признался паренек, – но на районе мне равных не было.
Ярославна прекратила нажимать кнопки на пульте, повернулась к нему и сложила руки на груди.
– Хорошо, давай послушаем, – сказала она.
Гриша понял, что его звездный час пробил. Не зря он тренировался на соседках и одноклассницах, все это была лишь подготовка к главному выступлению в его сольной карьере. Таких девушек, как Ярославна, ему не удавалось даже понюхать. Они обычно проносились мимо в дорогих автомобилях, вместе со щедрыми состоятельными мужчинами за сорок.
– Ну, у тебя, короче, типа жопа такая классная, – виртуозно затянул Гриша, помогая себе активными жестами. – И типа сиськи тоже вообще реальные такие, вообще отпад….
– Ого! – изумленно прервала его Ярославна. – Таких комплиментов мне еще никто никогда не говорил.
– Да погоди, – досадливо бросил Гриша, – я только разогреваюсь. Самое интересное впереди.
– Давай лучше в другой раз, – предложила Ярославна. – Хорошего понемногу. Тем более, ты устал, хочешь есть и спать.
– Есть вашу парашу из лопуховых корней, и спать в гордом одиночестве? – проворчал Гриша. – Ни того ни другого не хочу. Слушай, что мне сделать, чтобы получить гамбургер? Только скажи, я ради гамбургера на все готов. И когда я говорю – на все, я имею в виду – на все. Буквально. Я, конечно, не куннилингусовых дел мастер, но буду стараться изо всех сил.
– Поговори об этом с Галиной, – предложила Ярославна, указывая Грише на дверь. Тот уронил голову и покорно поплелся на выход из операторской.
– С Галиной, как же, – ворчал он на ходу. – С ней поговоришь. Она же глухонемоозабоченная. Купили бы ей вибратор, что ли.
– Покупали, – сказал Ярославна. – Он у нее в первую же ночь перегорел.
– Ну да, понятно. С вещами надо бережно обращаться, а как она с… вибраторами обращается, я уже знаю. Как будто завтра конец света, и он уже никому не пригодится.
Ярославна отвела Гришу в его комнату и сказала:
– Спокойной ночи. Сейчас Галина принесет тебе ужин….
– Подожди! – закричал Гриша. Глаза его расширились, в них застыло выражение неподдельного ужаса. – Не уходи! Побудь со мной, а? Ты ведь хотела мне о чем-то рассказать, вот и расскажи. Я хочу слушать. Только не оставляй меня наедине с Галиной.
Ярославна из вредности сделала вид, что уходит, Гриша зарыдал в голос и упал перед ней на колени.
– Она вчера шпингалет в туалете сорвала, – бормотал он. – Сегодня мне не удержать оборону. Будь человеком! Где твоя христианская доброта?
– Ну, хорошо, – нехотя согласилась Ярославна. – Теперь вижу, что тебе очень хочется узнать больше о том мире, в котором ты проводишь основную часть времени.
– Ты даже не представляешь, как мне хочется, – быстро закивал Гриша, с опаской косясь на дверь. – Мне так хочется, что ноги сводит. Ты вот тут садись, на кроватку, тут мягко, хорошо. И рассказывай.
Ярославна присела на кровать, Гриша устроился рядом, но не слишком близко.
– Итак, – спросила девушка, – что ты хотел узнать?
– Все! – решительно сказал Гриша.
– Нет, так не пойдет. Я же не могу тебе пересказывать всю историю Руси со дня ее основания.
– Историю Руси я в школе учил, – сказал Гриша. – Там ничего интересного. Зато училка у нас была такая, что все пацаны только сидя отвечали, потому что когда кто-то вставал, сразу было видно, как ему предмет нравится. Ты лучше мне расскажи о том, как Тит дошел до такой жизни.
– Кто?
– Тит. Мой новый лучший друг. Я бы даже сказал – брат, но как представлю, что мы с ним могли выйти из одной… кхе-кхе… бухты, так сразу рвотные спазмы накатывают.
– Тит, это один из холопов? – попыталась внести ясность Ярославна.
– Да.
– А что именно тебе в нем не нравится?
– Мне в нем ничего не нравится, мужики вообще не в моем вкусе. Мне нравятся стройные высокие девушки с буферами третьего размера. Где-то я недавно одну такую видел…. Ладно, ладно, закончили с комплиментами. Так вот, про Тита. Тит, как человек, для меня загадка. Для меня загадка – человек ли он? По всем внешним признакам, он не человек, а скотина немытая, только я никак не пойму, какая. В деревне бывал, в зоопарке бывал. Всяких животных видел. Тит ни на одно не похож. Даже свиньи, по сравнению с ним, чистоплотные и хорошо пахнут.
– Неужели все так плохо? – усомнилась Ярославна.
– Плохо? – невесело усмехнулся Гриша. – Да вообще ни в звезду! Представь себе большую, нет, огромную кучу свежих фекалий, лежащую на солнце, в летнюю жару, над ней воздух колышется от смрадных испарений, мухи летают….
– Не перебарщивай с натурализмом, – убедительно попросила Ярославна. – Я сегодня еще не ужинала.
– Ладно. Ну, ты представила? А рядом представь Тита. Так вот лучше в эту кучу щучкой занырнуть, чем с Титом по-братски обняться.
Ярославна засмеялась, Гриша, нахмурившись, понял, что ему не верят.
– Если бы тебе предложили на выбор, поцеловаться с Титом или смертная казнь, ты бы что выбрала?
– Даже не знаю, – продолжая улыбаться, пожала плечами Ярославна. – Наверное, поцелуй.
– А вот и неправильно! – злорадно воскликнул Гриша. – Потому что если бы ты к Титу на расстояние поцелуя приблизилась и понюхала, тебя или паралич бы разбил, или синдром Дауна накрыл. Если Тита бросить в реку, всплывут даже водоросли. Если Тита зарыть в поле, то на этом поле ничего не вырастет. И никогда. Но это еще половина трагедии. Самое страшное в том, что у него клапан не держит. То ли сорвали ему его, то ли уродился с бракованным, но поп-музыка вообще не прекращается. Там, блин, у всех с этим проблема. И так они громко выдают, что даже вздрагиваешь и на небо смотришь – не сверкнет ли молния.
– Возможно, это обусловлено особенностями холопского питания, – предположила Ярославна.
– Питание там тоже не дай бог! – пожаловался Гриша. – Вообще удивляюсь, как эти бедолаги еще живы. Если бы меня так с детства кормили, я бы до своих лет не дотянул.
– Насколько нам известно, среди холопов очень высокая смертность, в особенности детская, – сообщила Ярославна. – Три младенца из четырех не доживают до месячного возраста. Из оставшихся половина умирает до года. Выживают лишь самые крепкие и выносливые. Но высокая смертность компенсируется обильным приплодом. Женщины, отобранные на племя, начиная с двенадцати лет, постоянно находятся в состоянии беременности.
– А что, нельзя разве кормить людей по-человечески, ну и лекарства им какие-нибудь давать, если заболеют? – задал Гриша вопрос, который мучил его с первой минуты пребывания в ином мире. – Я типа не о черной икре говорю и не о вырезке, но хотя бы картошку какую-нибудь вареную давали бы, супчик на костях. Компот. Сытые ведь и здоровее, и живут дольше, и болеют меньше. Вот Колька Скунс никогда гриппом не болеет. А почему? Потому что жрет много и охотно. С другой стороны, была у меня подруга одна, которая вечно на каких-то диетах сидела, так, блин, она вообще не выздоравливала. Помню, придешь к ней, а у нее стабильно понос и марлевая повязка на морде. То есть никакого сексуального разнообразия.
– По всей видимости, хозяев мало заботит здоровье холопов и их долголетние, – сделала вывод Ярославна. – Благодаря высокой рождаемости пополняется естественная убыль. А создание для холопов приемлемых жизненных условий неизбежно будет сопряжено с финансовыми затратами.
– Да я, типа, понял, не тупой, – проворчал Гриша. – Это ты меня не поняла. Что бабки каждому жалко, это ясно. Меня тоже жаба душила, когда приходилось Машке подарки покупать. Жаба сильная, часто побеждала. Но там другое. Там нарочно ждут, когда картошка сгниет, и только потом ее, уже гнилую, скармливают холопам. И спят там холопы на земле, точнее, на охапках грязного сена. Сено это, похоже, вообще никогда не меняют, оно уже черное и благоухает так, что глаза режет. А я там, в поле, видел скирд, здоровенный, сука, тоже черный, похоже, сено несколько лет назад заскирдовали и бросили. Почему не взять оттуда сена и не заменить его на лежанках? Оно же все равно там без дела гниет.
– Хм, не знаю, – задумчиво проговорила Ярославна. – Если все так, как ты говоришь….
– Так и есть! – возмущенно крикнул Гриша. – Я тебе не гонщик. За базар конкретно отвечаю.
– В таком случае, не понимаю. Если подумать, то во всем этом должен быть какой-то смысл. Ведь не из простой же вредности они это делают. А вообще ты молодец, что подметил это. Прочие операторы ни о чем таком не сообщали.
Гриша от похвалы весь расцвел, как задница под розгами. Хвалили его в жизни редко, чаще критиковали или просто осыпали оскорблениями. Насытившись грубостью окружающих индивидов, Гриша выработал защитную реакцию – превентивное хамство. Теперь не ждал, пока обидят, первый кидался и не скупился в выражениях. Бабки у подъезда Гришу боялись, как огня – спуску он старым кошелкам не давал. Не успевали они еще рта открыть, чтобы высказать ему за громкую музыку в три часа ночи и оправление естественных потребностей в подъезде, как Гриша первый набрасывался на них, сжав кулаки и вылупив глаза. Бабки в мановение ока оказывались поставлены на место. Гриша или запугивал их громким и свирепым ревом, или сыпал страшными угрозами, обещая навалить на коврики перед их квартирами или талантливо измазать двери фекалиями. А одну вредную старушенцию Гриша однажды так сильно напугал, с криком бросившись на нее из-за угла, что она при его появлении сразу пряталась под лавку.
– Я вообще сообразительный, – приврал Гриша, набивая себе цену. – В школе на хорошем счету был, учителя говорили, что таких талантливых учеников у них еще не было. Когда, после девятого, собрался в ПТУ идти, физик на коленях за мной ползал, умолял остаться. Говорил, что если уйду, то хоть школу закрывай.
– Ты учился в школе для особенных детей? – уточнила Ярославна, пряча улыбку.
– Да! – кивнул Гриша. – Для необычных. Обычных туда не брали.
При этом он вспомнил своего учителя физики, который, узнав о том, что Гриша покидает их после девятого класса, упал на колени прямо во время урока и стал горячо благодарить всевышнего за эту милость. Не то чтобы Гриша вел себя на уроках особенно плохо, но он своими умелыми руками переломал всю аппаратуру, так что проводить опыты стало не на чем. Когда на уроке дали задание собрать электрическую цепь, Гриша включил в эту цепь и сидящую впереди одноклассницу. У всех в конце опыта загорелась лампочка, а у Гриши затряслась девочка.
На уроке химии он одним движением угробил два микроскопа: на один микроскоп села муха, вторым Гриша попытался ее убить.
– Почему же при таких выдающихся способностях ты не продолжил учиться? – спросила Ярославна, уже откровенно издеваясь, но Гриша, чей взгляд зацепился за такую близкую и прекрасную грудь собеседницы, скрытую всего лишь тонкой блузочкой да бюстгальтером, потерял связь с реальностью и ни на что не обращал внимания.
– Да я хотел, – промямлил он, держа правую руку левой. Правая рука рвалась туда, к двум холмикам, только и ждущим, чтобы их погладили, потискали, увлажнили языком, левая, не вышедшая из-под контроля, держала ее и не пускала. – Хотел я, да. Но не сложилось…. И вообще, хватит уже обо мне говорить. Давай говорить о тебе. Так у тебя есть кто-нибудь, или нет?
– Почему тебя это так интересует?
– Шутишь? Ты себя в зеркале видела? Если видела, зачем глупые вопросы задаешь?
– Мне приятно твое внимание, но мне кажется, что в сложившихся обстоятельствах тебя гораздо больше должно интересовать что-то иное. Например, тот мир, в котором ты выполняешь свое задание. Или обстоятельства этого задания. И я не помню, чтобы ты хотя бы раз поинтересовался, что такое жезл Перуна и почему мы его разыскиваем. Не может быть, чтобы все это тебя не интересовало.
Гриша согласно кивал головой, пока Ярославна говорила, а когда она замолчала, он осторожно спросил:
– А у тебя точно третий размер, да? Угадал?
– Что ни оператор, то интеллектуал, – проворчала Ярославна. – Прошлый был такой же. Мог поддерживать разговор только на три темы: тачки, телки, пиво. И почему попадаются одни одноклеточные?
– Я не одноклеточный, – обиделся Гриша, про себя пытаясь вспомнить, интересовало ли его в жизни хоть что-то кроме тачек, телок и пива. Кажется, очень давно, еще до школы, он мечтал об игрушечной железной дороге. Гриша хотел сказать об этом, но передумал, поскольку игрушечный поезд это тоже, в некотором роде, тачка.
– С другой стороны, это может быть плюсом, – размышляла вслух Ярославна. – Чем меньше человек знает о своем родном мире, тем проще ему адаптироваться в чужом. Вот я едва ли сумела бы влиться в холопский коллектив, а ты там уже друзей завел….
– Э, хватит, блин, подкалывать! – обиделся Гриша, заметив глумливую улыбку Ярославны. – Холопом жить – с гигиеной не дружить. Тит тоже не виноват, что его помоями кормят и мыться не дают. А вот если его отмыть, мех сбрить, приодеть, посадить в крутую тачку, ты бы точно не устояла. Вот только перестанет ли он после всего этого вытирать зад ладонями, а ладони о бороду?
– Ты сказал, что он многое знает о жезле Перуна, – с сомнением произнесла Ярославна. – А что он может знать? То есть, откуда холопу что-то может быть известно о древнем артефакте? Вряд ли он видел какие-то старинные тексты….
– Тексты? – невесело усмехнулся Гриша. – Даже если Тит и видел древние тексты, он мог ими разве что жопу подтереть, потому что читать не умеет. И писать. И все остальное тоже. У него хорошо получается только воздух портить.
– Тогда откуда ему известно о жезле Перуна?
Гриша задумался, что бы такое соврать. Ведь ляпнул же, не подумав, теперь выкручивайся.
– Ему об этом рассказал дедушка, – наконец выговорил Гриша.
– А откуда дедушка узнал?
– От своего дедушки. Легенда о жезле Перуна передается в роду Тита из поколения в поколение вот уже до хрена и больше лет.
– Вот как, – разочарованно проговорила Ярославна. – Это нам никак не поможет. Нас ведь интересует не прошлое жезла, а настоящее. Даже если твой Тит потомок жрецов, некогда владевших жезлом, он ничего не знает о том, где этот жезл находился в тысяча восемьсот двенадцатом году, на момент появление кометы, что и расколола наши ветви пространственно-временного континуума.
– Так-то он, конечно, не знает, – согласился Гриша. – А если его к дереву привязать, костерок развести…. Иголочки под ногти, головку в мышеловку, угольки в штаны…. Глядишь, что-нибудь да вспомнит.
В этот момент в комнату Гриши вошла Галина с подносом. Глухонемая повариха с момента Гришиного появления на объекте стала тщательнее следить за собой, вульгарно красилась, принаряжалась, даже на двадцать сантиметров укоротила свой поварской халат. Завидев ее, Гриша заскулил и вцепился в Ярославну. Он понял – если бы девушка не согласилась остаться с ним сегодня, Галина неизбежно добилась бы своего. Потому что из-за пояса ее халата выглядывал фомка, которой повариха собиралась ломать двери, если те вдруг встанут на ее пути к плотским утехам.
Заметив, что Гриша не один, Галина расстроилась, но постаралась это скрыть. Поставив поднос на стол, она развернулась, изнасиловала Гришу взглядом, и неспешно покинула комнату.
– Фу! Блин! – выдохнул Гриша, когда за поварихой закрылась дверь. Он без сил повалился на кровать, с него градом катился ледяной пот. Гриша все понял. Сегодня Галина не собиралась отступать, сегодня она решила идти до конца. Именно до конца – только он ее и интересовал. Не будь тут Ярославны, Грише пришлось бы несладко.
– Спасибо! – произнес Гриша с чувством. – Ты меня спасла. Если бы не ты…. Блин! Почему нельзя было взять молодую симпатичную повариху лет двадцати, желательно замужнюю, чтобы в случае залета не было претензий?
– Галина – надежный и проверенный сотрудник, – заметила Ярославна. – В молодости она состояла в оперативной группе, в ее составе выполняла секретные задания по всему миру. Потом два года была ликвидатором – устраняла тех, кто мешал деятельности опричников. Она и теперь еще многое может.
– И этой маньячке вы доверяете готовить еду? – ужаснулся Гриша. – А если она, по старой памяти, яду в супчик добавит, чисто для аромата? Хотя зачем яд? От вашего лопухового пюре и без всякого яда через месяц околеешь в диких корчах. Тебе самой не тошно эту бурду наворачивать?
Ярославна помолчала, а затем нехотя призналась:
– Вообще-то лопуховым пюре кормят только тебя, остальные питаются нормальными блюдами.
– Что? – заорал Гриша, вскакивая на ноги. – Значит, это вы специально меня дерьмом угощаете, а сами колбаску да мясцо за обе щеки…. Блин! Я так и знал, я догадывался. Ну не мог Толстой на лопухах такую харю себе раскормить!
– Это делается исключительно для твоего блага, – пояснила Ярославна. – Ты самый лучший оператор из всех, что были прежде. У вас с зеркальным двойником почти стопроцентное слияние. Тебя берегут, о твоем здоровье заботятся, поэтому и кормят самой здоровой и полезной пищей. Ну а нас, менее ценных и заменимых сотрудников, кормят хуже.
– Что ты ела сегодня на обед? – поставил вопрос ребром Гриша. – Признавайся!
– Очень вредный борщ со сметаной и ужасно вредные фаршированные перцы. На десерт кошмарно вредный кофе и невероятно вредная булочка с маком.
Гриша закричал раненым зверем и без сил упал на кровать. Новость поразила его до глубины души. В то время как его питали противной гадостью и лицемерно разглагольствовали о пользе натуральных продуктов, Толстой и его подельники наворачивали за обе щеки борщи да фаршированные перцы.
– Что у вас сегодня на ужин? – потребовал ответа Гриша, вскакивая с постели и подбегая к подносу с пайкой. На подносе стояла тарелка, доверху наполненная вязкой зеленоватой субстанцией, пахнущей чабрецом. Рядом стоял стакан с нектаром из чертополоха. Если лопуховой нектар еще можно было пить, то с этого выворачивало наизнанку раньше, чем жидкость успевала стечь по пищеводу в желудок.
– Отвечай: что у вас сегодня на ужин?
– Картофельное пюре с котлетой и чай с кусочком пирога, – тихо ответила Ярославна, не поднимая глаз.
– Гады! – заорал Гриша, бессильно ударяя кулаком о стену. – Котлеты…. Пироги…. А мне вот это?
И он, схватив тарелку с лопуховой кашей, запустил ее об стену.
– Я попрошу Галину, чтобы она принесла тебе другую порцию, – сказал Ярославна, вставая и направляясь к двери.
– Нет! – взвыл Гриша. – Не надо другой порции! Я не голоден.
– В таком случае желаю тебе спокойной ночи.
– Да, тебе того же и туда же…. Блин! Котлеты жрут, а меня вот этим кормят, – закричал Гриша, когда Ярославна покинула его обитель. – Котлеты, пироги, фаршированный перец, копченое сало, кура-гриль, салат «Оливье»….
Схватив стакан с нектаром, Гриша отправил его следом за тарелкой, после чего люто прорычал:
– Ненавижу Льва Толстого!!!
Глава 9
Следующий день оказался насыщен событиями сверх всякой меры. Мало того, что ожидался приезд дочери барина, так он еще совпал с большим православным праздником – днем рождения заживо канонизированного патриарха Никона. Как понял Гриша из разговоров холопов, в честь праздника ожидалось какое-то особенное угощение, а еще крестный ход и торжественный молебен. Но прежде чем совершать культовые действия, все холопы спозаранку были выгнаны на работы, дабы успеть доделать то, что не было доделано вчера. Дорогу, ведущую к барскому дому, заставили мыть – выдали ведра, тряпки и мыло. С обочин убрали весь мусор до соринки – остался чистенький песок. Все строения покрасили. Холопов тоже не забыли – каждому выдали по башке палкой, и строго-настрого приказали вести себя с молодой барыней почтительно, кланяться в ноги и не разгибаться, а на все ее вопросы отвечать одним словом – хорошо. Для Гриши, который уже успел снискать репутацию злостного смутьяна, провели отдельный инструктаж в уже хорошо знакомом ему сарае. После порции тумаков, надзиратель взял в полки секатор и показал его Грише.
– Еще хоть раз на тебя пожалуются – оскоплю вот этим! – предупредил он.
Гриша все понял, и пообещал, что отныне он будет образцовым холопом.
Ближе к обеду приехал отец Маврикий, тот самый святой старец, которого так часто цитировали крепостные. На самом деле оказалось, что Маврикию чуть за сорок, и старцем он отнюдь не выглядел. Его привезли на шикарном автомобиле с крестиком на лобовом стекле и мигалкой в форме церковного купола. Холопы, когда автомобиль священнослужителя проезжал мимо, попадали на колени и стали креститься, бормоча молитвы. Грише не хотелось падать на колени со всеми, но он помнил прозвучавшую в сарае угрозу. Пришлось подражать подавляющему большинству.
Примерно через два часа всех холопов сняли с работ, согнали к бараку и стали строить в колонну. Из небольшого сарайчика были извлечены предметы культа – здоровенный деревянный крест, икона пресвятого патриарха Никона в полный рост и в натуральную величину, хоругви, подсвечники и прочий инвентарь. Все это добро раздали холопам. Грише традиционно повезло – он вместе со зловонным Титом должен был тащить тяжеленный крест.
Выстроив колонну, надзиратели уселись под тентом пить чай с бубликами, а холопы так и остались стоять, как бойцы терракотовой армии, боясь даже шевельнуться. Бояться было чего – каждого заранее предупредили, что шевеление будет караться немедленной отправкой в кастрационный лагерь.
Гриша страдал. Солнце било лучами прямо в глаза, по спине стекали капельки пота. Покрытое грязью тело нещадно чесалось, тяжелый крест оттягивал руки, а тут еще Тит стоял рядом и благоухал, как деревенский нужник.
– Долго мы здесь торчать будем? – шепотом спросил Гриша у напарника.
– Святого старца Маврикия ожидаем, – ответил Тит.
– И где его черти носят, этого святого старца? – проворчал Гриша себе под нос.
Святой старец появился примерно через два часа. Это был высокий толстый мужик, лучащийся здоровьем и благополучием. Ряса в районе пупка у него была оттопырена так, будто он засунул под одежду арбуз-рекордсмен. На неохватном лице выделялись только щеки, похожие на огромные ягодицы. Следом за старцем шел молодой человек, тоже в форме сотрудника церкви, но званием явно ниже. С ними был еще один мужчина лет пятидесяти, тоже ухоженный и сытый, одетый просто, но со вкусом.
– А кто этот третий? – шепотом спросил Гриша у Тита.
– Господь с тобой! – ужаснулся зловонный мужик. – Это же благодетель наш, отец родной. Аль запамятовал?
– Барин, значит, – сквозь зубы прорычал Гриша, успевший накопить, за недолгое время пребывания в холопской шкуре, изрядный запас классовой ненависти. Вид человека, который стоял за всем этим беспределом с ежедневными побоями, каторжными работами, кормлением помоями и кастрациями, вызвал в Гришиной душе прилив кровожадности. Очень хотелось Грише оказаться с этим милым и добрым барином тет-а-тет: только барин, он, и секатор в его руке.
Речь отца Маврикия, обращенная к холопам, была краткой, но содержательной. Святой старец говорил о богоугодности покорности и трудолюбия, о необходимости любви к своему барину – наместнику бога в имении, о пагубности смутьянства и о невероятной пользе воздержания во всем и от всего. Барин со свечкой в руке добродушно улыбался и крестился. У него оказалось доброе открытое лицо, добрый взгляд, добрая улыбка, так что с первого взгляда невозможно было признать в этом милом человеке жуткого упыря, который морил людей голодом, заставлял пахать до потери пульса, калечил и убивал. Гриша, слушая попа краем уха, все никак не мог понять, почему холопы, что стояли как столбы и каждый десять секунд хором блеяли «аминь», до сих пор не разорвали на части и барина, и святого старца и надзирателей. Неужели Ярославна была права, и его окружала новая порода людей, покорных, бесхребетных и тупых?
После религиозного напутствия начался крестных ход. Холопы колонной двинулись вокруг имения, распевая на ходу религиозные гимны. Пока шли по утоптанной земле, все было нормально, но когда выбрались на пашню, начались проблемы. Холопы стали спотыкаться, падать. Упавших надзиратели, что шли по бокам колонны, тут же били палками. Одному холопу, уронившему подсвечник, надзиратели разбили голову, второго отлупили так, что бедняге осталась одна дорога – на заслуженный отдых. Барин и поп в крестном ходе не участвовали, они отправились в усадьбу, откушать и выпить.
Пытка продолжалась долго. Холопы все чаще спотыкались, да и сам Гриша был не раз близок к тому, чтобы уронить крест. Гриша понимал, что за это его сразу убьют, предварительно кастрировав, но к счастью Тит всегда страховал его – он так вцепился в крест, будто тот был кейсом с баксами.
Когда колонна приблизилась к дороге, Гриша возрадовался, что идти теперь станет легче. Но надзиратели завернули крестный ход и погнали его по пашне параллельным курсом. По всей видимости, они не хотели пачкать грязными холопскими ногами чисто вымытую дорогу, по которой сегодня дочка барина должна была приехать к папеньке в имение.
Гриша держался из последних сил, и уже давно проклял все на свете, а вот Тит, который тоже почти падал от усталости, вдруг прошептал хриплым голосом:
– Благодать-то какая!
Походило на то, что Тит получал от всего происходящего какое-то удовольствие. Гриша тут же смекнул, что его новый друг – конченый мазохист.
Колонна уже подходила к финальной точке крестного хода, как вдруг на дороге появился автомобиль, несущийся по направлению к усадьбе. Надзиратели остановили колонну и заставили холопов повернуться лицами к дороге.
– На колени, скоты! – рявкнул один из них, и тут же перетянул Гришу палкой по спине. – На колени! Барыня едет.
Холопы дружно грохнулись на колени и уткнулись лбами в землю, надзиратели остались стоять, только поснимали шапки. Автомобиль начал сбавлять скорость и напротив колонны вовсе остановился. Из машины выскочил водитель, открыл заднюю дверь и тут же поклонился. Гриша чуть приподнял голову и наблюдал.
Юная барыня оказалась еще краше, чем на фотографии. Одета она была примерно так же, как одевались ее сверстницы в Гришином мире, вот только юбка, по мнению пришельца, могла бы быть сантиметров на двадцать короче.
– Здравствуйте, милые мои! – со слезами счастья на глазах поприветствовала холопов Таня.
– Хорошо, – хором протянули в ответ исполнительные холопы.
– Как поживаете?
– Хорошо.
– Вдоволь ли питаетесь?
– Хорошо.
– Не терпите ли в чем нужды?
– Хорошо.
– Рады вы мне?
– Хорошо.
Тут вперед выступил один из надзирателей, отвесил барыне низкий поклон, и взял слово:
– А то разве не рады? Еще как рады! Как узнали, что вы едете, так еще за три дня сказали: не будем ни спать, ни есть, пока любимую госпожу не увидим. Дорогу языками вылизали, сутками работали. Удерживать приходилось, боялись, загоняют себя до смерти. А еще сказали – как приедет любимая барыня, мы ее вместе с машиной на руках до усадьбы донесем.
– Правда? – радостно спросила Таня, и, как показалось Грише, даже поверила во всю эту чушь.
– Правда, госпожа. Дозволь, твою машину до усадьбы донесут. Сделай милость.
– Конечно, конечно! Несите.
И Танечка тут же запрыгнула в машину, а надзиратели пинками подняли холопов на ноги и негромко предупредили их, что ежели машина с ценным грузом хоть раз качнется на холопских руках, этой же ночью всех ожидает поголовная кастрация молотком.
Если до личной встречи Гриша испытывал к Танечке теплые чувства и даже любовался ее фотографией перед сном, то теперь он возненавидел эту дуру всей душой. В первую очередь за то, что она явилась в имение на таком большом и тяжелом автомобиле.
Холопы обступили автомобиль, взяли его за днище, и попытались оторвать от земли. Сделать это оказалось непросто. Послышалось надрывное кряхтение, вот кого-то прорвало с тыла, затем еще один пауэрлифтер обделался от натуги. Надзиратели сквозь зубы угрожали холопам жуткими расправами, холопы, надрываясь, все же подняли автомобиль на руки. Гриша оказался как раз напротив задней двери, в окно которой выглядывала счастливая Танечка. Она даже помахала Грише ручкой, но парню было не до тупых блондинок. Рядом с ним громко пускали ветры собратья по несчастью, да и сам Гриша чувствовал, что еще немного, и он точно кого-нибудь родит против шерсти и законов природы.
Медленно, осторожно, холопы понесли автомобиль к воротам усадьбы. Путь был недалекий – всего метров пятьдесят, но не все его осилили. Двое все же надорвались и попадали на асфальт. Надзиратели поступили с ними так, как и обещали, только вместо молотка использовали свои дубинки.
Машину внесли во двор усадьбы и аккуратно поставили на тротуарную плитку. После этого холопов быстро удалили за пределы человеческого жилища, а навстречу дочери уже бежал счастливый папаша. Гриша обернулся, с ненавистью глядя на гнусных эксплуататоров. Рядом вышагивал Тит с отвисшими штанами, что были сзади коричневыми, а спереди желтыми. Ладони у Тита были в крови – порезал об металл корпуса.
После крестного хода было подано обещанное угощение, которое надзиратели называли «холопское оливье». Гриша ждал, что хотя бы в честь большого праздника их покормят как людей, а не как контейнер для бытовых отходов, и в предвкушении потирал впалый живот. В своем истинном обличии, то есть в своей родной ипостаси, что в данный момент лежала в гробу и отдыхала, Гриша не грешил лишним весом. Он был худощавый и не слишком спортивный, что говорило о врожденном отвращении к физическим нагрузкам. Но тело его зеркального двойника, холопа Гришки, оказалось настоящим анатомическим пособием, заветной мечтой любой фотомодели. Когда Гриша находился в этом теле, у него при движении гремели кости, как, впрочем, и у всех холопов. Гриша, при желании, мог пощупать свой позвоночник через пупок, или же обхватить пальцами руку в районе предплечья. У Гришиного двойника к его двадцати с небольшим годам осталось всего лишь пятнадцать зубов, черных и гнилых, и это, как выяснилось, был неплохой показатель, потому что у некоторых тружеников к восемнадцати во рту было просторно и язык ни за что не цеплялся. Гриша не переставал удивляться тому, что его двойник сумел дожить до своих лет на помоях и адском труде. Однако, учитывая среднюю продолжительность жизни среди холопов, которая составляла двадцать пять лет, Гришин двойник был по здешним меркам уже пожилым человеком.
Вот двое крепостных прикатили тележку, на которой была установлена большая деревянная бочка. В бочке что-то плескалось, холопы возбужденно загалдели.
– В очередь, скоты безмозглые! – рявкнул надзиратель, и крепкие дубинки блюстителей порядка и стабильности быстро упорядочили хаотичную толпу, выстроив ее в одну линию. Крепостные по очереди подходили к бочке, получали миску с холопским оливье, отходили и начинали жадно поглощать лакомство. Когда очередь дошла до Гриши, он уже успел по третьему кругу истечь голодной слюной. Бегом подбежав к бочке, Гриша схватил миску, подставил ее под половник, и едва не закричал благим матом, когда увидел, что в тарелку ему льются все те же, уже конкретно приевшиеся помои, только подкрашенные в белый цвет прокисшим майонезом. Этот майонез ничуть не улучшал вкусовых качества блюда, зато существенно сказывался на скорости пищеварения: холопов жидко несло раньше, чем они успевали дохлебать свое праздничное лакомство.
В Грише закипела ненависть. В отличие от прочих крепостных, специально выведенных путем искусственного отбора, он не был прямоходящим животным, лишенным всех человеческих качеств, кроме способности к членораздельной речи. Впрочем, что касалось речи, то даже с ней, у некоторых крепостных, возникали проблемы. Например, Каллистрат, которого Гриша называл сокращенно – Кал, или ласково – Кастрат, говорил так, будто у него во рту постоянно находился некий инородный предмет, существенно ухудшающий дикцию. Гриша, десять минут проработав с Каллистратом в паре и наслушавшись его невнятного звучания, предложил мужику этот предмет изо рта вынуть, потому что там ему совсем делать нечего. Когда же к ним присоединился Тит, Гриша спросил у зловонного перца:
– Тит, хреном по лбу трижды бит, почему этот дятел так базарит, будто в рот набрал?
– Язык в детстве прикусил, – пояснил Тит.
– Ничего себе! Конкретно он его прикусил.
– Не он, – помотал головой Тит. – То надзиратель ему щипцами кузнечными язык прикусил.
Гриша хотел поинтересоваться, за что Каллистрат подвергся такой бесчеловечной процедуре, но вовремя опомнился. Это в его мире один человек совершал какие-то зверства над другим, имея на то причины, ну или думая, что имеет таковые, а тут могли прикусить язык щипцами, переломать кости, кастрировать и убить просто так, от скуки.
Так вот, Гриша отличался от холопов своим мировоззрением, своей моралью и, самое главное, тем, что имел гордость, которую из прочих крепостных выбили еще семь поколений назад. Каждую секунду пребывания в этом мире, его гордость подвергалась унижениям и обидам, и в Грише все сильнее закипала злость, а жажда мести терзала сильнее, чем пивная жажда. Но мстить надзирателям и барам своими руками он не хотел – это было сродни самоубийству с предварительной самокастрацией. Тут требовались чужие руки, послушные, тупые и исполнительные. Гриша решил подыскать подходящего холопа и науськать его на надзирателей. Гриша рассуждал так: все равно бедолагу сразу же на месте прибьют, так что рассказать он ничего не успеет, но прежде он хотя бы палкой успеет одного из мордоворотов отоварить, а если повезет, то и гвоздем в глаз. Мелочь, в общем-то, но все равно на душе станет легче, да и самолюбие слегка приподнимет прижатую к земле голову.
К осуществлению своего коварного плана Гриша приступил сразу же, после праздничного банкета. Его опять отправили перетаскивать навозную кучу на прежнее место, и там, орудуя вилами, он присмотрел себе первую жертву. Жертвой оказался крепостной Макар – тот самый двадцатилетий увалень с глубоко посаженными глазками, весь покрытый вулканическими прыщами, и хромой, что съел кучу фекалий в обмен на ложное обещание провести несколько приятных минут с бабой. Хромотой Макара одарили громилы помещика, за то, что тот трижды пытался пересечь запретную линию, отделяющую женскую территорию от мужской. В первый раз Макар отделался легким сотрясением мозга и комплектом живописных синяков. После второго раза, когда побили основательнее, его честно предупредили, что в третий переломают ноги. Макар знал, что с ним не шутят, но его тянуло на женскую территорию с неодолимой силой. Полез в третий раз. Как и в первые два полез тупо, ибо думать, как и прочие холопы, не умел. Был, разумеется, пойман, и получил то, что ему и обещали. Впрочем, надо отдать должное надзирателям – те проявили определенный гуманизм: вместо двух ног, сломали одну, зато в трех местах. Дело это было года два назад, и с тех пор кости у Макара срослись. Но срослись криво, как умели, так что теперь Макар сильно и смешно хромал. Юмарной Гриша называл его резким спринтером.
Став увечным, Макар уже не мог работать наравне со всеми. Теперь ему приходилось работать в два раза больше, чем прежде, лишь бы доказать свою полезность, потому что бесполезные холопы отправлялись на заслуженный отдых.
Грише больно было смотреть, как этот хромой бедолага загоняет себя в гроб работой. Вечером он приползал в барак буквально на ушах, потому что руки и ноги ему не повиновались – отнимались от трудов непосильных. Макара нарочно заставляли выполнять самую трудную работу – надзиратели даже делали ставки, споря, загнется ли хромой до грядущего рождества Христова, или протянет чуть дольше. Макар рубил дрова огромным колуном, колол камни кувалдой, таскал в одиночку бревна. Даже в сравнении с прочими холопами он выглядел ужасно. В гости к девчонкам он прорваться больше не пытался. Макар понимал – если ему сломают вторую ногу, то уже никакое усердие его не спасет.
Грише подумалось, что если кто-то и желает отомстить надзирателям, так это Макар. По крайней мере, терять бедолаге точно было нечего. Более того, Гриша не очень понимал, ради чего тот так надрывает себе пуп, работая за пятерых. Ладно бы была хоть какая-то надежда на лучшее. Нет, ничего подобного. Какое лучшее его может ждать? По мнению Гриши, самое лучшее, что мог сделать для себя Макар, это умереть назло барину и его громилам. Все лучше, чем бессмысленный адский труд.
Но пока Макар еще был жив, он мог оказаться полезным. Великим воином Макар не казался, больше подходил под категорию людей, которых, что называется, соплей перешибешь, и все же, в сложившейся ситуации, было не до привередливости. По большому счету Грише было все равно, кого подставить, лишь бы не себя. Даже если Макар хотя бы плюнет в одну из наглых надзирательских рож, это уже будет сладкая месть.
Гриша возил навоз и наблюдал за Макаром. Тот же, когда на него смотрели громилы, работал на износ, но стоило надзирателям удалиться, бросал свой тяжкий труд и начинал бездельничать. Вот и теперь, как только мимо него прошел один из костоломов, поигрывая дубинкой, и скрылся за углом, Макар уронил пудовый колун и присел на травку возле сарая.
Момент был идеальный. Гриша, вонзив вилы в кучу удобрений, приблизился к холопу и поприветствовал его.
– Здорово, – обратился он к Макару. – Как дела?
Макар поднял голову и нехотя вытащил руку из штанов. В отличие от остальных холопов, Макар, лишенный женской ласки, рукоблудил много и охотно, затрачивая на это занятие все свое свободное время и немало сил.
– Я спросил – как дела? – повторил Гриша, уже выяснивший, что местный крепостной контингент отличается повышенной тупостью и с первого раза без подзатыльника понимает редко.
– Хорошо, – ответил Макар, и попытался опять запустить руку в штаны. Присутствие рядом постороннего его не смущало. Крепостным вообще было чуждо понятие стыда, ибо ни чести, ни чувства собственного достоинства у них не было с рождения.
– Слушай, тебе не надоело горбатиться? – зашел издалека Гриша.
Макар пожал плечами, ритмично работая правой.
– Разве это жизнь? – спросил Гриша.
– Жизнь… – тупо повторил Макар, и, несколько раз дернув головой, оплодотворил штаны. Вытирая руку о свою грязную рубаху, он воровато осмотрелся по сторонам, и прикрыл глаза, явно настраиваясь немного вздремнуть.
У Гриши возникло одно единственное желание – двинуть этому тупорылому онанисту с ноги в костлявый бок.
– Слышь, баран, я же с тобой говорю, – с трудом сдерживая раздражение, произнес он громко.
Макар приоткрыл глаза и посмотрел на собеседника:
– А?
– Хрен на! Я говорю – работать не надоело?
– Нет, я работать люблю, – пробурчал Макар, запуская палец в правую ноздрю.
– Это ты кому-нибудь другому расскажи, – не поверил Гриша. – Вижу я, как ты работать любишь. Примерно так же, как и я. Лучше вот что послушай. Что, если всех господ и их прихвостней перерезать, и зажить так, как хочется?
От поступившего предложения Макар так резко и сильно дернулся, что едва не загнал в ноздрю весь палец по самый корешок.
– Господ перерезать? – простонал он. – Что ты! Бога побойся! Неужто я, православный, пойду людей резать? Что ты!
– Тогда можно будет вообще не работать, – принялся искушать Гриша. – Целый день лежать, и в носу ковыряться. И жрать не только помои, но и мясо….
– Мясо – господская еда! – отрезал Макар, глазки которого как-то странно забегали. – Бог так положил, что мясо едят господа, а мы, крестьяне, едим отруби и турнепс.
– К девкам сможешь пойти, – уже почти отчаявшись, выложил главный козырь Гриша. – Ты же хочешь к девкам. Как господ и надзирателей порежем, все твои будут.
– Нет! Нет! – испуганно замотал головой Макар, кое-как поднимая себя на хромые ноги. – Божья заповедь гласит – не прелюбодействуй. Бог к девкам ходить запретил, так святые старцы молвят.
– А онанировать тебе святые старцы не запрещали? – зло спросил Гриша.
– То не с девкой, то сам с собою, – растолковал Макар. – С собою можно, не грех.
– Ну а жить-то по-людски тебе что, не хочется? – теряя терпение, спросил Гриша. – Ведь ты же как скотина, даже еще хуже. О скотине, по крайней мере, хоть как-то заботятся, а на тебя всем плевать – и господам, и святым старцам, и богу твоему. Без бога шире дорога. Свергнем барина, заживем как люди. К девкам будем ходить, мясо кушать, бездельничать целый день, потом опять к девкам….
– Свят-свят-свят! – быстро закрестился Макар. – Да что же это? Да разве же так можно? Ведь это какой грех! Нет, ты уж меня, православного, на такое не подбивай. Сам лиходей, так и меня загубить хочешь. Не выйдет! Пойду, расскажу все про тебя господам. Пущай тебя накажут строго, чтобы впредь к греху не склонял.
И Макар, хромая, побрел к барскому дому, из-за угла которого как раз вывернула группа громил с дубинами за поясами.
Гриша среагировал мгновенно – он прекрасно понимал, чем лично ему будет грозить промедление. Со всех ног бросившись к громилам, он обогнал хромого Макара, и, пав перед надзирателями на колени, закричал:
– Вот этот холоп меня только что уговаривал господ всех зарезать, и все их добро себе взять. Не могу молчать, совесть мучает. Разве же мы не христиане, чтобы людей, да еще господ, резать?
– Вот этот такое говорил? – спросил один из громил, указывая пальцем на оробевшего и онемевшего от страха Макара.
– Он самый, лиходей, – подтвердил Гриша, в глубине души восхищаясь собственной сообразительностью. Да, Ярославна была права, когда говорила, что у него есть то, чего нет у холопов. У него действительно имелось одно преимущество, вот только не мозги, а инстинкт самосохранения, помноженный на гипертрофированный эгоизм.
Макар дико вылупил глаза, тупо переводя взгляд с Гриши на громил и с громил на Гришу. А Гриша, чувствуя себя героем, закрепил успех мелкими подробностями:
– Сказывал, что барина косою вострою зарежет до смерти, а доченьку его Танечку снасильничает на конюшне.
Громилы уставились на оробевшего Макара, и руки их потянулись к дубинкам.
– Барыню хочешь снасильничать? – спросил один из садистов, и на лице его расцвела людоедская ухмылка.
– Да я ж…. Да мы ж…. Православные мы…. Христиане мы…. И в мыслях не имел….
– Сейчас узнаем, кого ты в мыслях имел, а кого не имел, – кровожадно прогудел главный садист. – Ребята, а ну бери лиходея, и на конюшню его.
Пассивный и покорный от рождения Макар даже не пытался сопротивляться, только изумленно хлопал глазами, и, кажется, все еще наивно рассчитывал, что недоразумение разрешится само собой. Но когда его взяли под белы рученьки и вежливо поволокли к конюшне, он понял – чуда не будет.
– Христом-богом клянусь – и в мыслях не имел! – зашелся криком он. – Клевета все! Вот вам крест!
Один из громил перетянул шумного смутьяна дубинкой по спине. Макар хрипло закричал, после чего перестал оправдываться. Шагать тоже перестал – ноги отказали. Но могучие головорезы легко тащили его под руки, да еще и шуточки отпускали, дескать, сейчас узнаешь, как на молодую барыню губу раскатывать.
Вся компания скрылась в конюшне, Гриша, мучимый нездоровым любопытством, осторожно подкрался к приоткрытой двери и заглянул внутрь.
Внутри Макар получал свое. Точнее – чужое. Если за обычную провинность секли вожжами или дубинками, то смутьяну-Макару выпало получать по спине оглоблей. Оклеветанного бедолагу уложили брюхом на огромную колоду, задрали рубаху, после чего самый дюжий садист, кряхтя, выволок из стойла здоровенное ошкуренное бревно – оглоблю. Сделал богатырский замах, благо высокий потолок позволял, и опустил оружие возмездия на спину холопа.
Раздался страшный крик – Макар всей кожей и всеми костями ощутил, как был не прав, когда возмечтал покуситься на девичью честь молодой барыни. А оглобля уже вздымалась повторно. Гриша, весело хихикая, невольно зажмурился, когда бревно со страшной силой обрушилось на холопскую сипну. Послышался нездоровый хруст, Макар хрипло закричал, обмяк, и как тряпичная кукла стек с колоды.
– Братцы, ног не чую! – заливаясь слезами, стонал он. – Света белого не вижу! Дайте дух перевести.
– Прикидывается, – сделал вывод старший садист. – За дураков нас держит. На колоду его, мерзавца!
Напрасно Макар просил об отсрочке наказания – его грубо схватили и опять бросили на колоду. Гриша заметил, что ноги действительно не слушаются Макара. Походило на то, что экзекуторы перебили бедняге позвоночник.
– Братцы… – завопил Макар, видя, что оглобля поднимается над ним в третий раз. – Православные! Да что же это….
Гриша резко отвернулся, не желая видеть, как тяжелое бревно упадет на голову Макара. Хрустнул череп, холоп, подрыгав ногами, стек на присыпанный соломой земляной пол, и больше уже не шевельнулся.
– По заслугам получил, – сделал вывод старший садист. – Нечего было супротив господ замышлять. Еще легко отделался.
Пока надзиратели не успели выйти с конюшни, Гриша бегом вернулся к своему навозу и продолжил начатую работу. Первая неудача не смутила его. К тому же смерть Макара никак нельзя было назвать отрицательным результатом – теперь, по крайней мере, этот прыщавый озабоченный дегенерат перестанет ночами ворочаться на своей соломе, кряхтеть, стонать и громоподобно извергать нижним жерлом зловонные газы.
Глава 10
Ночь Гриша провел ужасно – трезвым и в одиночестве. Ярославна не появилась вовсе, Лев Толстой тоже где-то пропадал. Ужин ему принесла Галина, и, страстно мыча, попыталась добиться интимной близости. Гриша в страхе забился под кровать, и стал истошно орать, что его насилуют. На крик явился один из гоблинов и увел Галину.
Отсутствие спиртного и острый дефицит женской ласки лишь укрепили Гришино желание отыграться хоть на ком-нибудь, желательно на драчливых садистах. Неудача с Макаром Гришу не смутила. Макар, по мнению Гриши, был тем первым блином, который комом. Гриша учел свои ошибки, и решил в следующий раз действовать иначе – не вываливать все сразу, а подготовить холопа постепенно, подвести его издалека.
Утром появилась Ярославна с покрасневшими, после бессонной ночи, глазами, отвела Гришу в аппаратную и уложила в гроб.
– Начальство требует результатов, – сказала она и широко зевнула.
– Будет им результат, – ехидно посмеиваясь, пообещал Гриша.
На самом деле Гриша уже давно забыл о том, что должен был раздобыть сведения о местоположении жезла Перуна. Его всецело увлек собственный коварный план. Требовался только исполнитель, и кандидатура вскоре сыскалась.
Выбор пал на Степана – мужика лет двадцати пяти отроду, выглядевшего благодаря свежему воздуху и экологически чистому питанию на пятьдесят восемь. У Степана в имении помещика была относительно легкая работа. Он был водовозом. Не смотря на то, что в имении имелись водопровод, канализация, был подведен газ и, разумеется, электричество, должность водовоза никто не отменял. Ведь это был такой замечательный повод заставить человека заниматься никому не нужным тяжелым трудом.
Рано утром, раньше петухов и даже раньше кур, раньше всех остальных холопов, Степан поднимался по привычке, заменяющей ему будильник, впрягался в старую телегу с бочкой, и волок ее к пруду за пять верст от имения. Прибыв на пруд, Степан дырявым ведром наполнял бочку, и вез ее обратно, уже в гору. Прибыв в имение, Степан переливал воду в большой железный бак, и торопился в общагу, дабы успеть хоть одним глазком глянуть на телеведущую Парашу. Степан давно и безнадежно был влюблен в Парашу, но виделся с ней редко – почти всегда, когда он возвращался с пруда, программа «Доброе утро холопы» уже заканчивалась.
Степан, как и прочие крепостные, производил впечатление человека тупого и темного. К тому же, как и прочие холопы, он был отвратительно неряшлив, ходил вечно грязный, рваный, и с огромным желтым пятном на штанах спереди. Гриша, таская на тележке навоз (опять с места на место), некоторое время наблюдал за Степаном. Тот, неподалеку, чинил свою тележку, у которой во время утреннего рейса отвалилось колесо. Телега перевернулась, Степана сильно зашибло оглоблей. Теперь он прихрамывал, и все время поджимал правую поврежденную руку. Но увечья не спасли его от наказания. За порчу господского имущества Степана немного воспитали за сараем по почкам.
Теперь он вынужден был спешно ремонтировать свою телегу, дабы поспеть сделать полуденный рейс. Всего рейсов было три – утренний, полуденный и вечерний. В перерывах между ними Степан, можно сказать, отдыхал: перекапывал один и тот же участок земли тупой и погнутой лопатой. Никому этот участок земли нужен не был, ничего на нем сажать не планировали. Но ведь холоп не должен сидеть без дела. Вот и заставляли заниматься напрасным трудом, дабы не даром свой хлеб, то есть, свои помои ел.
Пока крепкие ребята барина ходили поблизости, Гриша усердно таскал навоз, а Степан чинил тележку. Но стоило надсмотрщикам удалиться, как водовоз бросил инструменты, присел на травушку и, болезненно морщась, закатал грязную штанину. Даже со своего места Гриша увидел на ноге бедолаги огромное темное пятно – след от удара оглоблей.
Поняв, что надзиратели удалились, Гриша решил действовать. Он не имел опыта агитаторской работы, но кое-что по телевизору смотрел, так что решил соблазнять Степана по старинке, землей и заводами. Воровато озираясь, Гриша вонзил в циклопическую кучу навоза успевшие сродниться с ним вилы, и незаметно подкрался к Степану со спины.
– Что, опух, лох позорный? – неожиданно рявкнул Гриша, посчитавший, что хорошая шутка лучший повод для знакомства.
Степан подлетел на ноги, как ужаленный, заметался, зарыдал, затем рухнул на колени и стал униженно просить прощения.
– Расслабься, свои, – утешил мужика Гриша, с отвращением посматривая на Степана, с рождения лишенного даже намека на уважение к себе.
Водовоз прекратил бить поклоны, задрал голову и посмотрел на Гришу.
– Шутка, – пояснил тот.
Поняв, что бить его, кажется, не будут, Степан вновь уселся на траву и стал потирать ушиб на ноге листом подорожника. При этом он бормотал что-то, вроде заклинания. Прислушавшись, Гриша понял, что это молитва, обращенная к святителю Николаю, умеющему, по поверью крепостных, лечить разные хвори.
– Короче, дело к ночи, – выдал Гриша, привлекая внимание Степана. – Я тут чего реально сказать хотел. Землю чисто крестьянам, фабрики типа тоже. Как тебе такой расклад?
– Чего? – не понял его Степан.
– Я чисто конкретно базарю – землю тебе дадут, будешь на ней работать.
– Еще один участок для вскапывания? – опять не въехал Степан.
– Нет, тормоз, не еще один участок. Тебе землю дадут, ясно? Тебе. Навсегда.
– Думаешь, к рытвинке отвезут? – забеспокоился Степан. – Нет, мне еще рано на заслуженный отдых. Я еще поработаю.
Он попытался опять взяться за починку телеги, но Гриша помешал ему. Придержав мужика за руку, нежно так, ласково – Степан аж вскрикнул от боли, пришелец из иного мира решил сменить тактику. Заводы и фабрики Степана не тронули, оставалось только одно средство воздействия – бабы.
– Тебе телки нравятся? – спросил он у Степана прямо.
– Кто? Телки? Коровы, что ли, молодые?
– Во баран-то, а! Нет, не коровы. Если ты по части коров, то нам с тобой не по пути. Я и сам в нежном возрасте, когда в деревне гостил, к одной козочке присматривался с интересом, но влез все-таки на соседку. Ты тоже с коровами завязывай. Нормальные пацаны таким отстоем заниматься не должны. А вообще я тебя спрашиваю, как ты насчет баб. Бабы тебе нравятся? Или только коровы?
Гриша коснулся больной темы. В имении крепостные мужчины и женщины содержались отдельно, и к женщинам допускались только те самцы, которых отбирали на племя. Остальные видели баб издали, или по телевизору. Повального онанизма или гомосексуализма, впрочем, не наблюдалось – на это просто не оставалось сил, как и ни на что другое.
– Бабы, – простонал Степан, закатывая глазки. От одного этого волшебного слова он едва не провалился в бездну оргазма, но Гриша не позволил мужику познать блаженство. Не для того он рисковал, оставляя работу и заводя с ним беседу.
– Бабу-то хочется, а? – принялся выпытывать он заманчивым голосом. – Такую, классную, с вот такими сиськами, с вот такой жопой…. Хочешь бабу, да? По глазам вижу, что хочешь.
Степан поплыл. С таким змием-искусителем он еще не сталкивался.
– Ты хотя бы щупал бабу? – спросил Гриша. – Хоть дотрагивался до нее… чем-нибудь?
– Я…. Это…. Да я ж…. Да мы ж….
У Степана уже потемнело в глазах – никогда прежде ему не доводилось вести подобных невероятных разговоров. Мужики из числа крепостных, не отобранные на племя, избегали разговоров о женщинах. Это было логично. Люди, вынужденные голодать, тоже избегают разговоров о еде, дабы не придушить друг друга.
– Считай, жизнь прожил даром, – заключил Гриша. – Что это за жизнь без баб, без водки….
– А что это – водка? – простонал Степан.
– Это, брат, такая штука, после которой бабы в три раза слаще. Выпиваешь литр водки, закусываешь бабой…. Блин, помню, скинулись как-то с пацанами на стриптизершу, вот с такими вот сиськами, не соврать! Это была вообще не баба, а конь.
– Конь?
– Да нет, блин. Не конь она была, а баба. Но такая баба, как конь. Так нас всех пятерых изъездила, что потом три дня по стеночке ходили. Стриптизерши, они все такие, спортивные. Привыкли вокруг шеста крутиться…. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду.
– Что? – тупо спросил Степан, не замечающий, как по его подбородку ниагарским водопадом струиться похотливая слюна, а покрытые желтыми пятнами штаны оттопырены в надлежащем месте так, что за малым не рвутся по хлипким швам.
– То самое, – растолковал Гриша. – Шест твой. Или что там у тебя? Ты не кастрат случайно?
– Не, я Степан.
– Слава богу. А то, я вижу, тут яйца режут налево и направо. Наверное, чтобы от тоски по бабам на стену не лезли. С тобой, кстати, такого не случалось?
– Чего?
– На стену не лез? Со мной было. Однажды проснулся ночью, и так бабу захотелось, что я на ковер полез, который на стене висел. Ковер оборвал, палкой, к которой он крепился, себе голову зашиб. А самое смешное, что Машка-то все время рядом спала. Я про нее как-то забыл.
Тут Гриша понял, что клиент созрел, и пора переходить от подготовки к самой вербовке. Подвинувшись ближе к Степану, он прямо спросил:
– Хочешь трех баб с вот такими сиськами?
– Да! – вырвалось из груди Степана.
– Будут! Любые, каких захочешь. Там, на женской территории, всяких баб много. Как всех надзирателей и господ порешим, любые три твои.
– Люблю я Парашу крепко, – признался Степан, и бурно покраснел.
– По тебе видно, – кивнул Гриша. – С первого взгляда ясно, что твое место у параши.
– Ой, точно, – закивал Степан. – У Параши милой мне самое место. А ты не знаешь, она не в нашем имении случайно живет?
Гриша очень сомневался, что ведущая телепередачи живет в их имении, но решил не расстраивать Степана.
– Да, у нас. Я ее видел, – ответил он, не предприняв попытки покраснеть. – Кстати, она тебе привет передавала.
– Мне? – ахнул Степан.
– Тебе. Так и сказала: передай привет Степе водовозу.
Степан схватился за сердце и начал дышать через раз. Гриша решил добить уже почти завербованного члена подпольной организации по свержению эксплуататорского режима, и брякнул:
– А еще она сказала: хочу Степе водовозу отдаться, и чем скорее, тем лучше.
Вот тут Гриша понял, что переборщил. От передозировки счастьем Степан закатил глаза, затрясся всем телом, затем несколько раз дернул ногами, вытянулся и опочил.
Гриша осторожно склонился над бренными останками, и легонько ткнул Степана пальцем.
– Эй, лох, ты чего? Ты вырубился?
Гриша попытался найти у Степана признаки жизни, но безуспешно. Пульс не прослушивался, сердце не билось. По всему выходило, что Степан трагически умер.
– Семяизлияние в мозг, – прошептал побледневший Гриша. – Думал сказки, не бывает такого. Бывает, оказывается.
Гриша хотел обыскать усопшего, но побрезговал – тот весь был в грязи и в испражнениях, да и никаким имуществом холопы все равно не владели. Все, что было у Степана, это его дерьмовая жизнь, да и та ему не принадлежала: родили его по приказу, всю жизнь заставляли что-то делать, и даже умер он лютой смертью – от сексуального голодания.
Гриша вернулся к своей работе, то и дело косясь на хладный труп Степана. Где-то в глубине души Грише было жалко мужика, но не настолько, чтобы скорбеть о нем и лить слезы. Гриша даже подумал, что для Степана так будет лучше. При его образе жизни смерть должна казаться избавлением, единственными вратами, ведущими на свободу. Одно лишь печалило – умер Степан бесполезно. Мог бы перед смертью доброе дело сделать – какому-нибудь надзирателю в харю плюнуть. А лучше самому барину.
Вскоре появились надзиратели, заметили холопа, лежащего на земле без дела, и тут же попытались его взбодрить – набежали и начали бить палками. Степан никак не реагировал на все эти призывы к честному труду на своего помещика. Тогда надзиратели, прекратив воспитательную процедуру, осмотрели Степана, и вынесли однозначный вердикт – срок годности холопа истек. Пришло время оттащить его на заслуженный отдых. В качестве носильщиков выбрали Тита и Гришу, поскольку те оказались ближе всего к телу. Влача почившего Степана за ногу, Гриша сквозь зубы бранил усопшего:
– Почему опять я? Что я, крайний что ли? Вообще он из-за Параши ласты склеил, вот пускай она его на холопомогильник и тащит… Тит, скотина грязная, кончай уже воздух портить!
Из Тита до сих пор выходило низом послевкусие холопского оливье. Ароматическая сторона вопроса была столь невыносима, что Гришу прошибало на блев не столько от смрада гниющих тел, сколько от кишечного газа напарника.
– Тит, если рядом с тобой огонь зажечь, то Хиросима отдохнет. Ты прекращай это дело. Спиридон, штопанный пардон, тоже любил задом греметь, и кончил плохо. Степан, вот этот, которого тащим, такие рингтоны шоколадным оком порождал, что дай бог каждому айфону. И тоже кончил хреново. Закономерность просматривается. Смотри, и ты допердишься.
– На все воля божья, – набожно ответил Тит, после чего из его штанов зазвучал таинственный шепот, сменившийся хлюпаньем и бульканьем.
Третьей жертвой Гриши стал Кондрат – крепостной крестьянин феноменальной тупости. До тесного знакомства с ним Гриша был уверен, что тупее Тита скотины нет во всех мирах, но Кондрат приятно удивил его. По сравнению с этим переходным звеном между обезьяной и другой обезьяной Тит казался почти человеком.
Кондрат был настолько туп, что ему поручали самую элементарную работу, для выполнения которой не требовалась высшая нервная деятельность. Чаще всего его заставляли рыть ямы. Поскольку тупость Кондрата достигала таких высот, что он не был в состоянии взаимодействовать с лопатой, ямы от рыл голыми руками, и всегда только вглубь. Рыть траншеи Кондрат не умел – не было у него к этому таланта. Копал одни колодцы. Вначале копал, а потом закапывал, поскольку никому эти колодцы не были нужны.
Когда Гриша впервые увидел Кондрата, он испытал шок. Ему показалось, что он нос к носу столкнулся с каким-то чудовищем. Гриша шел себе по своим холопским делам, тащил на плече мешок с навозом, и вдруг увидел кошмарную картину: какой-то невыносимо грязный мужик с крошечной головой руками рыл землю. Гриша остановился и залюбовался новым проявлением холопской тупости. Затем он выяснил, что крепостного звали Кондрат. Кондрат являлся потомственным дураком. Его папашу крепостные помнили хорошо – за выдающуюся тупость его определили в производители. Но счастье продлилось недолго. Производитель успел оплодотворить лишь одну самку, а во второй раз с разбега промахнулся мимо бабы и сломал член об забор. Мамаша Кондрата тоже была личностью незаурядной: не умела ничего делать, в том числе говорить, думать, отличать день от ночи и все остальное.
Гриша даже не рассматривал кандидатуру Кондрата на роль террориста-смертника, потому что не видел способа наладить с ним контакт. Все чувства Кондрата, такие как зрение, слух, вкус, осязание и обоняние работали через жопу, руки росли оттуда же, голова являлась филиалом задницы, фактически третьей ягодицей, на которую была возложена дополнительная функция по поглощению продуктов питания. Говорил Кондрат редко и не в тему, чаще всего тупо мычал или ржал, как мерин. Его пытались определить в производители (такой экземпляр просто обязан был передать свои золотые гены в будущее), но Кондрат и тут проявил свою оригинальность. Вечером его с бабой заперли в брачном сарае, а утром, когда отперли дверь, обнаружили нетронутую бабу, трехметровый колодец, вырытый прямо в земляном полу, и Кондрата на его дне. Связываться с таким персонажем Грише не хотелось, но постигшие его неудачи с Макаром и Степаном вынудили пойти на крайние меры – попытаться завербовать Кондрата.
Жертву свою Гриша обнаружил за работой – Кондрат в поте лица, со всем возможным усердием, рыл землю голыми руками. Глядя на него, Гриша вспомнил одного своего одноклассника, такого же старательного тупицу. Тот тоже был дурак, каких даже плодородная русская земля порождает мало, но зато дурак старательный. Он учился изо всех своих сил, он заглядывал в рот учителям, он вчитывался в учебники, он делал все домашние задания. Впрочем, никакое прилежание не могло компенсировать полнейшую атрофию головного мозга. И все же свои тройки дурень получал – за старания.
Кондрата еще не отволокли на заслуженный отдых из тех же побуждений. Никакой пользы барину он не приносил, даже не отрабатывал место в спальном хлеву и кормовых помоев. Имение не нуждалось в колодцах, поскольку был водопровод, так что единственная специальность Кондрата оказалась невостребованной. И все же Кондрата держали на этом свете, берегли ценный генофонд.
Кондрата Гриша застал за его любимым и единственным занятием. Подойдя ближе, и убедившись, что за ними не наблюдают надзиратели, Гриша обратился к холопу:
– Кондрат, который в жопу отодрат, типа разговор есть.
Напрасно Гриша думал, что фраза, наполненная смыслом и произнесенная на известном собеседнику языке непременно должна дойти до его мозга. Тогда Гриша легонько пнул тормоза ногой в бок. Никакой реакции. Пнул сильнее – и опять ничего. Отошел подальше, разбежался, и пробил с такой силой, что чуть не сломал лодыжку. Кондрат хрюкнул, и спросил:
– Ась?
– Кондрат, тупостью богат, у меня к тебе разговор.
Кондрат уставился на Гришу беспросветным взглядом, затем, недолго думая, поднес сложенные лодочкой ладони к лицу и мощно высморкался в них. Улов оказался велик – насморкал полную пригоршню. Заинтригованный Гриша внимательно наблюдал за холопом, ожидая, как же тот поступит со своей добычей. Кондрат особо не удивил – облизнулся и слопал все.
– Ням-ням! – счастливо заявил он и смачно втянул в рот повисшую на подбородке соплю. – Важно!
Гриша все это пронаблюдал стойко, даже не поморщился, но Кондрат вдруг протянул свои ладони к нему, и жалобно попросил:
– Дай!
– Тебе чего дать? – не понял Гриша.
– Сопельки дай! Ням-ням. Важно!
Тут Гриша понял, что Кондрат просит его высморкаться в подставленные ладони с целью последующего поглощения добытого продукта.
– Дай! – взмолился Кондрат и наводнил глаза слезами.
– Пошел ты в жопу! – закричал Гриша сердито, развернулся, и поспешил удалиться. Столкновение с Кондратом окончательно убедило его, что отомстить надзирателям чужими руками не получится – все чужие руки, имеющиеся в наличие, росли исключительно из задницы. Как и все имеющиеся в наличие головы.
Глава 11
– Тит, огурец в очко забит, а как можно попасть в дворню?
Тит остановился, вонзил вилы в землю и уставился на Гришу, который и озвучил этот вопрос.
– В дворню? – переспросил зловонный стукач.
– Ну да, в дворню. Чтобы поближе к господам.
– И-и, касатик, то не легко. Самых преданных холопов в дворовые берут, которые, значит, самые преданные. Вот как Яшка.
Об этом Яшке Гриша уже был наслышан. Яшка являлся холопом, сделавшим к своим девятнадцати годам головокружительную карьеру. Начинал он простым дерьмоукладчиком – в ведрах растаскивал навоз по полям и раскладывал его квадратно-гнездовым способом. А затем, после инцидента с лужей, в одночасье сделался лакеем. Ближе него к барину была крепостная девка Акулина, что жила в усадьбе, одевалась в шелка и даже, по слухам, умела читать. Барин завел Акулину после смерти жены. Той тогда было пятнадцать, и даже под слоем грязи просматривалась довольно милая мордашка, а под бесформенной рубахой угадывались вполне себе аппетитные буфера. Барин привел Акулину в дом, отмыл, одел, слегка откормил и оставил при себе. Полюбилась Акулина барину. Впрочем, как объяснили Грише знающие люди, это вовсе ничего не значило. Акулина в любой момент могла оказаться в той же куче дерьма, из которой ее когда-то извлекли, притом оказаться в той же бесформенной рубахе и с той же грязью на мордашке. Гриша на это ответил, что в его родном мире с барами и Акулинами ситуация точно такая же, но понят обитателями хлева не был.
Так вот, Яшка был вторым человеком по близости к барину после фаворитки. Помещик доверял ему во всем, любил как собаку или морскую свинку, и даже даровал ему немыслимую привилегию – во время трапезы сидеть подле ног барина и доедать за ним с его золотых тарелок. За это холопы прозвали Яшку золотыми устами имения.
Распорядок дня у Яшки был такой, что не всякий выдержит. Просыпался он раньше барина, раньше Акулины, раньше холопов, раньше петухов, даже раньше ныне покойного Степана водовоза, и, едва проснувшись, брался за дело. Дело у Яшки было одно – любыми путями показать барину, как сильно его верный раб любит своего господина.
Спал Яшка на земле, под открытым небом, прямо под окном барской опочивальни, дабы в любой момент услышать, если вдруг господин покликает его среди ночи. Спал чутко, в одни глаз, так как барин частенько подзывал его ночной порою. Надо ли комара назойливого отловить и изничтожить, одеяло ли подоткнуть, спину ли почесать, посчитать для барина холопов, если тому не спится – все Яшка. Пробуждался Яшка затемно, и первым делом начищал языком барские сапоги. Это было его личное ноу-хау. Предшественник Яшки, лакей Матвей, личность легендарная, начищал сапоги щеками, но Яшка переплюнул его. Он зачерпывал обувной крем языком, после чего тонким равномерным слоем наносил его на сапоги господина. Слюна придавала крему глянцевый блеск, но больше всего нравились барину кое-где случайно оставленные на поверхности сапог отпечатки Яшкиных губ. Это было так трогательно.
Начистив сапоги, Яшка относил их к дверям опочивальни барина вместе с его платьем. Затем он доставлял от прачек наряд Акулины, что традиционно коротала ночку в одной с барином постели. Сделав все это, Яшка бежал на кухню и проверял, как готовится господский завтрак. Пробу Яшка не снимал, поскольку верил, как и все прочие холопы, что стоит ему отведать господской еды, такой как мясо, рыба, птица, молоко, шоколад, яйца… в общем, все, кроме помоев, как бог тут же покарает его. Проинспектировав поваров, Яшка во всю прыть пробегался по всем пяти туалетным комнатам, имеющимся в доме, и везде наводил идеальную чистоту. Стульчак вылизывал языком, внутренность унитаза начищал ладонями – язык туда не дотягивался.
После уборной Яшка садился на пол перед дверью в барскую опочивальню и терпеливо ждал, когда господин изволит пробудиться от сладкого сна. Это ожидание было самым трудным испытанием для любого лакея. Многие ломались на нем, и, сморенные утренним сном, засыпали, прижавшись лицом к стене. С такими преступниками не церемонились. От лакея к лакею передавалась жуткая история Ивашки изувера, который вот так же присел перед господской дверью, ожидая пробуждения барина, да и заснул. И мало того, что заснул, так еще и обделался во сне, потому что забыл вставить себе терпежные принадлежности. И когда из спальни вышел барин со своей женой, женщиной благовоспитанной, утонченной, изысканной, когда увидел все это непотребство, скандал вышел страшный. Барыня, узрев растянувшегося в луже зловонных испражнений храпящего лакея, лишилась чувств, даже барину стало дурно. Лакея изувера тут же оттащили в воспитательный сарай, где проделали с ним все, что только можно. Кастрирован он был еще в юношеском возрасте, так что по второму разу резать было нечего, зато всему остальному досталось с избытком. В задний проход Ивашки, что так подвел его, поместили тридцать восемь инородных предметов, в том числе такие, как лом, скалка, веник и так далее. Притом поместили все сразу. Секли вожжами посменно, пока не содрали со спины и кожу, и мясо, так что показались позвонки. Затем утюгом жгли пятки, подсоединили к соскам электрические провода и долго пытали током. Когда Ивашка начал отходить в мир иной, его выволокли во двор, привязали за ноги к бамперу автомобиля и с ветерком прокатились по бездорожью.
Яшка, разумеется, знал эту историю, но в отличие от Ивашки ему было что терять. Во-первых, Яшка не был кастратом, во-вторых, барин лично обещал ему через годик-другой перевод в разряд производителей, и в-третьих, ему была дарована небывалая привилегия доедать за барином объедки. До поступления на должность лакея Яшка питался так же, как и все холопы, то есть помоями, сеном и дикорастущими травами. Но когда он впервые отведал объедки барина – кожуру от апельсина, слегка обглоданную куриную ножку и стакан яблочного сока с упавшей в него мухой, Яшка испытал три оргазма залпом. Он готов был вылизывать барский унитаз, барский зад, все, что угодно, готов был вылизывать, лишь бы продолжать питаться так же шикарно. А какой праздник у него случался, когда прокисали, к примеру, щи, притом не одна тарелка, а целых пол кастрюли. А когда однажды барин уронил на пол кусок торта, и позволил лакею съесть его, Яшка познал величайшее блаженство.
Яшке было что терять. И Яшка изо всех сил старался не сделать ничего такого, что могло бы вызвать гнев барина. Когда он утром ждал под дверью его пробуждения, он почти безостановочно колол себя в ногу булавкой, которую как-то нашел во дворе. А однажды Яшка едва не погиб, и спас его от гибели лишь невероятный героизм. В тот раз он провел всю ночь без сна, и утром, сидя под дверью, почувствовал, что засыпает, и булавка уже не может ему помочь. Тогда Яшка, уже почти проваливаясь в гибельный сон, из последних сил рывком сложился пополам, и сильно укусил себя за мошонку. Сон сразу как рукой сняло, Яшка от боли катался по полу, но не проронил ни звука.
Барин высоко ценил Яшку, позволял тому целовать свои ноги, а однажды пожаловал пылинку со своего плеча. Эту пылинку Яшка трепетно хранил вот уже третий год.
Так вот, до самого пробуждения барина Яшка сидел под дверью и ждал. Наконец из спальни звучал знакомый голос, призывающий своего лакея. О, сколько радости, сколько счастья испытывал в этот миг Яшка. Голос барина был для него всем. Слыша его, Яшка буквально воспарял над полом, и на крыльях любви влетал в барскую опочивальню. Там он подносил барину тапки, и, если настроение у господина было хорошее, испрашивал высочайшего дозволения облобызать ступни кормильца. Затем помогал барину одеться, притом не вставая с колен, и так же, на коленях, полз за ним в туалетную комнату, где помогал барину во всех процедурах: подавал ли мыло, регулировал ли температуру воды при помощи смесителя, вылизывал ли барский зад после хождения по большому.
Затем шел завтрак: барин и его фаворитка Акулина, числившаяся в доме горничной, но работающая несколько по иному профилю, садились за накрытый стол и трапезничали, а Яшка стоял подле барина на коленях и равнодушно взирал на аппетитные блюда. Равнодушно смотреть на то, как другие за обе щеки наворачивают черную икру, колбаску, сыр, хлебают кофе, будучи при этом зверски голодным, считалось высшим лакейским пилотажем. Лакей, который будет жадно глазеть на господские яства и постоянно сглатывать голодную слюну может расстроить барина, испортить ему аппетит. Такие лакеи на своих должностях долго не задерживались. Но Яшка, как уже говорилось, был лакеем талантливым, если не сказать – от бога. Как бы голоден он ни был, что бы барин ни ел при нем – ни один мускул никогда не дрогнул на Яшкином лице. Глядя на него, могло сложиться впечатление, что все эти перепела, куропатки, сочные свиные ребрышки и прочие господские яства ему даже противны, и что он смотрит на них единственно из уважения к барину, а так бы вовсе плюнул и отвернулся.
Зато и награда за эту невозмутимость была велика. Когда барин, насытившись, брал со стола, скажем, недоеденное яичко, или обглоданный кукурузный початок, или куриную кость, и бросал эти дары Яшке, тот ликовал. О, нет, он отнюдь не набрасывался на подачку, как голодный пес, не пихал добычу в рот, не брызгал по сторонам голодной слюной. Яшка был холоп от бога, и никогда не забывал о правилах этикета. Он медленно, с достоинством, поднимал с пола банановую кожуру, складывал ее красиво, и неторопливо поедал, откусывая маленькие кусочки. Всякий раз, когда у барина бывали гости, они приходили в изумление, видя столь благовоспитанного холопа. Один сосед помещика Орлова, знаменитый мыслитель граф Пустой, наблюдая за Яшкой, даже высказал мысль, что крепостным тоже не чуждо некоторое благородство.
В отличие от остальных холопов, не входящих в состав дворни, Яшка имел ряд привилегий. Он носил не рваные обноски, а вполне приличный костюм из добротной мешковины. Яшка был освобожден от воинской службы, в то время как над остальными холопами мужского пола постоянно висела опасность попасть в рекруты, то есть угодить в солдаты. Срок службы в царской армии, как выяснил Гриша, составлял двадцать пять лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни крепостного, следовало считать этот срок посмертным.
О том, что делается в армии этой ветви пространственно-временного континуума, Гриша узнал от Еремы. Ерема по меркам холопов считался глубоким стариком – ему было уже тридцать лет. В шестнадцать ему выпала высокая честь стать защитником отечества, он стал им, и прослужил десять годков, до тех пор, пока не комиссовали – вовремя выяснилось, что у Еремы плоскостопие. Вначале Ерема не очень хотел рассказывать о своем армейском житье-бытье, но Гриша старался так и этак, и в итоге разговорил ветерана. Впрочем, когда Ерема разоткровенничался, и стал вываливать одну жуткую историю за другой, Гриша пожалел, что вообще завел этот разговор. Армейская жизнь оказалась еще более мрачной, чем жизнь в имении, хотя слово «жизнь» и в том и в другом случае применять следовало едва ли. В имении секли вожжами, в армии шомполами. В имении заставляли работать двадцать часов, в армии заставляли работать двадцать часов, а остальное время маршировать и петь патриотические песни. В имении холопов относительно берегли, и пускали в расход только по уважительной причине. В армии могли поставить к стенке или вздернуть по любому поводу, а так же вовсе без оного, в профилактических целях. Офицеры жили отдельно, и с солдатами почти не контактировали. Все руководство осуществляли сержанты, по сути те же самые надзиратели. Кастрация в армии не практиковалась (без яиц солдат не солдат, дай ему хоть автомат, хоть пулемет), зато присутствовал иной милый обычай. Заключался он в том, что сержанты драли своих солдат не только в переносном, но и в прямом смысле, притом в обоих случаях без смазочных материалов. Ереме, как и прочим крепостным, были чужды такие понятия как честь и чувство собственного достоинства, так что он рассказывал об учинявшихся над ним действиях сексуального характера вполне равнодушно. Гриша, слушая отставного военного, впервые в жизни покраснел от стыда.
Так вот, любой холоп мужского пола мог загреметь на военную службу. В имение приходила разнарядка на столько-то человек, и столько-то счастливчиков отправлялись защищать царя и отечество. В армии из них делали настоящих мужчин. Делали, как и все в этом мире, через жопу. Но Яшка мог не беспокоиться о том, что его отправят защищать родину. Барин слишком ценил своего преданного слугу, чтобы расстаться с ним.
В течение всего дня Яшка находился подле барина, прислуживая ему во всем, стараясь не дожидаться приказов, а угадывать мысли господина. У него это хорошо получалось. Стоило барину присесть в кресло и зевнуть, как Яшка с быстротой молнии уже подставлял ему под ноги скамеечку, а под голову нежно подкладывал подушку. Стоило барину только захотеть чихнуть, как Яшка уже желал ему здравия вечного и жизни долгой. Во время богослужений, которые случались в имении довольно часто (помещик Орлов был человеком набожным), Яшка во весь голос молил бога только об одном – о ниспослании любимому барину всех возможных благ, величал его святым и ставил в один ряд с официально канонизированными христианскими авторитетами.
Помимо Яшки в барском доме постоянно проживали повара, прачки, горничные, два садовника и шут. Шут оказался персонажем колоритным. Как рассказали Грише крепостные, Пантелей (так звали шута) родился калечным и потешным, то есть, говоря научным языком, с синдромом ДЦП. Обычно таких детей сразу после рождения отправляли на заслуженный отдых – никто не собирался кормить нетрудоспособных холопов, но Пантелея барин велел оставить, ибо давно лелеял задумку завести у себя шута, как это было принято у многих его соседей.
Когда Гриша воочию увидел Пантелея, он с первого взгляда понял, что этот перекошенный, весь трясущийся при ходьбе уродец, конченая сволочь. Судя по тому, какими глазами поглядывали на шута другие крепостные, Гриша понял, что его оценка оказалась верной.
Что касалось поваров, то их еще в детстве отправляли в специальное кулинарное училище, откуда они возвращались суровыми кастрированными профессионалами. В горничные и прачки набирали молодых привлекательных девок, дабы своими формами и личиками радовали господские очи. Тандем садовников состоял из глухонемого жлоба по имени Герасим и тощего прыщавого юнца – его ученика и преемника. Как поведал Грише Тит, Герасим вечно был недоволен своим тупым учеником, и постоянно бил его сметным боем. Дабы не огорчать барские очи видом экзекуции, Герасим вытаскивал ученика за ворота усадьбы, хватал что под руку подвернется, обычно палку, и бил пацана до полусмерти. При этом ученик орал диким криком, а Герасим, глухой и немой, только мычал, как бык-осеменитель – му-му! Однажды Грише довелось пронаблюдать это действо, и он точно понял, что не хочет быть садовником. Вначале было прикольно – огромный детина лупил тощего сопляка крепкой палкой, но когда сопляк обмочился по третьему разу уже кровью, Гриша не выдержал и отвернулся.
Вывалив навоз из тележки, Гриша повторил свой вопрос:
– Тит, ну а все-таки, как можно попасть в дворню? Как вообще туда попадают?
– Отличиться нужно, – ответил Тит, немного подумав.
– Как? – сказал Гриша. Гриша сказал, а Тит сделал. Вытряхнув из широких штанин еще немного навоза, зловонный холоп промолвил:
– Трудиться надобно усердно, набожно, барина любить как отца родного....
– От трудов праведных не наживешь палат каменных, – перебил Тита Гриша. – Да и насчет отца… Мой бухал день и ночь, меня с мамкой колотил. Если я барина как батю буду любить, пускай он сразу вешается. Тит-простатит, ну а что конкретно нужно сделать, чтобы в дворню попасть?
– Надобно явить пример преданности небывалой.
– В смысле?
– Услужить барину.
– Не пойму я тебя.
– Поразить его любовью своей сыновней.
– Ловко прогнуться, то есть, – кивнул Гриша. – Смекаю, не дурак. Только как же это сделать, когда он из своей усадьбы не выходит?
– Скоро праздник большой, православный, – распевно протянул Тит. – День успения святой великомученицы Евлампии.
– Ага, – протянул Гриша. Про эту святую Евлампию он был наслышан – холопы частенько говорили о ней. Жила Евлампия лет пятьдесят назад то ли в Москве, то ли еще где, и при жизни якобы умела предсказывать будущее и исцелять болезни. Впрочем, настоящая всенародная слава настигла Евлампию после смерти. К живой чудаковатой бабке, глухой как пень и при этом матерящейся хуже целой артели сапожников, православный люд относился со смешанными чувствами: одни верили в ее сверхъестественные способности, другие не очень. То есть крепостные не имели права выбора не в чем, в том числе и права выбора веры или ее отсутствия. За них все решали представители духовенства, занимающиеся промывкой мозгов темного и глупого люда. Так что отношение холопов какого-либо имения к живой Евлампии определялось отношением к ней приставленного к имению попа.
Но вот Евлампия померла, перестала ругаться матом и звонко пускать ветры, и из нее тут же кинулись лепить образ святой великомученицы. Святостью Евлампия не отличалась – по молодости она трудилась горничной в господском доме, так что топтана была не единожды, да и не сказать, чтобы сильно уж мучилась при жизни. Не больше остальных. Но едва только хладный труп Евлампии скрылся в недрах земли, как православная церковь развернула широчайшую компанию, направленную на популяризацию новой святой. Как грибы после дождика стали появляться люди, якобы чудесно исцеленные Евлампией, в народ пошли высказывания Евлампии, которые заучивались наизусть и повторялись в тему и нет. Судя по этим высказываниям, Евлампия завещала всем православным воспитывать в себе кротость и покорность, любить больше жизни своего барина и работать на него на износ. Так же ходил рассказ о том, что митрополиту Филарету во сне явилась Евлампия, и поведала о загробной жизни. Согласно ее откровениям, те крепостные, что при жизни любили своих господ и пахали на них как проклятые, попадали в рай, где блаженствовали, то есть не работали вовсе и получали каждый день целый тазик отрубей. Холопы, поступавшие иначе, то есть всевозможные смутьяны и бунтари, оказывались в аду, где черти сажали их задами на сковородки и жарили целую вечность. Что касалось господ, то они после смерти поголовно, как святые люди, попадали в особый рай, отдельный от рая холопского. Что там и как Евлампия не уточняла – по всей видимости, ее, как крепостную, в рай первого класса попросту не пустили.
Помимо всего этого считалось, что мощи святой Евлампии обладают чудесной силой, и способны исцелять людей. Эти мощи постоянно возили по городам и весям, дабы все желающие могли соприкоснуться с чудом. Дабы облагодетельствовать как можно больше людей, мощи разделили на двадцать фрагментов. Зловонный Тит рассказал, что в том году к ним в имение привозили тазовую кость святой Евлампии, и набожные холопы устроили перед святыней такую давку, что затоптали насмерть трех человек. Гриша слушал все это и морщился. Вся эта прикладная некромантия была ему глубоко непонятна, в святых и богов он не верил. Зато верил в то, что религиозный праздник можно использовать в своих целях.
– На службе в церкви все будут, – дрожащим от волнения голосом рассказывал Тит. – И кормилец, и доченька его, и дворня, и надзиратели, и мы, люд бесправный.
– Вот когда можно к барину вашему подобраться, – задумчиво пробормотал Гриша.
Глава 12
Гриша постепенно осваивался в новом для себя мире. Почти полный разрыв со своей родной реальностью сделал свое дело – прошлая жизнь стала казаться Грише далекой и призрачной, как полузабытый сон. Все дни он проводил в имении, и только ночью возвращался в штаб тайной организации. Но и там все его общение сводилось к беседам с Ярославной или с Львом Толстым. Толстой все больше ворчал и требовал результатов, на что Гриша, скрежеща зубами, отвечал, что результаты ожидаются со дня на день. В отношениях с Ярославной наметился явный прогресс. Как-то в коридоре Гриша, не утерпев, схватил девушку за попу. Что произошло после, Гриша помнил смутно, но очнулся он на полу с окровавленной физиономией и чудовищно болящим пахом. Ярославна впоследствии извинилась за излишне бурную реакцию.
– Извини, что так получилось, – сказала она, но в голосе ее не чувствовалось раскаяния. – Это я от неожиданности.
– Да, – проворчал Гриша, прижимая пакет со льдом к родимым гениталиям, – я тоже такого не ожидал. Зачем сразу бить-то? Мне там каждый день достается, так теперь и ты взялась. Я же ничего такого, без злого умысла, это просто инстинкт размножения сработал быстрее мозгов. Он всегда быстрее мозгов срабатывает. Есть у людей такой инстинкт. Почти у всех. У тебя, похоже, нету.
Ярославна присела рядом и погладила Гришу по спине.
– Извини, я правда не хотела, – талантливо изображая раскаяние, сказала она. – Просто после твоего нападения на нашего научного руководителя все тебя побаиваются и считают....
– Крутым? – быстро и с надеждой спросил польщенный Гриша.
– Скорее неадекватным… Но и крутым тоже считают. Вот я и погорячилась. Ведь неизвестно, что тебе там в голову взбрело.
– Смотрела фильм «Свальный грех 3»? Вот то, о чем фильм, мне в голову и взбрело. Мне это уже давно в голову взбрело, и никак выбрести оттуда не может. Вообще ни о чем больше думать не могу. Оно и раньше ни о чем, кроме этого, не думал, разве что о пиве, но сейчас совсем невмоготу. Может быть, ты сможешь мне как-то помочь, а то ведь вся операция окажется под угрозой срыва. Ведь это такое дело опасное. Там, в имении, один мужик от воздержания ласты склеил. А вдруг и я так же кончу. Нет, я так кончать не хочу. Я хочу по-другому кончать.
Ярославна посмотрел на Гришу, загадочно улыбнулась и кивнула.
– Хорошо, – сказала она. – Я тебе помогу.
– Сама? – быстро спросил Гриша.
– Сама.
– И никакой Галины?
– Никакой.
– Ура!
Гриша все еще не верил своему счастью, а Ярославна направилась к двери, пообещав, что сейчас вернется. Гришина фантазия тут же пустилась в полет.
К тому моменту, когда возвратилась Ярославна, Гриша от своих фантазий возбудился так, что готов был изнасиловать подушку. Ярославна, вопреки ожиданиям, явилась одетой, притом так же, как и была. Гришу, впрочем, это не очень расстроило. Он решил, что раздеть девушку своими заботливыми руками даже интереснее, чем сразу накинуться на готовенькое.
– Вот, выпей, – предложила Ярославна, и протянула Грише стакан с мутноватой жидкостью, который принесла с собой.
Гриша с величайшим презрением посмотрел на стакан, затем на Ярославну, и с нескрываемой обидой в голосе проворчал:
– Ты что думаешь, я с тобой своими силами не справлюсь, без всяких там допингов? Плохо ты Гришу знаешь! На Гришу еще ни одна телка не жаловалась, все были довольны. Точнее – счастливы.
Однако Ярославна настояла, чтобы он все же выпил загадочную жидкость. Гриша не очень хотел вливать в себя невесть что, всякой гадости на закуску ему хватало и в параллельной реальности, но, к сожалению, путь к телу Ярославны лежал через странное пойло. А ради такого тела Гриша мог выпить что угодно и в любом количестве. Так что напиток он проглотил безропотно, и нашел его вкус отвратительным.
– Дай угадаю – лопуховый нектар и сок чертополоха? – спросил он, с лязгом расстегивая молнию на брюках.
– Вообще-то это настой завянь-травы, – поправила его Ярославна. – И зря ты его весь выпил. От такой дозы эффект может стать необратимым.
– Какой эффект? – уже заранее предчувствуя недоброе, спросил Гриша.
– Эффект увядания.
– Увядания чего?
– Того, что доставляет тебе столько беспокойства.
В обычных ситуациях Гриша не отличался понятливостью и мог тупить долго и счастливо, но теперь он как-то сразу все понял. С утробным ревом бросившись в уборную, Гриша засунул в рот не два и даже не три пальца, а чуть ли не всю руку по самый локоть. Кошмарное зелье хлынуло в унитаз вместе со слегка переваренным ужином. Но Гриша не остановился на этом. Он мучил себя до тех пор, пока не вывалил из желудка все до капли, после чего, мокрый от пота и обессиливший вернулся в комнату.
– Я подумала, что ты этого хочешь, – виновато пожала плечами Ярославна. – Ты же сам о помощи просил. Говорил, что ни о чем больше думать не можешь, и даже намекал, что на почве воздержания твоей жизни может угрожать опасность. Настой завянь-травы старинное средство. В малых дозах оно притупляет сексуальное влечение, в больших количествах может вызвать полную и бесповоротную импотенцию. Тебе этого стакана должно было на месяц хватить, если принимать в день по чайной ложке.
Бледный и вспотевший Гриша без сил опустился на кровать. Исподлобья посмотрев на Ярославну, он проговорил хриплым голосом:
– В следующий раз, когда вздумаешь напоить меня каким-нибудь дерьмом, предупреждай заранее о возможных последствиях. Это же, блин, надо – на мою потенцию покуситься… А если снаружи атомная война произойдет, и все, кроме нас, погибнут? Сама же будешь локти кусать. Некому будет тебя удовлетворить, потому что Толстого, гниду злую, я сразу ломом контужу.
– Но ты же сам просил о помощи, – напомнила Ярославна.
Гриша внимательно посмотрел на девушку, пытаясь понять, издевается она над ним, или просто родилась дурой. С одной стороны, дур и дураков, как будто, не должны подпускать близко к сложной аппаратуре, но с другой – случился же Чернобыль.
– Я вообще-то намекал на как бы секс, а не на то, чтобы ты меня перевела в разряд импотентов. Рано мне еще на скамейку запасных. Я еще способен забить немало мячей в чужие ворота.
– Так ты про секс, – спохватилась Ярославна. – Ну, так бы сразу и сказал. Сейчас позову Галину.
Гриша опять заподозрил, что Ярославна издевается, но лицо у девушки было тошнотворно честное, большие глаза смотрели удивленно и немного виновато.
– Ты случайно стажировку в имении помещика Орлова не проходила? – спросил Гриша мрачно. – Там тоже до всех туго доходит.
– Так мне привести Галину?
– Не надо! Ни Галины, ни завянь-травы, ничего другого. А если попытаетесь меня кастрировать среди ночи, я вас грызть буду зубами, как зверь лютый, но живым не дамся.
Как-то вечерком Гришу посетила целая делегация незнакомых людей. Утомленный долгим трудовым днем, он лежал на кровати и разглядывал фотографию Танечки, как вдруг дверь в его апартаменты без стука распахнулась, и на пороге возник Лев Толстой. Вместе с ним внутрь ввалились еще трое, все в костюмах и в возрасте.
Гриша привстал на кровати, глазами нащупывая стул. Он давно уже подозревал, что Толстой замышляет недоброе, и решил, что если что, он тут же хватает стул и первым же ударом отомстит Толстому насмерть.
– Это он и есть? – спросил самый важный незнакомец, разглядывая Гришу, как таракана на кухонном столе.
– Да, это он, – ответил Толстой с гордостью.
– Скажите, вы в чем-нибудь нуждаетесь? – поинтересовался незнакомец у Гриши.
– Остро нуждаюсь в пиве, сигаретах и проститутках, – честно признался подопытный.
– Это от так шутит, – захихикал Лев Толстой, бросая на Гришу страшные взгляды. Мужики поглазели на Гришу, развернулись и ушли. Вместе с ними отбыл и Толстой. Позже зашла Ярославна и объяснила что к чему.
– Это была комиссия из центра, – сказала она, отвечая на Гришин вопрос о происхождении трех незваных гостей. – Центр проявляет нетерпение. Срочно нужны результаты. Наш научный руководитель принял волевое решение – лишить тебя ужина до тех пор, пока ты не добьешься в своих поисках хоть какого-то результата.
– Что? – закричал Гриша. – Этот старый представитель сексуальных меньшинств хочет меня голодом морить? Вот значит как! Ну, блин, ладно. Я ему покажу, как меня ужина лишать!
Когда на следующее утро в комнату Гриши вошла Ярославна и позвала в аппаратную, Гриша, приоткрыв один глаз, простонал чуть слышным голосом, что ужасно болен, и сегодня никак не может работать. Ярославна пощупала ладонью его лоб, проверила пульс, заглянула в рот и ушла. Гриша, посмеиваясь, ждал. Он нарочно симулировал приступ недомогания, дабы показать Толстому, кто в доме хозяин и как опасно лишать этого хозяина ужина. Вскоре появился и сам Толстой вместе с Ярославной и двумя гоблинами. Один из гоблинов держал в руках странное приспособление – трехдюймовую трубу длиной в метр, к которой, с одной стороны, были подсоединены какие-то провода.
– Заболел? – с ходу спросил Толстой.
– Слег! – простонал Гриша со смертного одра.
– Вот невезуха! Ладно, сейчас проведем анальное зондирование с целью постановки диагноза, после назначим курс лечения. Молодой человек, повернитесь, пожалуйста, на живот и спустите штаны.
– Зачем это? – подозрительно спросил Гриша.
– Я же сказал – необходимо провести анальное зондирование.
Гоблин, держащий в руках металлическую трубу, шагнул вперед и недобро усмехнулся.
– Сам штаны спустишь, или тебе помочь? – спросил он. – Не бойся, больно не будет. Разве что чуть-чуть. А там, глядишь, и удовольствие получишь.
Гриша вскочил на ноги и громко закричал:
– Я здоров! Здоров! Произошло чудо самоисцеления. Готов к работе. И уберите отсюда эту мечту нимфоманки.
Толстой, обеспокоенный самочувствием ценного кадра, продолжал настаивать на углубленном анальном зондировании, но Ярославна сумела убедить его, что это лишнее. Гоблины вместе с трубой удалились, вышел и Толстой. Бледный Гриша опустился на кровать и простонал:
– Ну, у вас тут и медицина! И как вы еще живы, если каждому, кто чихнет, такой вот зонд промеж булок втыкают?
– Вообще-то зонд предназначен только для тебя, как для ценного оператора, от которого зависит успех всей миссии, – сообщила Ярославна. – Остальные, если заболевают, отправляются на лечение в одну из самых обычных элитных клиник Швейцарии. Ты должен радоваться, что являешься незаменимым кадром. Видишь, как о тебе заботятся.
– Да я, похоже, везунчик, – мрачно проворчал Гриша. – Незаменимый человек. Вы, значит, в Швейцарии лечитесь, а мне, как незаменимому, трубу в жопу?
– Анальный зонд, – поправила Ярославна.
– А похож он на самую обычную трубу. И зачем такой огромный диаметр? Толстой что, сам по этой трубе внутрь собирался влезть? Или он слишком буквально воспринял мои слова, когда я вчера послал его в анальное странствие?
– Пора, – напомнила Ярославна. – В имении встают рано.
– Холопы, – уточнил Гриша. – А господа дрыхнут до обеда. Однако бог все дает им, а холопам одни тумаки достаются. Вот и верь после этого в народные мудрости.
Глава 13
День успения святой великомученицы Евлампии в имении всегда отмечался с большим размахом. О старых классических святых старались почему-то вспоминать редко, а вместо них народу навязывали новых кумиров, являвших собой примеры для подражания. Общаясь с крепостными, которые все, как один, были, по их же словам, православными и искренне, до фанатизма, веровали в бога, Гриша выяснил, что с христианством они знакомы еще меньше, чем он сам. Никто из крепостных не читал Библии или иной христианской литературы (да и не мог прочесть, поскольку все холопы были неграмотные), все, что они знали о своей вере, было почерпнуто ими из устной проповеди святых старцев.
Сам Гриша всегда был далек от религии, но даже его скудных познаний в этой области хватило, чтобы понять – холопы в имении помещика Орлова исповедуют что угодно, но только не христианство. В изложении святых старцев библейская история звучала совершенно иначе, и нисколько не совпадала с первоисточником. Согласно апокрифу святых старцев Иисус был холопом у Понтия Пилата, верой и правдой служил ему, и умер не на кресте, а в поле за работой. Впрочем, эта сектантская бредятина давно отошла на второй план, уступив первое место новоявленным святым.
Святые, все как один, были честными и трудолюбивыми холопами. Дабы не вводить господ в убыток они спали под открытым небом на голой земле, питались травой, притом только той, что не шла на корм скотине, пахали на износ и любили своих хозяев. Более того, святые не только упражнялись в этом неспортивном мазохизме, но и призывали других следовать их примеру. Так святой Епифан убедил целое имение отказаться от сна и работать круглые сутки, дабы возрадовалось сердце барина – наместника господа на земле. Святой Пантелей зашил себе рот, дабы случайно не объесть барина. Святая Марфа лично выявила в имении своего помещика три десятка грешниц: следила за соседками, а затем, когда те совершали что-нибудь греховное, тут же сдавала их надзирателям для последующего перевоспитания.
Акты бессмысленного самоистязания, стукачество, и все это помноженное на феноменальную глупость – вот через что лежала дорога в лигу святых великомучеников. По мнению Гриши в разряд великомучеников можно было смело включать всех холопов имения поголовно. Впрочем, он уже давно подметил, что крепостные вовсе не тяготятся своей скотской жизнью, и ни о чем ином даже не мечтают. Как-то Гриша попытался рассказать Титу о крутых тачках, телках, дискотеках, водке, то есть обо всем том, что делает жизнь прекрасной, но Тит ничего не понял. Мозг Тита как будто фиксировал окружающий мир в строго определенном диапазоне явлений, и все, что выходило за рамки этого диапазона, он просто не воспринимал. Тит, к примеру, много раз видел шикарные барские автомобили, но никогда, даже случайно, не мог представить себя за рулем одного из таких аппаратов. Тит знал, что господа кушают мясо, рыбу, птицу, черную икру на хлеб мажут, но сам он вовсе не желал отведать всех этих вкусных вещей. Напротив, Тит, как и прочие холопы, был убежден, что стоит ему даже подумать о чем-то таком, как бог тут же накажет его. Насчет мяса крепостные твердо знали, что это еда господская, и для холопских желудков совершенно непригодная. Когда Гриша завел с Титом разговор о мясе, зловонный собеседник высказался вот как:
– Господь так положил, что мясо да рыба – барская еда, а помои да отруби – народная. Ежели барин отрубей отведает, то помрет. Ежели я мяса отведаю, то тоже помру. Господь все мудро устроил. Каждому свое.
– Что с отрубей можно кони двинуть, это факт, – согласился Гриша. – Но вот от мяса еще никто не умирал. Тит, промеж булок лом забит, неужели тебе ничего не хотелось съесть, кроме помоев?
Тит смущенно опустил взгляд, а затем неохотно признался:
– Турнепса бы важно поснедать. Али вот еще комбикорм тоже вкусен.
– Завязывай со скотскими харчами! – прикрикнул Гриша. – У меня от твоего базара аппетит портится. Я тебя спрашиваю не о комбикорме, а о нормальной еде. Какую люди едят. Господа, то бишь.
– Господскую еду не можно снедать, – покачал головой Тит. – Помрешь. Господь так положил.
Затем Гриша попытался заговорить с Титом о бабах. Попытался осторожно, помня страшную гибель Степана. Начал, как водится, издалека, с тычинок, пестиков и бабочек. Тит стоял, слушал, хмурил пыльные брови и ничего не понимал. Затем Гриша переключился на кошек и собак. Намекнул на кочета, который два дня назад на их глазах догнал курицу и оприходовал.
– Так уж заведено, что все в природе это делают, – сказал Гриша. – Бабочки, собачки, куры. И люди. Это нормально.
– Грех, – не согласился Тит.
– Ладно, – не стал настаивать Гриша, – давай зайдем с другого конца. Вот представь, что тебя отпустили на волю, дали тебе землю, дом....
– Что ты! Что ты! – замахал руками Тит. – Господь с тобой! Да что ты такое говоришь?
– А что не так?
– Да как же на волю? А барин? Как без барина-то прожить? Без отца-то родного? Без благодетеля? Без заступника? Ведь пропаду без него. Как есть пропаду.
– Хорошо, проехали волю. Тогда вот как. Представь, что завтра тебя барин к себе вызывает, и говорит: хороший ты парень, Тит, работящий. Хочу тебя наградить. Сходи в женский барак, выбери себе любую бабу и пользуйся. Ну, хочешь сказать, что ты не пошел бы?
– Куда?
– По бабам.
– Нет! Да что ты! Ужель не православные? То грех великий. Святой старец Маврикий учил....
– Как же ты запарил уже своим Маврикием, – безнадежным голосом проронил Гриша. – Я ему о бабах, а он о старцах. Бабы, Тит. Понимаешь? Бабы! Сиськи, жопа, ноги… Баба, одним словом.
Тут Гриша понял, что его слова все-таки достигли цели. Хотя на словах Тит выражал свое негативное отношение к сексу, его организм говорил обратное. Штаны вонючего мужика уже трещали по швам под напором страсти. Гриша, глядя на главный калибр, пришедший в боевое положение, покатился со смеху. Зато Тит не стал смеяться. Опустив глаза, он неободрительно покачал головой, затем взял лопату, и, что было сил, ударил себя черенком по крайней плоти. При этом он еще успел строго сказать:
– Не балуй, окаянный!
После чего Тит закономерно свалился на землю, обхватил руками отбитое достоинство, и протяжно завыл.
– Ну ты и членовредитель, – смеясь, сказал Титу Гриша. – В следующий раз сам себя не бей. Меня попроси. Я с радостью тебе с ноги пробью по мохнатым шарикам.
На следующий день случилось происшествие, повеселившее Гришу еще больше. Холоп Илья, молодой и традиционно глупый, был пойман за греховным делом. Гриша и Тит (их как сработавшееся звено теперь ставили на все работы вместе) возили туда-сюда все ту же кучу навоза. День выдался жаркий, навозные мухи и лютые комары одолевали. Тит не обращал на них внимания, и только когда насекомые лезли ему в нос или в глаза, тряс головой, как лошадь. Гриша отбивался от насекомых руками и ногами, материл их и напарника. Но тут неподалеку послышались громкие крики, полные праведного возмущения, а вслед за ними зазвучали болезненные вопли. Тит даже внимания не обратил – как вез тележку, так и повез дальше, а Гришу одолело любопытство. Он воткнул вилы в навоз и осторожно выглянул из-за сарая, пытаясь выяснить причину переполоха.
Картина, открывшаяся его взору, была довольно типична для имения. Три надзирателя лупили палками холопа, а тот катался по земле и орал. Гриша узнал преступника – им оказался холоп Илья, юный тупица, способный, как и все крепостные, только портить воздух да выполнять несложную механическую работу. Одно только удивило – избиваемый Илья был без штанов. То есть штаны были, но болтались у него на щиколотках.
Гриша так бы и не понял, в честь чего лупят бедолагу, но на счастье появился свидетель. Мимо него прошел крепостной Дрон с бревном на плече, и на Гришин вопрос касательно причины избиения, все прояснил.
– На греховном деле поймали, – ответил он, прогибаясь под тяжестью бревна.
– На каком именно? – уточнил Гриша, поскольку крепостные считали греховным все, кроме работы, сна и пожирания помоев.
– Забор сношал, – произнес Дрон таинственную фразу.
– Что он делал? – переспросил Гриша.
– Забор, окаянный, сношал, вот что.
Вечером Грише удалось выяснить подробности происшествия. Как оказалось, крепостного Илью попутал бес, и он, поддавшись греховному настрою, возжелал блуда. На его счастье в заборе отыскалась дырка от высохшего и выпавшего сучка, и в эту-то дырку Илья и пристроил свой окаянный отросток. Все шло хорошо, но недолго. Как раз в это время с противоположной стороны забора прогуливались три надзирателя, и когда они увидели то исчезающий то появляющийся из дырки член, то сразу все поняли. Дабы грешник не сумел скрыться, один из надзирателей крепко схватил его за корень жизни и держал до тех пор, пока соратники не обежали забор по кругу, и не взяли Илью тепленьким на месте преступления.
Улик оказалось выше крыши: забор, дырка, Илья… Вначале бедолагу отлупили на месте преступления, затем отвели в воспитательный сарай и устроили очную ставку с оглоблей. Но и этого показалось мало. Тогда в дело пошел секатор, и Илье грубо, в антисанитарных условиях, удалили источник греховных соблазнов.
К вечеру чуть живого Илью притащили в барак и бросили на солому. Никто из крепостных даже не подумал подойти и посочувствовать страдальцу, на него вообще не обращали внимания. Зато Гриша не упустил случая поглумиться. Он подсел к Илье и жизнерадостно спросил:
– Ну что, хороший танцор, как заборчик? Заноз много загнал?
Илья ничего не ответил. Ему было не до этого. За прошедший день он выхватил столько горяченьких, что на теле не осталось ни одного живого места. Что касалось работы секатором, то надзиратели сгоряча отрезали ему все подчистую, а рану прижгли углями. Без медицинского образования было ясно, что жить Илье осталось считанные дни.
– Нашел ты приключение на свое хозяйство, – сказал ему Гриша. – И чего тебя на забор потянуло? Я сегодня специально подходил, смотрел. Ничего особенного, забор как забор. Совсем не сексуальный. Ты хоть бы бабу на нем нарисовал, что ли, хотя бы часть бабы. Хоть бы просто написал – баба. Ах, блин, забыл – ты же писать не умеешь. Ну, теперь ты еще кое-что не умеешь.
И, сказав это, Гриша весело заржал.
Подошел Тит, присел на корточки, грянул задом так, что ударной волной разметал под собой солому, и с укором сказал Илье:
– По делам и кара. Почто грешил, окаянный? Почто забор сношал?
– Хватит уже пердеть, моралист хренов! – напустился на напарника Гриша. – Почто, спрашивает, забор сношал. Да если некого больше сношать, приходится с заборами любовью заниматься. Это тебе хорошо, ты чуть что, сразу его лопатой лупишь, чтобы голову не поднимал. Ильюшка, сто членов тебе в ушко, не слушай Тита. Все ты правильно сделал. Уважаю.
Следующее утро Илья встретил уже остывшим и посиневшим. Холопы по приказу надзирателей выволокли его тушу во двор, а затем Грише и Титу – квалифицированной похоронной команде, пришлось тащить тело на заслуженный отдых. Тит всю дорогу портил траурное событие запуском зловонных ветров, так что даже надзиратель, шедший сзади, не выдержал, обогнал похоронную процессию, и пошел впереди. Гриша сквозь зубы возмущался тем фактом, что он вынужден таскать кадавров, да еще в такой замечательной компании. Тит на это ответил, что на все воля божья, и так мощно грянул шоколадным оком, что оглушил пролетавшую мимо сороку. Птица, убитая анальным громом, потеряла управление и свалилась в траву.
Вот, наконец, настал долгожданный всеми праздник – день успения святой великомученицы Евлампии. Гриша ждал этого дня больше всех прочих. Это был его единственный шанс проявить себя перед барином и попасть в число дворовых людей. Упускать его было никак нельзя. Наниматели настойчиво требовали результатов, и использовали для их скорейшего достижения все средства давления. Толстой постоянно грозился лишить Гришу еды, отнять кровать и туалетную бумагу, а недавно проделал и вовсе неслыханное. Когда Гриша отдыхал после дневной смены, дверь в его комнату открылась, и вошел Толстой, а вместе с ним шикарная краля в слишком откровенном наряде.
– Знакомься, это Анфиса, – представил девушку Толстой. – Двести долларов за час. Суровая профессионалка.
Гриша вскочил с постели, не веря своему счастью. В этот момент он готов был расцеловать Толстого взасос. Наконец-то, после стольких дней невыносимого воздержания, у него произойдет полноценная половая жизнь.
– Нравится? – спросил Толстой, похабно ухмыляясь.
– Да! – проревел Гриша.
– Хочешь ее?
– Да!!!
– Ну и хоти дальше. Получишь, когда добудешь сведения об артефакте.
С этими словами Толстой и Анфиса вышли из комнаты.
После такого безжалостного кидалова у Гриши случилось состояние аффекта. Он ревел животным, он бил ногами стены, перевернул книжную полку, выломал дверь в уборную, пытался выкорчевать унитаз. На шум прибежали гоблины, замотали Гришу в простыню, оттащили в душевую кабину и остудили ледяной водой.
В общем, руководство оказывало на сотрудника серьезное давление и настойчиво требовало результатов. Гриша и сам был бы рад предоставить их. В альтернативной реальности ему не нравилось, поскольку в ней сосредоточилось все, что он ненавидел: тяжкий труд, отвратительная еда, отсутствие пива и баб. Хотелось уже скорее сделать дело, получить свои деньги и зажить по-людски. Гриша уже давно распланировал, как потратит свои два миллиона. Пятьсот тысяч долларов он решил прогулять сразу, дабы подлечить травмированную крестьянской жизнью психику. Остальные полтора миллиона планировал прогулять следом, уже не в медицинских целях, а чисто в свое удовольствие.
Подготовка к празднованию началась загодя. Еще накануне торжества всех холопов под вечер согнали в кучу, организовали меткими ударами дубинок и погнали по дороге в сторону пруда. Пригнав стадо на пруд, надзиратели выдали холопам хозяйственное мыло, по одному куску на десять человек, после чего приказали раздеться догола и стирать свои шмотки. Гриша уже долго прожил в имении, и ему казалось, что он давно свыкся со здешними реалиями, но все же глупые вопросы нет-нет да звучали из его уст. Вот и теперь, получив приказ, он спросил у ближайшего надзирателя:
– А во что мы переоденемся?
– Что? – удивился жлоб с пудовыми кулаками и мрачным взглядом неандертальца.
– Я говорю, если мы свое тряпье постираем, во что сейчас оденемся?
Сразу же за этой репликой Гриша убедился, что вопрос, заданный им, вне всяких сомнений относится к категории глупых. Его убедил в этом кулак жлоба, мощно врезавшийся в его ухо. Гриша не устоял на ногах, и покатился с крутого берега в воду.
Переодевать крепостных никто и не думал, так что после стирки они пошли обратно голыми, неся мокрые вещи в руках. Гриша с отвращением косился на собратьев по несчастью. Жалкая одежда хотя бы прикрывала выпирающие сквозь желтую кожу ребра, многочисленные синяки и ссадины, а так же тот факт, что очень многие крепостные прошли процедуру стерилизации. Впрочем, сам Гриша, точнее тело его зеркального двойника, выглядело не лучше. Одно лишь утешало – яйца, по крайней мере, были на месте. Их присутствие обнадеживало, но и пугало – было что отрезать. О том же, чтобы использовать свое хозяйство по прямому назначению, Гриша даже не мечтал, поскольку прекрасно помнил жуткую участь Ильи грешника. Если даже за несанкционированное сношение с забором здесь так карали, что же с ним сделают, если застукают на живой бабе? Гриша старался об этом не думать – берег психику.
На следующее утро все холопы, чистые, нарядные, красивые, были разбужены на два часа раньше обычного, и без завтрака выстроены на дороге. Надзиратели тоже были здесь в полном составе, но они не стояли столбами, а сидели под навесом, кушали пряники и пили чай из самовара. У Гриши от их чавканья началось такое неуправляемое слюнотечение, что он заляпал рубаху до самых колен. Прочие холопы терпели стоически – они давно привыкли безропотно сносить голод, холод и все остальное. Но и им сегодня пришлось несладко – надзиратели под страхом зверской смерти запретили им портить воздух, поскольку вместе с ними, во главе процессии, пойдут господа, и если вдруг до слуха барина донесется чья-то поп-музыка, да еще в святой праздник, это будет весьма нехорошо. Что уж говорить до утонченного слуха молодой барыни, которой такие звуки вообще опасно для жизни слушать.
Гриша, взращенный в ином мире с иными обычаями, умел неплохо контролировать свой зад, хотя, если давление газов превышало определенный порог, не мучил себя и давал гудок. К тому же Гриша всегда придерживался того мнения, что естественное не может быть безобразным, а все эти строгие правила выдумали разные аристократы, которым больше делать было нечего, кроме как сидеть и терпеть изо всех сил, лишь не нарушить норм приличия. Да что там какое-то испускание газов. Гриша несколько раз видел в кино, как эти аристократы кушают, и ему стало дурно. Лично он из всех столовых приборов больше всего любил руки. Что ни говори, но ничего удобнее рук еще никто не придумал. Вот, к примеру, макароны. Пойди-ка каждую вилкой подцепи, да пока одну цепляешь, вторая соскакивает. Мука одна. Другое дело рукой как зачерпнешь целую охапку, окунешь ее в кетчуп, и в топку. Суп тоже руками кушать гораздо удобнее. Ложкой черпаешь, черпаешь, больше устанешь, чем наешься. А то берешь тарелку за края, поднимаешь ее, и всю сразу в пасть заливаешь.
Но Гришина естественность не шла ни в какое сравнение с животной естественностью крепостных. Подобно скотам, они испражнялись тогда и где их настигала нужда, и не снятые с задницы штаны отнюдь не служили им препятствием в этом естественном деле. Гриша мог вести себя как последняя свинья (и за столом, в компании, случалось, задом громыхал, и рыгал так, что с сидящего напротив человека шапку сдувало, и, идя под ручку с девушкой, мог запросто высморкаться ей под ноги), но все же в глубине души, где-то на самом ее днище, он понимал – подобное поведение никак не красит человека разумного, наследника великой культуры. Впрочем, что касалось великой культуры, то Гришу, похоже, предки лишили этого наследства. О русской культуре Гриша знал только то, что Анна Каренина то ли повесилась, то ли утопилась, а Раскольников это серийный убийца, женившийся на проститутке.
И все же что-то внутри Гриши, какая-то генетическая память, не иначе, говорило ему, что есть все-таки некие незыблемые нормы поведения в цивилизованном обществе, и отход от них означает отход от самой цивилизации. То есть Гриша мог портить воздух за столом, но мог без каких-либо усилий со своей стороны и не портить.
А вот у крепостных в глубине души не было никаких поведенческих ориентиров. В то время как человек Гришиной ветви пространственно-временного континуума впитывал нормы морали и нравственности с молоком матери, и даже отступая от них, всегда чувствовал себя неправым, холопы были свободны от любых внутренних сдерживающих факторов. Сдерживающий фактор у них был один, внешний – дубина надзирателя. Для холопа плохо было то, за что били, а хорошо то, за что не били. За пускание на волю кишечных газов обычно не наказывали, так что крепостные делали это тогда, когда приспичит.
Но внезапно условия игры изменились. Им запретили делать это. И приспособление к новым условиям не всем далось легко. Стоя в строю, Гриша слышал краем уха, как то из одного то из другого зада украдкой, с интимным шипением, сочится наружу зловоние, а затем и обоняние улавливало что-то такое. Обнаружить авторов было затруднительно, особенно при условии, что вертеть головой надзиратели запретили, пообещав, в противном случае, много разных болезненных вещей. Однако когда в Гришин нос лавиной ворвалась волна чудовищной вони, подозрение сразу же пало на Тита. Только он умел так талантливо отравлять окружающую среду. Гриша покосился на Тита, и сквозь зубы проговорил:
– Еще раз клапан откроешь – сдам мордоворотам!
Ближе к обеду, когда холопы почти падали от усталости и жары, ворота усадьбы торжественно распахнулись, и появились господа в сопровождении дворни. На хозяйстве оставили одного садовника Герасима да трех надзирателей, все остальные шли в церковь, на праздник. Помещик Орлов, одетый просто, но со вкусом, жизнерадостно оглядел свое прямоходящее имущество, и радостно крикнул:
– С праздником, родные!
В ответ холопы стали желать барину того же, и кланяться в ноги. Гриша тоже поклонился, одновременно чувствуя, как чей-то нос уткнулся в его копчик. Рядом, согнув спину, крестился и слезно бормотал слова благодарности Тит. Было видно, что барина он любит искренне, и готов, если потребуется, умереть за него.
Рядом с папенькой вышагивала дочурка. Танечка оделась скромно, в черное платье до самой земли, и повязала голову платком. За Танечкой следовала молодая симпатичная девка, как позднее выяснил Гриша – ее личная служанка Матрена. За помещиком шел Яшка лакей. Рядом с Яшкой ковылял шут Пантелей. За ними беспорядочной толпой следовали повара, горничные и прочий дворовый люд. От холопов, обитающих за пределами усадьбы, они отличались разительно. Все были неплохо одеты, не производили впечатления умирающих голодной смертью, и вообще не казалось, что они так уж сильно изнуряют себя физическим трудом. Грише стало дико завидно, он тут же проникся ко всей дворне лютой классовой ненавистью. Не завидовал он одному только Яшке, что каждый божий день языком доводил до блеска стульчак в уборной барина, а иной раз и то, что барин ронял на этот стульчак.
Так и пошли все вместе, господа и холопы, пешком по дороге, ибо все равны перед господом. Впереди процессии двигался помещик с дочкой, за ним шла дворня, а замыкала процессию когорта холопов, окруженная со всех сторон надзирателями. Крепкие ребята с крепкими палками зорко следили за своими подопечными, и когда один из крепостных нарушил высочайший приказ, и негромко, но довольно пронзительно, грянул задом, его вытащили из строя, стащили с дороги в канаву и там крепко воспитали, а дабы не произошло рецидива, засунули в зад преступнику большую палку.
Глава 14
Но если прочие крепостные думали лишь о том, как бы случайно не дать воли своим вонючим дыркам, Гриша лихорадочно пытался родить хоть какой-нибудь план действий. Он должен был как-то проявить себя, заставить барина обратить на себя внимание. И не просто обратить. Грише было необходимо доказать свою полезность, свою незаменимость. Ему ведь предстояло занять при дворе помещика чье-то место, то есть сместить кого-то с его должности.
Идти было легко, поскольку в этот торжественный день, в виде исключения, холопам разрешили попирать ногами господский асфальт. Однако счастье было недолгим. Уже через сотню метров надзиратели, орудуя дубинами, согнали крепостных на обочину, и заставили идти по полю. Господа и дворня двигались по дороге параллельным курсом.
Глотая пыль, поднимаемую ногами впередиидущих холопов, Гриша одним глазом косился на барскую свиту. Танечка шла под ручку с отцом, и даже в своем скромном наряде излучала мощные потоки сексуальной энергии. Озверевший от полового воздержание Гриша не мог оторвать от нее взгляда. Он представлял себе, что скрывает под собой это платье, и у него начинала кружиться голова, а просторные штаны становились тесными. Прямо за Танечкой семенила Матрена, ее горничная, тактико-техническими характеристиками мало чем уступающая госпоже. Гришин взгляд перебегал с Танечки на Матрену, вспомнилась Ярославна, и Гриша едва не заплакал. Впору было, на манер дурного Тита, хвататься за полено.
Через полчаса туризма господа притомились. Из имения примчался вызванный автомобиль, тут же, прямо посреди дороги, поставили стол и стулья. Помещик Орлов, Танечка и фаворитка Акулина сели закусывать. Пища была самая простая, чем лишний раз подчеркивалось единение правящего и бесправного классов. Помещик Орлов кушал рябчика, Танечка налегала на крупный виноград, заедая его булочкой, Анфиса хлебала чаек с бубликами. Рядом шумел самовар, сияющий на солнце ослепительной медью. Слуга попытался вытащить из автомобиля мангал, но помещик Орлов отрицательно махнул рукой. Надзиратели утоляли жажду доставленным из имения ледяным квасом и лузгали семечки. О холопах тоже не забыли. Их отвели подальше в поле, чтобы они своим благоуханием не портили господский аппетит, выстроили и приказали стоять смирно, не шевелясь.
Заморив червячка, господа выразили желание продолжить путь. Холопов пригнали обратно, и вновь колонна двинулась по бездорожью, а рядом, по асфальту, шествовали хозяева жизни и их приближенные. Танечку стали донимать мухи, и ее горничная, Матрена, вынуждена была метаться вокруг госпожи, отгоняя от нее назойливых насекомых. Автомобиль поддержки ехал сзади с черепашьей скоростью. Было очевидно, что состоявшийся привал далеко не последний.
Следующий отдых устроили тогда, когда достигли леса. На этот раз слуги достали мангал, опять растопили самовар, на стол накрывали уже основательнее. Холопов никуда отводить не стали, поскольку рядом высилась стена леса, и кто-нибудь из них мог возжаждать воли. Гриша верил в это с трудом. Из всех крепостных имения он, похоже, был единственным, кому такая жизнь не казалась нормальной. Тот же Тит не побежал бы на волю, даже если бы его стали гнать пинками. Однако отводить холопов близко к лесу не стали, из чего Гриша сделал вывод, что побеги все же имеют место.
Вскоре над бивуаком распространился восхитительный аромат шашлыка. Холопы вдыхали его равнодушно, а вот у Гриши началось неудержимое слюнотечение. Это была пытка почище порки оглоблей. Поскольку холопов выстроили лицами к дороге, Гриша невольно вынужден был наблюдать за тем, как господа изволят закусывать. Кушали они, надо признать, аккуратно, неторопливо, с достоинством. Так едят люди, которые точно знают, что эта порция шашлыка не последняя в их жизни. Сам помещик ел шашлык с шампура, Акулина во всем подражала покровителю и спонсору, а вот для Танечки кушанье положили на белую тарелочку. Танечка взяла серебряную вилочку, скушала одни кусочек, и закапризничала.
– Перца много! – громко сказал она. – Очень остро.
– Да, в самом деле, остер шашлык в этот раз, – согласился с ней отец. – Что-то ты, Прохор, перца не пожалел.
– Один сплошной перец! – внесла свою критическую лепту Акулина. – Рот огнем горит.
Побледневшего повара Прохора нежно приняли под руки два надзирателя, и повели куда-то в лес. Обратно вернулись минут через десять. Прохор был уже не белый, а красный, и прихрамывал на правую ногу. Гриша заметил под глазом повара обширный фингал живописной расцветки. Судя по всему, надзиратели только что напомнили ему все тонкости кулинарного дела, в частности дозировку специй при приготовлении шашлыка.
Перевоспитанному Прохору дали второй шанс, и он стал поспешно готовить новую порцию шашлыка. Тот же шашлык, что не стала кушать Танечка, то есть полную тарелку мяса, просто выбросили на обочину.
– Пускай зверьки лесные полакомятся, – прокомментировал это помещик Орлов.
Вторая порция шашлыка оказалась намного лучше – это сразу же отметил барин, впившись зубами в первой кусок. Похоже, Прохор понимал, что данный ему второй шанс является последним, и третьего не будет. Вместо этого его отведут в лес и там оставят, предварительно выколотив душу из тела.
Акулина тоже похвалила шашлык, и заметила, что так хорошо он еще ни разу не удавался. Прохор даже позволил себе робко улыбнуться, довольный тем, что угодил господам, но радость его была преждевременной. Вот Танечка взяла вилочку, скушала кусочек шашлыка, и возмущенно произнесла:
– Как много соли! Одна соль!
– Хм, в самом деле, – согласился барин, причмокивая губами, – уж действительно безбожно пересолено.
– Есть невозможно! – категорически заявила Акулина, гневно глядя на позеленевшего от ужаса Прохора.
У Прохора подкосились ноги, но заботливые руки надзирателей подхватили его и быстро повели в лесную чащу. И еще целая гора шашлыка была выброшена на обочину.
Поскольку готовить новую порцию шашлыка было некому (нового повара только вызвали из имения, а старый так и не вернулся из леса, похоже – заблудился) господа заморили червячка печеночным рулетом и пирогом с яблочным вареньем. Пирог пришелся Танечке по душе, и она стала хвалить его, а заодно и повара, который приготовил такое дивное лакомство. Как раз в этот момент из леса вышли оба надзирателя, сопроводившие Прохора в последний путь. Одни из них на ходу счищал с дубинки кровь и налипшие кусочки холопского мозга.
Путь продолжился по лесной дороге. Надзиратели удвоили бдительность, у двоих в руках появились револьверы. Гришу так и подмывало броситься в лес, поскольку жизнь в имении откровенно достала, да и чертов жезл Перуна надо было уже начинать искать, но он прекрасно понимал, что только он дернись, как сразу же получит пулю. Едва ли надзиратели станут делать предупредительный выстрел в воздух. До леса десять шагов, пока будет их преодолевать, двадцать раз убить успеют. И хорошо, если убьют на месте. А если ранят, а потом на пытку. Пытать же надзиратели умели. Гриша видел в воспитательном сарае такие болезнетворные штучки, какие не снились и средневековой инквизиции. К тому же у инквизиторов не было электричества, а у надзирателей было, и они его активно использовали в воспитательных целях. Да и инквизиторы пытали лишь до тех пор, пока с уст обвиняемого не срывалось признание во всех смертных грехах, после чего его гуманно запекали на костре. Надзиратели же пытали ради пытки, цель их – мучения и боль. Тут хоть в чем признайся, хоть какие грехи себе припиши – толку не будет. Как пытали, так и продолжат. Ивашку изувера, что перед господскими покоями испражнениями истек, три недели зверскими пытками пытали. Вряд ли за попытку побега полагалась меньшая кара.
В общем, Гриша решил не горячиться и потерпеть. Он должен был попасть в число дворовых, проникнуть в барский особняк, а уж там или подслушивать, или порыться в бумагах или книгах, но какую-нибудь информацию о жезле Перуна найти. Вот только как стать дворовым Гриша себе даже не представлял. Оставалось уповать на счастливый случай – авось повезет. Методика была проверенная, Гриша всю сознательную жизнь так делал. До сих пор не повезло ни разу. Но это лишь означало, что шансы на счастливый случай с каждым новым обломом только возрастают. По крайней мере, в это хотелось верить.
Спустя полчаса господа изволили сделать еще один привал. Из имения привезли нового повара, и, судя по тому, как у него тряслись руки, несущие самовар, он уже был оповещен об участи своего предшественника.
Пока добрались до церкви, отдыхали и перекусывали еще четыре раза. Один раз Танечка возжелала вздремнуть, и, разумеется, любящий папенька не смог отказать дочке и в этом. Прямо на дороге Танечке поставили кровать, вытащили из фургона перину, подушки, одеяло. Танечка прилегла, сладко потянулась, и сообщила, что хотела бы послушать перед сном песенку.
– Ах, беда! – схватился за голову помещик Орлов. – Певца не взяли!
– Не хочу певца! – закапризничала Танечка. – Пускай мне холопы споют.
– Пускай споют, голубчики, – попросил помещик надзирателя. – Только ты проследи, любезный, чтобы пристойное пели. Они ведь грубые, могут доченьку непотребным словом шокировать.
Надзиратель подошел к толпе холопов, и взгляд его тут же уперся в Гришу.
– Ты! – рявкнул он.
Гриша вспотел и затрясся, прокручивая в голове события недавнего прошлого. Вроде бы никаких косяков за ним не числилось, вел себя образцово. Неужели опять Тит нажаловался?
– Иди сюда! – приказал надзиратель. – Теперь пой.
– Что делать? – пискнул Гриша.
– Пой, животное.
Гриша знал только русский шансон и матерные частушки.
– На зону еду в кандалах… это самое. Как там? А! Ходить ментяре в петухах….
Закончить сольное выступление Грише не дали – на горло его песне наступили дубинкой.
– Этот не подойдет, – проворчал надзиратель, впихивая Гришу обратно в строй. – Других попробуем.
В итоге, отобрали дюжину солистов. На Гришин вкус, все двенадцать пели отвратительно, и на разные лады. Надзиратели потратили десять минут, объясняя им, что значит петь хором. Но даже после интенсивного физического инструктажа, песню звезды большой эстрады затянули как попало, так что слов было не разобрать. При этом минимум четверо пели не ту песню, которую остальные восемь. Слушать этот монотонный сумбур без смеха было невозможно. Гриша улыбался, но чуть заметно, чтобы не получить по башке палкой, зато Танечка залилась звонким хохотом, сбросила на асфальт одеяло, и принялась прыгать на кровати, размахивая руками.
Вот так, с частыми остановками на перекус и культурную программу, шествие добралось до церкви. Та оказалась небольшой, так что холопам, чтобы всем поместиться внутри, пришлось дружно выдохнуть и временно обойтись без кислорода. Помещик Орлов и Танечка поздоровались с настоятелем – неохватным бородатым мужиком в расписном халате, который один вмещал в себе больше биомассы, чем восемь холопов.
Холопы опустились на колени, Танечка и Акулина взяли в руки по свечке, барин схватил сразу две. Началась служба. Надзиратели стояли по углам, и зорко следили за уровнем набожности паствы. Тех, кто молился и крестился недостаточно истово, запоминали, чтобы затем вколотить в них любовь к православной вере.
Стоять на коленях было неудобно и больно – те упирались прямо в жесткие доски пола. Болела спина и голова. Голова разболелась от недостатка кислорода – в церквушку набилось столько холопов, что они в один миг превратили пригодный для дыхания воздух в жуткий смрад. Мало того, у алтаря курились какие-то благовония, которые только усугубляли ситуацию. Рядом с тем местом, где стояли господа, было широко открыто окно, а там, где молился Гриша, топор не удалось бы даже повесить – он бы сгнил в полете.
В то время как все холопы тупо издавали возглас «аминь», Яшка лакей шел своей дорогой. У него был за кого помолиться. Иной раз перекрикивая даже священника, он непрерывно клал поклоны, крестился и блажил:
– Спасибо господи за барина! Спасибо за благодетеля! Ниспошли долгих лет кормильцу!
Ни духовные служащие, ни надзиратели, Яшке замечаний не делали. Все понимали и разделяли его глубокие религиозные чувства, его сыновний порыв. Яшка любил барина – то знали все. Любил не просто больше себя, на себя он чхать хотел, любил больше бога. В своих молитвах он величал барина святым, ангелом, даже сыном божьим. Помещик Орлов поглядывал на верного лакея со слезами умиления. Его очень трогали столь чистые и искренние чувства.
Служба тянулась долго, и, как заметил Гриша, большинство надзирателей вышло наружу, а те, что остались, откровенно зевали и глазели в потолок. Пришла пора действовать. Плана у Гриши не было, он, как всегда, решил положиться на проверенный метод экспромта. Метод ни разу его не подвел – всегда заканчивался обломом, но ведь должно же ему когда-то повезти. Почему бы не сегодня?
– Тит, дружище, – прошептал Гриша на ухо зловонному мужику, – сделай мне большой одолжение: навали в штаны.
Тита не нужно было просить дважды, когда дело касалось столь приятного для него занятия. Он тут же оголил зад, после чего начал стаскивать штаны с Гриши.
– Да не в мои, придурок! – громким шепотом прикрикнул Гриша. – В свои!
В свои, так в свои. Оно и проще и приятнее. Почти без усилий, видно, давно уже просилось наружу, Тит беззвучно, как снайперская винтовка с глушителем, сделал грязное дело.
– Теперь зачерпни говна, и кинь в Яшку, – приказал Гриша, радуясь только что родившейся в голове выдумке.
Тут Тит замешкался.
– В храме божьем дерьмом кидаться негоже, – произнес он, но железной уверенности в его голосе не было.
– Тит, это тайный приказ барина, – стал самозабвенно врать Гриша. – Барин давно уже этого хочет, больше того – мечтает он об этом. Вот вчера подошел ко мне, обнял за плечи и говорит: мечтаю я, Григорий, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь верный и преданный мне человек, Яшку лакея в церкви дерьмом закидал. Сплю, говорит, и вижу это. Неужели ты, Тит, не хочешь барина своего осчастливить? Ну и ну. Я был о тебе лучшего мнения. Мне казалось, ты барина любишь, а оказывается, что он тебе глубоко безразличен. Меня буквально потрясает высота той колокольни, с которой тебе наплевать на нашего кормильца. Стыдно, Тит. Очень стыдно. Не по-христиански это.
Обвинения, прозвучавшие в его адрес, заставили Тита прослезиться.
– Ужель я барина не люблю? – шмыгая носом, бормотал он. – Ужель не осчастливлю отца родного? Да я за кормильца и в огонь и в воду.
– В огнь и в воду в другой раз. Сейчас в Яшку. Только смотри, незаметно сделай, и после никому не признавайся, что это ты. Так барин велел.
Тит зачерпнул полную ладонь картечи, прицелился, и бросил. Яшка в этот момент как раз отвешивал поклон, и снаряд угодил ему точно в мишень, размазавшись по всему бамперу и забрызгав соседних холопов.
– Тит, ты снайпер! – восторженно похвалил стрелка Гриша. – А теперь мордой в пол и молись богу!
Тит послушался, а Гриша, прекрасно понимая, что сильно рискует, выступил со своей партией. Он поставил на кон все. Если затея провалится, не видать ему ни двух миллионов, ни блондинок, ни крутой тачки, ни всех прочих радостей жизни. Но и дальше перетаскивать навоз с места на место, медленно превращаясь в тупую скотину (то бишь в Тита) он не мог, да и Толстой, гнида, все настойчивее требовал результатов. И Гриша решился. Все или ничего.
– Господи, да что же это делается? – закричал он истошно, так что все люди, собравшиеся в церкви, повернулись в его сторону. Краем глаза Гриша заметил, что сквозь толпу холопов к нему уже пробираются надзиратели с дубинами, и быстро продолжил:
– Да разве же можно в храме господнем в штаны навалить?
Тут в его плечо вцепились крепкие пальцы, в спину уперся конец дубинки, злой голос надзирателя спросил:
– Что ты разорался, скот грязный? Яйца сильно мешаются? Исправим.
– Не могу молчать! – завопил Гриша. – Грех великий сделался. В храме божьем, при господах, при барыне молодой, в штаны навалил!
– Ты? – зарычал второй надзиратель, хватая Гришу за горло. – Ты, гнида мерзкая, обделался?
– Да не я! – прохрипел Гриша.
– А кто?
– Яшка лакей.
Все взоры тут же обратились на Яшку. Лакей, побледнев, тут же осенил себя крестным знаменьем и закричал:
– Люди добрые, вот вам крест – не было такого! Барин, отец, да скажи ты им, – пустив слезу, запричитал Яшка, обращаясь к помещику, – не может Яшка такого сделать. Не такой он человек.
Но жалкий лепет оправданий уже мало что значил, потому что и барин, и его дочурка, и все остальные, прекрасно видели огромное коричневое пятно на штанах Яшки. Это доказательство было куда красноречивее любых доводов в защиту преданного лакея, служившего барину верой и правдой и ни разу не замеченного в чем-то предосудительном.
– Фу! Какая низость! – с непередаваемым отвращением произнесла Танечка, и отвернулась.
– Яшка-Яшка, не ждал я такого от тебя, – покачал головой расстроенный помещик. – В святой праздник, в церкви….
И барин махнул рукой, давая понять, что слова тут не нужны – все и так ясно.
Яшка попытался грохнуться на колени, но крепкие руки надзирателей уже схватили его и потащили к выходу.
– Барин! Отец! – орал он, заливаясь слезами. – Оклеветали меня недруги. Не было такого! Ужель не православные?
– Заткнись! – рявкнул на него один из надзирателей, и приласкал Яшку дубиной по зубам. – Весь праздник осквернил своим дерьмом.
Яшка, выплевывая вместе с кровью осколки зубов, попытался опять затянуть речь в свою защиту, но его уже выволокли наружу. Гриша, наблюдая за этим, ликовал. Но когда бугаи схватили его и тоже потащили к выходу, он не на шутку испугался.
– Подождите! Меня-то за что? – закричал он. – Я же ничего не сделал. Я ведь….
– Стойте, – крикнул надзирателям барин. – Оставьте его. После службы отмоете его, переоденете, и вечером приведете в усадьбу. Будет вместо Яшки.
Гришу отпустили, он тут же грохнулся на колени, уткнулся лбом в пол и стал торопливо благодарить барина за оказанную ему высокую честь.
Глава 15
На следующий день после праздника Гриша официально вступил в новую должность. Перед инаугурацией надзиратель выдал ему обновку: штаны, рубаху и лапти. Штаны и рубаха были из паршивой мешковины, лапти, на вид обычные, оказались сплетены из пластиковых прутиков. На их подошве Гриша обнаружил до боли знакомую надпись «сделано в Китае».
Перед облачением в новую униформу Гришу привели к колонке, раздели догола, вручили мочалку, по ощущениям напоминающую наждачную бумагу, и, поливая из шланга ледяной водой, организовали омовение. Лязгая зубами от холода, Гриша тер себя мочалкой, которая вместе с грязью иногда сдирала куски кожи. За время купания он весь посинел, губы вовсе побелели. Вместо полотенца его заставили побегать кругами, чтобы обсохнуть, а дабы сох быстрее, пустили следом злую собаку. Затем новоявленному лакею позволили одеться. В комплекте с одеждой шло предупреждение о том, что эта роба ему выдается на пять лет жизни, и ежели он повредит ее, порвет или износит, за это последует весьма суровое наказание.
Помимо одежды Грише выдали два предмета, над назначением которых он бы сломал голову, если бы не объяснили что к чему. Первый предмет был большой деревянной пробкой в форме песочных часов, а второй шнурком, длиной сантиметров тридцать. Гриша долго вертел в руках эти штуки, даже попробовал пробку на зуб, но так и не смог понять, как они могут пригодиться ему в нелегком лакейском деле. Но тут, на его счастье, инструктировавший его надзиратель, сказал:
– Самое главное запомни, животное: испражняться на территории усадьбы запрещено.
– Всем? – испуганно спросил Гриша.
– Только крепостным, – ответил надзиратель, и ударил Гиршу палкой.
– А как же быть? – потирая лоб, проворчал Гриша.
– Утром пораньше проснешься, сбегаешь наружу – оправишься. И терпи до ночи, пока господа спать не лягут. Тогда можешь еще сбегать.
– Охренеть! – с нервным смешком выдал Гриша. – Тяжела доля крестьянская. Только ведь не всегда вытерпеть-то можно. Иной раз так на клапан придавит, того и гляди сорвет его вместе с резьбой. Да и спереди тоже может протечь, как ни крепись.
– Дабы такого непотребства не случилось, – сказал надзиратель, – тебе даны терпежные принадлежности. Вот это – надзиратель указал на пробку – задняя затычка. А это, – он указал на шнурок, – уддавка. Дабы кал зловонный из тебя в присутствии высоких господ не посыпался, ты с утра пробкой себе жопу затыкай, а уд завязывай шнурком потуже, дабы не протек.
Гриша с ужасом посмотрел на пробку, которую только что грыз. Надзиратель добавил:
– Гордись! Тебе достались терпежные принадлежности Яшки лакея, а ему они достались от его предшественника, лакея Матвея. Вот уж до чего был преданный человек. И умер как герой: у господ званый ужин был, а Матвею в уборную приспичило нестерпимо. Не пошел! Задницу себе зашил капроновыми нитками, и до последнего господам прислуживал. А как барина спать уложил, вышел за ворота усадьбы, перекрестился да и упал замертво – каловым напором ему кишечник разорвало. Вот какой человек был!
С омерзением отплевываясь во все стороны, Гриша простонал:
– Так эта пробка побывала во всех лакейских жопах?
Стукнув Гришу еще раз, надзиратель сказал:
– Гордись, животное! Матвей, Яшка… Да таких холопов днем с огнем не сыщешь. Матвей-то и вовсе был искусник. Барские стегна до блеска вылизывал, никакой бумаги не требовалось. Барин как шел по великой нужде, так и Матвея с собой кликал. Еще и прозвище ему дал заморское – биде.
– Неужели во всей усадьбе нет ни одного туалета? – цепляясь за последнюю соломинку, спросил Гриша, после чего получил по башке в третий раз.
– Какой тебе туалет? – рявкнул на него взъярившийся надзиратель. – Ты что, скотина гнусная, хочешь своей грязной жопой на тот же стульчак воссесть, на который барин свои белы ягодицы опускать изволит? Али хочешь свой кал холопский в тот же унитаз извергать, в какой господин изволит свои кишечные сокровища откладывать? Или же ты хочешь, погань мерзкая, провонять всю уборную господскую? А ежели туда, опосля тебя, барыня молодая зайдет?
– Можно подумать, ее какашки фиалками пахнут, – чуть слышно проворчал Гриша, и в очередной раз получил по лбу палкой.
– Пробку в жопу, веревку на уд! – бескомпромиссно потребовал надзиратель. – И завяжи потуже. Буду проверять.
Громила удалился, на прощание еще раз стукнув Гришу палкой. Скрипя зубами от злости, Гриша прорычал сквозь зубы:
– Десять миллионов долларов, вилла на Канарских островах, самую крутую тачку, какая только есть, и двадцать три фотомодели. Двадцать три! Не моделью меньше! И чтобы все блондинки. Плюс Ярославна на одну ночь. Иначе хрен я соглашусь продолжать этот идиотизм.
Что касалось новых обязанностей, то они были просты, как мычание. Грише надлежало делать все, что пожелает барин. С раннего утра и до поздней ночи лакей находился в неустанном услужении, и только в то время, когда господин отходил ко сну, мог позволить себе заняться прочими делами.
– Какими это прочими? – спросил Гриша.
– Сапоги барские вычистить до блеска, это раз, – стал загибать пальцы надзиратель. – Отнести его одежду и белье прачкам – это два. И самое главное – надлежит тебе усердно и до блеска вылизывать господский унитаз. Наш барин страсть какой чистоплотный, всякой неопрятности не выносит. Особо строг он в отношении унитазной чистоты. Сам говорил, что ничем так чисто и качественно не вымыть унитаза, как любящим холопским языком. Ты уж порадуй кормильца, хорошо вылизывай. Будешь лизать плохо, придется учиться на горячей сковороде.
Хоть тело было и чужое, но Гриша, в каком бы теле он ни находился, не собирался заниматься ничем гнусным, то бишь он сразу решил, что барский унитаз вылизывать не будет. Для этих целей у него имелась одна подходящая кандидатура, самим небом предназначенная для подобных операций.
Поздно вечером, когда господа изволили отойти ко сну, Гриша подошел к ключнику Петрухе с одним деликатным делом.
– Мне помощник требуется до зарезу, – заявил Гриша. – Боюсь, один все не успею.
Петруха посмотрел на Гришу и напомнил:
– Яшка один справлялся.
– Оно и видно, как он справлялся, – кивнул Гриша. – Его уже третий день за хорошую службу так награждают, что по всему имению слышно. Люд сказывает, ему надзиратель намедни кирзовый сапог в жопу засунул. Вместе с ногой. Я так кончить не хочу. Так что или давайте мне помощника, или, если что, я так и скажу честно – Петруха ключник помощника не дал, вот я и не справился.
Петруха, может быть, и считался хитрым по холопским меркам, но в действительности был трусливым тугодумом. Гриша видел этого холуя насквозь, поскольку, в свое время, вдоволь насмотрелся на такие типажи в рядах вооруженных сил. Озвученная угроза подействовала, и, боясь оказаться на месте Яшки, Петруха дал Грише добро взять себе помощника.
– Можешь мальчика выбрать из детского барака, – предложил он нехотя. – Только гляди, выбирай шустрого и смышленого, а еще самого худого, чтобы ел мало. Дворовая служба – благодать господня. Здесь трудиться надобно, а не брюхо набивать.
– А девочку взять можно? – быстро спросил Гриша. – Шуструю смышленую блондиночку лет шестнадцати, худенькую и не прожорливую. Частично беру ее прокорм на себя – посажу на белковую диету. У меня этого питательного белка уже столько скопилось, что, того и гляди, закрома лопнут. Ну, что насчет девочки?
Петруха сердито нахмурился, и Гриша, все поняв, быстро добавил:
– Если девочку нельзя, то и мальчика не надо. У меня уже есть на примете один надежный человек. Ему я всецело доверяю.
– Кто таков?
– Тит Громожопец, так же известный в народе как Зверский Бздун. Отличный парень. Умный, смекалистый, удивительно чистоплотный. Мы с ним уже сработались.
Получив разрешение, Гриша отправился за пределы усадьбы, в свой бывший барак. Найдя среди спящих на соломе тел тушу Тита, Гриша пнул мужика ногой, а когда тот проснулся, сказал ему:
– Радуйся, пахучий. Тебя повысили в должности. Отныне ты старший помощник лакея по унитазным вопросам.
– Ась? – не понял Тит, поднимая себя с черной смердящей соломы.
– Я говорю, что ты теперь дворовый человек. В усадьбе будешь жить. Я теперь твой начальник. Мне будешь во всем подчиняться. Понял?
– Знамо дело.
– Если понял, то иди за мной. Надо тебя отмыть и переодеть.
Мыться Титу пришлось в поилке для свиней, одежду его, грязные рваные лохмотья, Гриша приказал выбросить. Титу выдали новый наряд – штаны, рубаху, попытались подобрать лапти, но не смогли. Пальцы на ногах Тита были украшены устрашающего вида когтями иссиня-черного цвета. Когти рвали все лапти, стоило попытаться их надеть.
– Можешь босиком ходить, – сдался Петруха. – Но если паркет ногтями поцарапаешь, сразу отправишься в воспитательный центр, а там тебе яйца лебедкой оторвут и шкуру со спины спустят.
Переодетого и проинструктированного Тита Гриша отвел в свою коморку. Двум людям там оказалось тесно, да и кровать была всего одна, но, по мнению Гриши, Тит был скотиной неприхотливой, и мог спать, к примеру, на полу, или снаружи на земле, или стоя, или вообще не спать.
– Есть хочешь? – спросил Гриша, усадив Тита на пол возле стола.
– Поснедать бы важно, – ответит Тит, сглатывая голодную слюну.
Гриша вытащил из-под подушки свой трофей – кусок хлеба, и с огромным наслаждением съел его в одну харю на глазах у заместителя.
– Кайф! – поделился впечатлениями Гриша. – Жаль, что тебе не досталось – такая вкуснятина. Не какие-то помои.
Он бережно сгреб на ладонь хлебные крошки со стола, и спросил Тита:
– Будешь?
Тит кивнул.
Гриша ссыпал крошки себе в рот, смачно причмокнул шубами, и сказал:
– Вкусно, но мало. Сейчас бы куру-гриль затрепать, да пивка баклажку приголубить. Ничего, будут у нас еще куры, будет и пиво. У меня, то есть, все это будет. А тебе, если хорошо себя проявишь, достану комбикорма. Ну а теперь, Тит, пойдем со мной, обрисую тебе фронт работы.
Господа к тому времени уже изволили почивать, но особняк продолжал жить своей таинственной жизнью. Повсюду кипела работа. Из подвального помещения слышался плеск воды и изредка прорывающийся звонкий женский смех. Уборщицы ползали на коленях по коридорам, надраивая паркет полотерными щетками. Проходя мимо одной такой труженицы, натирающей пол в многозначительной позе, Гриша невольно остановился и залюбовался картиной.
– Баба! – выдохнул Тит, который впервые увидел женщину так близко.
Уборщица подняла голову и обернулась. Лицо у нее было курносое, конопатое, но в целом терпимое. Особенно с учетом виляющей при натирании пола попы крайне привлекательной формы и размера.
– Привет, – сказал Гриша. – Я новый лакей помещика. А тебя как зовут?
– Настька, – ответила девка, тыльной стороной ладони вытирая пот со лба.
– Ба… ба… – дрожащим от волнения голосом проблеял Тит, которого буквально колотило. Глаза холопа помутнели, взгляд сделался как у маньяка.
– Возьми себя в руки, пахучий! – потребовал Гриша, выдавая заместителю аванс в виде подзатыльника. – За попытку изнасилования я тебе, прежде надзирателей, яйца оторву. Только попробуй мне все дело загубить. Не для того я столько вытерпел, чтобы ты, тормоз озабоченный, все испоганил. Если хочешь плотских утех, договаривайся полюбовно, чтобы без шума и скандала. Вот, можешь с Настькой подружиться. Глядишь, что-нибудь и срастется. Давай я вас познакомлю, а дальше ты сам.
Он подвел Тита ближе, и когда Настька снова повернулась к ним лицом, сообщил, указывая на помощника:
– Настька, это Тит, младший лакей. Вот такой парень! С виду он, конечно, не Бельмондо, но поверь – под этой грубой мохнатой оболочкой таится чистая душа и большое доброе сердце, открытое для любви.
Гриша посмотрел на Тита, как бы предоставляя ему возможность высказаться, но холоп возможностью пренебрег. Его продолжало трясти, и Гриша всерьез опасался, как бы Тит не бросился на уборщицу.
– Почто молчит? – удивилась Настька, поднявшись на ноги. Руки у нее были по локоть в мастике красного цвета, юбку она подвязала выше колен, чтобы, ползая по полу, не испачкать ее. Гриша оценил стройные худые ножки, затем всю композицию в целом, и подумал, что Титу такое будет жирно. Такое самому пригодится.
– Тит, скажи что-нибудь, – попросил Гриша.
– Аль немой? – усмехнулась Настька. – Гераська садовник мычит, и этот еще мычать будет. Не барские хоромы, а хлев.
– Не позорь меня, тормоз! – сквозь зубы процедил Гриша. – Видишь, девушка на контакт идет. Давай, ляпни что-нибудь. А то подумает, что ты баран тупой, да и я заодно.
– Как такого глупого в лакеи приняли? – изумилась Настька. – Лакею расторопность надобна, смекалка. А этот идол шерстистый речь человеческую не разумеет.
– Зато трудолюбивый, – возразил Гриша. – Он, к примеру, может за тебя пол натереть, а мы с тобой, в это время, пойдем куда-нибудь в укромное место, познакомимся ближе….
– Куда это? – насторожилась Настька.
– В укромное место, – повторил Гриша.
– Почто? Я те не девка срамная! О грехе и не помышляй. В брачный сарай велят пойти – пойду. А где попало, яко блудница последняя, не согласна.
– Да что ты сразу о грехе-то, – растерялся Гриша. – Что нам, кроме греха и заняться больше нечем? Можем в ладушки поиграть, или в «закрой глаза открой рот». Умеешь? Я научу.
Не исключено, что до чего-нибудь и удалось бы договориться (не до греха, так хотя бы до ладушек), но тут о себе напомнила неуправляемая страшная сила, могучая и неудержимая, подобная стихии. Этой силой являлся Тит, а если точнее, то его выпускной клапан.
Вначале зазвучал свист, затем нарастающий грохот, тот сменился зловещим треском, будто могучая буря, гуляя над лесом, ломала сучья и срывала вершинки с деревьев. Мерзкое эхо громом прокатилось по коридору, а следом нахлынула ароматическая волна небывалой интенсивности.
– Святые угодники! – зашлась криком Настька, которую газовая атака едва не сразила наповал – на господской службе она привыкла к чистоте и отсутствию вони. Зажимая руками рот, она бросилась к лестнице, а Тит, словно ей вдогонку, пустил еще одну порцию анальных ветров.
Позеленевший от смрада Гриша подошел к напарнику и, что было сил, двинул ему кулаком в ухо.
– Где твои терпежные принадлежности? – потребовал он. – Почему зад не закупорил?
– Забыл, – признался Тит виновато. – Бес попутал….
– На беса не вали! – рассердился Гриша. – Только ты один виноват. Ты и твой аномальный кишечник. Ты хоть понимаешь, что своим анальным громом обломал мне всю половую жизнь. Если бы не ты, я мог бы уже сегодня поиграть с Настькой в закрой глаза открой рот. А теперь что делать?
– Барину служить верой и правдой.
– Только и остается. Ну, Тит, разве так можно? Неужели так трудно потерпеть? Все холопы одинаково питаются, но жопа гремит безостановочно только у тебя одного. Даже недоразвитый Кондрат – пожиратель соплей, и тот столько воздух не портит. Полюбуйся, что ты наделал. Спугнул девушку. Она теперь к нам на пушечный выстрел не подойдет. И я ее, черт возьми, прекрасно понимаю. Скажи мне, ты всегда таким пердуном был, или этот талант у тебя пробудился уже в зрелом возрасте? Может быть это последствия травмы? Тебя ничем тяжелым по голове не били?
– Били, – признался Тит.
– Чем и когда?
– Всем и всегда. Палкой били, оглоблей били, полешком били, кирпичом били, молотком били….
– Неудивительно, что ты такой дурак, – кивнул Гриша. – Странно, что вообще живой. Ладно, идем уже. И запомни – больше чтобы про затычку не забывал. Чего доброго ты при господах задом грянешь. Настька холопка, и та чуть не померла, а господа точно ласты склеят. Я, в общем-то, не возражаю против их мучительной смерти, но что с нами после этого будет? Тебя, понятное дело, на пытку зверскую, но и меня тоже. Это ведь я тебя на работу принял. Нет, Тит, ты задницу затыкай хорошенько. Погибель твоя в ней.
Дойдя до господской уборной, Гриша распахнул дверь и указал Титу на белоснежный унитаз.
– Твое рабочее место, – представил он.
– Эка дивна купель, – протянул Тит, зачарованно взирая на доселе неведомое ему удобство. – А почто журчит?
Он приблизился и заглянул в унитаз.
– Там святой источник! – прошептал он.
– Ага, с живой водой, – буркнул Гриша. – Слушай сюда, тормоз. Каждую ночь будешь вылизывать унитаз языком, и вылизывать до блеска. Если хоть раз вылижешь плохо, равноапостольный великомученик Даниил сойдет с небес и утопит тебя в этой купели. Понял?
– Знамо дело.
– Приступай. Лижи хорошо, тренируй язык. Если в будущем дорвешься до женского тела, приятно удивишь подругу.
– Это мы запросто, – сказал Тит, опускаясь перед унитазом на колени. – Это мы живо.
Послышалось хлюпанье, чавканье – похоже, Тит пропустил процедуру ухаживания и сразу перешел к поцелуям взасос. Гриша стоял в дверях и внимательно следил за дебютом своего заместителя. Тит справлялся. Вначале получалось неловко – язык соскальзывал с гладкой керамической поверхности, но потом приловчился, сунул голову в очко, стремясь добраться до самых труднодоступных участков.
Лобзание отхожего места затянулось. Гриша вышел в коридор, сел на пол и вытянул гудящие после трудового дня ноги. Возникла мысль посетить прачек, но Гриша безжалостно задушил эту заманчивую идею. Никогда прежде ему не приходилось поступаться своими сиюминутными желаниями в угоду грядущей крупной выгоды, и все потому, что и ситуаций таких не возникало. Гриша не имел глобальных планов на будущее, не загадывал сроки преодоления ступеней карьерной лестницы, и никогда не копил деньги. Строить планы было и лениво и глупо. Гриша понимал, что в постоянно меняющихся окружающих условиях планировать что-то даже на год вперед верх идиотизма. Можно учесть тысячу факторов, но еще тысячу упустить. Помимо этого, будет еще некоторое количество принципиально не просчитываемых моментов, таких, например, как конец света в целом или просто отдельно взятая смерть строителя грандиозных планов в частности. К тому же окружающая действительность не слишком изобиловала теми путями, которые теоретически вели к крутым тачкам и дорогим проституткам. Точнее говоря, таких путей не было вовсе. То есть, они, вероятно, были, потому что как-то же люди достигали финансового успеха, но Гриша не видел их вокруг себя. Как вариант им иногда рассматривался криминал, но Гриша не являлся преступником и не хотел грабить и убивать. Если он и совершал противоправные действия, то исключительно прикола ради, но не из корыстных мотивов.
В итоге оставался один неизбежный путь – путь пролетария, который тупо пашет на плохо оплачиваемой работе, связанной с физическим трудом, всю жизнь считает копейки, женится на такой же нищенке, строгает ей детей, тем самым преумножая бедноту. Детей этих ждет та же судьба, что и папашу, потому что пролетарии, как правило, не оставляют после себя обильного наследства. В квартире, если таковая имеется, они эгоистично живут сами, и живут долго. Машина, купленная в кредит, который потом выплачивается годами, что вызывает еще большую экономию и соответственно, снижение качества блюд на столе, к тому времени превращается в груду ржавчины. Бытовая электроника через десять лет эксплуатации и физически и морально превращается в полный отстой. Старшие товарищи рассказывали Грише о древних временах, когда отличительным знаком крутого перца был видеомагнитофон, стоивший, иной раз, больше зарплаты. И где они теперь, эти видеомагнитофоны? Уже родилось и подросло поколение, которое даже не знает, что это такое. Пройдет еще немного лет, и нынешние крутые электронные игрушки станут такой же отрыжкой прошлого. Планшетные компьютеры с сенсорной системой управления по своей актуальности окажутся в одном ряду с граммофонами, а внуки будут угорать над 3D телевизором, за который дед с бабкой в свое время целый год расплачивались своими кровными тугриками.
Гриша по своему происхождению был пролетарием в четвертом поколении. Прадеды, деды, отцы – все пахали и пахали, и хрен чего напахали. При всем трудовом надрыве жил и жоп им не удалось скопить ничего, ни даже крошечного капитала, могущего послужить для потомков стартовой площадкой. Каждому следующему поколению Грязиных приходилось начинать все с самого начала, которое одновременно являлось концом. Гриша не стал исключением. Если у древних славян мальчик получал в наследство один только меч, с помощью которого сам должен был заработать себе отцовский капитал, то Грише даже меча не досталось. Похоже, семейную реликвию давным-давно пропил один из пращуров, так что передавать в будущее стало нечего.
Лишенный возможности добыть себе средства вострым мечом (то есть продать его и прогулять деньги), Гриша был обречен на должность грузчика. При этом никаких перемен впереди не маячило, потому что грузчик, это не первая ступенька в карьерной лестнице, это бескрайная, плоская как стол, пустыня, где можно бродить всю жизнь, согреваемый лишь палящим солнцем да красочными миражами голливудской сборки, но так и не найти ни одного оазиса.
Хотел ли Гриша работать грузчиком? Вопрос такой, что глупее не задашь. Человек своего времени, Гриша считал всякий пролетарский труд уделом лохов. Подобная работа никак не соответствовала образу крутого перца, к которому Гриша всегда стремился. Крутые перцы, насколько Гриша знал, вообще не работают, потому что у них всегда все есть.
Гриша давно уже понял, что от трудов праведных ничего хорошего не наживешь. Понял и смирился. Исходя из того, что жизнь едва ли подбросит ему приятный сюрприз в лице внезапного антинаучного обогащения, он стал наслаждаться тем, что имел. Гриша не боялся завтрашнего дня, поскольку терять ему было нечего. Если у него возникало какое-то спонтанное желание, он старался немедленно его осуществить, даже в том случае, если это будет сопряжено с опасными последствиями для его организма. Ну и пусть себе опасность. Для чего себя жалеть? Для долгих и счастливых лет работы грузчиком? Или беречь здоровье, чтобы затем долго и тупо существовать на пенсии? Гриша вообще не хотел доживать до пенсионного возраста. Он мечтал умереть в тот день, когда не сможет больше пить, курить и покрывать телок. Жалкое бытие разваливающегося на части, впавшего в маразм и немощь активного трупа, помноженное на нищету, пугало его. Сейчас Гриша не имел ничего из того, что хотел, но у него, по крайней мере, еще оставался запас прочности, дающий ему право надеяться на лучшее. Но на какое лучшее можно надеяться в шестьдесят лет? Разве что на лучшее место на кладбище.
И вот, впервые в жизни, у него появилась реальная надежда и осязаемая цель. Миллионы долларов это то, ради чего стоит ограничивать себя во многом. Гриша уже не мог так свободно делать глупости, потому что теперь они стоили бы ему слишком дорого. Гриша стал целеустремленным, в его душе проснулся страх перед будущим. Он уже не мог, повинуясь желанию, пойти к прачкам, ворваться в их коморку среди ночи, начать стаскивать со спящих девок одеяла, лапать сонных за сиськи, настойчиво требовать интима. Раньше мог, а теперь не мог. Потому что этот поступок означал бы провал задания и потерю обещанных опричниками миллионов.
– Слабым меня эти деньги сделали, – с горечью подытожил свои размышления Гриша. – Раньше бы я уже давно весь особняк обоссал, все картины фекалиями измазал, а теперь не то. Даже слово плохое на стене гвоздиком написать не могу. Аж тошно! Столько стен вокруг, и все чистые. Смотреть противно. За картиной, разве что, автограф поставить?
В этот момент из уборной вышел облизывающийся Тит и спросил:
– Ларец дивный тоже лизать?
– Какой еще ларец? А, бачок. Нет, его не надо. А с унитазом ты закончил?
– Знамо дело.
– Сейчас проверю.
Гриша вошел в уборную и невольно прикрыл глаза ладонью. Унитаз сиял яко солнце белое.
– Молодец! – вырывалась у Гриши невольная похвала. – Умеешь языком работать. Был бы ты чиновником, далеко бы пошел – пролизал бы себе дорогу к достатку и роскоши. Ну, что, спать идем? Или….
Он, не договорив, хитро подмигнул Титу. Тит ничего не понял.
– Хочешь за барыней поподглядывать? – преступным шепотом спросил Гриша.
– За барыней? Подглядывать? – испугался Тит. – Господь с тобой! Али не грех это?
– Нет, подглядывать не грех! – твердо заявил Гриша. – Я все заповеди наизусть знаю. Не убий, не укради, не прелюбодействуй…. «Не подглядывай за голыми девками» там не было. Значит, можно.
Глава 16
За девчонками Гриша не подглядывал с шестого класса, но, как выяснилось, старые навыки отнюдь не забылись.
Господский дом внутри не охранялся, а те надзиратели, что днем прогуливались по двору и следили за порядком, по ночам отправлялись в казармы. Там им было чем себя занять, например спиртным и девочками. К тому же от дворовых людей никто не ждал подвоха, ибо прислуживать господам отбирали лишь самых преданных и надежных холопов, которые, не задумываясь, жизнь отдадут не то что за барина, за его грязные носки.
В коридорах особняка царил интимный полумрак, с фамильных портретов на двух холопов строго взирали лица предков нынешнего хозяина имения. У Гриши рефлекторно чесались руки взять фломастер и учинить над полотнами акт вандализма (рефлекс выработался еще в школе, где он в каждом своем учебнике обязательно пририсовывал всем выдающимся людям колоссальные члены), но Гриша понимал – здесь тебе не родная школа, здесь красной надписью в дневнике не отделаешься.
Тит не очень понимал, что вообще происходит, и куда они крадутся, но, к счастью, главный Гришин приказ выполнял безукоризненно, то есть помалкивал, и никаких посторонних звуков не издавал. Гриша, впрочем, не столько опасался за уста Тита, сколько за его шоколадное око, ибо именно оно имело дурную привычку звучать не к месту.
Дом оказался огромным – три этажа плюс мансарда, и большей частью необитаем. В доме проживали всего-то четыре человека – сам барин, его дочурка Танечка, фаворитка Акулина и Матрена – личная служанка барыни. Прочая дворня обитала либо в подвале, либо в многочисленных пристройках пониженной комфортности. Все остальные помещения дома, кроме господских покоев, напоминали залы музея, и не только безлюдностью и тишиной, но и обилием экспонатов. Судя по количеству предметов роскоши, деньжата у помещика Орлова водились, и он бы ничуть не обнищал, если бы кормил крепостных не помоями, но хотя бы тем же комбикормом или турнепсом. Грише, впрочем, плевать хотелось на крепостных. Его заботило исключительно собственное благополучие, и вот, пробираясь по темным коридорам особняка, он начал мечтать о том, чтобы своим обаянием покорить сердце Танечки и вот так, через постель, выбиться в люди. Если бы это мечтание осуществилось, он бы с радостью остался в этом мире, ибо заделаться зятем помещика Орлова гораздо круче и выгоднее, чем получить в своей родной реальности два миллиона долларов. К тому же Гриша не доверял Толстому, считал его жадной скотиной, и подозревал, что с деньгами тот расстаться по-хорошему не захочет. Что ж, Гриша был готов переубедить старого жмота многими болезнетворными аргументами, но ведь Толстого охраняли два мощных гоблина, а с ними тягаться было бесполезно. Оставалась одна надежда – соблазнить Ярославну, пообещать на ней жениться, затем с ее помощью получить свои бабки, и, если повезет, кое-что сверху, после чего смыться в гордом одиночестве, с двумя миллионами долларов и без перемен в семейном положении.
– Важно господа поживают, – шепотом высказался Тит, круглыми глазами таращась на окружающую его роскошь.
– Да, это тебе не родной сарай, – согласился Гриша. – Хотел бы ты так же жить?
Вопрос Тита испугал.
– Что ты! Что ты! – принялся блажить он, торопливо крестясь. – Да разве этак можно даже помышлять? Богом заведено исстари: барин живет в доме, мужик живет в сарае. Ежели барина в сарай поселить, то не сдюжит он жизни мужицкой, помрет. Ежели меня в дом поселить, то и я тоже скоро помру.
– Насчет того, что барин от нашей крестьянской жизни на третий день подохнет – согласен, – кивнул Гриша. – Но вот ты-то с чего перекинешься, если будешь спать вволю, жрать от пуза, по ночам с телками кувыркаться и больше ничего не делать? Я думаю, ты при таком раскладе лет до ста проживешь. А чего не жить-то? Это когда ты скотина крепостная, то за жизнь цепляться глупо. Все равно не жизнь, а дерьмо. Ну а когда у тебя все тридцать три удовольствия, тут уж помирать незачем. Тут надо кайф ловить. Знаешь, Тит, что такое кайф?
– Не знамо.
– Ясное дело, что не знамо. Откуда тебе знамо, что такое кайф? Ты ведь весь кайф жизни грехом называешь. Ну, ничего. Я над тобой поработаю.
Приблизившись к покоям барыни, холопы притихли. Гриша первым подкрался к двери, и тут же услышал доносящиеся изнутри женские голоса. Похоже, Танечка беседовала со своей служанкой. Служанка, кстати, тоже была очень даже ничего себе. Гриша бы с огромной радостью совершил спелеологический рейд в ее пещеру, не корысти ради, а чисто так, для галочки.
Подозвав к себе Тита, Гриша велел мужику затаиться, и прислушался к чужому разговору. Танечка капризным голосом жаловалась служанке на скуку, царящую в имении, на отсутствие развлечений и компании. Еще никогда прежде Грише так сильно не хотелось развлечь заскучавшую девушку. Сопящий рядом Тит тоже прижал ухо к двери и заулыбался неизвестно чему.
– Ах, Матрена, какая же тут тоска! – с чувством произнесла Танечка, и, судя по звуку, обрушилась на кровать.
– Не угодно ли телевизор посмотреть? – предложила Матрена.
– Да ну его.
– Не угодно ли музыку послушать?
– Да ну ее.
Гришу так и подмывало распахнуть дверь, ворваться в покои и предложить Танечке кое-что от себя.
– Все не могу забыть, как папенькин лакей в церкви обделался, – заговорила Танечка весело. – Так смешно было.
– Грешно над этим смеяться, – строго возразила госпоже Матрена. – Срам-то какой! А ведь вроде приличный был лакей, и папенька ваш всегда его хвалил: всегда исполнительный, расторопный, и гости, на него глядя, тоже дивились.
Танечка молчала, молчала, а затем лукаво спросила:
– А ведь я слышала, этот лакей… как его?
– Яшка.
– Да, Яшка. Я вот слышала, что этот Яшка на тебя заглядывался, когда ты еще в прачках была.
Возникла пауза – похоже, Матрена оказалась застигнута врасплох неожиданной осведомленностью барыни.
– Рассказывай, что там было! – с жадностью потребовала скучающая Танечка. – Признавался он тебе в любви?
– Да что вы, госпожа! Да ничего такого и не было, – принялась юлить Матрена, но Танечка ее тут же раскусила. Раскусил ее и Гриша. Матрену он наблюдал в церкви, и вполне понимал ныне терзаемого в воспитательном сарае Яшку. К такой девке грех было не подкатить яйца. Другое дело, что теперь Яшке уже нечего было подкатывать. То, что он подкатывал раньше, ныне болталось на заборе, в назидание другим. Яшка еще был жив – надзиратели приняли решение не дать ему умереть легко и быстро. Дабы мерзавец ответил за свое святотатство, его сговорились пытать три недели, а если к окончанию срока не помрет, еще три недели, и так далее.
– Нет, хочу все знать! – решительно заявила Танечка. – Рассказывай!
– Да что там рассказывать? – смущенно забормотала Матрена.
– Расскажи, как он за тобой ухаживал.
– Ну, он мне однажды огрызок яблока подарил.
– Огрызок яблока? – удивленно переспросила Танечка.
– Он бы, тормоз, еще дохлую кошку ей подарил, – беззвучно посмеиваясь, прошептал Гриша. – Вот, Тит, слушай внимательно, как не надо ухаживать за телками.
– За коровами молодыми? – так же шепотом уточнил Тит.
– Дались вам всем эти коровы! – разозлился Гриша. – У вас что тут, тайная секта воинствующих зоофилов? Покойный Степан что-то о коровах говорил, теперь ты. Тит, баран, телка, это не корова. Телка это девушка. Баба то бишь. Понял?
– Нет, – честно признался запутавшийся Тит.
– Ну и ладно. Забудь. Я тебе потом объясню, медленно и три раза.
В покоях, тем временем, Танечка продолжала пытать служанку:
– А когда он тебе огрызок подарил, что сказал?
– Ну, я точно не помню.
– А ты вспомни. Вспомни!
– Совсем не помню я, госпожа.
– Ах, так? А вот завтра прикажу тебя посечь на конюшне, сразу все вспомнишь.
Матрена оказалась понятливой девушкой.
– Вот припомнила как раз. Дал он мне огрызок яблока, и сказал, что хочет со мной в брачный сарай пойти.
Гриша уже знал, что брачным сараем называется строение, в недрах которого происходила случка крепостных. Вне пределов сарая крепостным, будь они производители, или нет, спариваться запрещалось.
– Как? Сразу про брачный сарай заговорил? – возмутилась Танечка. – Какое неслыханное хамство! И еще этот подарок…. Огрызок – ну что за подарок? Мог же он тебе хотя бы цветов нарвать с клумбы.
– Цветы рвать нельзя, – сказала Матрена. – Герасим не велит. В том месяце один из поваров сорвал цветочек, так Герасим подбежал к нему, замычал, и ударил по голове ломом.
– Какое неслыханное зверство, – равнодушно протянула Танечка. – А этот Герасим, он такой большой и страшный. На медведя похож. А почему он мычит все время?
– Глухонемой.
– Надо же…. Глухонемой.
Тут Матрена, явно желая порадовать госпожу свежими сплетнями, сообщила:
– К нему Олька прачка давно бегает. Рассказывала, что у него вот такой вот большой!
– Ого! – потрясенно выдохнула Танечка.
– Вот, видишь, – зашептал Гриша Титу. – Пока ты тут святых старцев слушаешь, развесив уши, глухонемой тормоз всех прачек уже перетрахал. Где Герасим, а где мы? Да по сравнению с нами он вообще никто. Мы с тобой реальные пацаны, крутые парни. Конечно, размер имеет значение, но, Тит, ты не волнуйся: я не я буду, если этого Герасима следом за Яшкой не отправлю. А то гляди, как устроился. Ничего, вот избавимся от этой глухонемой секс-машины, и все прачки к нам побегут.
Матрена, тем временем, выложила все, что знала об отношениях Герасима и Ольки прачки. Танечка все громче возбужденно вздыхала, Гриша залил всю дверь похотливой слюной, которая лилась из пасти Ниагарским водопадом.
– Ну а у вас с Яшкой ничего не было? – спросила Танечка, наслушавшись пикантных подробностей.
– Нет, барыня.
– И что, даже не целовались?
– Целовались один раз.
– Правда? И как?
– Не очень.
– Почему?
– От него туалетом пахло. Он ведь как раз перед этим уборную вашего папеньки языком вылизывал. Мне не понравилось.
– Тит, дабы не попасть впросак, сразу распределим обязанности, – прошептал Гриша. – Ты вылизываешь сортиры, я целуюсь с девчонками.
– Господи, как вы живете! – с чувством произнесла Танечка. – Вместо цветов огрызки от яблок, вместо одеколона… даже стыдно сказать что. Это ужасно. Никакой романтики. Правду говорят, что высокие чувства чужды крепостным.
Тут Танечка, судя по звуку, зевнула, и сказала:
– Что-то в сон клонит. Раздень меня, Матрена.
Гриша стремительно оттолкнул Тита в сторону и жадно припал глазом к замочной скважине. Кровать Танечки стояла как раз напротив двери, так что обзор открывался превосходный. Сквозь замочную скважину Гриша увидел женскую попу потрясающей красоты, стройные длинные ножки, и едва не снес головой дверь. Как же ему хотелось оказаться внутри!
– Блин! – страстно выдохнул он. – Вот это жопа! Тит, иди-ка, глянь, что ты променял на святых старцев.
Гриша уступил Титу место у замочной скважины, и зловонный мужик припал оком к щели. Первые секунд десять ничего не происходило – Тит стоял, согнувшись, не шевелясь и не меняясь в лице, затем вдруг громко задышал, стремительно запустил руку в штаны и самым непотребным образом попрал все заветы святых старцев.
– Тит, на все руки блуд, немедленно прекрати! – возмущенно зашептал Гриша, пытаясь силой оттащить холопа от двери. Но это оказалось непросто – Тит будто прирос глазом к замочной скважине.
– Тит, пойдем в нашу резиденцию, там закончишь, по памяти! Здесь нельзя. Не дай бог услышат. Ведь кастрируют же. Ладно, тебя, тебя не жалко, но и меня ведь тоже могут.
Но напрасно Гриша пытался увести Тита. Громко сопя и сотрясаясь всем телом, бывший праведник довел дело до логического конца. В самый кульминационный момент Тит уже готовился издать громкий счастливый стон, но Гриша зажал ему рот и, понижая градус кайфа, пробил мужику по печени. Обломать кайф не удалось, но хотя бы обошлось без звукового сопровождения.
Отпихнув дебильно улыбающегося Тита от двери, Гриша припал к замочной скважине, но было поздно – Танечка уже легла и спрятала свое прекрасное тело под одеялом. Мимо ее ложа прошла Матрена в ночной рубашке до колен, затем свет в комнате погас. Повернув к Титу перекошенное яростью лицо, Гриша проворчал:
– На Танечку этого больше чтоб не делал, понял? На крепостных девок делай. А на Танечку нельзя!
Тит, расплывшийся в счастливой улыбке, сполз по стене на пол и прошептал, закатив глаза:
– Важно!
Впрочем, счастье Тита продлилось недолго. Уже на обратном пути его стало одолевать раскаяние, а к тому моменту, когда они добрались до отведенной им коморки, Тит готов был прямо сейчас идти к святому старцу Маврикию и исповедаться в греховном деянии. Едва войдя в каморку, Тит бросился на колени перед маленькой иконой, что стояла в уголке на полочке, и, суетливо крестясь, залился горючими слезами. В его бессвязном бормотании Гриша расслышал что-то о дьявольских соблазнах, о великом раскаянии, а так же неизбежные обещания на тему: больше так не буду. Гриша слушал фанатика с ухмылкой на лице, а когда Тит сделал паузу, дабы отбить три десятка поклонов с ударом лбом о грунт, мечтательно произнес:
– А согласись, жопа у нашей барыни просто волшебная.
– Чур! Чур меня! – забормотал Тит, пугливо косясь на Гришу. – Избавь господь от соблазнов дьявольских.
– Ты кончай уже Танечку дьяволом называть. Что она тебе плохого сделала?
– Женщина – сосуд греха! – отчеканил Тит, заливая грудь слезами раскаяния. – Так святые старцы молвят.
– Святые старцы фишку не рубят. Ты вспомни эту жопу! Вспомни, Тит!
Тит, похоже, вспомнил, потому что штаны его опять вызывающе оттопырились спереди. Как ни старался он думать о боге, святых старцах и воздержании от земных соблазнов, но волшебный образ чудесной девичьей попки крепко врезался в его голову. Так крепко, что стоило Грише напомнить о нем, как мужское начало Тита опять пришло в боевое положение.
Гриша, заметив это, радостно засмеялся, а вот Тит впал в отчаяние. Схватив полено, которое валялось в углу, Тит размахнулся, и изо всех сил ударил себя по гениталиям.
– Уймись! – закричал он, катаясь по полу и скрежеща зубами от боли. – Уймись, окаянный! Не балуй!
Но даже битый поленом, корень жизни Тита продолжал стоять назло святым старцам и своему хозяину. Тит, рыдая, принялся укладывать его вручную, дергал из стороны в сторону, затем попробовал оторвать и выбросить. Гриша корчился на лежанке от смеха, и как никогда жалел, что под рукой нет мобильника – бесценные кадры пропадали!
Тит, рыдая, вскочил на ноги и стал бить членом по краю стола.
– Святой старец Маврикий, защити! – рыдая, выл он при этом.
– Все! Поздно! – злорадствовал Гриша. – Теперь, когда ты пронаблюдал задницу нашей барыни, тебе никакой старец Маврикий не поможет.
– Я его отрежу! – завопил Тит.
– Погоди ты с крайностями. Попробуй еще раз поленом.
Тит схватил полено и трижды, изо всех сил, ударил своевольный орган. После третьего попадания долгожданный эффект был достигнут – окаянный отросток увял. Подвывая от боли, Тит свалился на пол и свернулся калачиком. Гриша сказал ему:
– Ладно, Тит. Сегодня можешь здесь поспать. Но только сегодня. А завтра опять на свежий воздух.
Впрочем, Гриша очень скоро пожалел о своей неуместной доброте. Среди ночи его разбудил страшный грохот, такой громкий и жуткий, что Грише показалось, что ломаются потолочные балки. В панике вскочив с лежанки, он кое-как зажег свечу, но, задрав голову к верху, обнаружил потолок в целости.
– Что это было? – проворчал Гриша, опуская взгляд. На полу на четвереньках ползал Тит, и горьким голосом причитал:
– Ой, тяжко. Ой, тяжко.
Штаны Тита были зверски разорваны сзади, в стене, на высоте примерно полуметра от пола, зияла сквозная дыра значительного калибра. Походило на то, что в стену выстрелили из небольшой пушки.
– Тит, что произошло? – попытался выяснить Гриша.
Тит не ответил, он продолжал бормотать и постанывать. Грише пришлось самостоятельно провести расследование, и примерно через полчаса он выяснил, что версия террористического акта в исполнении исламских радикалов себя не оправдала. Все оказалось проще и страшнее. Тит, как выяснилось, укладываясь спать, забыл вытащить из задницы деревянную пробку – терпежную принадлежность. Ночью давление газов в его кишечнике достигло критической отметки, и произошел выстрел.
– А если бы ты ко мне жопой повернулся? – закричал на мужика Гриша. – Маньяк зловонный! Иди отсюда на улицу, и там свою гаубицу пристреливай.
Глава 17
На следующий день Гриша окончательно убедился в том, что ему и садовнику Герасиму тесно в этом имении, и кому-то из них придется досрочно уйти на заслуженный отдых.
Началось все с того, что Гришу вызвала к себе Танечка. Дело было как раз после завтрака, в ходе которого Гриша изо всех сил старался не истечь слюной, глядя на гастрономическое изобилие, царящее на господском столе. Когда барин погружал в свой рот бутерброд с черной икрой, Гриша испытал почти физическое мучение, тем более что ему в это утро перепала только маленькая корочка черного хлеба. Злой на весь белый свет, переполненный классовой ненавистью, Гриша побрел в покои барыни. Танечка, зараза, за завтраком будто нарочно издевалась над ним – кушала демонстративно, медленно, с апатитом облизывалась, а своей служанке щедро отвалила целый кусок пирога. Матрена, разумеется, и не подумала поделиться добычей с Гришей – в этом мире о солидарности трудящихся никто не слышал, каждый пекся о благополучии исключительно своей утробы, а на прочее человечество чхать хотел.
Постучавшись, и получив высочайшее дозволение войти, Гриша проник в покои Танечки и тут же автоматически отвесил низкий поклон. Танечке он всегда кланялся до земли – лелеял надежду заглянуть под юбку.
– Вызывали, госпожа? – спросил он, не торопясь распрямлять спину.
Танечка сидела перед огромным зеркалом, Матрена гребнем расчесывала ее гриву. Заметив вошедшего Гришу, Танечка сказала:
– Сходи на двор, нарви с клумбы роз и принести сюда.
– Сколько желаете? – спросил Гриша.
– Принести пятнадцать…. Ах, все забываю, вы же считать не умеете. В общем, три раза по столько, сколько у тебя пальцев на одной руке. Понял?
– Понял, госпожа, – ответил Гриша, еще раз поклонился и, пятясь задом, вышел из покоев.
Во дворе было пусто – господа сидели по комнатам, челядь занималась своими обязанностями. Прихватив на кухне ножницы, Гриша прямым ходом направился к большой клумбе, где выращивались розы. Отдавшись приятным фантазиям о том, как он, купив на заработанные миллионы крутую тачку, поедет вечером снимать телок, Гриша неторопливо срезал цветы и складывал их на землю рядом с собой. Он так замечтался, что не сразу расслышал странное свирепое мычание у себя за спиной. Гриша обернулся, и тут же в ужасе отскочил в сторону, лишь чудом избегнув тесного контакта с огромным ломом.
Герасим был в ярости, и свое душевное состояние он выражал единственным доступным ему способом – дико мычал и вращал налитыми кровью глазами. Глухонемой садовник был страшен. Огромный, двух метров ростом, с широченными плечами, с бородой до пояса, он напоминал снежного человека, встреча с которым, по словам очевидцев, вызывает в людях первобытный ужас. Герасим тоже внушал ужас своим видом. Больше всего пугали даже не его размеры, а лицо, почти лишенное мимики, и глаза, вечно вытаращенные, вечно злобные, глядящие на все вокруг как на своего заклятого врага. Поговаривали, что этот мегалитический Герасим забил до смерти уже двух своих помощников, да и третьему до могилы оставался один шаг. Как раз вчера Гриша видел, как садовник полчаса пинал своего подчиненного ногами только за то, что тот случайно наступил на газон. Было лишь одно живое существо, к которому Герасим испытывал что-то кроме лютой ненависти – мелкая ублюдочная шавка, живущая вместе с ним в сарае. Эта собачонка кидалась на всех, облаивала, кусала, даже надзирателям от нее доставалось. Но собаку не трогали, потому что боялись ее хозяина. Колоссальный Герасим мог один переломать голыми руками всех надзирателей имения, так что на его выходки и на выходки его живности смотрели сквозь пальцы.
Размахивая ломом, этот свирепый неандерталец пошел на Гришу, явно намереваясь его прибить. Гриша прекрасно знал, что на совести доброго Герасима уже немало загубленных жизней. За свои цветочки он, не задумываясь, калечил и убивал людей. Другого крепостного за такие штуки давно бы отправили на заслуженный отдых, но только не Герасима. Поговаривали, что ему покровительствует сама Акулина – фаворитка барина. Гриша сделал из этого вывод, что не только прачки наведываются ночами к садовнику в поисках плотских утех. Судя по всему, любимица хозяина имения тоже протоптала тропку в сарайчик Герасима.
– Му-му! – ревел Герасим, разбрызгивая гневную слюну.
Гриша бросился бежать к своему сарайчику, за его спиной грохотали шаги злого великана. На пути ему встретился Тит, выполняющий ответственное задание – первый заместитель лакея сушил носочки барина на свежем ветру. Тит стоял как огородной пугало – широко расставив руки, в каждой руке он держал по носочку. Пробегая мимо него, Гриша закричал:
– Тит, защити меня!
– Важно! – раскатисто ответил Тит, даже не подумав пошевелиться. Лицо его выражало сосредоточенность и чувство собственной значимости. Тит слово бы осознавал, что исполняет не просто рядовое поручение, но делает дело чрезвычайной важности, и ни на что не должен отвлекаться. Когда мимо него пронесся мычащий Герасим с ломом наперевес, он проследил за ним равнодушным взглядом и пожал плечами.
Чудом избегнув расправы, Гриша, сидя вечером в своей коморке, старательно придумывал план мести. То, что Герасим не жилец, он уже решил, оставалось избрать способ пресечения его никчемной жизни. Делить ареал обитания с этим переходным звеном Гриша не мог и не хотел. Мало того, что глухонемой инвалид пытался убить его ломом (и кто знает, не попытается ли вновь), так ведь эта сволочь эгоистично покрывала всех дворовых девок плюс Акулину. Акулина Грише не нравилась. Своим поведением она напоминала ему тех подстилок из родного мира, которые, удачно раздвинув ноги, затем глядели на все живое из салона дорогой тачки папика с высокомерным презрением, корча из себя герцогинь, а то и целых королев. Когда таких королев тормозила дорожная инспекция, они орали на сотрудников колхозным голосом с колхозными интонациями (голос крови сказывался) примерно следующее: «Да ты знаешь, кто меня трахает? Да ты в курсе, у кого я сосу? Да ты хоть представляешь, кто меня сегодня в жопу натягивал? Да ты завтра улицы пойдешь подметать лысым веником!». После этого озвучивалась фамилия покровителя, а иногда и целый ряд фамилий, и инспектор сразу же понимал, что был чудовищно неправ.
К тому же Акулину уже довольно давно эксплуатировал как сам барин, так и еще ряд лиц, вроде того же Герасима. То ли дело Танечка. Молодая барыня вела себя скромно и вежливо, и если бы не эпизодические проявления непринужденной жестокости, могла бы считаться сущим ангелом. К тому же Гриша недавно выяснил, что Танечка еще девственница. Эта потрясающая новость едва не разорвала ему штаны.
Непосредственно разделаться с Герасимом своими руками Гриша не мог – для охоты на этого великана требовалось крупнокалиберное оружие, вроде гранатомета. Как-то подставить садовника тоже было трудно – мерзавцу все сходило с рук. Но вот как сильно ухудшить настроение Герасима Гриша вскоре придумал. После этого, довольный собой, он стал рассказывать Титу свои сексуальные фантазии, и довел мужика до того, что он схватил икону, на которую обычно молился перед сном, и вместе с ней выбежал на двор.
Следующим днем Гриша осуществил свой дьявольский план под кодовым названием «Буря в имении». Удар он решил нанести не по самому Герасиму, а по его любимице – собачке Муму. Эту гнусную сучку, взявшую привычку гадить на барское крыльцо, Гриша ненавидел всей душой, и ему давно уже хотелось жестоко с ней обратиться. А тут и случай выпал прекрасный: Герасим утром убил своего помощника. Бедный паренек, уже стоящий одной ногой на заслуженном отдыхе, совершил свою последнюю ошибку – забыл полить грядку с тюльпанами. Герасим заметил это, схватил лом, подбежал к заместителю и разбил ему голову. В связи с этим садовник вынужден был отлучиться из усадьбы – ему предстояло оттащить труп на свалку и выбрать себе нового помощника.
Времени у Гриши на осуществление его плана было масса. Он подманил Муму косточкой, затем набросил на собаку мешок, завязал его, привязал к мешку камень, и утопил в большой деревянной бочке, что стояла возле сарая Герасима. Из этой бочки садовник брал воду для поливки растений.
Довольный собой Гриша приступил к непосредственным обязанностям, при этом с нетерпением ожидая того момента, когда Герасим обнаружит сделанный ему сюрприз.
Герасим вернулся с новым помощником, таким же прыщавым заморышем, как и предыдущий, тут же провел вводное избиение – отходил паренька поленом в профилактических целях, и начал разыскивать свою четвероногую любимицу. Его мычание, все более встревоженное и громкое, слышалось по всему особняку. Даже барин заинтересовался, что это Герасим изволит так громко и страстно мычать, в то время как обычно из него слова не вытянешь. Гриша сделал вид, что пошел разузнать причину разговорчивости садовника, вернувшись же, доложил, что Герасим ищет свою собаку и не может найти. Барин никак не отреагировал на новость о пропаже Муму, а вот Танечка восприняла ее близко к сердцу.
– Какая хорошая была собачка, – произнесла она с чувством, благо ей не приходилось видеть, какие огромные кучи эта хорошая собачка каждое утро оставляла на крыльце ее дома. Герасим кормил Муму лучше, чем себя. Он скармливал ей большую часть пайки своего помощника – так любил собачку. Было, соответственно, с чего обильно гадить.
– Надо бы заставить всех холопов искать собачку, – пристала Танечка к папеньке.
– Вот еще, – усмехнулся барин. – Ну что с ней могло произойти? Найдется сама. Проголодается – вернется.
«Это вряд ли – смеясь про себя, подумал Гриша. – Оттуда еще никто не возвращался».
Герасим искал Муму до самого вечера. Чем дольше он не находил любимицу, тем в большее впадал отчаяние. Он с круглыми глазами бегал по всему двору, кидался ко всем людям и жестами пытался объяснить им, что пропала его собака. Один повар сделала фатальную глупость – усмехнулся, слушая взволнованное мычание Герасима. Герасим вспылил, и ему пришлось тащить на заслуженный отдых еще один труп.
– Да он совсем, что ли, умом тронулся? – ворчали надзиратели. – Это уже слишком.
Но команды обезвредить Герасима сверху не поступало. Барину донесли, что садовник зверствует, и он уже хотел отдать приказ о его кастрации с целью понижения уровня его агрессивности, но в дело вмешалась Акулина, приласкала господина, и тот совсем забыл о садовнике.
К вечеру Герасим буквально помешался от горя. Муму нигде не было, и никто ее не видел. Измаявшись бегать кругами, он склонился над своей бочкой, желая испить воды, и увидел на дне какой-то мешок.
От дикого рева Герасима, подобного реву разъяренного быка, все подскочили со своих мест. Обезумевший садовник крушил свой сарай, разбрасывая по всему двору бревна и доски. Возле клумбы с розами лежал в несовместимой с жизнью позе его новый помощник – он первым попал Герасиму под горячую руку. Тут уж барское терпение лопнуло, и как ни старалась Акулина, поделать ничего не могла. Помещик отдал приказ надзирателям схватить Герасима и стерилизовать его в домашних условиях, пока он еще чего-нибудь не натворил.
Арест Герасима оказался делом не простым. Трех надзирателей садовник отправил в глубокий нокаут, одного вообще убил, но все же численный перевес был на стороне эксплуататорского класса. Герасима повалили, связали, стащили с него штаны. Напрасно Акулина умоляла помещика передумать – убитый надзиратель решил дело. Такое не прощалось никому. Не сошло это с рук и Герасиму. Сверкнул в лучах заката секатор, и могучий великан замычал уже не от скорби по утраченной любимице, а от боли. Дружно всплакнули прачки, застонала от горя Акулина, и только Гриша ликовал в своей коморке.
– Тит, сегодня великий день! – провозгласил он, выкладывая на стол украденные с кухни трофеи – три кусочка хлеба, яблоко и сырую картофелину. – Сегодня Герасим лишился своих мохнатых шариков. Вот увидишь, не пройдет и недели, как все прачки выстроятся в очередь к нашему сараю. Я их буду любить, а ты на это глядеть и рукоблудить. Здорово я все придумал, а? Вот, держи, отметь событие!
И Гриша щедро бросил Титу старую стельку из барского сапога.
– Знатная, ядреная, выдержанная, – нахвалил подарок Гриша. – Можешь сразу съесть, можешь посасывать.
Сам он подналег на хлеб и яблоко, картофелину нарезал тонкими ломтиками и пожарил на свечке. Тит сидел в углу и с наслаждением мусолил стельку.
– А кто спасибо скажет? – возмутился Гриша. – Принимаешь все как должное! Эй, животное, я к тебе обращаюсь.
Тит вытащил стельку изо рта и уставился на собеседника глупыми глазами.
– Ты должен мне ноги целовать! – заявил Гриша. – И не только за стельку. Я из тебя человека сделал. Тупого, вонючего, грязного, но человека. Где бы ты был, если бы не я?
И вновь Тит затруднился ответить на поставленный вопрос. Гриша ему подсказал:
– Там же, где был до этого всю свою жизнь. Таскал бы сейчас навоз в ладошках, получал бы по горбу оглоблей. А теперь ты как барин живешь. За голой Танечкой в замочную скважину подглядывал. И все благодаря мне. Хоть бы раз спасибо сказал.
Тит положил стельку на землю, на коленях подполз к Грише, и выпалил, глотая слезы:
– Позволь длани облобызаю!
– Чего? – успел спросить Гриша, но Тит уже схватил его руки своими клешнями, и пошел слюнявить их в порыве благодарности. Не на это намекал Гриша, совсем не на это. Он хотел установить культ собственной личности, заставить Тита себе кланяться, называть барином, а вместо этого был подвергнут омерзительной процедуре физического воздействия. Теми же губами, какими совсем недавно Тит ласкал унитаз, он целовал и руки благодетеля. Из пасти Тита с каждым выдохом вырывался жуткий смрад, слюни были желтые и пенились. Едва сдерживая тошноту, Гриша ногой оттолкнул напарника, и с омерзением уставился на свои ладони, все покрытые отвратительной слизью.
– Позволь ступни облобызаю! – опять полез Тит.
– Нет! – закричал Гриша. – Хватит уже. Я убедился, что ты тошнотворен во всех своих проявлениях. Даже от твоего «спасибо» с души воротит. Пойдем лучше в гости сходим.
– За барыней пойдем смотреть? – оживился Тит.
– Хорошего понемногу. Заглянем к Герасиму. Очень хочу его проведать.
Гриша видел, что после акта стерилизации мычащего Герасима связали прочной веревкой, затащили в его сарай и бросили на пол – выздоравливать и набираться сил. Гриша никогда не упускал возможности поиздеваться над тем, кто физически не может дать сдачи (его малолетний сосед по подъезду мог бы это подтвердить), ну а к Герасиму у него имелись личные счеты.
Надзиратель, совершавший очередной обход, медленно прошелся по двору, помочился в цветник с розами, и, насвистывая, направился к казармам. Гриша уже приблизительно знал интервал обходов, так что часа два свободы у них с Титом было.
Вышли из коморки, наслаждаясь ночной прохладой и тишиной. Днем в имении постоянно было шумно: творилась суета, все бегали, что-то таскали, что-то копали. Свистели кнуты надзирателей, как пушки гремели холопские зады, извергая смрадный газ. Но ночью все это беспорядочное и бессмысленное движение приостанавливалось, холопов загоняли в сараи, надзиратели уходили в казарму. Господа укладывались спать на белоснежное постельное белье, сытые и довольные всем. Перед сном они неизменно молились. Гриша понимал их. Господам было за что благодарить всевышнего. Но вот зачем и Тит по вечерам постоянно стоит перед иконкой и рассыпается в благодарностях, этого понять было невозможно. За что он благодарил бога? За то, что надзиратели сегодня ударили доской и по спине, а не ломом и по голове? Или за особенно удавшиеся помои, вкусные и полезные?
Ночную идиллическую тишину нарушали только истошные крики, несущиеся со стороны воспитательного сарая. На сегодняшнем консилиуме заплечных дел мастеров, надзиратели, долго совещавшись, приняли решение удвоить объем получаемых пациентом пыток, то есть организовать ночную смену садистов. Прежде Яшку пытали двенадцать часов в сутки, теперь двадцать четыре.
– Слышишь? – спросил Гриша, расплываясь в улыбке чистого злорадства.
– Яшка голосит, – равнодушно ответил Тит. – Поделом ему, грешнику. Нешто можно храм господний испражнениями осквернять! За такое кощунство страдать и страдать. Тяжек грех, тяжко и искупление.
– Это да, – кивнул Гриша, удивляясь забывчивости Тита, который уже не помнил, кто на самом деле осквернил церковь отправлением большой нужды. – Яшка заслужил.
Тут его монотонный вой резко оборвался, и Яшка пронзительно закричал тонким голоском:
– Помилуйте мя грешного! Мочи нет. Не сдюжу более!
В ответ прозвучал громкий возмущенный голос надзирателя:
– Заткнись, скотина! Не сдюжит он. Десять веников сдюжил, а одиннадцатый не сдюжит? Ну-ка Андрюха, намыль еще один веник. Сейчас проверим, сдюжит или не сдюжит.
Вслед за этим тишину разорвал страшный визг Яшки.
– Сдюжил, – констатировал Гриша, а Тит возвел очи к звездному небу и перекрестился.
– Сдюжил! – донесся из воспитательного сарая радостный крик палачей. – А врал, что не сдюжит. Ну-ка Андрюха, прижги ему пяточки паяльником, он, похоже, сомлел. А я пока двенадцатый веник намылю. Двенадцать важно будет, по числу апостолов. Или не мылить, так затолкаем?
– О-о… – прозвучал предсмертный стон Яшки.
Гриша, у которого от улыбки едва не рвалось лицо, повернулся к Титу и сказал:
– Сдается мне, что анальная девственность бывшего лакея потеряна безвозвратно. Двенадцать, говорит, по числу апостолов. Юморист! А деву Марию забыли? Что же, за нее и веник не засунуть? Обидится. И за Иосифа плотника.
– И за Марию Магдалину, непорочную деву, – подсказал Тит.
– Непорочную? – с сомнением произнес Гриша. – Она, если не ошибаюсь, проституткой была. Потом, правда, встала на путь исправления, но вряд ли ей от этого девственность возвратилась.
Яшка заорал громко и страшно – двенадцатый веник занял свое почетное место в его заднем проходе.
– Сейчас тоже такие Магдалины есть, – рассуждал Гриша. – По-молодости едут в Москву, клиентов на обочинах обслуживают, а потом через два-три года, если от наркотиков не загнутся, возвращаются в свои городки и начинают косить под порядочных. Я одну такую знал – одноклассница бывшая. Год в Москве карьеру делала. Вернулась с пятью зубами – остальные драчливые клиенты выбили. Всем врала, что работала домработницей у олигарха, но подруга, с которой они вместе ездили, ее сдала. Вот у подруги почти все зубы целые остались, даже кое-что лишнее прибавилось. СПИД называется. Все же не задаром съездила. Дома-то СПИД не такой, как в столице. В Москве все лучше.
– Девы непорочные всегда были и будут, – торжественно произнес Тит. – Великий подвиг совершают, соблазны плотские стороной обходят, дни и ночи молитвам посвящают.
Тут из воспитательного сарая раздался полный восторга голос палача:
– Двенадцать вошло, отчего и тринадцатому не войти?
– Апостолы-то кончились, – заметил помощник Андрей. – В честь кого тринадцатый пойдет?
– А мы ему за папу сунем. За римского.
– Пошли к Герасиму, – сказал Гриша. – Это надолго.
Они двинулись вдоль стены, дабы не быть случайно замеченными из окон. Ночную тишину разбил на осколки нечеловеческий крик.
– Вот и папа римский к апостолам присоединился, – усмехнулся Гриша. – Следующим кто будет – мама Тереза?
Дверь в сарайчик Герасима была приоткрыта. Лунный свет, просачиваясь внутрь, освещал могучую фигуру богатыря, увязанного веревками с головы до ног.
– Герасим? – тихо позвал Гриша. Тот заворочался и тревожно замычал.
– Отзовись, Герасим, – просил Гриша. – Скажи хоть слово. Я пришел тебе привет передать от прачек. Прощальный. Вдоволь ты натешился, истукан, пора и ответ держать. Большая вина на тебе.
Гриша считал всех, чье достоинство превосходило его габаритами, своими заклятыми врагами, не имеющими права на существование.
– Такие, как ты, половые гиганты, разбалуют телок, потом им меньше, чем у коня, не подавай, – сердито бросил Гриша, и, вооружившись прислоненной к стене сарая палкой, ударил Герасима по голове. – Жил бы себе скромно, целомудренно, и все было бы хорошо. И в штанах все было бы на месте, и Муму не погибла бы такой страшной смертью. Но ты же скотина! Наглая, подлая, на других наплевавшая. Тебе одной-двух девок мало было, ты все имение передрал. Вот бог тебя, развратника, и наказал.
– У, ирод грешный! – злобно ругнулся Тит и пнул тушу Герасима ногой. – Супротив бога пошел, супротив заповедей его? Поделом тебе и кара, нехристь! Бог справедлив. Все видит. От него не утаишь злых дел. Виновного карает, невинного милует.
Гриша вспомнил подставленного Яшку и доведенного до кастрации Герасима, вспомнил, кто так талантливо подвел обоих холопов под монастырь, и сказал:
– Бог, может, и справедливый, но очень наивный.
Примерно час друзья издевались над Герасимом. Гриша в основном докучал едкими словами, Тит, поскольку красноречием не владел, компенсировал его отсутствие благими делами. По совету Гриши он справил на связанного Герасима все свои нужды, бил его палкой, плевался, грозился сбегать за косой вострой и довершить божий суд. Гриша, наблюдая за расправой, мерзким голосом пел шлягер собственного сочинения:
– Были у Герасима шарики мохнатые,
Стали у Герасима штанишки пустоватые.
Ой, люли, люли, люли,
Куда яички упорхнули?
Увязанный по рукам и ногам Герасим не мог даже толком шелохнуться. Пережив утрату любимой собачки и кастрацию, он и ночью не изведал покоя, оказавшись в лапах мучителей. Тит бил его, Гриша терзал морально, продолжая упражняться в вокале:
– Не ходите девки замуж за Гераську молодца,
Потому что у Гераськи ни яичек, ни конца.
Тили, тили, тили бом,
Стал Гераська кастратом.
На исходе садистского часа Гриша и Тит направились обратно, дабы не нарваться на патруль надзирателей. Подходя к своей коморке, они услышали звучащие из воспитательного сарая радостные крики.
– Андрюха, на рекорд идем! – кричал главный палач. – Еще парочку веников затолкаем, и главный приз ассоциации работников контрольно-воспитательной сферы наш.
– Влезут ли? – усомнился Андрюха.
– Обижаешь! Захочу – еще пять влезут. Ты беги за фотоаппаратом, у Генки есть. Он его в том месяце в городе на холопские скальпы выменял. Надо рекорд на пленку зафиксировать.
Тит зашел в коморку, Гриша какое-то время стоял и слушал. Первый веник вошел относительно легко, а вот с рекордным надзиратели намучались. Яшка давно охрип, и теперь не орал, а рычал.
– Толкай сильнее! – кричал главный мучитель. – Всем телом навались!
– Сейчас я его ногой пропихну! – тяжело дыша от усилий, вызвался Андрюха.
– Осторожнее! Осторожнее! Ос…. Ну, вот. Теперь и нога там. Говорил я тебе, балбесу молодому – осторожнее. Вдруг с ногой рекорд не признают….
– Эх, хорошо! – с чувством произнес Гриша, глядя на усыпанное звездами небо, и вошел следом за Титом в родимую коморку.
Глава 18
На следующий день в имение пожаловали гости. Скучающая Танечка пригласила на чашку чая своих подруг детства, проживающих по соседству, и те, тоже, по всей видимости, изнывая от безделья, охотно откликнулись на ее призыв.
Гриша с Титом сушили во дворе барские носки, когда два шикарных автомобиля въехали в ворота и остановились на вымощенной тротуарной плиткой стоянке. Из машин появились две девчонки весьма симпатичной наружности. Одна, светленькая, чем-то напоминала Танечку (стройные блондинки все похожи, как сестры), вторая, жгучая брюнетка с большими глазами и немаленькими сиськами, с первого взгляда запала Грише в мошонку.
– Сколько телок не задутых бродит вокруг, – мечтательно протянул Гриша, – а мы тут стоим с этими носками, как дураки. То есть, это я стою, как дурак, а ты стоишь, как ты, на своем законном месте.
Тит проводил глазами благородных особ, и мечтательно спросил:
– Поподглядываем?
– Если сильно повезет, – обнадежил коллегу Гриша, после чего насмешливо покосился на него. – А что, святой старец Маврикий уже не авторитет? За девчонками подглядывать больше нравится, чем поклоны бить?
– Приму покаяние, – проворчал Тит. – Власяницу буду носить, вериги пудовые. Плеть справлю, самобичеванием займусь. Только бы еще раз посмотреть на сосуд греха без одежки.
– Теперь тут не один сосуд, целый сервиз, – усмехнулся Гриша. – Вот подожди, как с прачками контакт налажу, дам тебе одну пощупать. Это не то, что в замочную скважину подсматривать.
Девчонки закрылись в покоях Танечки, и оттуда зазвучало щебетание голосов, прерываемое пронзительным хоровым смехом. Матрена только и успевала, что курсировать между апартаментами госпожи и кухней. Дважды в сопровождении ключника Петрухи она спускалась в винный погреб, откуда возвращалась отнюдь не с пустыми руками. Гриша, видя все это, едва не рвал на голове волосы. Обычно приходилось прикладывать определенные усилия, иногда даже идти на хитрость, чтобы напоить девчонок и, тем самым, понизить уровень их моральной сознательности, а тут три шикарные соски накачивались сами, без принуждения, и скоро дойдут до той кондиции, когда их сопротивляемость сексуальным домогательствам сведется к нулевой отметке. То есть заходи, и бери их голыми руками, (не руками, вообще-то, а кое-чем другим) без всяких материальных затрат и брехливых комплиментов. Было отчего впасть в отчаяние. Что назовется: и хочется, и яйца дороги. Так что ни о каких активных действиях Гриша не помышлял, но вот попастись ночью возле замочной скважины планировал. Три восемнадцатилетние девственницы под хорошей дозой шампанского – дело вполне могло обернуться групповой однополой шалостью. А если им все же захочется мужика, то кроме него да Тита других кандидатур нет. Герасим теперь им не конкурент – его обезоружили секатором. Повара тоже все кастраты. Петруха ключник просто стар. Остаются только они с Титом. То есть Тита тоже можно исключить – едва ли благородных девиц возбудит мужик, вытирающий задницу своей бородой и вылизывающий языком господский стульчак.
После обеда барин вместе с Акулиной укатил на автомобиле в город. Лакей и его первый заместитель остались без работы. Тут же появился ключник Петруха, и попытался озадачить их творческим делом.
– В кладовой убраться надо, – заявил он, улыбаясь своей подленькой холуйской улыбочкой. Петруха считался главным среди дворовых людей, и ослушиваться его не смели. Отчего-то полагали, что он имеет влияние на самого барина, и, следовательно, является человеком опасным и авторитетным. Но Гриша с первого взгляда раскусил этого прирожденного подхалима. Петруха был конченым трусом, и не то что не имел на барина никакого влияния, но и страшился его пуще всего на свете. Стоило ему предстать пред очами повелителя, как Петруха, и без того вечно сгорбленный, непроизвольно склонялся в рабском поклоне, а голосок у него делался тонким и писклявым. Гриша знал – Петруха не станет жаловаться барину, побоится. С надзирателями у Петрухи тоже были не слишком хорошие отношения, поскольку ключник наотрез отказывался воровать для них спиртное из винного погреба. Мордовороты спали и видели тот прекрасный день, когда старый Петруха отправится на заслуженный отдых, а его место займет молодой и более сговорчивый приемник. Так что когда ключник попытался заставить их работать, Гриша придержал уже рванувшего исполнять приказ Тита, нагло посмотрел на Петруху, и ответил:
– Твоя кладовая, ты и убирайся.
– Что? – испугался Петруха. – Бунтуешь? Против барина бунтуешь? Против бога? Да ты смутьян!
Все это он произнес очень тихо, так, чтобы никто посторонний не смог услышать эти страшные слова. Надзиратели ведь не станут разбираться, в чей адрес они прозвучали – схватят всю компанию и сведут в воспитательный сарай. А в сарай Петрухе был нельзя. Он столько раз отказывал надзирателям в выпивке, и те столько раз обещали ему всякое разное, что не приходилось сомневаться – стоит ключнику попасть в лапы садистов, и те обойдутся с ним не лучше, чем с засранцем Яшкой, посмевшим обгадиться в храме божьем.
Гриша, выслушав Петруху, широко улыбнулся, и вдруг заорал в голос:
– Тит, ты слышал? Ключник Петруха к лихому делу народ склоняет. Против барина зовет идти, против бога. Не он ли Яшку надоумил в церкви штаны обгадить?
– Тише! Тише! – трясясь от страха, взмолился Петруха, весь мгновенно истекший холодным потом. – Ты что врешь? Да я никогда…. И Яшку я не….
– Что? – заорал Гриша. – Барыню молодую хочешь снасильничать? Тит, ты слышишь, ключник Петруха барыню молодую снасильничать хочет в форме извращенной. Анальный разгром ей учинить жаждет.
Трясущийся от страха Петруха упал на колени перед Гришей и взмолился:
– Не губи! Все сделаю. Не губи!
– Быстро метнулся в погреб, и принес нам бутылочку винца,– повелел Гриша.
– Вино господское, – заикнулся Петруха. – Не можно….
– Что говоришь? – заорал Гриша. – И барина самого снасильничать хочешь? Кормильца, отца родного, благодетеля щедрого раком отсношать возмечтал? Тит, ты слышишь, ключник Петруха на барскую попу нацелился….
– Я принесу! Принесу! – утопая в соплях, зашептал Петруха.
– Неси! И быстро.
Петруха, вздрагивая и всхлипывая, убежал выполнять приказ нового шерифа, довольный собой Гриша уселся на лежанку, и сказал Титу:
– На голую бабу ты уже поглядел. Сейчас еще бухнем. Грешить, так по полной программе.
Однако выпить не удалось. Едва Петруха убежал исполнять повеление, как в коморку лакеев вбежала запыхавшаяся Матрена.
– Барыня тебя к себе зовет, – тяжело дыша, сообщила она Грише.
– Да что ты? – простонал Гриша, не веря своему счастью. – Серьезно?
– Сказала же! Беги шустро, велено немедля явиться.
– Уже бегу. Так, Тит, сейчас вернется этот хрен, принесет пузырь. Спрячь пузырь под лавку, а сам сиди и сторожи, чтобы не украли. Как вернусь – выпьем.
Проинструктировав заместителя, Гриша со всех ног бросился к покоям Танечки. Похоже, черная полоса неудач и обломов, протянувшаяся за ним от самых дверей роддома, наконец-то изволила оборваться. И оборвалась она так, как и положено обрываться – мощно и многообещающе. Давно уже у Гриши была мечта оказаться в одной постели с тремя красивыми девушками. Странно, но все Гришины знакомые мужского пола мечтали о том же. Но они просто мечтали, а вот Гриша МЕЧТАЛ! Ему это даже три раза во сне снилось, и когда, просыпаясь (всегда на самом интересном месте), он понимал, что все это было не по настоящему, по щекам катились не по-мужски обильные и крупные слезы разочарования. Нельзя сказать, что в полном смысле по-настоящему было сейчас – все же иной мир, чужое тело. Но он-то сам настоящий, и все оборудование у него настоящее, к тому же новенькое, ни разу не использованное. А там его ждут три шикарные телочки, и тоже все неиспользованные….
От радости у Гриши в зобу сперло не только дыхание, но и вообще все. Возбуждение его было столь велико, что он боялся лишь одного: как бы не кончить раньше, чем успеет начать. Стрелой он взлетел по лестнице, подбежал к покоям барыни, отдышался, пригладил растрепанные волосы, проверил свежесть дыхания, и едва не упал в обморок. Оставалось надеяться, что девчонки сразу перейдут к основной программе, обойдясь без поцелуев.
Пока он прихорашивался, его нагнала горничная Матрена, и без стука распахнула дверь, приглашая его входить. Гриша вошел, с трудом сдерживая волнение. Больше всего он боялся, что сейчас его озадачат каким-нибудь глупым делом, например, нарвать цветов или тому подобное, и на этом все закончится. Попутно отметил, что Матрена тоже собирается присутствовать. Горничная была собой недурна, и Гриша, произведя нехитрый математический расчет (три плюс одна равно сбывшаяся мечта в квадрате), едва не запрыгал от радости. Куда уж там Герасиму с его прачками. Вот он Гриша всем покажет, что такое сексуальный подвиг: отдерет за один раз всех окрестных барышень плюс горничную. Главное, чтобы сил хватило. Девчонки молодые, до любви голодные. Как бы еще Тита не пришлось на подмогу кликать.
Танечка, а так же обе ее подружки, черненькая и беленькая, сидели в ряд на кожаном диванчике. Лица и позы у всех были какими-то напряженными, улыбки странными, и вообще выглядели они загадочно. Грише, впрочем, показалось, что он знает отгадку.
Матрена прикрыла за ним дверь и осталась стоять возле нее, Танечка поманила Гришу пальцем. Тот покорно приблизился и встал напротив дивана.
– Ты ведь папенькин лакей? – издалека зашла барыня.
– Да госпожа, – ответил Гриша.
– А звать тебя Мишка?
– Гриша.
– Да, точно, Гришка.
Тут Танечка перевела взгляд на Матрену, и сделала ей какой-то тайный знак. Матрена приоткрыла дверь и выглянула в коридор.
– Никого, – доложилась она госпоже.
– Матрен, ты дверь замкни на всякий случай, – попросила Танечка. – Мало ли.
Гришина душа возликовала. Он не ошибся в своих предположениях. Сейчас он сделает то, чем будет гордиться до конца своих дней, чему будут завидовать все его друзья. Он будет рассказывать об этом своим внукам, как его собственный дед рассказывал ему про свои военные подвиги. Но где военные подвиги, а где сексуальные? Задницей бойницу дзота запечатать каждый горазд, а вот за один съем штанов сделать трех (а если повезет, то и четырех) девушек женщинами, это по силам лишь избранным. Тут мало ума, красоты и сексуальной выносливости, тут требуется серьезная поддержка богов. Боги долго не замечали Гришу, делали вид, что Гриши вообще нет, другим помогали, а Грише вечно средний палец без мака. Но теперь Гриша понял – они это делали специально, чтобы однажды преподнести ему этот замечательный подарок. Да о таком подарке он мечтал в каждый Новый год, в каждый свой день рождения. Дарили же постоянно какой-то отстой, чаще вообще ничего не дарили. И вот пришло время исправить эту несправедливость.
Щелкнул дверной замок, Матрена, дернув на пробу дверь, опять заняла свой пост у стеночки.
Барыни переглядывались, хихикали, наконец, Танечка набралась храбрости и приказала:
– Гришка, сними штаны.
Гриша медленно развязал бечевку, поддерживающую его штаны на талии. После этого портки сползли сами. Три пары глаз с огромным любопытством уставились на интересующий их предмет. Светленькая коротко хихикнула, черненькая густо покраснела, Танечка приоткрыла рот, словно собираясь что-то сказать, но так и не собралась.
– Я думала, он больше, – нарушила напряженную тишину светленькая. – Мне служанка рассказывала, и по ее словам он… больше.
Эти слова, и тот разочарованный тон, каким они были произнесены, явились для Гриши чем-то вроде ведра ледяной воды за шиворот. Давненько ему не приходилось выдерживать таких мощных ударов по самолюбию. То есть именно таких не доводилось выдерживать никогда. Его подружки, все как одна, хвалили и размер, и техническое исполнение, но то была не слишком объективная оценка – понимали же, что за критику Гриша может и в глаз засветить. И вот состоялась первая независимая оценка, и результаты ее зародили в Гришиной душе урожайные семена комплекса неполноценности.
– А почему он такой вялый и вниз смотрит? – спросила черненькая, покраснев пуще прежнего.
– В самом деле, – спохватилась светленькая. – Служанка рассказывала, что он твердый должен быть.
Повернувшись к Танечке, она спросила:
– А этот холоп случаем не больной? Может быть, с ним что-то не так? Он случайно не стерилизован?
– Нет, кажется, – сказала черненькая. – Я слышала, что когда стерилизуют, вон те штуки отрезают. А у него они на месте.
– Может быть, он просто уродился с таким маленьким и вялым? – предположила Танечка.
Грише захотелось провалиться сквозь землю, желательно поглубже, и никогда больше не всплывать на поверхность. Никогда прежде с ним такого не было. Обычно при появлении рядом симпатичной девушки его окаянный отросток принимал боевое положение, а тут, на глазах у трех красоток, повис как государственный флаг в штиль. А сколь мучительно было слушать все эти кошмарные предположения!
– Я слышала, что иногда так бывает, что он вообще твердым не делается, – сказала светленькая.
– Это называется импотенцией, – блеснула эрудицией черненькая.
Гриша не зарекался не от сумы не от тюрьмы, но ему даже в страшном сне не могло присниться, что он прослывет импотентом в свои-то годы. Лишь одно крошечное утешение согревало душу – все-таки это было не его тело, а тело зеркального двойника. Вот только импотентом назвали его, а не двойника какого-то.
Светленькая протянула руку и осторожно, словно боясь обжечься, потрогала предмет обсуждения.
– Фу! Совсем мягкий! – громко сказала она, и посмотрела на Гришу с претензией, словно тот был продавцом, подсунувшим ей бракованный товар.
Черненькая тоже потрогала, и тоже осталась недовольна. Затем потрогала и Танечка.
– Точно – импотент, – вынесла вердикт светленькая. – Ну его. Позови другого.
– Я даже не знаю, кого и позвать, – задумалась Танечка. – Герасим у нас был, садовник, служанки говорили, что у него прямо огромный. Только папенька его вчера стерилизовать приказал. Повара тоже все того…. Петрушка, разве…. Да нет, он старенький.
– Что, неужели никого нет? – огорчилась светленькая.
– Я даже не знаю. Если только…. Ой! А ведь у папеньки еще один лакей есть. Такой бородатый, вот с этим вместе живут.
Едва Гриша представил, что сейчас сюда, вместо него, приведут Тита, как его корень жизни, до того безвольно висящий и не подающий признаков жизни, вдруг вспомнил о своих служебных обязанностях.
– Ой! – взвизгнула черненькая, подпрыгнув на диванчике. – Смотрите! Он растет.
– И поднимается… – прошептала светленькая, тоже очень напуганная всеми этими метаморфозами.
– Матрена, ты рассказывала, как ходила с прачками на достопримечательность Герасима смотреть, – вспомнила Танечка. – Подойди сюда, посмотри.
Подошла горничная, встала рядом с диваном и задумчиво уставилась на Гришин флагшток.
– У Герасима такой же был? – спросила Танечка.
– Ну… – задумчиво протянула Матрена. Она зашла сбоку, и изучила предмет в другом ракурсе. Подошла ближе, слегка наклонилась, стала что-то отмерять пальцами, бормотать. Гриша боялся опустить взгляд, стоял как столб и смотрел в то место, где стена встречается с потолком.
– Нет, у Герасима был больше, – наконец вынесла вердикт Матрена.
– Значит, бывают и больше, – прошептала черненькая с нескрываемой радостью.
– А тот намного больше был? – заинтересовалась светленькая.
Матрена опять задумалась, затем неуверенно показала руками размер, как это делают рыбаки, похваляясь уловом.
– Ого! – хором выдохнули девушки.
– И зачем только твой папенька его стерилизовал? – возмутилась светленькая. – Лучше бы мне продал. Я бы хорошую цену за твоего садовника дала. У нас тоже в имении много цветов. За ними требуется уход.
– Своих холопов просмотри, – смеясь, посоветовала Танечка. – Вдруг там тоже Герасим отыщется.
– Не отыщется, – безнадежно махнула рукой светленькая. – Папенька всех поголовно стерилизует. Оставляет одних производителей, но их отдельно держат, а яме, откуда их незаметно не забрать.
Черненькая, до того неотрывно смотрящая на предмет обсуждения, вдруг сказала:
– А что если он может еще больше стать?
– Как это? – хором заинтересовались Танечка, светленькая и Матрена.
– Ну, вначале он был совсем маленький и вялый, потом вырос, – стала излагать свою мысль благородная девица. – Вдруг это не все?
Это предположение вызвало у всех девушек нездоровый ажиотаж.
Гриша уже догадался, что все представления этих девиц как о противоположном поле так и о сексе вообще, складывались на основании непроверенных слухов. То ли родители барышень специально воспитывали дочерей в условиях повышенной защищенности от любой информации на сексуальную тему, то ли в этом мире так было принято в целом. В любом случае, дефицит сведений о живо интересующем предмете сказался не в положительную, но в глубоко отрицательную сторону. Вместо того чтобы использовать заинтересовавший их орган по прямому назначению, или хотя бы поблагодарить демонстратора и отпустить его с богом, они затеяли варварские эксперименты.
Такого кошмарного оборота Гриша никак не ожидал. Он уже смирился с мыслью, что группового счастья не будет, понял, что боги опять кинули его через предмет разговора благородных девиц, но все же полагал, что на этом дело и кончится. Девушки осмотрели что хотели, навели справки у более опытной Матрены, сделали выводы, с которыми Грише теперь жить. Казалось бы – что еще можно придумать?
Оказалось – много чего можно.
Девицы организовали настоящий мозговой штурм, пытаясь логически понять, какие факторы способны спровоцировать дальнейший рост объекта изучения. Благородные особы пошли по явно ложному пути, поскольку стали развивать гипотезу о каких-то нервных импульсах и тому подобной ерунде, в чем они сами ни черта не смыслили. Но вот Матрена, чей неиспорченный институтами ум и некоторый жизненный опыт сыграли положительную роль, первая нащупала нужное направление.
– Прачка Марфа говорила о том, что его ладошкой мять можно, – сообщила она.
Все разговоры о нервных импульсах тут же прекратились.
– Мять? – переспросила Танечка.
– Ладошкой? – переспросила светленькая.
– А чем-нибудь еще можно? – поинтересовалась черненькая.
Стали развивать мятую тему. Вначале вроде ход их мысли был неплох, и Гриша стал лелеять надежду, что его хотя бы помнут, что уже не полный пролет, но тут светленькая выдала такое, от чего стало просто страшно.
– Я поняла! – радостно сообщила она. – Наверное, это из-за боли. Когда ему больно, он растет. Затем и мнут.
С немалым трудом Грише удалось промолчать. Так и подмывало выложить этим дурам всю правду. А Танечка уже вскочила с дивана и бросилась к своему столику с косметикой.
– У меня где-то булавка была, – сказал она. – Острая! Матрен, где булавка?
По Гришиной спине заструился ледяной пот. То, что начиналось как воплощение заветной мечты, начало принимать форму худшего из кошмаров. Гриша взмолился небу, чтобы Танечка не нашла булавку, и небо услышало его. Танечка булавку не нашла. Зато нашла Матрена.
Вооружившись булавкой, Танечка вернулась на диван.
– Сейчас проверим, – сказал она. – Сейчас….
Гриша почувствовал резкую боль и так крепко сжал зубы, что сам услышал их зловещий скрежет.
– Не выходит, – покачала головой черненькая. – Какой он был, такой он и остался.
– А мне кажется, что он чуть подрос, – не теряла надежды светленькая. – Еще кольни!
Танечка еще кольнула. Дважды. За это время Гриша понял, что не является любимцем богов. Напротив, боги по каким-то причинам вписали его имя в книгу черных дел, и оно там идет первым пунктом.
Поскольку тыканье булавкой не принесло результатов, Танечка послала Матрену к прачкам, за хорошей прищепкой. Пока горничная ходила, барышни втаптывали Гришино самолюбие в грязь, а о Герасиме вздыхали так, что не приходилось сомневаться – будь на его месте дееспособный садовник, если не все, то уж хоть одна из барышень на что-нибудь да отважилась.
– А если у моего будущего мужа такой же маленький будет? – горько произнесла светленькая. – Это же ужасно: знать, что где-то есть такие большие, и в то же время довольствоваться малым.
– Я теперь ко всем женихам буду служанку подсылать, чтобы она за ними подглядывала, – сказала черненькая.
От всех пережитых потрясений Гришин корень жизни начал увядать. Это не осталось незамеченным.
– И все? – вырвался из груди черненькой вопль разочарования. – Он ведь и десяти минут не простоял, опять свалился. Десять минут? Мамочки! Я не хочу десять минут. Я хочу хотя бы час.
– Да не обращай внимания, – посоветовала беленькая. – Это просто холоп больной попался. А у всех остальных как у Герасима.
Вернулась Матрена с прищепками, притащила целую охапку.
В далеком детстве Грише как-то попалась книга о приключениях пионеров-героев – трогательное наследие советской пропаганды суицидально-патриотического образа жизни. Прочтя ее от безделья, Гриша даже в своем нежном возрасте понял, почему его родина в пух и прах продула «холодную войну». Любое западное творение, рассчитанное на широкий круг потребителей, будь то фильм или книга, всегда заканчивались хорошо для главного героя. Он побеждал всех врагов, получал самую классную телку, самую крутую тачку и большой мешок долларов. В то же время советские истории о пионерах-героях, на жизненные примеры которых в свое время призывали ровняться, все без исключения были проникнуты духом безысходности, обреченности и непонятной ребенку из девяностых жаждой расстаться со своей жизнью наиболее героическим способом. Ни один из пионеров-героев не дожил до конца книги. Смерть их была ужасна. То они подрывали себя гранатами, то погибали в бою с превосходящими силами противника, когда прикрывали отход своих товарищей, то оказывались в лапах гестаповцев, и сносили все пытки без единого стона, а на расстрельную команду смотрели с гордым презрением и торжеством победителя. У Гриши шевелилась прическа, когда он читал обо всех этих ужасах. Книга научила его лишь одному – она помогла понять, что он ни за что на свете не хочет быть пионером-героем. Он бы еще не отказался побыть пионером-злодеем, которому в награду за предательство досталась бочка варенья, корзина печенья, ящик шнапса и фрау Дам фон в Зад. Но даже злодеем быть не слишком хотелось. Хотелось держаться от пионерской тематики подальше, потому что всех предателей рано или поздно разоблачали и тоже зверски лишали жизни.
Так вот, сложившиеся обстоятельства, а именно прибытие крупной партии прищепок, заставили Гришу пересмотреть свое мнение по данному вопросу. Больше всего на свете ему хотелось сейчас оказаться в лапах гестаповских палачей, которые бы обзывали его русской свиньей и били прикладом по голове. Потому что прикладом по голове это еще на что-то похоже, могут даже орденом наградить, хотя бы посмертно, а вот за двадцать прищепок на мошонке никаких наград, насколько Гриша знал, не полагалось. Даже на почетную грамоту не стоило рассчитывать.
Измывательство продолжалось долго. Грише показалось, что целую вечность. Девчонки вошли во вкус, экспериментировали с прищепками и булавками, подключили к делу пинцет. Подопытный весь сжался от ужаса, стал маленький и напуганный. Гришина самооценка дошла до уровня грунтовых вод, и устремилась ниже, к ядру планеты.
– Ничего не получатся, – сдалась, в итоге, черненькая. – Точно – больной. Если мне такой муж попадется, я на второй же день или отравлюсь, или Герасима себе заведу.
– Лучше не ждать второго дня, – разумно высказалась светленькая. – Надо заранее подстраховаться.
– Ладно, иди обратно, – сказала Танечка Грише с нескрываемым разочарованием.
Тот, как робот, развернулся и на негнущихся ногах покинул господские покои. Матрена прикрыла за ним дверь, и изнутри тут же зазвучал дружный девичий смех.
Пошатываясь, Гриша выполз из особняка на свежий ночной воздух. В голове у него стоял колокольный звон, как после двенадцати раундов на ринге, лицо горело от стыда, глаза были мокрыми от слез. Никогда прежде он не переживал подобного унижения.
– Сучки! Стервы! Мерзавки! – бормотал он сквозь зубы, со злостью сжимая кулаки. – Поубивал бы!
Гриша хотел только одного – поскорее добраться до тихой коморки и подлечить вином душевные раны. Но, подходя к своему сарайчику, он вдруг услышал льющуюся по простору песню, рожденную не вяжущим лыка языком. Какой-то удивительно мерзкий голос, полный неземного счастья, хрипло тянул образчик народного творчества:
– Бывали дни веселые, бывал я молодой….
– Это еще что такое? – простонал Гриша, и, охваченный недобрыми предчувствиями, бросился к своему сарайчику. Подбежал, распахнул дверь, и едва не закричал от ужаса.
Развалившись на его лежанке, как на своей собственной, широко раскинув руки и ноги, лежал в стельку пьяный Тит и орал песню. На полу валялась пустая бутыль из-под вина, на столе громоздилась огромная куча человеческих фекалий. Судя по всему, пьяный Тит дал волю своему животному началу, то есть живущей в нем свинье, и пометил территорию старым дедовским способом.
– Ах ты гнида грязная! – вырвалось у Гриши, и он понял, что завтра ему придется искать себе нового заместителя, потому что старый прямо сейчас отправится на заслуженный отдых.
Тит прекратил вокальное извращение и уставился на Гришу.
– Брат! – заорал он, разбрызгивая текущую изо рта слюну.
Гриша наклонился и поднял с пола бутылку. На этикетке не обнаружилось ни одной русской буквы, из чего Гриша заключил, что перепуганный Петруха притащил импортное пойло, наверняка качественное и дорогое. Да и было ли иное в погребке у барина? Гриша вообще-то не очень любил всякие там вина, его простой русской душе были ближе народные напитки – водка, пиво, самогон, но он бы не отказался побаловать себя дорогим пойлом, потому что неизвестно, когда еще такой шанс представится. И представится ли вообще.
Тит кое-как поднялся с лежанки. Его шатало, ноги подкашивались. Он схватился за стол, вляпался рукой в собственный автограф, затем запрокинул голову, захрипел и изверг ртом и носом поток рвоты.
Гриша был достаточно жестоким. Он отбирал у детей мобильники, чисто по приколу отвешивал лещей старушкам, бил девушек, с которыми встречался. Но все же он не считал себя способным на хладнокровное убийство человека. Тем радостнее было осознавать, что Тит не принадлежит к человеческому роду, а является некой омерзительной формой прямоходящей жизни, уничтожение которой и с позиции морали и с позиции закона есть великое благодеяние.
– Григорий! – заорал Тит, заблевав всю коморку. – Брат! Ужель не православные?
Гриша взял бутыль за горлышко и оценил импровизированное орудие убийства. Бутылка была тяжелая, стекло толстое, но и голова у Тита не яичная скорлупа. Гриша был убежден, что мозгов у Тита очень мало, то есть основным материалом его головы была сплошная кость. Такую костяную броню не пробить бутылкой. Тут нужен ломовой подход.
– Пойдем за барыней подглядывать! – заорал Тит, и попытался заключить Гришу в объятия. Гриша отскочил от заместителя, глядя на него с ужасом и омерзением. Тит был весь в испражнениях и рвоте, штаны спереди были мокрые, а сзади тяжелые.
– Барыня! – заревел Тит. – Ой, барыня!
Одной рукой держась за стену, Тит стащил второй штаны и занялся сексом так, как только и умел.
– Барыня! Барыня! – ревел он, выпучив глаза в экстазе. – Сударыня-барыня! О-о!
Гриша в сердцах плюнул в Тита, развернулся и вышел на воздух, захлопнув за собой дверь. Возле его сарайчика имелась скамейка, на нее-то Гриша и уселся, весь печальный и огорченный. Денек выдался такой, что хоть в петлю. Вначале он подвергся издевательствам со стороны представительниц высшего общества, затем Тит подложил ему свинью, точнее себя, выжрав все вино и завалив говном все хоромы. От одной мысли, что ему предстоит жить в этом помещении, Гришу окатывала волна отвращения. Разумеется, завтра он заставит Тита вылизать все до последней капли, но психологическая травма все равно останется.
– Что я вообще тут делаю? – спросил Гриша сам у себя.
И к своему удивлению вспомнил, что он здесь для того, чтобы найти следы древнего артефакта, затерявшегося в глубинах истории.
– И где его искать? – проворчал Гриша. – И как? О чем вообще Толстой с Ярославной думали, меня сюда посылая?
Из коморки прозвучал рев Тита, полный неземного счастья:
– Важно! Важно!!! О-о….
Послышался грохот – похоже, зловонный мужик обрушился на стол, и развалил его. Грише с новой силой захотелось отправить заместителя на заслуженный отдых, но он не стал пороть горячку. Пустить Тита в расход дело минутное, а кто после этого станет вылизывать барский унитаз? И где гарантия, что следующий помощник не окажется еще большим идиотом, чем нынешний.
Смирившись со всем, Гриша кое-как устроился на узкой лавке, прикрыл глаза и тут же провалился в сон, а его сознание понеслось сквозь границу двух миров, обратно в родное тело.
Глава 19
– У тебя какой-то подавленный вид, – заметила Ярославна, когда он выползал из гроба. – Что-то случилось?
– Просто устал, – ответил Гриша, потирая ладонями виски. Голова болела, хотя, казалось бы, с чего ей болеть? Его сознание весь день находилось в другом теле, а это тело должно было хорошо отдохнуть и излучать бодрость. Вместо этого Гриша чувствовал себя так паршиво, словно устроился на постоянную низкооплачиваемую работу, связанную с физическим трудом.
Ярославна с сочувствием посмотрела на него, улыбнулась и сказала:
– А у меня для тебя сюрприз.
Были времена, когда подобная фраза, прозвучавшая из уст красивой девушки, наполняла Гришину душу восторгом. Но это было давно, до знакомства с Ярославной. Например, когда бывшая подружка Машка обещала ему сюрприз, это всегда означало одно и то же – секс. Сюрприз, обещанный Ярославной, мог означать что угодно, кроме секса и пива. Проблема заключалась в том, что ничего, кроме секса и пива, Грише уже давно не хотелось. Примерно со времен детского сада.
– И что за сюрприз? – спросил он без особого энтузиазма.
В лучшем случае его ожидало какое-нибудь очередное исконно славянское блюдо без красителей, ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса идентичных натуральным, и прочих вкусных вещей. Гриша кое-как привык питаться по рецептам пращуров, но здоровая кормежка не радовала ни вкусовые рецепторы, ни ливер. В худшем случае Ярославна могла подарить ему книгу и заставить ее читать. В любом случае, сюрприз не сулил положительных эмоций.
– Пойдем, – поманила за собой Ярославна. – Сам увидишь.
Гриша покорно поплелся за ней по однообразным белым коридорам тайного логова опричников. Виляющая перед ним девичья попа неземной красоты вызывала одно раздражение. Эта попа была сродни музейному экспонату, на который можно только глазеть, но руками не трогать. Глазеть Гриша уже устал. Попыток нарушить главное музейное правило он больше не предпринимал – хватило одного раза. Понимал – неприступная Ярославна может ненароком покалечить его, а то и вовсе убить. Рисковать своим родным телом Гриша не хотел. Оно было ему нужно, чтобы с кайфом потратить два миллиона долларов.
Они прошли мимо Гришиных апартаментов, и остановились напротив двери с электронным замком. Ярославна приложила ладонь к специальной пластине, что-то запищало, и замок, щелкнув, открылся. Такие штуки Гриша видел прежде только в кино про фантастику. Впрочем, на фоне ретранслятора (так называлась машина, отправляющая его сознание в параллельную реальность) любые другие электронные примочки казались дешевым отстоем из «детского мира».
За дверью оказалась уютная двухкомнатная квартирка со всеми удобствами. Гриша, как дикарь, приведенный из пещеры, уставился на телевизор, затем на компьютер. Мебель была дорогой и красивой, на многочисленных полках стояли книги. На одной из стен висела картина, списанная, как показалось Грише, с пятидесятикопеечной монеты. На ней был изображен мужик верхом на коне, протыкающий палкой гигантскую глисту.
– Это Георгий Победоносец, – подсказала Ярославна, проследив за Гришиным взглядом. – Знаешь что-нибудь о нем?
Гриша громко кашлянул, давая тем самым понять, что задавать подобные вопросы молодому человеку его социального положения, образования и круга общения просто неприлично.
– Георгий Победоносец – мифический герой, – объяснила Ярославна. – Согласно легенде, он уничтожил некого монстра, змея. Понятное дело, что за прошедшие века истинная история исказилась, превратившись в очередную красивую сказку, рассказанную на христианский лад. В руке у Георгия появилось обычное копье, сам он стал святым, а змей символизирует языческую веру. Но на самом деле змей был, и не какой-то символический, а самый настоящий. И сразил его Георгий не копьем, а жезлом Перуна. Только назывался он иначе.
– Иначе?
– Да. Этот предмет встречается в фольклоре разных народов. Молния Зевса, копье Одина, дротик Индры…. Названий много, но речь идет об одном и том же предмете. Жезл Перуна – наследие древней цивилизации, прекратившей свое существование двенадцать тысяч лет назад.
– Давно, – равнодушно прозвучал Гриша. – Так это и был твой сюрприз?
– Нет, – засмеялась Ярославна. – Сюрприз вон там.
Она подвела его к столу, на котором стояла небольшая картонная коробка. Ярославна сунула руку внутрь, и вытащила – Гриша глазам своим не поверил – настоящий сочный гамбургер мичуринских размеров.
– Это мне? – не веря своему счастью, спросил Гриша, не сводя голодных глаз со своего любимого лакомства. Всякие глупые люди верили, что гамбургеры вредны, что от них толстеют, глупеют, болеют и стареют, но Гриша знал правду. Старели, болели и глупели не от гамбургеров, а от работы. Гамбургер же являлся вкусным и полезным источником жизненных сил. Полезнее гамбургера были только сухарики со вкусом хрена и чеснока.
– Да, это тебе, – кивнула Ярославна.
– И я могу его съесть? – недоверчиво глядя на девушку, спросил Гриша.
– Можешь.
– Прямо сейчас?
– Да.
– И ты меня за это не ударишь?
Ярославна протянула ему гамбургер. Гриша вцепился в него мертвой хваткой, и тут же вонзил в нежную плоть добычи свои молодые крепкие зубы.
– Боже, сейчас кончу! – простонал Гриша с набитым ртом. – Давно бы так. А то заладила – вредная еда, вредная еда…. Вреднее ваших коктейлей из сока подорожника и отвара лопуха еще ничего не придумали.
Гриша хотел бы потребить гамбургер в священной тишине, наслаждаясь каждым мигом неземного блаженства, но Ярославна опять зачем-то стала рассказывать ему о жезле Перуна и прочих неинтересных вещах.
– Тебе, видимо, давно хотелось узнать, с какой целью мы разыскиваем этот артефакт, – сказал она, и очень ошиблась. Грише было наплевать на мотивы других людей. Он знал только то, что сам горбатится за два миллиона долларов, а все остальное ему было до того места, каким Тит думал. – Возможно, ты предполагал, что мы хотим использовать его в качестве оружия, чтобы завоевать мир, или типа того. Но это не так. Использовать жезл Перуна как оружие можно, но это все равно, что забивать микроскопом гвозди. Жезл не оружие. Его возможности простираются далеко за рамки банального истребления человеческого ресурса. И ключом к пониманию особых свойств жезла служит ретранслятор.
Гриша дожрал гамбургер, слизал со стола крошки, после чего вопросительно уставился на Ярославну. Та без слов поняла Гришу, и вытащила из ящика вторую серию счастья. Гриша занялся делом, Ярославна продолжила лекцию, которую собеседник слушал краем уха, и даже не пытался понять, о чем идет речь. Дело было в том, что Ярославна совершила страшную педагогическую ошибку, на которую ей мог бы указать любой дрессировщик. Она напрасно покормила Гришу раньше, чем выложила ему все, что хотела сказать. Голодный Гриша еще мог как-то концентрировать свое внимание на предмете беседы, не из любопытства или жажды познания нового, а просто из страха, что могут не дать еды. Но сытый Гриша был глух ко всему, что пыталось достучаться до его ума из внешнего мира.
– Эта машина была построена по чертежам, которые мы обнаружили во время археологических работ в Антарктиде. Об этом никто ничего не знает, я имею в виду простых людей, но подо льдами южного полюса располагаются руины древнего города.
– Типа Атлантида? – вдруг блеснул познаниями Гриша.
Судя по округлившимся глазам Ярославны, она была сильно поражена осведомленностью собеседника.
– Ты слышал об Атлантиде?
– Ага. Кино смотрел. Там типа корабль затонул, а один мужик спасся, и его занесло в Атлантиду. А там короче, прикинь, одни телки, мужиков вообще нет. И он как давай там всех типа удовлетворять во все щели. Мне такое вот порно, с необычным сюжетом, очень нравится. Я еще один фильм смотрел, там типа мужик попал в Африке в какое-то племя, где тоже одни телки. У них там тоже такая жестка Атлантида была. Если хочешь, можем с тобой вместе эти фильмы посмотреть. Тебе понравятся. Я даже названия помню. Один называется «Атлантида тонет в сперме» а второй «Большой член в песках Сахары».
Радость Ярославны, вызванная неожиданной заинтересованностью Гриши, закончилась, едва она услышала названия шедевров кинематографа. Отдав Грише последний третий гамбургер, она заговорила вновь:
– Ретранслятор – примитивный механизм, он жалок и убог в сравнении с достижениями исчезнувшей цивилизации. Но это все, что мы смогли создать, опираясь на наш уровень знаний и технического развития. С его помощью нам удалось создать только один канал, связывающий нашу ветвь реальности с ближайшим ответвлением. Но дело в том, что ветвей гораздо больше. Их сотни, или даже тысячи. Линия пространства-времени делилась много раз, и сейчас, одновременно с нашей реальностью, существует множество альтернативных ветвей истории. Но достигнуть их мы не в силах – ретранслятор на это не способен. К тому же он не может перемещать материальные объекты, только сознание, да и то лишь в том случае, если для него на той стороне имеется подходящее тело-носитель. А вот жезл Перуна может все. Жезл – это ключ, отпирающий врата, ведущие в бесконечное многообразие миров. Жезл может перемещать, в том числе, и материальные объекты. И живых людей тоже. Только представь, что с помощью жезла мы сможем открыть дверь в ту ветвь пространственно-временного континуума, в которой древняя цивилизация Атлантиды существует до сих пор. Невозможно даже представить, какие знания мы сможем почерпнуть у них. И вечный двигатель, и эликсир бессмертия, и секрет антигравитации, и способы, позволяющие преодолеть громадные межзвездные расстояния за считанные дни. Тот, кто будет владеть подобными знаниями, будет править миром.
Гриша дожрал гамбургер, облизал пальцы и сказал:
– Вы мир хотите захватить? Так бы сразу и сказали. Требую прибавку в виде еще одного миллиона. Одно дело какую-то старинную палку искать, другое дело – помогать вам мир захватывать. И еще я бы хотел обсудить вопрос о фотомоделях.
– О ком? – не поняла Ярославна.
– О фотомоделях. Я вот чего сказать хотел. Бывают очень худые модели, совсем костлявые, плоские и голодные. Не люблю таких. Да и за что их любить? Мне бы не очень худых, чтобы и жопа и сиськи присутствовали, потому что зачем мне модель без жопы? Да и без сисек, если на то пошло. И еще одно, самое главное. Надо очень внимательно проследить, чтобы не одной крашенной не подсунули. Хочу натуральных блондинок. Крашеные не прокатят, я им специально буду волосы бензином мыть, так что если Толстой, гнида жадная, думает на мне сэкономить, пускай сразу бежит в аптеку за упаковкой губозакатина. И баночку вазелина пускай прихватит – я, когда злой, я отчаянный, себя не контролирую. Меня однажды в магазине на червонец обсчитали, так я им в книгу жалоб насрал.
– Я что-то не очень понимаю, о чем ты говоришь, – наморщилась Ярославна. – Какие еще фотомодели?
– Это мое условие, – сообщил Гриша. – Помимо большой кучи денег хочу тридцать фотомоделей, и чтобы все блондинки, но если разрешите Толстого ногами попинать, я соглашусь на двадцать восемь.
Ярославна страдальчески улыбнулась. Только сейчас до нее дошло, что вся ее лекция о древних цивилизациях и их наследии была интересна Грише не больше, чем любая другая звуковая волна, зафиксированная его ухом.
– Тебе зачем так много блондинок? – все же спросила она.
Этого вопроса Гриша ждал с гордостью. Он уже давно все спланировал, и теперь ему не терпелось похвастаться.
– С двумя спать буду, – ответил он, – остальных в аренду сдам. Так что давайте, раскошеливайтесь. Одно дело палка старинная, тут и двумя миллионами можно обойтись. Но раз уж речь пошла о захвате мира – требую солидную прибавку.
– Мы вовсе не планируем захватывать мир, – сказала Ярославна. – Наша цель более благородная и не обусловлена исключительно корыстными мотивами.
– А что же вы хотите?
– Спасти человечество от надвигающейся катастрофы.
– А от чего конкретно?
– От него же самого, – ответила Ярославна. – Дело в том, что на развалинах Атлантиды мы обнаружили письмена, и сумели их расшифровать. Этот текст – что-то вроде дневниковых записей, и он рассказывает о последних днях гибнущей цивилизации. Благодаря ему мы узнали, как и от чего Атлантида прекратила свое существование. И теперь та же самая угроза нависла над цивилизацией людей.
– Цивилизация Атлантиды достигла невероятного величия и могущества, – воодушевленно вещала Ярославна, в то время как Гриша, доев последний гамбургер, мечтал только о том, чтобы собеседница внезапно потеряла сознание, и он бы получил возможность цинично воспользоваться ее беспомощностью в угоду своим гормонам. – Источником их силы служил гармоничный сплав технической науки и гибкой морально-этической системы, способной чутко реагировать на изменения условий жизни и подстраиваться под них. Это как раз то, что так не хватает нашей цивилизации. По твоему лицу я замечаю, что ты не все понял. Наверное, ты хочешь, чтобы я объяснила это подробнее?
Гриша кивнул головой, а сам подумал о том, что фригидные женщины, как теперь выясняется, вовсе не являются мифическими существами, как он полагал прежде. Ярославна жила в этом бункере, никуда из него не отлучалась, и при этом вела себя так, будто секс ее вообще не интересует. Впрочем, была еще одна версия, объясняющая ее равнодушие к Гришиным намекам: не стоило исключать вероятности того, что у нее под подушкой хранилась резиновая радость одинокой девушки на батарейках. Гриша прикинул, как бы заглянуть под подушку, и решил дождаться удобного момента – авось Ярославне приспичит в уборную. Гриша сразу решил, что если обнаружит в тайнике у Ярославны своего электрического конкурента, ему несдобровать. Об колено будет сломан, и это в лучшем случае.
– Все дело в том, – стала разжевывать Ярославна, – что человечество всегда живет вчерашней моралью. Критерии добра и зла, которыми мы пользуемся сегодня, сформировались довольно давно, еще в те времена, когда люди были убеждены, что наш мир это плоский диск, покоящийся на спинах трех слонов и одной черепахи. Но жизнь не стоит на месте. Меняется поведение людей, возникают пути, которых прежде просто не существовало, и все это неизбежно ведет к тому, что старая мораль вступает в конфликт с новыми реалиями жизни. Ты, наверное, хочешь сказать, что есть во вселенной и некие универсальные величины, и что именно на них опирается любая мораль?
– Да, хочу, – прогудел Гриша, которому, на самом деле, хотелось совсем иного.
– А вот и не угадал! – как-то по-детски обрадовалась Ярославна. – Все человеческие представления о добре и зле, о морали и нравственности являются, с непредвзятой точки зрения, полной ерундой, и не имеют под собой никакого серьезного основания. Ты, наверное, скажешь, что таким основанием может служить религия?
– Скажу.
– Но и это не так. Не знаю, верующий ты или нет, так что заранее предупреждаю, что не имею намерения оскорбить твоих религиозных чувств, но факт в том, что всякая религия, и христианство не исключение, подгонялась под уже сформированную морально-этическую систему, и никак не может служить основанием тому, что возникло раньше и послужило основанием для нее самой. Согласен?
– Базара нет, – кивнул Гриша.
– Следовательно, что мы имеем. Древние представления о том, что хорошо и что плохо, существуют уже сотни, а то и тысячи лет, и человечество продолжает упрямо пользоваться этим хламом, вместо того, чтобы выбросить его на помойку истории.
«А не лесбиянка ли она?» – вдруг вспыхнула мысль в Гришиной голове. Это бы многое объяснило, если бы на объекте, где они проводили все свое время, имелись другие женщины. Но их не было. Не считая разве что Галины, но ее сексуальную ориентацию Гриша уже выяснил, притом так досконально, что до сих пор по ночам просыпался в холодном поту и кликал маму.
– Нашу цивилизацию рвут на части противоречия, рожденные в такие лохматые времена и так сильно исказившиеся за минувшие столетия, что все это давно напоминает со стороны коктейль маразма и абсурда. Древняя мораль, словно лебедка, тянет людей в прошлое, и они не в силах сделать в будущее ни одного шага. Наш мир застопорился, он уперся лбом в невидимую стену. Ни один человек на всей планете не сможет дать внятного ответа на простой вопрос – что будет завтра? Просто потому, что никакого завтра у нашей цивилизации нет. Пока мы все не перестанем быть рабами давно отжившей свое морали, мы так и будем топтаться на одном месте. Чтобы скрасить это состояние безвременья и безнадежности людей ткнули рылами в мониторы компьютеров, в мертвый мир интернета, где каждый получил возможность имитировать кипучую деятельность бегая по просторам виртуального мира в доспехах тридцать восьмого уровня или упражняясь в словоблудии. Людям стали внушать мысль, что стабильность это прекрасно, в то время как любые перемены преподносятся как происки сил зла. Люди жрут гамбургеры, платят ипотеку, каждый день трясутся, как бы их не поперли с работы, плодят детей и растят из них таких же тупых биороботов, как они сами. И все это на одном месте, без малейшего движения вперед. Уже сейчас существуют технологии, способные открыть человечеству дорогу в космос, но о них молчат, показывая тупому народу какие-то примитивные ракеты а-ля F-2, которые еще Вернер фон Браун запускал с пинка в направлении Лондона. Технологии есть, но о них молчат. Потому что передовая технология никуда не пойдет и ни к чему не приведет, если не создать под нее новую мораль, отвечающую запросам времени. Я, например, не могу себе представить капитана космического корабля, несущегося сквозь громадное пространство вселенной к далекой звезде, который, как и его предки, продолжает тупо верить в библейские сказки о чудесах, совершающихся волей божьей. Вот для чего нам нужен жезл Перуна. С его помощью мы сумеем помочь людям обрести новую мораль, нравственные ориентиры, новые границы добра и зла. Человечество пойдет вперед, как некогда шла Атлантида.
– Все равно медным тазом накрылась, – заметил Гриша.
– Да, Атлантида погибла, – согласилась Ярославна. – Ее населяли умные, добрые и высоконравственные люди. Они жили сотни лет, проводя время в познании мира. Они создавали удивительные вещи, строили величественные города, имели колонии на Луне и на Марсе. Но в один кошмарный день их цивилизации пришел конец.
– Я слышал, на них метеорит упал, – сказал Гриша.
– Если говорят «метеорит упал», это значит, что сами ничего не знают. Никакой метеорит на Атлантиду не падал, да и не мог упасть – атланты имели орбитальную систему обороны, способную отразить любую угрозу из космоса, даже если эта угроза выражалась в огромном камне. На самом деле все было проще и страшнее. И началось с того, что на экраны Атлантиды вышел фильм «Крутая езда». Вначале атланты не поняли и не приняли этот фильм, потому что все, что показывалось в нем, не имело ничего общего с их образом жизни. Герои фильма не учились и не работали, не совершали новых открытий и вообще не делали ничего такого, за что в Атлантиде уважали людей. Напротив, они только пили вино, совокуплялись с женщинами и устраивали гонки на виманах – так назывались транспортные аппараты атлантов, что-то вроде современных автомобилей, только летающие.
– Классный, наверное, фильм, – мечтательно протянул Гриша, который, кстати, вспомнил, что он уже чудовищно давно не пил пива, не совокуплялся с женщинами и не гонял по городу на тачке, то есть был лишен всех своих радостей жизни.
– Как я уже сказала – фильм не приняли и не поняли, – продолжила Ярославна. – Но все же некоторым, очень немногим, он запал в душу. И они, соблазнившись увиденным, стали копировать образ жизни героев фильма. Свои виманы они раскрашивали в яркие цвета, рисовали на корпусе голых женщин или хищных животных, напивались, и носились по Атлантиде как умалишенные. Вместо слова хорошо они стали, подражая героям фильма, говорить круто, вместо плохо – отстой. Всех, кто не разделял их взгляды на жизнь, они называли лохами. Это было слово, заимствованное авторами фильма из языка шумеров, на тот момент – дикого и темного народа, считающего атлантов богами. В языке шумеров слово лох буквально означало человека, не преуспевшего в сборе кизяка. Дело в том, что кизяк служил для них основным топливом, так что на нем строилась вся шумерская цивилизация. Успех в обществе шумеров определялся умением собирать кизяки, сушить их и накапливать. Тех, кто хорошо собирал кизяк и имел его значительный запас в своих закромах, шумеры называли реальный пацан, что в буквальном переводе означает – властелин чужих испражнений. Иногда их так же называли крутыми пацанами, намекая на самую ценную категорию кизяка – густого, крепкого, то есть – крутого. Самый низший сорт кизяка назывался отстой – этот тот кизяк, на который кто-то наступил и размазал его по земле.
Так же из языка шумеров вначале в фильм, а затем и в лексикон атлантов попало слово зажигать, имеющее смысл – заниматься неким приятным активным делом. Когда шумеры зажигали, это означало, что они зажигают кизяк. Атланты стали называть этим словом свой активный отдых с элементами крутой езды в пьяном виде.
Затем в прокат вышел фильм «Крутая езда 2», и он уже имел определенный успех у зрителей. Если в колониях в Египте, Африке и Южной Америке атланты все еще сохраняли свой исконный образ жизни и сопротивлялись странным веяниям моды, то сама Атлантида и культурная столица цивилизации Гиперборея вскоре потонули в реве моторов, а по ночному небу носились уже целые сонмища разноцветных, украшенных лампочками, виманов, управляли которыми в стельку пьяные атланты.
Третья часть «Крутой езды» оказалась той критической массой, после которой уже невозможен никакой обратный процесс. Атлантиду стремительно охватывал хаос и анархия. Главный правящий орган – верховный трибунал, в полном составе сделал ноги на марсианскую базу, подальше от одичавших соотечественников. Город оказался завален мусором, в магазинах было пусто. Мимо витрин с выбитыми стеклами носились крутые виманы со снятыми защитными экранами, и круто поливали все вокруг жестким гамма-излучением. Надвигался неминуемый голод, но атлантов это не волновало. Поскольку канализация давно не работала, реальные пацаны и классные телки утопили все улицы в фекалиях. Из-за проблем с продовольствием участились случаи бытового каннибализма, причем съедали обычно проигравшего в уличных гонках.
«Крутая езда 4» вышла в тот день, когда в Гиперборее из-за отсутствия какого-либо контроля, на энергетической станции Светлосказ взорвался четвертый генератор антиматерии. Гиперборея, культурная столица цивилизации атлантов, была полностью уничтожена. Уцелевшая горстка бедолаг, у которых в результате облучения обесцветилась не только кожа, но даже глаза, обосновалась на прилегающей территории, то есть вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Там они просуществовали довольно долгое время, обитая в пещерах и питаясь подножным кормом. В легендах они упомянуты под именем чуди.
– До сих пор живут? – спросил Гриша.
– Нет, их всех истребили. Этим, по секретному царскому указу, занимался атаман Ермак, который не столько покорял Сибирь и обитающие там народы, сколько истреблял последних представителей древнего народа. Последнего оставшегося в живых атланта Ермак доставил в Москву пред ясны очи государя, за что получил в награду позолоченный доспех. Этот доспех и стал причиной его гибели, когда царь-батюшка, сделав чужими руками всю грязную работу, решил убрать ненужных свидетелей, и сдал Ермака хану Кучуму.
– Подставил, – констатировал Гриша. – Пацаны так не поступают.
– Просто царь принадлежал к ордену опричников, и действовал по их указке. Опричники были заинтересованы в том, чтобы никто из атлантов не уцелел и не мог бы рассказать о причинах гибели своей цивилизации. И о тех ее осколках, обладающих колоссальной силой, какие до сих пор еще можно найти. Жезл Перуна один из таких осколков. Есть и другие. Археологи натыкаются на них время от времени, после чего начинается всякая мистика с криминальным подтекстом. Чаще всего все списывают на древние проклятия растревоженных гробниц, на месть духов и тому подобную ерунду. На самом деле археологов просто устраняют, как Ермака в свое время, чтобы лишнего не сболтнули. К тому же в СМИ сейчас идет обширная компания по обесцениванию самого слова сенсация, в ходе которой людей приучают равнодушно воспринимать новости, хоть и имеющие грандиозное значение, но лично на них сиюминутно никак не отражающиеся. То есть если завтра по телевидению объявят, что в лесу поймали живого динозавра, никто и не почешется, а вот слух о возможном подорожании бензина на десять копеек способен вызвать бурю эмоций и шквал возмущенного словоблудия в интернете. Пропадает интерес к фундаментальным знаниям, зато возрастает заинтересованность злободневными вещами. Это и есть новый мировой порядок, когда каждая двуногая скотина интересуется только тем, что делается в ее стойле, а что там снаружи, это ей до лампочки. Насыпали бы вовремя корм.
– У нас в имении та же ботва, – кивнул Гриша. – Тоже все тупые, ничего не знают. Тита спрашиваю, какая тачка самая крутая на свете, а он мне показывает на ту тачку, на которой навоз возим, и отвечает – эта. Идиот клинический!
– Да, ты прав. То, что происходит в вашем имении это прообраз будущего нашего мира. И это лишний повод что-то делать…. Извини, я на минутку отлучусь. Надо носик попудрить.
– Носик попудрить? – удивился Гриша. – Зачем? Он у тебя и так белый. Или ты болеешь? Ничего заразного, надеюсь. Я лучше подальше от тебя сяду, вдруг чихнешь на меня, или еще что-нибудь сделаешь. Слушай, а это у тебя давно? Ты бы не запускала, сходила в больницу. Вдруг обострение, или еще что. Сляжешь, кто за тобой будет ходить? Я, конечно, могу тебе горчичники на грудь поставить, но вот насчет утки это ты с Толстым договаривайся. Вдруг ему нравится в дерьме ковыряться….
– Да я в туалет! – закричала Ярославна, не выдержав Гришиного монолога.
– В туалет или нос пудрить? Или и то и другое одновременно? Ты бы не совмещала. Вначале на унитазе посиди, подумай, потом руки помой с мылом, и уже за нос хватайся. Не дай бог прыщи по лицу пойдут. Я прыщавых телок, если честно, вообще не люблю.
– Так и сделаю, спасибо, что подсказал, – буркнула Ярославна, и что-то добавила от себя, но так тихо, что Гриша не расслышал.
Едва девушка скрылась в уборной, как Гриша метнулся к ее постели и сбросил на пол подушку. Но фалоимитатора под ней не оказалось.
– Где же она его прячет? – проворчал Гриша, и, поднатужившись, стащил с кровати матрас. Под ним было пусто.
Гриша бросился шарить по всем ящикам, выдвигал их, вываливал на пол содержимое. В одном ящике обнаружил кружевное белье Ярославны – беленькие трусики и бюстгальтер, недолго думая сгреб добычу в охапку и сунул в карман.
Пересмотрев все ящики, Гриша нырнул в платяной шкаф. На пол полетел черный кожаный плащ, короткая шубка. Гриша топтался по ним ногами. Заметил на дне шкафа картонные коробки из-под обуви. Схватил одну, внутри оказались зимние сапожки. Сапожки полетели на середину комнаты. Схватил вторую – внутри были летние туфли. Гриша со злости швырнул туфли так далеко, что те приземлились на книжную полку.
– Да где же он? – злился Гриша. – Куда она могла его спрятать? Куда бы вот я спрятал надувную бабу? Я бы ее спрятал….
Гриша задумчиво оглядел комнату.
– О! Книги! Он за книгами!
Гриша налетел на полку и пошел сваливать книги на пол. По упавшим книгам он топтался ногами, пинал их, одну, старую и ветхую, даже порвал со злости. Но ничего не нашел.
Тут зашумела вода, и Гриша стремительно бросился обратно, уселся за стол и принял максимально невинный вид.
Дверь в ванную открылась, следом за этим из груди Ярославны вырвался крик ужаса.
– Что здесь произошло? – закричала она, в ужасе глядя на перевернутую вверх дном комнату.
– Сам не пойму! – округлив глаза, завопил Гриша. – Похоже, тут у тебя привидения живут. Ты только на парашу метнулась, как тут все пошло летать и падать. Я такого в жизни не видел. От страха даже в промежностях пропотел. Не веришь – можешь пощупать.
– Господи! – бормотала Ярославна, схватившись за голову. – А почему ты меня не позвал?
– Зачем? Чтобы ты тоже пропотела? Да и что тебя с толчка срывать, ты же не охотница за привидениями. И вообще….
– Мои книги! – вдруг завопила девушка, и бросилась к горе макулатуры. Схватив разорванную Гришей книгу, она со слезами на глаза простонала:
– Я ее два года искала. Это же редчайший экземпляр, таких всего пять в мире осталось.
– Теперь четыре, – заметил Гриша.
Ярославна вдруг залилась слезами как маленькая девочка. Прижав к себе разорванную книгу, она что-то бормотала, но разобрать слов было нельзя. Гриша осторожно подошел к ней и, присев рядом на корточки, погладил Ярославну по голове.
– Не плачь, – утешил он. – Когда я свои деньги получу, куплю тебе новую книжку. И не такую старую, как эта, а нормальную, даже с картинками.
Ярославна оплакала книги, затем долго рыдала над своей шубой, затем пролила немало слез над бельем. Гриша ходил следом и утешал девушку, обещая купить ей все новое, как только разбогатеет.
– А где комплект белья? – вдруг взволновалась Ярославна, перебирая разбросанные по полу тряпки. – Новый, очень дорогой. Я его всего один раз надевала.
– Ты о чем? – вообще не понимая, о чем таком речь идет, спросил Гриша, рукой заталкивая трофеи поглубже в карман.
– Трусики и бюстгальтер. Вот в этом ящике лежали.
– А какого цвета?
– Белые.
– Белые, говоришь. Кружевные такие, полупрозрачные, да?
– Да, это они.
Гриша печально мотнул головой, и чистосердечно признался:
– Никогда их не видел. Может быть, привидения утащили? Среди привидений тоже ведь извращенцы бывают. Сейчас сидят в могиле, и нюхают твое бельишко.
– Чего его нюхать? – возмутилась Ярославна. – Оно постирано. Я грязное белье не складирую.
– Жаль, – искренне огорчился пробудившийся в Грише фетишист.
– Чего тебе жаль?
– Жаль, говорю, что вот горбатилась, стирала, и все зря. Не придется больше надеть. А как бы хотелось увидеть тебя в этом комплекте.
Видно было, что из-за потери белья Ярославна переживает едва ли не больше, чем из-за порванной книги. Гриша, как умел, попытался ее утешить:
– Да ладно, не страдай ты так. Подумаешь – трусы. Вон у тебя их сколько.
Гриша схватил лежащие рядом с ним трусики вызывающе-красного цвета и стал вертеть так и этак, изучая со всех ракурсов, а сам в это время представлял, как они будут смотреться на попе.
– Вот тоже хорошие трусы, – заметил он. – Даже нигде не рваные. И тоже стиранные. Ничем не пахнут. Ну-ка получше понюхаю….
– Хватит мое белье трогать! – возмутилась Ярославна, и вырвала трусики из Гришиных рук, которые тот уже деловито потащил к носу.
– Да я ничего такого. Я просто поддержать тебя хотел, морально. Не сошелся же свет клином на том комплекте.
– Это был подарок, – неохотно призналась Ярославна.
Гриша сразу же пригорюнился. Он понимал, что попарить Ярославне такую вещь мог только очень близкий человек. Очень-очень близкий. Ближе некуда. Ближе только сиамские близнецы.
– Это твой еб-френд тебе подарил? – спросил он ревниво.
– Не важно, – бросила Ярославна, торопясь закрыть тему. – Надо тут прибраться, что ли, хотя о чем это я? Если в этой комнате орудует полтергейст, оставаться здесь опасно.
– Надо попа позвать, чтобы он спел и кадилом помахал, – подсказал Гриша, ездивший как-то с набожным другом освящать убитую колесницу отечественного производства.
– Это секретный объект, – напомнила Ярославна. – Никто не должен знать о его расположении.
– Тогда привезите попа, пусть он попоет, а потом убейте его, труп расчлените и скормите голодным животным.
– Из тебя гуманизм так и брызжет. Нет, поп не поможет. Да и нельзя его сюда тащить. Думаю, комнату придется законсервировать, пока не найдем специалиста по полтергейсту. Вот досада! И где мне сегодня ночевать?
Гриша понял, что настал его звездный час.
– Можешь переночевать у меня, – предложил он с самым невинным видом.
– Хорошо, – неожиданно легко согласилась Ярославна. – Все равно больше негде. Не в коридоре же спать, и не в столовой на столе. А завтра попрошу себе новую комнату.
– Это не обязательно, – заверил ее Гриша. – Можешь жить у меня все время.
– Спасибо, но все время, это лишнее, – улыбнулась Ярославна. – Не хочу тебя стеснять.
– Об этом не переживай. Кровать широкая, просторная, есть где разгуляться. Так что тесно не будет.
Глава 20
Ночевать в одной комнате с Ярославной оказалось не так интересно, как ожидал Гриша. То есть, говоря откровенно, было не то что неинтересно, а вообще плохо. Первым делом Ярославна заявила, что совместно спать в постели они никак не могут, поскольку та все же рассчитана на одного человека. Гриша попытался переубедить девушку, уверял ее, что он бочком пристроится, много места не займет, даже озвучил поговорку о том, что в тесноте да не в пролете, но это нисколько не помогло. Ярославна категорически настояла на том, что так не годится. Затем она, даже не покраснев, бессовестно оклеветала Гришу, то есть обозвала его джентльменом, который, разумеется, не позволит девушке спать на полу, и, таким образом, умозаключила, что кровать отныне принадлежит ей. Гриша пытался как-то помешать творящемуся ущемлению прав мужчин, что-то мямлил о равноправии полов, но быстро понял, что его доводы уже никому не интересны.
Дележка постельного белья так же была осуществлена без малейшего намека на справедливость. Себе Ярославна оставила подушку и одеяло, Грише вручила простыню.
– Здесь пол с подогревом, – сказала она. – Ты не замерзнешь.
Затем Ярославна закрылась в ванной комнате и пробыла там без малого час. Грише, как назло, приспичило слить топливо, и приспичило нешуточно. Он вначале пробовал стучаться к Ярославне, убеждал, что подглядывать не будет, что сделает все свои дела с закрытыми глазами, и скорее сослепу окатит струей все стены до самого потолка, чем хоть одним глазком полюбуется на женские прелести, но дверь не открылась, а девушка посоветовала ему тренировать терпение. Гриша сел на стул и приступил к интенсивной тренировке. Но через десять минут понял, что если не прервать упражнение, у него либо разорвет мочевой пузырь, либо произойдет нечто еще более ужасное, после чего будет стыдно смотреть в глаза даже самому себе. Угроза протечки стала почти неизбежной, а Ярославна, к тому же, включила душ, чье журчание переполнило чашу Гришиных страданий. Наплевав на все, Гриша выскочил в коридор, уперся лбом в стену, сорвал с себя штаны и спас себе жизнь и честь. Под ним, на кафельной плитке, разлилось желтое озеро, которому некуда было впитаться. Гриша постоял, подождал, но лужа никуда не уходила.
– Высохнет до утра, или нет? – задался вопросом Гриша. – Ладно, если не высохнет, скажу, что это кошка забежала и наделала.
Идея свалить все на кошку показалась удачной, хотя в порожденной Грише луже любую кошку можно было легко утопить.
Когда чистая Ярославна покинула ванную, Грише уже никуда не хотелось. Он пронаблюдал за тем, как девушка подошла к кровати, откинула одеяло и улеглась. Он как раз думал о том, с чего бы начать разговор и как бы его подвести к интересующей теме, то есть к теме взаимоотношения полов в темное время суток, как вдруг Ярославна протянула руку и эгоистично выключила свет.
– Эй, погоди! – возмутился Гриша. – Я еще не лег.
– В темноте уляжешься, – пренебрежительно ответила Ярославна. – Мне лампочка прямо в глаза светит.
Гришу возмутило такое пренебрежительное отношение к собственной персоне. Он сердито засопел, завернулся в простыню и улегся на пол. Пол был хоть и теплый, но жесткий. Гриша неслышно стащил со стула блузку Ярославны, скомкал ее и сунул под голову.
Уснул он быстро – как всегда, но почти сразу же проснулся с криком, когда нечто твердое и болезненное ударило его по голове.
– Мама! – закричал Гриша со сна. – Не надо! Не бейте! Это не я в коридоре нассал! Это все кот! Кот! Я его видел. Приметы запомнил. Помогу фоторобот составить.
Из темноты прозвучал недовольный голос Ярославны:
– Повернись, пожалуйста, на бок. Ты храпишь. Но прежде верни мне мою туфельку, вдруг еще раз пригодится.
Гриша нащупал в темноте туфельку, которая была тверда, как камень, а ее острым каблуком легко можно было оборвать чью-нибудь жизнь. Вместо того чтобы вернуть обувь хозяйке, Гриша сунул туфлю под кровать, а Ярославне соврал, что не нашел.
После зверского пробуждения Гриша долго не мог заснуть. Болела отбитая туфлей голова, болела так же душа, крайне травмированная неприступностью Ярославны. Девушка была рядом, в двух шагах, тихо посапывала под одеялом, и от мысли, что до счастья такое крохотное расстояние, Грише делалось тошно. Он продолжал ломать голову над вопросом, который мучил его все последние дни: в чем кроется причина столь холодного отношения к нему Ярославны? По всем законам природы они неизбежно должны были сблизиться, поскольку кроме как с Гришей Ярославне и сближаться было не с кем. Он уже выяснил, что она никогда не покидала объект по личным делам, отлучалась только по служебной надобности, следовательно, ни о какой интриге на стороне не могло быть и речи. В такую любовь, которая заставила бы девушку хранить верность в течение продолжительного времени, Гриша справедливо не верил. Он считал ее выдумкой дураков, которые просто еще не успели наступить на эти грабли, или же подонков, которые наступили, но продолжают лицемерить. Оставался вариант со здоровьем, но Ярославна не выглядела больной, разве что немножко на голову. То есть, из всего выходило, что никаких объективных оснований у Ярославны ему отказывать нет.
Или же все-таки есть?
Почесывая отбитую каблуком голову, Гриша стал вспоминать свои прежние отношения с другими девушками своего социального уровня. Он справедливо полагал, что девушка, она и в Африке девушка, и все они, вне зависимости от внешних данных и прочего наполнения, устроены, в общем, одинаково и руководствуются одинаковыми мотивами. Из своего прежнего опыта Гриша знал, что лучший комплимент для девушки, это не словесная комбинация приятного уху звучания, но нечто материальное. Например, Машка, его самый долгосрочный проект, выслушивала комплименты не то что неохотно, но с какой-то уж слишком бездарно наигранной радостью. Зато настоящую, неподдельную радость в ней вызывали редкие Гришины подарки.
Тут-то паренька осенило. Если Машка, обычная продавщица из киоска, которую можно было назвать привлекательной только в сумерках и при полной боевой раскраске, обходилась дешевыми подарками и покупаемыми ей коктейлями, то Ярославна, девушка красивая и умная, ждет от своего ухажера чего-то намного большего и дорогого.
Гриша все понял. Разумеется, Ярославна не видела в нем мужчину, ведь он до сих пор не продемонстрировал ей первичный мужской половой признак – деньги. Но это понимание не доставило Грише радости. Только в отдаленной перспективе он являлся миллионером, а сейчас в его карманах было пусто, как в голове у друга Тита. Чем он мог привлечь к себе внимание Ярославны? Он даже Толстого на ее глазах избил – и никакой реакции. Что еще-то сделать?
Ответ был прост, как мычание Герасима: ничего. Здесь он ничего не добьется эксцентричными поступками, и демонстрации личной крутости тоже не помогут. Нужен серьезный финансовый шаг, никак иначе Ярославну не пронять.
Заснул Гриша не скоро, продолжая думать все о том же, спал плохо, все время ворочался, ожидая с минуты на минуту прилет второй туфельки, и, в итоге, проснулся на час раньше подъема. Ярославна спокойно спала, повернувшись на бок. Гриша тихонько поднялся и неслышно выскользнул из комнаты в коридор. Зевая, сделал два шага, как вдруг нога его с хлюпаньем погрузилась во что-то жидкое и холодное. Одолеваемый тревожными предчувствиями, Гриша опустил взгляд, и обнаружил на полу огромную желтую лужу. Его нога была как раз в центре водоема.
– Какая скотина тут… – возмущенно закричал Гриша, но вдруг осекся, вспомнив и имя, и фамилию, и домашний адрес этой скотины.
Продолжая возмущенно бормотать в порыве негодования, Гриша дошел до кабинета охраны. Дверь была приоткрыта. Внутри за столом сидел один из гоблинов, и разгадывал кроссворд. Его коллега спал на коротком диванчике, подогнув ноги к самому подбородку.
– Доброе утро, – сказал Гриша.
Гоблин, что сидел за столом (это был тот самый, в которого Гриша, в свое время, не со зла попал анализами) вдруг вскочил на ноги и выхватил из кобуры пистолет.
– Сдаюсь! – пискнул Гриша, вскидывая вверх руки.
Гоблин какое-то время держал его на прицеле, явно раздумывал, не поквитаться ли за все дерьмовое, что было у них в прошлом, затем неохотно опустил оружие и спрятал его в кобуру.
– Еще раз подкрадешься – завалю! – предупредил он. – Иди обратно.
Гриша уже дернулся было исполнять приказ, но тут его голову посетила умная мысль.
– Я, как бы, по делу зашел, – сообщил он. – Очень мне надо.
Гоблин вышел в коридор и уставился на Гришу мрачным взглядом. Гриша понял, что костолом еще сердится из-за того случая с дерьмом, и удивился, откуда в православных русских людях столько злопамятности, в то время как господь велел прощать обидчиков и подставлять правую щеку каждому желающему.
– Чего тебе? – спросил охранник, ковыряясь грязным ногтем в своих огромных лошадиных зубах.
– У меня к тебе просьба, – сказал Гриша. – Мне, в общем, кое-что нужно. Кое-что купить. Там. Снаружи.
– Попроси Ярославну или шефа, – проворчал гоблин, теряя интерес к разговору. – У нас тут строгая субординация, все приказы через них. Самовольство не поощряется.
– Я поощрю, – клятвенно пообещал Гриша. – За мной не заржавеет. Мне за работу три миллиона долларов обещали и двадцать восемь… ну, это не важно. Как получу деньги, сразу сочтемся. Долг отдам, плюс кое-что сверху подкину, за труды.
Как только запахло наживой, гоблин сразу забыл все фекальные обиды.
– Что нужно? – по-деловому спросил он. – Только сразу учти – сигареты, спиртное, наркотики и проститутки исключаются. Здесь с этим строго. Сами мучаемся, – добавил он с грустью.
– Нет, мне другое, – сказал Гриша, и вытащил из кармана украденное у Ярославны белье. – Мне, короче, нужен точно такой же комплект, только новый. И пусть его завернут красиво, типа как подарок, и розовой ленточкой перевяжут. И чтобы бантик был обязательно.
Гоблин принял белье, развернул трусики, придирчиво осмотрел и задумчиво пробормотал:
– Вроде бы не Галин размер. Ей они и на одну ляжку не налезут. А для кого еще-то?
– Сделаешь? – спросил Гриша нетерпеливо.
– Постараюсь. А что я буду с этого иметь?
– Не обижу, – избегнул прямого ответа Гриша, а когда гоблин удалился, сердито проворчал: – Иметь ты будешь своего напарника по льготному тарифу. Одни ворюги вокруг. Спят и видят, как бы Гришу по миру пустить. Хрен вы что получите! Гриша еще никому долги не возвращал, и такой дурной привычки заводить не намерен.
Вечером того же дня гоблин пришел к Грише в апартаменты и принес с собой пакет. У Гриши только что закончился сеанс, и он терпеливо дожидался ужина. Но вместо кошмарной Галины в его келью заглянул один из гоблинов.
– Достал? – обрадовался Гриша, вскакивая с постели. – Давай скорее. Точно такие же? Точно?
– Точно, точно, – проворчал гоблин недовольно. – Весь город объездил, едва нашел. Вот чек, чтобы все по-честному.
– Ага. Давай. Сколько там эти тряпочки стоят… ох ебать! Ты с кого их снял, признавайся! Иди, верни обратно, и извинись.
– А ты что хотел? – криво усмехнулся гоблин. – Самый дорогой комплект белья в самом дорогом бутике города.
– За что такие деньги? Да я такие же трусы из простыни за двадцать минут сошью. Мать моя! Поверить не могу.
Возмущение Гриши было понятно. За два года отношений с Машкой он потратил на нее меньше денег, чем на один подарок для Ярославны.
– Я с такими подарками свои миллионы раньше потрачу, чем увижу, – бормотал он, идя по коридору. – Охренеть надо, а!
Он снова глянул на чек, и едва не побежал обратно к гоблину с просьбой вернуть товар обратно в магазин.
– И за что? За трусы и за лифчик. Я бы еще понял, за что что-то нужное, а то ведь за такую ерунду. Можно вовсе без белья ходить, Ярославне так даже лучше будет. У нее еще пока ничего не обвисло и не одрябло, все и так форму держит. Зачем ей вообще белье? Особенно за такие деньги. Это же….
Он опять глянул на чек и закатил глаза.
– Блин! Лучше даже не смотреть! Интересно, кто ей в первый раз такое дорогое бельишко подарил?
После покупки подарка Ярославна стал нравиться Грише гораздо меньше. Ухаживать за такой неподъемно дорогой девушкой он не хотел из элементарной жадности. Опять вспомнилась Машка – девушка эконом класса. Машка покупала белье на рынке, долго искала самое дешевое, а потом еще торговалась. Когда Гриша дарил ей на восьмое марта копеечный букет цветов, она и то была страшно рада. Такая девушка не вгонит его в убыток и не разорит. А вот Ярославна со своими запросами пускай ищет себе нефтяного магната или другого дурака.
– Пусть только попробует мне не отдаться после такого подарка! – зло ворчал Гриша. – За эти деньги целый взвод проституток можно на ночь снять. Нет, ну надо же, – он опять глянул на чек. – Твою маму! Глазам не верю. Может быть, тут один нолик лишний? Или два?
Остановившись перед дверью, Гриша постучался. Ему открыла Ярославна.
– Это ты? – удивилась она. – Я думала, что после сеанса ты устал и отдыхаешь.
– На том свете отдохну, – небрежно бросил Гриша. – На этом все равно не дадут.
– Ну да, ну да. Тебе нужно что-то, или ты просто так заглянул?
– Да, в общем-то, больше просто так, чем по делу… – замялся Гриша. Ему совсем не хотелось вручать Ярославне свой подарок в дверях.
– А…. Ну тогда входи. Я работала, но несколько минут тебе уделить могу.
Гриша глянул на монитор компьютера, на котором отображался какой-то текст, и понимающе хмыкнул. Дескать, знаем мы, как ты работала. Наверняка голых мужиков разглядывала, а эту писанину вывела на экран для отвода глаз.
– Так что ты хотел? – спросила Ярославна, усаживая себя на диванчик.
– Дорогая Ярославна, – начал Гриша, хотя его так и подмывала сказать «очень-очень дорогая Ярославна», – я тут вспомнил, как ты плакала из-за своего белья, которое привидения украли, и вот типа решил тебе в утешение подарок небольшой подарить.
Гриша протянул Ярославне пакет. Та, явно заинтересовавшись, приняла подарок и вытащила из пакета то, что встало Грише в целый Эверест копеечек.
– Это же точно такой же комплект, какой был у меня, – удивленно сказала девушка. – Но… как ты узнал, какой у меня был?
– Да я и не знал, – пожал плечами Гриша. – Просто купил самый дрогой, потому что ты достойна лучшего.
– Он ведь и правда очень дорогой, – пробормотала Ярославна, поглядывая на Гришу как-то подозрительно. – Откуда ты взял деньги? Мы справлялись о твоем финансовом благополучии, и выяснили, что слово «благополучие» тут явно лишнее. На твоей карточке было двести рублей, в квартире мы тоже наличности не нашли.
– И хату мою обыскали, – проворчал Гриша. – А копилку-то проверить забыли. Она на полке стояла, такая розовая, в виде свиньи. Вот там-то у меня немалые средства хранятся.
– Проверили мы копилку. В ней пятьдесят восемь рублей, сорок две копейки и четыре дохлых таракана.
– Слушай, какая тебе разница, где я деньги взял? – раздраженно спросил Гриша. – У ветеранов пенсии не крал, у многодетных матерей-одиночек пособия не отбирал. На ограбление беспомощных у нашей власти монополия. И вообще, раз купил, значит, было на что. Могла бы просто поблагодарить, вместо того, чтобы допрос мне устраивать.
– Да, да, ты прав, – торопливо проговорила Ярославна. – Извини. Просто начальство давит на нас, все требуют результатов. А там такие люди, которых опасно игнорировать. И если они что-то требуют, надо или сделать это, или….
Она не договорила, но Гриша и сам все понял.
– Я очень стараюсь, – сказал он, присаживаясь рядом с Ярославной. – Я там буквально из жопы вон лезу, чтобы хоть что-то о вашем жезле узнать. Но и ты пойми – я же в том мире обычный холоп. Даже по нужде сходить не могу по своей инициативе. Мне в господский дом только чудом удалось проникнуть. Спасибо Тит помог – золотой человек. То есть пахнет от него не золотом, и вообще он скотина редкая, но тоже свой вклад вносит. Теперь самое трудное предстоит – Танечку завербовать.
– Дочку помещика Орлова? – спросила Ярославна. – Ты что, серьезно думаешь, что тебе удастся наладить с ней отношения? Лучше и не пробуй, – и Ярославна усмехнулась. – Как только попытаешься заговорить с ней первым, тебя сразу же схватят и накажут кастрацией. Или вообще убьют.
– Да я уже попробовал, – не моргнув глазом, соврал Гриша. – И не только заговорить.
– Что? – подпрыгнула Ярославна.
– А то! – самодовольно ответил Гриша. – Это вы тут бамбук курите и буи пинаете, а я там вкалываю один за всех. Да если хочешь знать, это твоя Танечка от меня уже просто без ума. Проходу мне не дает – базарю! Вот что значит грамотный подкат яиц. Влюбилась. Сказала, что замуж за меня идти очень хочет. Я ей пытался объяснить, что это проблематично, потому что она как бы дворянка, а я типа не очень, но она и слушать не желает. Сказала, что готова со мной в сарае жить, низкой работой заниматься, помои хлебать. Вот сегодня лежим с ней в кровати, и она такая говорит….
– В кровати? – вытаращив глаза, переспросила Ярославна. – У вас что там, до интимной близости дело дошло?
– До чего дошло?.. А, ты про это самое. Ясное дело. Что за любовь без секса? Любовь без секса как Новый год без… секса.
Ярославна вскочила на ноги и нервно прошлась по комнате.
– Ну, знаешь! – сердито заговорила она, энергично размахивая руками. – Это уже выходит за всякие рамки. Тебя для чего туда послали – с этой великосветской проституткой кувыркаться?
Гриша сделал вид, что сильно испугался, но в душе он ликовал. Наконец-то ему удалось хоть чем-то пронять непробиваемую Ярославну. Как выяснилось, она была не такой уж и непробиваемой. Эта новость очень обрадовала Гришу, потому что ему до одурения хотелось пробить Ярославну своим тараном в нескольких местах. Трех прямых попаданий его торпеды должно было хватить для того, чтобы отправить Ярославну в самую пучину наслаждения.
– Я просто пытаюсь выполнить ваше задание, – пропищал он, приняв виноватый вид.
Ярославна прекратила метаться, застыла в одной точке, затем, не глядя на Гришу, сухо приказала:
– Тебе пора. У меня много работы.
Гриша покорно встал и вышел из ее апартаментов. Как только дверь за ним закрылась, он заулыбался во весь рот и, пританцовывая, побрел к себе в номер. Дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Радовало еще и то, что Ярославна не потребовала забрать обратно его подарок. Гриша понимал, что это добрый знак.
Глава 21
К помещику Орлову пожаловали высокочтимые гости. Весь цвет губернского дворянства собрался в имении, дабы провести время за приятной ученой беседой, обсудить последние геополитические новости и плотно откушать.
Самым знатным из всех гостей был прославленный на всю империю либерал и народолюбец граф Пустой, известный так же как мятежный граф. Слава об огромном уме графа гремела по всей России и даже за ее пределами. В Европе графа Пустого называли солнцем русского либерализма, надеждой и опорой российской демократии, живым оплотом гуманизма, яростным борцом за права человека. Ему даже хотели вручить нобелевскую премию за неоценимый вклад в дело мира, но граф Пустой, отличавшийся, помимо прочих добродетелей, еще и феноменальной скромностью, отказался от награды, заявив на пресс-конференции, собранной специально по случаю скромного отказа, что не он достоин премии, но простой русский холоп. Была даже высказана смелая мысль отправить за премией того самого простого русского холопа, но люди разумные рассудили, что это уж вовсе невозможно. Вспомнили, что русский холоп слаб весьма заднепроходным клапаном, да и совестью не обременен, так что может при собрании благородных господ, в том числе и королевских кровей, банально в штаны навалить.
Граф Пустой часто бывал в Европе, где общался со многими просвещенными людьми. И все они, как один, дивились ему. Потомственный дворянин, бездельник в восьмом поколении, граф, тем не менее, нисколько не защищал и не оправдывал крепостной строй, напротив – всячески клеймил его и порицал. Выступая в Париже перед студентами, мятежный граф прямо назвал Российскую Империю тюрьмой народа, правда не стал уточнять, какой именно народ отбывает вечный срок в этой тюрьме. Граф говорил о необходимости демократических преобразований и либеральных реформ. Он заявлял, что Российская Империя стоит на краю пропасти, и лишь одно может ее спасти: честные демократические выборы. Граф с гордостью докладывал, что в его личном имении демократия уже давно и глубоко пустила свои корни. Так, к примеру, все его холопы именовались электоратом, и изъявляли свою волю путем голосования, то есть сами решали свою судьбу. На последних выборах, когда холопы решали, чем их будут сечь по утрам – палками, плетками или розгами, не было зафиксировано ни одного нарушения. Выборы были признаны беспрецедентно демократическими, так что даже европейцы признали, что им есть чему поучиться у графа Пустого.
Помимо свободы волеизъявления в имении графа Пустого процветали и многие другие виды свобод.
Например, его крепостные были вольны выбирать, как им трудиться: до потери пульса или на износ. Во время регулярных порок холопы были вольны как молча сносить побои, так и издавать болезненные возгласы. В имении действовал принцип презумпции невиновности, согласно которому все холопы считались холопами, пока не будет доказано обратное. Так же соблюдались права человека. Право на труд было священным, этим правом с рождения обладал каждый крепостной. Присутствовало право на свободу вероисповедания, позволяющее холопам как верить в бога, так и верить в него всей душой. Граф Пустой уже второй год трудился над составлением холопской конституции, взяв за основу лучшие конституции самых передовых демократий мира. Справедливо считая, что телесные наказания являются процедурой унизительной, граф приказал своим надзирателям после каждой порки просить у холопов прощение за причиненный им моральный вред. Заботясь о традиционных семейных ценностях, граф приказал кастрировать всех холопов, не отобранных на племя, дабы исключить возможность содомии. Не отобранным на племя женщинам, дабы и их не одолели бесы лесбиянства, паяльником прижигали клиторы и отрезали языки.
Помимо графа Пустого прибыл помещик Пургенев, менее знаменитый, но не менее яростный либерал. Особо стоило отметить помещика Некрасного, который сам себя называл печальником люда холопского. Некрасный являлся поэтом, и весь свой поэтический дар расходовал исключительно в одном направлении – воспевал простой русский народ, видя в нем великую силу и мудрость, в то время как в адрес бессовестных эксплуататоров звучали обвинения и призывы одуматься. Как Пургенев, так и Некрасный были богатыми помещиками, имевшими на двоих больше пяти тысяч душ.
Так же был приглашен известный православный деятель святой старец Гапон, личный друг матушки Агафьи, настоятельницы женского Ивановского монастыря, на территории которого располагалась крупнейшая в империи текстильная фабрика. Матушка Агафья была личностью легендарной. Она была единственной из женщин, которую православная церковь заживо причислила к лику святых. Уже десять лет матушка руководила монастырем, у нее в подчинении находилось пятнадцать тысяч монахинь, одновременно являющихся работницами текстильной фабрики. В монастыре матушки всегда царил идеальный порядок. Если в других обителях иной раз и происходили какие-то истории, способные скомпрометировать православие в глазах всего мира (иностранные СМИ так и ждали чего-нибудь в этом роде, чтобы сразу же раструбить об этом), то Ивановский монастырь никогда не засветился ни в чем предосудительном. Сам патриарх Никон как-то сказал, что именно в Ивановской обители православие достигло вершины своего развития. Он часто ездил в монастырь, беседовал с матушкой Агафьей, но, как было замечено, даже сам ее побаивался. Матушка Агафья была не из тех мнимых святош, что демонстрируют свою слюнявую доброту на публику, прощают все всем, всех любят и мухи не обидят. По представлениям матушки, в мире с начала времен шла великая битва добра и зла, бога и падшего ангела, и каждый человек в этой битве либо был союзником, либо противником. Свой монастырь матушка Агафья считала военной крепостью, осажденной силами ада. В крепости царила строжайшая дисциплина, наказывали провинившихся монахинь тоже по законам военного времени. Дабы зло не проникло за стены обители, матушка приказывала монахиням и послушницам бороться с внутренним злом путем подавления дьявольских соблазнов. С целью их подавления монашки выжигали себе груди и половые органы, уродовали лица ножницами, вырывали волосы. Всякое свободное от работы время монашки посвящали самоистязанию, для каковых целей использовали специальные плетки с металлическими крючками, что подцепляли кожу и отрывали целые лоскуты. Помимо этого раз в сутки происходил обряд изгнания зла. Из монашек выбирали одну, после чего путем молитв и песнопений, в эту монашку переселяли все зло, что содержалось в душах обитательниц монастыря. Затем грешнице ломом перебивали руки и ноги и сбрасывали в глубокий каменный колодец. Тем самым символизировался сброс падшего ангела с небес в адские глубины. По праздникам устраивали зажигательное шоу – на кострах заживо сжигали чем-либо провинившихся монашек. Матушка Агафья всегда лично руководила казнями. Это была худая старуха с желтой кожей и злым морщинистым лицом. На все вокруг матушка смотрела с ненавистью, как будто только и видела вокруг себя одно зло. Когда в монастырь привозили пополнение – партии девочек, она всегда лично проводила с ними вводный инструктаж. После этого инструктажа окровавленные и искалеченные девочки выползали из аудитории, а матушка догоняла самых медлительных, и избивала железной цепью. Этой же цепью она однажды насмерть забила репортера иностранной газеты, явившегося в монастырь взять у матушки Агафьи интервью. Репортер позволил себе какое-то не слишком уважительное высказывание, и матушка тут же безошибочно распознала в нем слугу сатаны. За все это настоятельницу очень уважали, но никогда не приглашали на официальные мероприятия, ибо знали ее нетерпимость и готовность в любой момент и в любой обстановке пролить чужую кровь за веру и господа.
Так вот, святой старец Гапон был одним из немногих, кто сумел сойтись с матушкой Агафьей, и частенько навещал ее в обители. В иностранной лживой прессе часто писали, что через Ивановский монастырь осуществляется незаконная торговля людьми, что будто бы даже мать-настоятельница замешана в продаже маленьких девочек в иностранные бордели. В Атлантике был задержан танкер, в цистернах которого обнаружили две тысячи девочек, возрастом от восьми до десяти лет, знавших только русский язык, и по виду принадлежавших к славянской народности. Западные злопыхатели и клеветники тут же обвинили во всем Русь православную, а конкретно Ивановский монастырь. В печати много раз упоминалось имя матушки Агафьи, и упоминалось отнюдь не в хвалебной форме, а заодно мелькало и имя святого старца Гапона, тоже, как будто, замешанного в этом деле. Разумеется, все это было откровенное богопротивное вранье, недаром же патриарх Никон по поводу этих публикаций велел служить по всем церквям империи молебен о скорейшем и мучительном умерщвлении всевышним всех безбожников Европы и Америки.
Принимали дорогих гостей сам хозяин, дочка его Танечка, как всегда ослепительно красивая, а так же фаворитка Акулина. Разместившись в гостиной в ожидании ужина и не успевших в срок прибыть гостей, господа завели беседу. Гриша, будучи лакеем, стоял у стены в позе столбика, наблюдая за тем, как хозяева жизни кушают бутерброды и хлещут коньяк. Чуть в стороне от него таким же столбиком стояла Матрена. Гриша косился на горничную, но та смотрела прямо перед собой, не шевелилась, и даже, кажется, не дышала. Гриша тоже изображал манекена. Как обычно случается, в самые неподходящие для этого минуты, у него умопомрачительно зачесалось хозяйство. Гриша стиснул зубы, проклиная крепостное право. Зуд не проходил, напротив, даже усиливался. Гриша готов был отдать миллион долларов (из причитающихся ему трех), лишь бы получить возможность запустить руку в штаны и всласть поскрести ногтями сокровенное. В дополнение к этим мукам анальный клапан стал недвусмысленно сигнализировать о скорой необходимости спустить лишнее давление в кишечнике. За безнаказанную возможность прогреметь задом в приличном обществе Гриша готов был расстаться еще с двумястами тысячами долларов.
В это время господа мило беседовали.
– Я простой народ знаю и понимаю, – говорил помещик Пургенев. – Я постоянно ощущаю неразрывную связь с русским народом, с православным народом, с этими простыми и незамысловатыми людьми, за чьей кажущейся неотесанностью скрывается великая глубинная мудрость.
– Насчет мудрости, это да, – согласился граф Пустой, поглаживая свою длинную бороду. – Великая мудрость сокрыта в русском народе.
Все посмотрели на графа с огромным уважением. Граф Пустой славился своим единением с крепостными, попытками понять загадочную русскую душу. Он даже пытался вести образ жизни холопов, чтобы глубже постичь их. Каждое утро, в несусветную рань, аж в одиннадцать часов утра, просыпался он, завтракал рябчиком, кофеем и булочкой, час отдыхал после трапезы, а затем, как самый обычный крепостной, брал косу и в простой русской рубахе шел в поле, косить траву. Как самый обычный крепостной, вместе с холопами, мощно и усердно трудился он в поле целых двадцать минут, после чего, утомленный, подходил и беседовал со своими людьми, задавал им вопросы, спрашивал, всем ли они довольны. И всегда получал одни и те же ответы. Крепостные каждый раз отвечали (испуганно косясь на надзирателей), что всем довольны, что все, слава богу, хорошо, и что ощущают они полнейший достаток во всякой необходимости. Еще же граф Пустой, великий человек с огромным сердцем, сам, своими руками, плел для своих крепостных лапти, и раздавал им даром. Радостью наполнялось графское сердце, когда видел он, как его люди ходят в его лаптях по осенней слякоти, по глубокому снегу, по весенним лужам, и как хвалят господские изделия, кои во много раз, по их словам, лучше фабричных кирзовых сапог и валенок. Ну а то, что двадцать крепостных, ходя в стужу в барских лаптях, отморозили себе ноги минувшей зимой, а еще сорок заболели по осени воспаленьем легких и были отправлены на заслуженный отдых, так это все от темноты и бескультурья.
Граф Пустой, как мог, боролся с темнотой и бескультурьем среди своих крепостных. Он даже написал специальную азбуку для простых людей. Вот как она выглядела:
Азбука графа Пустого.
А – анафеме будет предан тот, кто плохо работает на барина.
Б – барин, бог.
В – вкалывать на барина.
Г – гнуть спину на барина.
Д – драть холопа по жопе плетью на конюшне.
Е – есть мало.
Ё – ерзать во сне, волнуясь о барском благополучии.
Ж – жать барское зерно.
З – замучить себя, работая на барина.
И – ишачить на барина.
Й – опять ишачить на барина.
К – колоть дрова для барина.
Л – любить барина больше отца и матери.
М – много работать на барина.
Н – не лениться, работая на барина.
О – отруби – еда крепостного.
П – пахать на барина.
Р – работать на барина.
С – сеять для барина.
Т – терпеть все от барина.
У – уважать барина.
Ф – фигу себе, все барину.
Х – хорошо работать на барина.
Ц – целиком и полностью повиноваться барину во всем.
Ч – честно работать на барина.
Ш – шустро работать на барина.
Щ – щи да мясо – барская еда.
Ъ – твердо знать свое место.
Ы – ыще больше работать на барина.
Ь – мягкость и покорность – холопские добродетели.
Э – это все вокруг барское.
Ю – юный возраст работе не помеха.
Я – яйца долой – холоп удалой.
Эту замечательную азбуку граф Пустой в обязательном порядке распространял среди своих крепостных. Азбука стоила десять копеек. Но поскольку крепостным деньги не полагались, простому люду приходилось очень несладко. Даже бабы не могли заработать десять копеек, ублажая надзирателей. Те без всякой платы, даром, пользовались любой крепостной. И все же смекалистый и талантливый люд нашел выход. Мимо имения как раз проезжали какие-то мутные личности, и крепостные, договорившись с ними, продали этим личностям трех годовалых девочек. Вырученных за детей денег вполне хватило, чтобы каждый приобщился к грамотности.
Но граф Пустой не остановился на уже проведенных реформах, и продолжил осыпать своих рабов благодеяниями. Он решил совершить неслыханное – дать крестьянам землю. Каждому холопу был выделен участок земли в десять соток на крепостную душу. Отныне холопы обязаны были не только с полной самоотдачей вкалывать на господских полях, но и обрабатывать этот участок, весь урожай с которого тоже отходил барину. Добрейший граф Пустой, видя, что его люди не успевают сделать все засветло, великодушно позволил им работать на своих участках во время, отведенное на сон. Смертность среди крепостных, после этого благодеяния, резко возросла, но граф не огорчился. Бог прибрал всех старых, больных и слабых. Выжили только самые выносливые, правда через месяц и они выглядели так, будто только что выкопались из могил.
Но и на этом благодеяния не прекратились. Граф Пустой решил организовать для своих крепостных медицинское обслуживание, с каковой целью выписал из города двух высококвалифицированных медиков. Медики начали прием больных, и стали лечить холопов. Но поскольку холоп есть скотина тупая, то и лечили его, как скотину. Когда у холопа заболевал зуб, высококвалифицированные специалисты рвали его ржавыми клещами без всякого намека на анестезию, и рвали так, что вместе с одним больным выдергивали два здоровых, растущих рядом. Если начинал гноиться палец, его попросту отрезали, то же касалось рук и ног. Все операции проводились без наркоза (наркоз специалисты давно продали на сторону), так что ни одному пациенту не удалось пережить болевого шока. Но люд терпел, считая, что лучше уж такая медицина, чем никакой. Однако после того как крепко выпившие специалисты кастрировали крепостного Семена, когда тот пришел к ним с занозой в пальце, поток желающих полечиться резко иссяк. Все холопы вдруг стали абсолютно здоровы, все ходили бодро, работали усерднее, и граф Пустой, глядя на них, не мог нарадоваться.
В общем, по части простого народа и доброго отношения к нему граф Пустой был большой авторитет.
– Ведь если разобраться, – продолжал Пургенев, – крепостные почти такие же люди, как и мы. Разумеется, они более примитивны и стоят на низшей ступени развития, но это еще не повод относиться к ним, как к скотам. Да, они не люди, как мы, но и не скоты. Нам следует не наказывать их, но заботиться о них, как о своих детях. Наказания, разумеется, необходимы, но в умеренном объеме. Вот недавно моя прачка, которую я брал на ночь постель погреть, украла из помойного ведра на кухне корку хлеба, что предназначалась для собак и свиней. Украла и съела – как вам такой очаровательный поступок? Разве человек высокого воспитания и культуры способен на этакую низость? Отнять пищу у животных…. А ведь она, девка эта, всегда хорошо питалась. У меня все крепостные хорошо питаются. Каждый получает в день целую чашку комбикорма с тертыми желудями. Это очень много. А им все мало. Лезут, животных объедают. Так вот, другой бы барин эту девку засек бы на конюшне до смерти, но я все рассудил, и поступил гуманно, как и полагается цивилизованному человеку: пожег ей руки огнем, чтобы впредь не крала, и отправил в известняковый карьер – пускай там работает.
– Это справедливо, – одобрительно кивнул граф Пустой. – Каждый должен отвечать за свои действия, но все же сечь на конюшне, это непозволительное для цивилизованного человека зверство. А на карьере ей будет даже лучше. Там свежий воздух, ближе к природе. Все крепостные немного животные, им на природе всегда лучше. У меня даже одно время крепостные на снегу зимой ночевали, к природе приобщались. И ничего. Даже рады были. Я бы так и держал их на свежем воздухе, да какая-то эпидемия пошла – что ни утро, находим десятка три посиневших трупов. Решили крестьян обратно в бараки вернуть, а заодно торжественный молебен отслужить. Помогло. Против божьего слова никакая зараза не устоит.
И граф Пустой набожно перекрестился на икону.
– Вот это хорошо сказано, – одобрил святой старец Гапон. – Куда уж мы без бога-то денемся? Бог нам во всем подмога. По его заветам живем, не грешим, и за то всевышним облагодетельствованы.
– Как бог положил, так мир и устроен, – кивнул граф Пустой. – Взять, к примеру, моих крепостных. Вроде глядишь на них с балкона – такие же люди, как и мы, только грязные. Тоже две руки, две ноги, тоже божьи создания. А подойдешь ближе, заговоришь с ними, и сразу понимаешь – нет, разные мы.
– Недаром же бог сотворил животных и крепостных на пятый день творения, а людей на шестой, – напомнил отец Гапон.
Затем Некрасный читал свои стихи о тяжкой народной доле. Гриша плохо разбирался в поэзии и ценителем изящной словесности не являлся. Единственной книжкой, которую он прочел в своей жизни, была его медицинская книжка. Так что стихи Некрасного о какой-то бабе, которая, поднимая косулю тяжелую, порезала ногу голую, не тронули лакея. Гриша сразу же представил себе здоровенную бабу, вроде продавщицы из магазина возле его дома, отрывающую от земли брыкающуюся косулю. И чем провинилось несчастное животное? Чем заслужило такое обращение? Да и баба хороша. Нашла чем заниматься.
Кончив, Некрасный погнал декламировать прочие свои шедевры, все как один проникнутые духом сострадания к угнетенному бесправному народу. В своих стихах Некрасный жестко и безжалостно обличал эксплуататоров, клеймил помещиков и чиновников, выставлял их кончеными мерзавцами, а крепостных показывал как добродетельных и святых людей, задавленных непосильной ношей. И хотя многое вынес русский народ, все же в стихах Некрасного прослеживался намек на то, что рано или поздно эта скотина, русский народ-то, все же надорвется, свалится без сил и испустит дух.
Красный от гнева и душевных переживаний, Некрасный читал свои стихи с огромным чувством, и было ясно, что страдания народные для него не пустой звук. Он любил простой народ, любил мужика, жалел его, сочувствовал ему, и в то же время ненавидел тот порядок, который превратил этого мужика в бессловесную и безмозглую рабочую скотину. Тот же факт, что он сам являлся частью этого порядка, и что у него в имении люди от голода пухли, а беременные бабы трудились до самых схваток, и шли работать через час после родов, Некрасного не смущал.
Некрасный кончил, и как раз в это же время явился Тит и доложил, что прибыли еще дорогие гости – Злолюбов и Килогерцен.
В гостиную вошли двое – один моложавый, худой и какой-то, на первый взгляд, болезный, второй плотный, ниже ростом, и с бородкой. Тит с непривычки заметался, торопясь убраться с дороги господ, но не успел. Килогерцен, ухватив его за волосы, отоварил крепостного с колена в нос. Роняя на пол капли крови, Тит, бормоча извинения, упал на колени и пополз к выходу. Но Злолюбову показалось, что тот ползет не слишком быстро. Дабы разогнать холопа, Злолюбов выдал ему могучий пинок под зад. В заду Тита что-то хрустнуло, похоже, что твердый нос барского башмака безошибочно нащупал холопский копчик, а сам заместитель лакея, завывая, выкатился из гостиной.
– Тварь зловонная! – выругался Злолюбов, и Килогерцен согласно кивнул.
Присутствующие господа поприветствовали прибывших рукопожатиями, Акулине поцеловали ручку. Все расселись на диванах и креслах, и служанки принесли кофе и сладкие булочки. Крепостные служанки смотрели на булочки огромными, полными слез глазами. Им до безумия хотелось отведать это восхитительное лакомство. Но они не могли. И препятствовал им в этом вовсе не страх наказания (в имени наказывали всех, и тех, кто заслужил, и тех, кто просто рядом стоял), не боязнь порки метровой металлической линейкой по голым ягодицам, а зашитый рот. Дело в том, что все служанки, отобранные для работы с готовым блюдами, ранним утром подвергались варварской процедуре – им зашивали рты толстыми нитками. Это называлось – рот на замок. Дырки под нитки в губах были проколоты уже давно, оставалось только вдеть прочную капроновую нить со стальной сердцевиной, дабы зубами нельзя было перекусить, завязать надежный узел и опломбировать.
Безмолвные служанки удалились, господа принялись за кофе.
– Тяжела доля народная, – промолвил Килогерцен, выбирая на блюде самую симпатичную булочку. – Всеми притесняем несчастный народ, всеми задавлен. От всех терпит, перед всеми в ответе. Бесправен и замучен, несчастный. А ведь именно простой народ это все самое лучше, что только есть на нашей земле. Это мне точно известно, потому что хорошо я народ знаю. И хотя почти всю жизнь прожил я заграницей, все же никогда не терял духовной связи с простым русским народом. Если бы только этот прекрасный и добрый, умный и талантливый народ престали угнетать разные паразиты и бездельники, он бы сумел совершить такое, что еще никому и никогда не удавалось.
– Это правда, – согласился Злолюбов. – В простом народе великая сила и мудрость сокрыта. Но доля народная тяжела. Нельзя двигаться дальше в двадцать первый век, когда девяносто процентов населения страны есть рабы бесправные. Освободить людей – вот что нужно сделать.
– Верно, верно, – закивали все головами.
– Натерпелся народ довольно, – пробасил граф Пустой, чей авторитет был бесспорен. – Давно пора отпустить его, дать вздохнуть свободно.
– И я о том же, – разгорячился Килогерцен. – Доколе терпеть люду? Исстрадались под гнетом непосильным. Нужны реформы. Преобразования. Нужна, наконец, отмена крепостного права. Нужны школы, больницы. Нужно, чтобы каждый человек в нашей стране стал свободным и образованным, чтобы получал достойную медицинскую помощь. Чтобы он имел права, и чтобы никто не мог безнаказанно унизить или обидеть его….
Тут, прервав мудрую речь Килогерцена, в гостиную на четвереньках вполз подбитый Тит, и слезным голосом доложил, что кучер господина Килогерцена помял случайно бампер его автомобиля, когда совершал разворот во дворе.
– Бампер помял? – вскричал Килогерцен в гневе. – Мерзавец! Запороть скотину на конюшне!
Помещик Орлов кивнул одному из своих верных головорезов, и тот отправился за коллегами. Вскоре с улицы сквозь распахнутые окна стал нестись дикий крик кучера, да пронзительный свист плети.
– Господи! – орал кучер. – Барин! Смилуйся!
– Только так с ними и надо, – проворчал Злолюбов. – Ничего не понимают, кроме плетки. Чуть один день не выпорешь, так жди беды. Вот у меня в имении людей дважды в день секут, всех поголовно, утром и вечером. Вам тоже советую такой порядок завести. Очень способствует. Потому что нельзя иначе. Вот у меня знакомый один, граф Белошевский, так тот своих крепостных так разбаловал, что уму непостижимо. Раз в месяц дает им выходной на целых три часа, порку на конюшне отменил, теперь только в амбаре секут, все плетки повелел сжечь, оставить только березовые палки. А как он их кормит! Холопское оливье не только на обрезание господние дает, но и на пасху, и на рождество, а на свой день рождения выкатывает бочку прокисших яблок, какие уже свиньям давать нельзя, чтобы не заболели. И каков же результат? А таков, что крепостные совсем распоясались. Последний раз был у него в гостях, вышел из экипажа, и вижу, идет холоп без руки. Я его останавливаю с правой в челюсть, и спрашиваю:
– Православный, что с рукой?
А он отвечает:
– Посмел из свинской еды корку хлеба взять и съесть.
Представляете? И за это возмутительное своеволие он отделался всего лишь отрубленной рукой!
– За такое шкуру содрать мало, – проворчал граф Пустой, который чрезвычайно любил животных, в том числе и свиней, и очень злился, если кто-то из крепостных пытался объесть их. – Ведь свинья – животное подневольное. Что ей дали, тем и сыта. А крепостной много источников добычи пропитания имеет. На одних лопухах да на подорожнике жить может, так еще и комбикорм получает, и турнепс, и чистки картофельные. Обожраться можно таким изобилием. А им все мало, утробам бездонным! Еще и свиней норовят объесть.
– Так и я о том же, господа, – воскликнул Злолюбов. – Ну нельзя с крепостными по-людски. Нельзя! Да и как можно с ними по-людски, ежели они не люди?
– Я своих, которые пытаются еду воровать, собаками травлю, – похвастался Пургенев.
– Поделом им, – одобрил Килогерцен.
Тут со двора зашел в гостиную один из садистов барина, и спросил, запарывать ли кучера насмерть, или хватит с него содранной со спины кожи.
– Насмерть! – рявкнул Килогерцен. – И пускай помучается. Соли ему на спину насыпьте.
– Уж насыпали, барин, – с улыбкой сообщил садист, как бы намекая гостю, что тот разговаривает не с дилетантом, а с суровым знатоком своего дела.
Килогерцен был так удивлен смекалистостью садистов хозяина, что даже вытащил бумажник и дал головорезу червонец. Тот поклонился в пояс, нижайше поблагодарил, и поинтересовался, не угодно ли гостю дорогому, чтобы его кучеру в задний проход раскаленную кочергу поместили.
– Давайте! Помещайте! – закричал Килогерцен. – Лучше даже две.
– А еще можно, ежели угодно, уд тисками зажать, – предложил садист, и получил за смекалку еще червонец.
– Уд в тиски, кочергу в жопу! – подытожил Килогерцен. – И пускай страдает, изувер!
Вскоре вопли истязаемого плетью кучера сменились нечеловеческим ревом. Кучер орал так, будто ему уд в тисках зажали, а потом еще кочергу раскаленную в зад поместили. То есть, орал так, как и следовало орать в его незавидном положении. Господа, слушая его вопли, наслаждались воцаряющейся справедливостью. Холоп получил по заслугам.
И вновь разговор пошел о тяжелой доле народной, и о том, что доколе, и о том, что мочи нету, и о том, что пора уже все менять. После третьей бутылки коньяка зазвучали разговоры, откровенно попахивающие крамолой. На пьяную голову, когда притупляется чувство страха и очко перестает звонко играть от одной мысли о неизбежной каре за отступление от политики подхалимажа и жополизания, какой русский не любит встать в оппозицию и поругать темную силу с названьем кратким – власть?
Первым открыл вечер оппозиционных бесед граф Пустой – известный на всю страну либерал, не боящийся высказывать свое мнение в глаза любому чиновнику даже самого высокого ранга.
– Не может так дальше продолжаться, – громко и смело произнес мятежный граф. – Над нашей страной смеется весь цивилизованный мир. В Европу стало страшно ездить. Не поверите, но недавно одного русского дипломата в Париже закидали тухлыми яйцами. Да что там какой-то дипломат. Я сам, пребывая последний раз в Лондоне, подвергся острой критике со стороны неких людей, называющих себя активистами народного движения по борьбе за права сексуальных меньшинств. Всю Европу беспокоит один вопрос: когда же в Российской империи разрешат однополые браки.
– Однополые браки? – возмутился отец Гапон. – Тьфу! Что за мерзость, прости господи? У нас православная страна, у нас культура православная, и она всякой там педерастии не терпит.
– В Европе полагают, что и они тоже люди, и потому должны иметь равные со всеми права, – сказал Пургенев.
– Полноте! – не выдержал Злолюбов. – Что это такое – равные права? Так они договорятся до того, что потребуют уровнять в правах меня и моих крепостных. Я лично человек либеральных взглядов, и ничего не имею против однополых отношений среди представителей дворянства, но все же разрешать все это официально, и даже браки дозволить совершать…. Господа, либерализм хорош лишь до определенной степени. Все эти разговоры о равноправии ни к чему хорошему не приведут. Я цивилизованный человек, а не средневековый рабовладелец, и я понимаю, что крепостные, пусть они и не являются полноценными людьми, как мы, все же ближе стоят к нам, чем к животным. Но все эти разговоры государя-императора о неизбежности реформы крепостного права просто нелепы. Я понимаю, что все это произносится им в угоду западу, но разве запад нам указ? У России свой особый исторический путь. Россия страна высокой духовности, страна православия. Запад, утонувший в пороках, лишившийся остатков христианской морали, разве может давать нам какие-то советы и судить нас? Они нам говорят, что крепостное право это не что иное, как то же самое рабство, и следует немедленно его отменить. Но стоит взглянуть на западный мир, и мы увидим, к чему приводит отмена всяких границ между социальными слоями общества. Приезжая в Европу, я не могу отличить человека благородных кровей, принадлежащего к высшему обществу, от последнего плебея – все одинаково одеты, одинаково образованы, разъезжают на одинаковых автомобилях. В этом вавилонском столпотворении перемешалось все, и низкое общество поглотило благородное сословие. Я не могу себе представить ничего более ужасного и омерзительного, чем ситуация, когда девушка из дворянского рода выходит замуж за простого мужика. А в Европе это давно уже стало нормой жизни. И к чему это в итоге привело?
– Однополые браки менее богопротивны, чем браки между людьми и холопами! – заявил святой старец Гапон. – При браке однополом все же соединяются, хоть и путем противоестественным, человек с человеком, в то время как связь человека с холопом приравнивается к скотоложству.
– Вот то-то и оно! – кивнул Злолюбов. – Вот до чего может довести излишняя холопская свобода. До страшных грехов. Притом попрана будет не только заповедь, запрещающая прелюбодеяния без барского дозволения, но и такие святые заповеди, как – не убий барина, не возжелай себе добра барского, и так далее.
– Не слыхали ли вы о кошмарном случае с помещиком Игнатьевым? – полюбопытствовал Килогерцен.
Господа заговорили хором, каждый что-то слышал, но урывками, однако подробностей не знал. Все попросили Килогерцена рассказать подробности.
– Так вот, у него в имении вспыхнул холопский бунт, – уронил Килогерцен страшные слова. – Озверевшие крепостные (они и так-то не люди, а тут озлобились вдруг с чего-то) подвергли жесточайшим пыткам самого помещика Игнатьева, известного по округе как щедрого мецената и человека высоких православных устоев. Говорят, в том году сто тысяч рублей пожертвовал на храм. А какую он церковь отстроил! Купола сусальным золотом покрыл, лучших мастеров нанял стены расписывать. А иконостас такой дорогой был, что его из суздальской губернии холопы на руках несли, дабы не растрясти. Да и как несли-то, нехристи! Приходилось через каждый километр их сечь, безбожников, а то начинали притворяться, что тяжело им, что сил нету. Куда ж они делись-то, силы? Неужто десять крепостных иконостас за триста верст не донесут? Он и весил-то всего пудов триста. И вот гляди ты, на такого святого человека, на подвижника православного, руки свои грязные поднять посмели. Я всегда говорил, и буду повторять, что крепостные не люди, и обращаться с ними как с людьми нельзя. Есть люди – высшее благородное сословие, представители которого наделены всеми качествами, присущими образу и подобию божьему. И есть крепостные, человекообразные скоты, не более того. У нас сейчас, вы, должно быть, слышали, завелись разные сторонники каких-то новых взглядов, и уже открыто говорят о том, что крепостные такие же люди, как и помещики, и что разницы между нами нет. Но помилуйте, это же абсурд! Вы согласны?
– Полностью, – высказал обще мнение граф Пустой.
– Вот-вот, и я о том же, – покивал головой Килогерцен. – Даже как-то смешно обосновывать абсурдность подобных допущений. Сравнить нас, помещиков, и крепостных… Но ведь смешно, право же! Ведь если взять за данность, если допустить хоть на секунду, что холопы такие же точно люди, как и мы, и что между нами нет никакой разницы, то выйдет же совершеннейший ужас. Получится, что мы, то есть помещики, сотни лет угнетали, унижали, неволили таких же, как и мы людей, созданных по образу и подобию божьему. Разве же это не грех? Разве же бог позволил вершиться столько лет этакому ужасу? Да будь так, уже давно бы излил огонь с небес на наши грешные головы, ибо не безгранично терпение его, о чем нас святое писание предупреждает рядом примеров весьма наглядных. Но нет ничего подобного. Как стояла Русь-матушка, так и стоит, богом любима, ибо крепка в нас православная вера.
– Святые слова! – набожно произнес отец Гапон и перекрестился. – На все воля божья.
– Вот то-то и оно! – жадно подхватил Килогерцен. – Именно что воля. Праведную жизнь ведем, богу угодную. Разве же угодно было бы богу, чтобы одни люди других таких же людей, его детей, неволили и мучили, смертным боем били и трудом непосильным изнуряли? Вот скажите, угодно бы богу было такое?
– Совершенно с вами согласен, – закивал головой граф Пустой. – Сразу видно просвещенного мыслящего человека. Ведь любому же ясно – все, что свершается на свете, есть воплощение промысла божьего. Значит, если таков порядок вещей установился давно, и сотни лет стоит незыблемо, божья воля на то есть. Значит богу угодно, чтобы мы, люди, направляли и во всем контролировали крепостных, и ни в коем случае не давали им и каплю воли. Да и как можно давать волю этим скотам? Все наши добродетели у них считаются постыдными пороками, все, что мы презираем в людях, у них повод для гордости. Мы верим в любовь, в дружбу, мы считаем, что милосердие и доброта красят человека, а для них любовь это животное спаривание, дружба – синоним предательства, а милосердие и доброта есть признаки слабости. Позвольте, но о каком равенстве между нами и ними можно говорить? Что эти господа предлагают? Отпустить всех крепостных? Дать им волю? Помилуйте! Да ведь они не в своем уме, если это предлагают! Что за мир построят получившие волю холопы? Ужасный отвратительный мир. Яму с нечистотами, а не мир. Опираясь на свои скотские потребности и рабские мечтания они создадут царство кромешной безнадежности и умственного мрака. Сколько не мой холопа в бане, сколько не ряди в человеческую одежу, сколько не учи его, бестолкового, он все равно останется скотиной. Эта скотина всегда, везде и при любых условиях будет вести себя так же, как и теперь: работать только тогда, когда ее непрерывно секут, стремиться изваляться в грязи, если не в буквальной, то уж наверняка в нравственной, и мечтать только об одном – чтобы вдруг с неба упала огромная куча денег, и можно было бы лежать, ничего не делать и блаженствовать. Согласен, иногда помещики перегибают палку в деле воспитания холопов, но в этом деле лучше перегнуть, чем недогнуть. Запарывать холопов насмерть не выход из положения, но расслаблять их стократ хуже. Холоп, это скот. Пока его непрерывно бьешь, он более или менее похож на человека, но стоит перестать бить, и вся скотская сущность тут же полезет наружу. Мы не угнетатели, мы, напротив, помогаем крепостным поддерживать человеческий облик. Лично я стараюсь придерживаться золотой середины – насмерть, конечно, не забиваю, то есть стараюсь не забивать, но иногда получается, но и спуску не даю. У меня в имении действует правило трех «К». Первое «К» это конюшня. Если холоп провинился один раз, его отводят на конюшню, и там зверски секут. Второе «К» это кастрация. Если холоп провинился повторно, его кастрируют. Третье «К» это кирдык. Если холоп провинился в третий раз, ему разбивают голову обухом топора, и оттаскивают в яму с известью.
– А у меня в имени еще одно «К» есть, – похвастался Белошевский. – Называется – кипятильник в жопе.
– Правда? – заинтересовался граф Пустой. – Очень любопытно. Право, надо подумать о том, чтобы правило трех «К» изменить на правило четырех «К». Кипятильник в жопе, вы сказали? И что, способствует?
– Несказанно! Прежде, в годы юности и наивности, я тоже был одержим ошибочным мнением, что с крепостным людом можно обходиться если не лаской, то, по крайней мере, силой разумных доводов. Я полагал, что как люди, имеющие все же не животный, а больше человеческий разум, они смогут все понять, если говорить с ними обычным языком, не прибегая к иным методам внушения. Как же я заблуждался! Поверьте, господа, стоит только начать относиться к крепостным как к людям, и они моментально демонстрируют свою истинную суть. Не поротый три дня холоп из покорного и безмолвного животного превращается в свирепого наглеца и хама. Я был потрясен до глубины души тем, как ответили мне мои крепостные на мое к ним человеческое отношение. Через неделю после того, как я запретил применять к ним физические наказания, они грубили уже не только надзирателям, но и мне. Я все же не терял надежды, но последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, стал кошмарный случай. Один из холопов, глядя вслед моей молодой супруге, благовоспитанной девушке, особе возвышенной и романтической, громко сказал невозможную грубость. Хотите знать, что этот скот сказал? Я заранее приношу всем извинения, поскольку подобные слова не могут не оскорбить слуха благородного человека, но сказал он следующее: «Хороша жопа. Отодрать бы важно!». Представляете, каково было услышать такое моей супруге, которой на тот момент было всего-то девятнадцать лет?
– Немыслимо! – выдохнул переполняемый праведным гневом граф Пустой.
– Я не могу даже представить себе этого, – произнес Пургенев. – В голове не укладывается, на что способны эти скоты.
– Да, скоты, – кивнул Белошевский. – Этот случай окончательно открыл мне глаза на истину. Я понял, что все бесконечные физические наказания являются для крепостных великим благом, ибо заставляют этих двуногих животных поддерживать человеческий облик. Холоп похож на человека лишь до тех пор, пока его бьют. Но стоит перестать бить его, и через пару недель перед вами будет свирепое лютое животное, одержимое животными желаниями и напрочь лишенное какой-либо морали.
На эти слова все господа согласно кивнули, как на истину бесспорную, после чего доложили, что ужин подан, и все отправились откушать, что бог послал.
Глава 22
Высокие гости улеглись спать только за полночь – увлеклись интересной беседой. Гриша, убаюкав барина, и выслушав от стервы Акулины нотацию касательно недостаточно добросовестной чистки унитаза (после оскопления Герасима барская фаворитка стала злая и раздражительная), усталый, сердитый и голодный поплелся в свои покои. Надежда Гриши на то, что в своем разговоре гости упомянут жезл Перуна не оправдалась. Вместо этого говорили о какой-то ерунде, и от хора их голосов у Гриши заболела голова. Заглянув в господскую уборную, Гриша застал там своего первого и единственного заместителя за работой. Тит стоял перед унитазом на коленях и нашептывал ему всякие нежности. Затем, наговорив комплиментов, он весьма эротично прошелся языком по стульчаку, слизывая засохшие желтые пятна.
– Важно! – прошептал он, и причмокнул губами.
Гришу передернуло от омерзения, и он, не отвлекая Тита от работы, тихонько покинул кабинет зама.
Все еще находясь под впечатлением от увиденного, Гриша повернул в коридор и неожиданно столкнулся с Матреной.
– Ой! – тихо вскрикнула служанка.
– Блин! – проворчал Гриша, потирая подбородок, в который Матрена въехала лбом. – Ты что тут крадешься? Стащила что-нибудь?
Матрена была в ночной рубашке до колена с Танечкиного плеча. Из всех крепостных, не считая, разумеется, Акулины, Матрена больше остальных напоминала человека разумного, а не скотину грязную. Танечка баловала свою служанку. Ей доставались все старые наряды госпожи, питалась она превосходно (в то время как барин во время обеда жаловал Грише обглоданную куриную кость да кусочек хлеба, Танечка одаривала свою служанку полноценной порцией), и что самое главное – мылась каждый день. Через кованую ограду усадьбы Гриша, в часы праздности, наблюдал за женской территорией, и местные самки не вызывали у него никаких чувств, кроме отвращения. Мало того, что толстый слой грязи и бесформенная одежда скрывали все половые признаки, так баб еще и брили наголо, дабы не улучшать демографическую ситуацию среди вшей. Матрена была совсем другая. С двенадцати лет ее определили в прачки, где приучили к чистоплотности, затем она попала в услужение к Акулине, а от нее перешла в распоряжение к Танечке. У Матрены были длинные и густые каштановые волосы, большие черные глаза, маленький, слегка вздернутый кверху носик и пухлые губки. Она была худенькая и невысокая (на иное телосложение при холопской жизни рассчитывать не приходилось). Служа Акулине, Матрена не шиковала. Барская фаворитка часто наказывала ее, то есть била и морила голодом, зато попав к Танечке, девушка быстро порозовела, заимела румянец на щеках, даже как будто немного поправилась, так что ночная рубашка вполне отчетливо вырисовывала контуры очень аппетитной фигуры. Гриша, находясь в мрачном расположении духа, хотел обругать Матрену и пойти своей дорогой, но заглянув одним глазом в ее большие испуганные глаза, а вторым в глубокий вырез ночнушки, передумал.
– Я ничего не стащила, – прошептала Матрена, но глазки у нее забегали. – Я просто так, по нужде иду….
Гриша заметил, что девушка держит одну руку за спиной, и усмехнулся.
– А там что? – спросил он.
– Ничего, – испуганно прошептала Матрена, и как будто захотела попятиться, но не посмела. Гриша добродушно улыбнулся.
– Да ладно, не трясись. Я же не надзиратель и не барин. Не сдам. Покажи.
Матрена обреченно уронила голову, как человек, сознающийся в страшном преступлении, и вывела руку из-за спины. Там оказался небольшой бумажный пакет.
– А что внутри? – спросил Гриша.
Матрена развернула пакет, и Гриша увидел в нем штук пять круглых шоколадных конфет. Это были конфеты из покоев Танечки. Там, в покоях, стояла огромная ваза, доверху набитая всевозможным шоколадным ассортиментом. Сама Танечка на эти конфеты уже глядеть не могла – зажралась. Вероятно, она баловала сладеньким свою служанку, но явно не в этот раз. Конфеты были ворованными – Гриша это сразу понял.
Такой счастливый случай выпадал не каждый день. Гриша прекрасно понимал, что теперь Матрена в его власти, и сделает все, лишь бы он не сдал ее господам. Потому что за воровство ее ждало не просто увольнение с должности служанки и возвращение в зоопарк, ее ждала смерть. Притом смерть была бы лишь кульминацией всего того, что ей довелось бы испытать. Будучи в услужении у господ Матрена имела иммунитет от посягательств на ее женские прелести со стоны надзирателей, а те еще как пускали на нее слюни. Так что первое, что ее ожидало, это групповое изнасилование. Затем, когда каждый надзиратель натешился бы с ней досыта, последовали бы пытки. Засранца Яшку до сих пор терзали в сарае возмездия, Матрена оказалась бы там же и ощутила бы то же самое. Ну а потом, через две-три недели зверских пыток, выволокли бы во двор, привязали бы к бамперу автомобиля, и прокатили бы вокруг имения.
Гриша все еще не верил своему счастью, и напряженно решал, какую сексуальную фантазию он воплотит в жизнь первой, как Матрена вдруг уронила пакет с конфетами, сползла по стене на пол и тихо заплакала, закрыв лицо ладонями. Глядя на нее, Гриша ощутил несвойственное ему прежде чувство жалости. Он присел рядом на корточки, тронул Матрену за руку и сказал:
– Не реви. Я никому не скажу.
Матрена отняла руки от заплаканного лица и посмотрела на Гришу с безграничным удивлением.
– Не скажешь? – недоверчиво прошептала она.
– Нет, – подтвердил Гриша.
– Почему?
Ее удивление было Грише понятно. Никакой солидарности между холопами не существовало, и никому бы из них не пришло в голову покрывать другого. К тому же стукачество неизменно поощрялось – холоп, сдавший другого холопа, совершившего что-то греховное, обязательно получал большую тарелку вкуснейших отрубей.
– Нормальные пацаны не стучат, – как умел, объяснил свои мотивы Гриша. – У барыни твоей конфет хоть жопой ешь. От нее не убудет. Если бы ты всю вазу сперла, я бы только порадовался.
– Всю нельзя, заметит, – робко улыбаясь, пояснила Матрена. На Гришу она смотрела с безграничным доверием и восхищением, так что ему даже стало неловко. Гриша всю жизнь старался поддерживать репутацию крутого перца, то есть циничного бессовестного маргинала, идущего строго против ветра общественной морали. Он всегда полагал, что покорять женщин можно двумя путями: деньгами или экстравагантными поступками. Денег у Гриши не было, и ничто не указывало на то, что они когда-либо появятся, так что оставались экстравагантные поступки. В понимании Гриши это были поступки, которые все как один попадали под статью о хулиганстве. Покоряя девушку, он мог на ее глазах помочиться на витрину магазина, отвесить леща старушке, заорать на весь автобус матом, плюнуть на спину прохожему. Его подружек неизменно восхищали подобные подвиги. Гриша слыл плохим парнем, и это было круто. Одна девушка отдалась ему в первом же пропахшем мочой подъезде после того, как он, проходя вместе с ней мимо безногого нищего, сидящего у стены на тротуаре, пнул ногой его коробку с медяками. Монеты со звоном разлетелись во все стороны, нищий в отчаянии закричал, Гриша разразился восторженным хохотом, дама тоже была в полном восторге. Но никогда прежде Гриша не вызывал восторга у девушек совершением хороших поступков. Это было до того необычно, что Грише стало стыдно. Он остро чувствовал, что предал святые идеалы крутых перцев, потому что должен был поступить иначе – немедленно потребовать у Матрены интимной близости, и требовать после этого каждую ночь, грозясь рассказать о ее преступлении надзирателям. Именно так должен был поступить человек, отвешивающий подзатыльники старушкам и издающий в переполненном автобусе ослиный рев, плавно переходящий в прочувствованный монолог Гамлета, уронившего на ногу кирпич.
– Надо было конфеты украсть, а вместо них камней насыпать, – тут же блеснул изобретательностью Гриша. – Чтобы твоя барыня себе все зубы переломала. И подружки ее тоже.
Это смелое предложение шокировало Матрену. Хоть она и стояла по своему развитию намного выше не включенных в состав дворни крепостных, все же и ей мозги промыли основательно. Как и все холопы, Матрена была жутко набожной, считала себя православной, и побаивалась божьей кары за грехи. А одна только мысль о покушении на господскую жизнь или здоровье преподносилась святыми старцами как самый тягчайший грех. Вообще список заповедей, как выяснил Гриша, в этой реальности заметно отредактировали. Вместо знакомого – не убий, не укради, не прелюбодействуй – звучало следующее:
Десять заповедей холопа.
Не замысли худого супротив барина.
Не противься воле барской.
Почитай барина своего.
Не возжелай добра барского.
Возлюби барина.
Не сотвори себе кумира кроме барина.
Не прелюбодействуй без барского дозволения.
Будь послушен барину.
Если иной холоп искушает тебя – сдай его надзирателям.
Ешь мало и редко.
Понятно, что Матрена, с рождения воспитанная на подобных заветах, пришла в ужас от одной мысли, чтобы сделать госпоже что-то плохое. Она и конфеты-то воровала помирая от страха, притом боялась не только господ и надзирателей, но и гнева божьего. Так что всякий раз после преступления долго замаливала свой грех, часами стоял перед иконостасом на коленях.
– Что ты! – прошептала она, глядя на Гришу полными страха глазами. – Не говори такое! Господь все слышит.
– Я очень тихо, – зашептал Гриша. – Шепотом можно.
– Если шепотом, то он тоже слышит, – возразила Матрена, но уже без былой уверенности.
– Не услышит, – покачал головой Гриша. – Так святой старец Маврикий сказал.
Авторитет святого старца Маврикия был среди крепостных непререкаем. Доверчивая Матрена тут же поверила Грише (то есть не ему, а святому старцу, чьи слова собеседник просто до нее донес), и тоже перешла на шепот. Стоило неизбежной божьей каре перестать довлеть над ней, как Матрена из набожной святоши стремительно превратилась в отъявленную смутьянку.
– Я госпожу не очень люблю, – шепотом покаялась Матрена с виноватым видом, но глазки у нее как-то странно засверкали. – Святые старцы учат господ больше жизни любить, а я так не могу. Вчера я госпожу случайно булавкой уколола, а она меня за это подсвечником по голове ударила. Вот сюда.
Матрена показала место на голове, куда пришелся удар подсвечника, и Гриша нащупал под волосами солидную шишку.
– Вот сука! – не сдержался Гриша.
Матрена и подумать не могла, что холоп может отнестись такими словами по адресу господ, поэтому решила, что это ее Гриша так нежно обласкал.
– Честное слово – я не специально ее уколола, – быстро зашептала она. – Богом клянусь. Да разве бы я посмела….
– Да успокойся, так ей и надо, – поторопился унять это бормотание Гриша. – Жаль булавка была маленькая. Маленькая ведь была?
– Да, совсем маленькая.
– А надо было метровую, да ржавую, и прямо ей в жопу без предупреждения загнать.
Глаза Матрены полезли на лоб.
– Барыне загнать? – простонала она. – Да разве так можно?
– Я бы ее вообще на конюшне высек за то, что она тебя подсвечником стукнула, – грозно сообщил Гриша.
Бедная Матрена не знала, что и делать. С одной стороны в ее голове крепко засели заветы святых старцев, и приказывали ей немедленно бежать к господам или к надзирателям, и сдать Гришку смутьяна. Но в то же время Гришины слова, такие греховные и бунтарские, находили отклик в ее душе. Матрена вдруг поняла, что ей самой всегда хотелось высечь на конюшне капризную Танечку, а еще больше вылезшую из грязи в фаворитки Акулину, вот только эти свои греховные желания она всегда прятала так глубоко, что сама их почти не замечала. К тому же Матрена вдруг ощутила непонятную радость от мысли, что она кому-то до такой степени небезразлична, что он готов, мстя за ее обиды, пойти и против господ и против господа. Это было очень приятно. Выросшая, как и все крепостные, без родителей и не знавшая их ласки, сроду не видящая ни от кого ничего хорошего, Матрена готова была потянуться к любому, кто отнесется к ней по-человечески.
– Я вообще как сюда попал, так не перестаю ох… как сильно удивляться, как вы, блин, можете так жить и все терпеть, – сказал Гриша, и не особо удивился, когда Матрена поняла его слова неправильно.
– Да, господам служить тяжко, – согласилась она, испустив печальный вздох. – Но там, снаружи, там хуже. Когда я маленькой была, меня каждый день били, а как в господский дом перебралась, то почти не бьют.
– Подсвечником по башке не считается? – мрачно спросил Гриша.
– Это еще повезло, барыня добрая, – вздохнула Матрена. – Другая за такое засечь бы велела.
Гриша покачал головой, слушая эти речи, полные какого-то мазохистского смирения. Даже не верилось, что можно так зомбировать людей без использования новейших психотропных препаратов, ограничиваясь лишь бредятиной святых старцев и каждодневными побоями.
– Слушай, ты куда конфеты-то несла? – сменил тему Гриша. – Хотела укромное место найти, и слопать?
– Я не для себя их взяла, – строго посмотрев на Гришу, сказала Матрена.
– А для кого?
– Для моих подруг. Прачек.
– Ага! Любят сладкое, чертовки, – понимающе кивнул Гриша. – У меня тоже для них кое-что есть. Шоколадный батончик с пикантной начинкой.
– Они не для себя, – стала объяснять Матрена, хотя по ней было видно, что пускаться во все эти объяснения ей совсем не хочется. – Это для Герасима. Точнее для Муму. Она конфетки любит.
– Вот это да! – простонал Гриша. – Так этот снежный человек мало того что весь женский пол тут драл эгоистично, так еще и плату за это брал. А ты к нему ходила?
Матрена испуганно выпучила глаза и попятилась.
– К кому? – прошептала она.
– К глухонемому тормозу.
– Нет, я не ходила. Прачки ходят. А Муму конфеты любит….
Матрена совсем запуталась в своих объяснениях – чувствовалось, что своей головой она думать не привыкла, и ей это давалось с большим трудом. Обычно от нее требовалось просто тупо исполнять приказы.
– Муму сдохла, Герасиму яйца отрезали, – ввел ее в курс последних новостей Гриша. – Так что конфеты твоим подружкам больше не нужны.
– Ах, вот оно что, – прошептала Матрена. – А я слышала краем уха господский разговор, что-то о Герасиме и его собачке, но ничего не поняла.
Тут за Гиршиной спиной раздались шлепки босых ног по паркету. Вслед за звуком до обоняния донесся ни с чем несравнимый аромат, а за ним уже возник и сам Тит, очень собой довольный.
– Важно почистил, – похвастался он Грише, после чего уставился на Матрену таким диким взглядом, что девушка испуганно прижалась к стене.
– Тит, ты чего пришел? – разозлился Гриша. – Иди обратно, вылизывай сортир.
– Все вылизал важно.
– Так еще раз вылижи. И не забудь пройтись языком под ободком унитаза, там все самое вкусное сидит. Все, топай, топай….
Косясь на Матрену, Тит громко прошептал на ухо Грише:
– Давай за ней поподглядываем.
– Иди в сортир! – строго приказал Гриша. Заместитель смиренно опустил голову, и поплелся дальше служить свою нелегкую службу.
Спровадив Тита, Гриша подошел к напуганной его появлением Матрене, и предложил:
– Пойдем ко мне. Я тебя чаем угощу. У меня чай, у тебя конфеты. Посидим, пообщаемся.
Глаза у Матрены загорелись, но тут же, стоило ей чуть-чуть поднять голову выше уровня плинтуса, как ее обратно гнул к земле сидящий в генах страх.
– А вдруг увидят? – прошептала она, обхватив себя руками. – Донесут…
– Никто ничего не увидит, – пообещал Гриша. – Все уже спят. Устали из-за этих гостей. Идем. Посидим немного, и побежишь спать.
Матрена робко улыбнулась и кивнула:
– Хорошо, пошли.
Глава 23
– Слушай, Матрен, а тебе твоя жизнь нравится? – спросил Гриша, помешивая воду в консервной банке.
– Жаловаться грех, – ответила Матрена. – Все слава богу.
Покинув барский особняк, девушка немного пришла в себя, и перестала вздрагивать каждую секунду, словно ожидая оплеухи. В Гришиной коморке она позволила себе расслабиться.
– А что именно слава богу? – попытался внести ясность Гриша.
– Все, – пожала плечами Матрена, и улыбнулась.
Гриша посмотрел на нее, и ему на какое-то мгновение вдруг показалось, что он где-то уже видел это лицо. Матрена ему кого-то напоминала, но он никак не мог вспомнить – кого.
– Все, это не ответ, – проворчал он. – Я, блин, не знаю, чем ты так довольна, что аж жаловаться грех, но, по-моему, это отстой, а не жизнь.
– Отстой? – с улыбкой повторила Матрена.
– Да. Притом полный отстой. Дело даже не в том, что ты бегаешь за Танечкой и все ее капризы исполняешь, и не в том, что кушаешь на полу, как собака… Просто понимаешь, я хочу сказать… Блин! Ну, ладно, вот давай я пример приведу. Вот я. Я тоже здесь бегаю за барином, как шестерка, носки его сушу, объедками питаюсь, но я знаю, ради чего я все это делаю. Меня ждет огромная куча бабок, я куплю себе нереально крутую тачку, я поеду на этой тачке чисто покататься, и все, кто раньше считали себя крутыми, поймут, что в городе новый шериф, и все самые классные телки отныне принадлежат ему. Понимаешь, что я хочу сказать?
Матрена, не переставая мило улыбаться, отрицательно мотнула головой. Гриша предпринял вторую попытку:
– Понимаешь, крутая тачка это самое главное. Можно даже хаты своей не иметь, но крутую тачку иметь нужно. Крутая тачка это…. Одним словом, это самое главное. У нас там это все знают. Народ в кредиты лезет, на китайской лапше живет, только бы денег на крутую тачку насобирать. Один мой кореш, ты его не знаешь, два года в приюте для бичей жил, баланду бесплатную жрал – под бомжа типа косил. Деньги копил. Все зарплату до копеечки откладывал. А потом как купил крутую тачку. Подержанную, правда, и битую слегка, но крутую. И сразу реальным перцем стал. Теперь вот на лекарства копит, он в приюте туберкулез подхватил. Зато как выезжает на своей тачке вечером, так все телки его. Ясно?
Матрена виновато улыбнулась и опять помотала головой. Гриша от злости сжал кулаки. Казалось бы – как еще понятнее объяснить? А дура сидит и ничего не понимает.
– Короче, еще раз все разжевываю. Вот смотри. Кореш мой два года жил с бомжами и здоровье угробил, но не просто так, ради крутой тачки. Я тут все это терплю, и тоже не просто так: ради крутой тачки, двадцати восьми блондинок и возможности пробить Толстому с ноги по яйцам. Понимаешь? То есть когда человеку так хреново, что вообще труба, а он все это терпит, то ведь какая-то причина у него должна быть. То есть, я хочу сказать, он ведь ради чего-то все это терпит. Ради чего-то лучшего, что произойдет в будущем, или типа того. И я хочу понять – ради чего ты все это терпишь?
– Что терплю? – спросила Матрена. Пламенные речи Гриши ее немного испугали и одновременно вселили огромное уважение к уму собеседника. И хотя Матрена не поняла половины слов, которые произнес Гриша, она интуитивно почувствовала, что это было что-то очень умное.
– Да все! – взмахнул руками Гриша. – Унижения каждодневные, пахоту бесконечную…. У тебя же даже выходных не бывает.
– Бывают, – вдруг призналась Матрена, и опустила глазки. – Когда первый раз случились, я испугалась очень. Но Катерина прачка сказала, что это нормально, и так у всех женщин бывает.
– Дура! – в сердцах выплюнул Гриша. – Это месячные. А я тебе о выходных.
– А что это?
– Это такие дни, когда ты не работаешь.
Матрена была озадачена.
– Как не работаешь? – удивленно спросила она.
– Никак. Вообще не работаешь.
– А что же делаешь?
– Что захочешь.
На лице девушки вначале проступило выражение удивления, а затем сомнения. Она с прищуром покосилась на Гришу, лукаво улыбнулась и вдруг весело сказала:
– Ну, уж и выдумывать ты горазд! Так-таки ничего не делаешь? Прямо как господа.
– Ты что, думаешь, я тебе по ушам езжу? – возмутился Гриша. – Ты за кого меня держишь? Я тебе как конкретный пацан базарю – в выходной день вообще никто не работает. Это твой день, понимаешь? Можешь спать до обеда….
– Ох, ну ты скажешь! – зашлась звонким смехом Матрена.
– Базарю! – закричал Гриша. – Можешь вообще весь день спать. Можешь в ящик пялиться, или с телками… в смысле, с пацанами зажигать. А хочешь, можешь и с телками, у нас это обычное явление. Я сам одну лесбиянку знал. То есть, она врала, кажется, что лесбиянка, потому что со мной… это самое. Или не врала. Не важно, короче.
– Еще скажи – могу за столом кушать, – смеясь, сказала Матрена.
– Можешь, – кивнул Гриша.
Матрена засмеялась еще громче.
– Я, и за столом кушать могу? – бормотала она сквозь смех. – Ой! Ну уж и придумал. Да где же это бывало, чтобы крепостные за столом, как господа, трапезничали?
– У нас там вообще нет крепостных и господ, – стал объяснять Гриша. – У нас все равны.
Матрена без сил повалилась на Гришину лежанку. От смеха на нее напала икота, но она все равно продолжала трястись и всхлипывать. Гриша глядел на девушку со злостью и обидой. Он не мог взять в толк, что именно в его словах так ее рассмешило.
– Хватит ржать! – наконец не выдержал он. – Я что тебе – клоун?
Матрена кое-как совладала собой, но все равно улыбка не исчезла с ее лица.
– Говорю тебе – у нас все равны! – повторил Гриша.
– Да разве ж такое бывает, – опять стала хихикать девушка, – чтобы господа с холопами равны были? Самим господом положено, что господа править должны, а мы, крепостные, в услужение им даны. Ужель где-то люди супротив божьих законов живут? Нет, такого быть не может никак.
На секунду Грише показалось, что он разговаривает с твердолобым Титом, который тоже все на свете сводил к божьей воле. Впрочем, удивляться было нечему. И Тит, и Матрена получили одинаковое образование.
– Я не вру, – немного успокоившись, заверил Гриша, усаживаясь на лежанку рядом с Матреной. – Вот те крест! И еще у нас можно не только в брачном сарае сношаться, а вообще везде, даже в общественном транспорте. И не только с кем господа разрешат, а с кем захочешь. Вот я слышал, Яшка, засранец преступный, на тебя заглядывался.
– Кто тебе рассказал? – испугалась Матрена.
– Да так, не важно. Но заглядывался ведь?
– Ну, да.
– А он тебе нравился? Хотела бы ты с ним в брачном сарае покувыркаться?
С точки зрения Гриши вопрос был самый невинный, но Матрена вдруг густо покраснела и опустила глаза. Гриша с огромным удивлением уставился на собеседницу – а он и не знал, что девушки умеют краснеть от стыда, и что это чувство вообще им присуще.
– Мне он не очень нравился, – пробормотала Матрена, не поднимая глаз. – От него все время туалетом пахло… изо рта. И глупый он был очень. Подарил мне огрызок яблока, и стал говорить, как барина нашего любит….
– Вот, – кивнул Гриша. – А приказал бы тебе барин с Яшкой в брачный сарай идти, ты бы пошла?
– Конечно. Как же не пойти? Супротив барской воли не поступишь.
– А вот там, откуда я, такого нет. Там девушка только с тем в брачный сарай ходит, с кем сама захочет. Или с тем, кто больше заплатит. То есть это одно и то же. Обычно, кто больше заплатит, с тем она и захочет.
– Все выдумываешь и выдумываешь, – опять захихикала Матрена. – И где же это место такое, где холопы как господа живут?
Гриша попытался себе представить, как объясняет Матрене теорию ветвящейся вселенной, которую он сам ни черта не понял, как рассказывает ей о пространственно-временном континууме (Гриша специально выучил этот термин, чтобы произвести впечатление на Ярославну), и сразу же ощутил, что грузить такими неподъемными вещами невинную девичью душу совсем не нужно. Требовалось нечто более простое и доступное пониманию. Следовало учесть, что Матрена не умела ни читать, ни писать, по телевизору смотрела только «Доброе утро холопы» и «Слугу покорного», а все ее представления об окружающем мире формировались под влиянием проповедей святых старцев. Общение с Танечкой обогатило словарный запас горничной, из рассказов барыни она кое-что узнала о той вселенной, что лежала за пределами имения, но всего этого было слишком мало, чтобы смириться с существованием параллельных миров. К тому же подобные вещи противоречили учению святых старцев, а если святые старцы о чем-то не упомянули в своих проповедях, то этого, следовательно, и на свете нет. Ни на этом свете, ни на каком-то другом, будь он параллельный или перпендикулярный.
– Это в другом имении, – сказал он в итоге. – Очень далеко отсюда.
– Тебя разве из другого имения купили? – спросила Матрена.
Поскольку холопы мужского и женского пола почти никогда не пересекались, Гриша со спокойной душой сказал, что да.
– Только у нас там не совсем имение, – стал объяснять он. – У нас там демократия.
– Кто?
– Эта самая…. Как ее?.. Свобода.
– А это как?
– А вот так. Допустим, тебе барин приказывает с Яшкой в брачный сарай идти. Ты не хочешь, но идешь. А жила бы ты в нашем имении, ходила бы в брачный сарай только с тем, с кем хочешь. Не хочешь с Яшкой – не ходи. А если идешь, то плату с него взимаешь.
– Что есть плата? – заинтересовалась Матрена.
– Деньги, что же еще.
– Деньги у господ бывают, – заметила девушка, – холопам они не надобны. Святой старец Маврикий молвил, что в деньгах великое зло, и коли холоп их в руки возьмет, то пропала его душа.
– Ладно, – не стал настаивать Гриша, поскольку понял, что вопрос о деньгах слишком сложен, и объяснить Матрене всю их ценность и важность будет нелегко. – Тогда вот так. Ты идешь с Яшкой в брачный сарай, а он тебе за это дает пирог.
– С чем?
– Блин! С чем захочешь. С мясом, например.
– На что мне пирог с мясом? – удивилась Матрена. – Мясо – господская еда. Холопу от него один вред.
– Хорошо, понял. Тогда пирог с турнепсом.
– Большой?
– Такой, что в рот не влезет! – разозлился Гриша. – Что ты зациклилась на мелочах? Я тебе принцип объясняю.
– Я люблю пирог с яблоками, – ни с того ни с сего вдруг сообщила Матрена. – Его барыне Татьяне каждую среду на завтрак подают. Она иногда ест, а иногда не хочет. Тогда надкусывает и мне отдает.
– Зачем надкусывает, если не хочет?
Матрена опять начала улыбаться.
– Чу! Ну ты и несмышленый. То говоришь умно, как барин, а то таких простых вещей не разумеешь. Исстари заведено, что холопу дозволено токмо объедками питаться. Ежели надкушенное, то уже объедок, и холопу его снедать позволяется. А коли целое блюдо, то мыслимо ли холопу его вкушать? Это ведь то же самое, что с господского стола есть, а то грех страшный.
Гриша слушал и не верил своим ушам. Если бы то же самое говорил заросший мехом и грязью Тит, это еще не звучало бы так дико. Но сидящая рядом с ним Матрена во всем внешне напоминала самую обычную симпатичную девчонку из его мира. И слышать из ее уст такие дикости было как-то странно. Хуже слов было то, что Матрена искренне верила во все это, и, более того, все это одобряла. Так, мол, и надо, и никак иначе.
Закипела вода в консервной банке над свечкой, Гриша аккуратно, чтобы не обжечь пальцы, снял с проволочной подставки свой импровизированный чайник и разлил кипяток по кружкам. Эти две кружки являлись Гришиной гордостью, поскольку были настоящими кружками, а не приспособленными под них предметами иного прямого назначения. Кружки Гриша похитил из кухни, провернув операцию с риском для жизни. Если бы кто-то из поваров или прочей прислуги застал его на месте преступления, сейчас бы он не вел милые беседы с симпатичной горничной, а вместе с Яшкой оглашал бы стены воспитательного сарая истошными криками. Кружки были простенькие (Гриша нарочно взял самые худшие), из синего пластика, с ручками сбоку. Господа, понятое дело, из них не пили. Кружки использовались в хозяйственных нуждах. Одна изнутри была покрыта налетом муки, с помощью второй дегустировали то ли кисель, то ли компот. Пропажу не заметили, а если и заметили, то благоразумно промолчали, зато Гриша, едва в доме завелась посуда, сразу ощутил разительную перемену. Раньше он жил в каморке как бомж на свалке, хлебая чая из консервной банки. Теперь же он пил его как царь, из настоящей кружки. Титу он вторую кружку не давал – тот еще не дорос до таких высот. Для него Гриша сделал в углу поилку – выкопал углубление в земляном полу, плотно утрамбовал стенки, и в эту ямку наливал ему воды. Сам сидел на лежанке и прихлебывал бледный чаек, а Тит, стоя в двусмысленной позе, языком, как собака, пил из ямки.
Разлив кипяток, Гриша вытащил из тайника пакетик со знававшей лучшие дни заваркой (вначале ее заваривали господа, затем повара, затем прачки, и только после них заварка досталась Грише). Развязав пакетик, он бросил по щепотке в каждую кружку, затем взял деревянную палочку и хорошенько размешал.
– Давай на твои конфеты посмотрим, – предложил хозяин дома.
Матрена послушно протянула ему пакет, Гриша высыпал лакомство на стол. Тут же схватил первую, забросил в рот и зажмурился от наслаждения.
– Ты кушай, не стесняйся, – предложил он Матрене, заметив, что та и не пытается потянуться за конфетой.
– Боязно как-то, – призналась горничная. – Мало того, что согрешила украв, так и еще и съесть.
– Конфеты воровать не грех, – утешил ее Гриша. – Святой старец Еремей сказывал, что ежели холоп у господ конфеты взял без разрешения и съел их, то сие не считается грехом.
– Почему? – потребовала объяснений Матрена.
В обычной ситуации Гриша соображал со скрипом, но когда рядом с ним оказывалась красивая девушка в одной ночной рубашке, его мозговая активность резко возрастала.
– Потому что конфеты от дьявола, – ответил он без запинки. – Когда холоп у господина конфеты ворует, он, тем самым, его от дьявольского соблазна избавляет.
– Как же их есть, ежели они от дьявола?
– А вот когда ты их у барина крадешь, ты как бы добрый поступок совершаешь, и господь сразу же твои конфеты из дьявольских в божественные превращает. Матрен, хватит глупые вопросы задавать. Серьезно. Ешь конфеты, а то мне как-то в одну харю их точить не в кайф, когда ты рядом сидишь и слюной истекаешь.
Он чуть ли не силой впихнул конфету в рот горничной, после чего зажал его ладонью, чтобы не выплюнула. Девушке ничего не оставалось, как прожевать и проглотить.
– Видишь, бог не наказал, – пожал плечами Гриша.
Пока пили чай и ели конфеты, Гриша расспрашивал Матрену о том о сем. Девушка сбивчиво отвечала, иногда вопросы ставили ее в тупик, и она не могла дать на них вразумительный ответ. Гриша не огорчался. Весь этот допрос был просто маневром, призванным выиграть время, заполнив его болтовней. На самом деле он в этот момент обдумывал главное – как перевести разговор с вещей неинтересных на самую главную, более всего интересующую его тему с последующим перетеканием одной в стадию физического контакта. Наконец, решил зайти издалека, памятуя о том, что Матрена девушка не слишком понятливая, и такой нужно все разжевывать по порядку, а не с середины.
– Значит, ты с Яшкой целовалась? – как бы между делом спросил он.
– Не хочу про Яшку говорить, – насупилась Матрена. – Яшка грешник, он храм господний осквернил.
– Да я не о том, – отмахнулся Гриша. – Хотел спросить: тебе понравилось?
– Не знаю, – пожала плечами Матрена.
– Как это – не знаешь? Тут либо да, либо нет.
– Нет, – после непродолжительного колебания ответила девушка.
– Почему? Потому что он целоваться не умеет, или потому, что от него сортиром пахло?
– А что там уметь? – не поняла Матрена.
– Не скажи. Это целая наука. Понятно, что тебе не понравилось. Яшка до тебя только с унитазом сосался, ну а унитаз-то не скажет, приятно ему или нет. Просто он не умеет, вот тебе и не понравилось.
Видно было, что Матрена заинтересовалась. Гриша как бы между делом сообщил:
– Вот я умею. И туалетом от меня не пахнет, туалетом Тит заведует. Хочешь, могу и тебя научить.
– Сейчас? – шепотом спросила Матрена, и воровато огляделась.
– Могу и сейчас.
– А что нужно делать?
Гриша так быстро поставил кружку с чаем на стол, что каплями кипятка ошпарил себе руку. Но он даже не поморщился. Второй рукой он обхватил Матрену за талию и резко прижал к себе.
– Делай как я, – сказал он.
Поцелуй вышел так себе, но Матрена схватывала на лету и училась быстро. Гриша понял, что ситуация выходит из-под контроля, когда его рука каким-то аномальным образом нырнула Матрене под ночнушку и пошла гулять по самым сокровенным девичьим местам. Матрена пыталась его оттолкнуть, но стоило Грише послушно отстраниться, схватила, и прижала к себе.
– Бог накажет. Нельзя не в брачном сарае, – прошептала она, впиваясь ногтями в Гришину спину.
– Я свет погашу, – предложил Гриша. – Он в темноте нас не увидит. В темноте везде можно, так святые старцы сказали.
С огромной неохотой оторвавшись от женского тела, Гриша привстал с лежанки, чтобы потушить свечу. В этот момент в его мозгу вспыхнула мысль о том, что через считанные мгновения он станет первым уроженцем своего мира, вступившим в половую связь с обитательницей параллельной реальности. Это открытие так потрясло Гришу, что он застыл на месте, не донеся руку до свечи. В этот миг он ощущал себя фигурой, сопоставимой своей исторической значимостью с Колумбом или Гагариным. Колумб открыл для европейцев Америку, Гагарин прорубил для человечества окно в космос, а он, Гриша Грязин, герой-первопроходец, первым лишил девственности уроженку параллельного мира. За такой подвиг смело можно было требовать памятник на площади, улицу, названную в свою честь, и пятидесятипроцентную скидку во всех и пивных ларьках и домах терпимости.
Ощущая всю важность исторического момента (Гриша как раз думал, что ему закричать в кульминационный момент подвига – «земля!» или «поехали!»), он протянул пальцы к огоньку свечи, но в этот момент дверь в сарай распахнулась, и внутрь ввалился Тит. Матрена, увидев его, взвизгнула, вскочила с лежанки, торопливо поправила рубашку и, повизгивая от стыда, выбежала наружу. Гриша даже не попытался ее догнать: было ясно, что на сегодня момент упущен. И упущен стараниями одной гнусной особи, принадлежащей к неизвестному, но крайне отвратительному виду живых и вонючих существ, имя коему Тит.
– Хороша девка, ядрена, – высказался Тит, после чего, перекрестившись на икону, с чувством произнес. – Прости меня господи, грешного.
Гриша подошел к заместителю, и уставился на него таким взглядом, что Тит невольно попятился.
– Я тебе сейчас все эрогенные зоны отшибу! – страшным голосом пригрозил Гриша. – Я твой стручок на один камень положу, а другим прихлопну. Я, блин, вообще не знаю, что с тобой сейчас сделаю. Ты какого хрена притащился, а?
– Да я…. Да мы…. Ужель не православные? Почто бранишься? Почто негодуешь? Коли в чем виноват Тит, посеки его сурово. А коли нет на мне вины перед барином и господом, то и бранить меня незачем. Службу свою знаю, барское место отхожее лелею и холю как родное. Вот те крест! Язык не даст соврать.
Тит распахнул рот и вывалил свой язык. Из пасти у холопа пахнуло таким смрадом, что Гриша, зажав рот ладонями, опрометью бросился вон из коморки.
Глава 24
Следующим утром Гриша проснулся в ужасном настроении. Кипятя в пустой консервной банке чай, Гриша поднял с земляного пола бумажный пакет из-под конфет, что принесла Матрена. При одном воспоминании о вчерашнем обломе ему с новой силой захотелось навсегда избавить от Тита эту ветвь мироздания, притом сделать это максимально жестоким и циничным способом, с полнейшим отсутствием последующего раскаяния. В Гришином воображении возник образ какого-то мрачного помещения с низкими, покрытыми копотью, каменными сводами, с чадящими факелами на стенах, и с людьми в монашеских балахонах. В одном из братьев святой инквизиции Гриша узнал себя – молодого энергичного фанатика с горящим взглядом и верой в правоту своего дела и своих методов. Немало злодеев, отринувших Христа и попавших в объятия сатаны, изобличил брат Григорий. Были среди них ведьмы и колдуны, чернокнижники и алхимики, астрономы и астрологи, экстрасенсы и парапсихологи. Но все они были лишь пешками в дьявольской игре, марионетками, чьи нити тянулись к лапам самого Люцифера. Давно уже брат Григорий охотился за крупной рыбешкой, за настоящим злодеем вселенского масштаба, за грешником, чья черная душа давно просилась на очистительный костер. И вот этот злодей был пойман.
Растянутый на дыбе, как натяжной потолок, Тит – любимец князя тьмы, сознавался в своих черных делах. Но в своем главном грехе, в своем главном преступлении против господа и святой католической церкви, он сознаваться не желал. Многие братья пытали его, но не смогли вырвать слов признания, и осталась лишь одна надежда – брат Григорий, автор нашумевшего трактата «Молот засранцев».
Запылали угли в жаровнях, раскаленный докрасна металлический прут прижался к брюху Тита, распространяя по пыточной камере аромат подгоревшего бифштекса.
– Покайся! – требовал брат Григорий, перекрикивая орущего от боли грешника. – Очисти душу свою признанием.
Но молчал Тит, лишь зубы скалил да источал злой дух. Тогда пошли в ход иголки под ногти, расплавленный свинец под кожу, вот уже лопнуло правое глазное яблоко грешника, вот уже затрещала сдираемая с него кожа. «Груша боли» оказалась в заднем проходе Тита, «испанский сапог» подошел как раз по левой ноге, кости правой руки, зажатой в тиски, смачно хрустнули, и показались белыми обломками из-под разорванной плоти.
– Перед лицом всевышнего – покайся! – требовал брат Григорий, прижимая к окровавленным губам Тита бронзовое распятье. – Сознайся, грешник, в своем самом страшном злодеянии: в срыве полового акта!
И не выдержал Тит, сознался, после чего был приговорен к сожжению на костре. Брат Григорий сам взялся проконтролировать сожжение, и запекал Тита на медленном огне, дабы изверг дольше и сильнее мучился.
Приятная фантазия слегка улучшила Гришино настроение. Выпив мерзкого чая, больше напоминающего своим цветом и вкусом урину, Гриша отправился проверить работу своего заместителя. Тит вылизывал барский унитаз два раза в сутки – вечером, после отхода барина ко сну, и утром, перед пробуждением барина ото сна. Зайдя в отхожее место, Гриша обнаружил Тита за работой – тот полировал языком сияющий как солнце унитаз. Дарующее облегчение седалище сверкало так, что глазам было больно.
– Вот что значит – человек на своем месте, – сказал Гриша негромко. – Тит, у тебя талант к этому делу.
– Важно! – согласился Тит, любуясь свой работой.
Завтрак выдался не слишком удачным – барин увлекся беседой с гостями, и забыл одарить объедками любимого лакея. Гриша сидел на полу, косился на ломящийся под тяжестью яств стол, и глотал голодные слюни. А когда Танечка бросила Матрене огромный кусок пирога, из Гришиных глаз скатились две скупые мужские слезинки.
Матрена вела себя так же, как всегда, только старалась не встречаться с Гришей взглядом, и вообще не смотрела в его сторону. Гриша не знал, как это истолковать, и про себя последними словами клял Тита, явившегося так некстати. Но когда кончился обед, и слуги приотстали, пропуская господ, Матрена незаметно для остальных что-то сунула Грише в ладонь. Гриша тут же спрятал добычу под рубаху, и лишь когда сумел остаться один (барин с гостями после завтрака изъявили желание немного вздремнуть), рискнул посмотреть на подарок. Предмет оказался куском пирога. Матрена поделилась с ним полученной от госпожи подачкой.
Кушая пирог, Гриша светился от счастья. Он всегда мечтал найти себе бабу, которая стала бы его кормить, да к тому же поступок, совершенный Матреной, указывал на огромный прогресс в отношениях. Теперь Грише стало ясно, что девушке он весьма и весьма небезразличен, и теперь оставалось только найти подходящее время и место, чтобы доказать Матрене свои чувства. А так же позаботиться о том, чтобы в самый ответственный момент не появился Тит и не обломал весь кайф, как это он уже успешно проделал один раз.
Пока господа отдыхали, Гриша учил Тита играть в игру «Угадай в какой руке». Играли на подзатыльники. Суть игры заключалась в том, что Гриша убирал руки за спину, и прятал в одной из них небольшой камешек. Титу предстояло отгадать, в какой он руке. Если отгадывал Тит, он выигрывал, и бил Грише подзатыльник, если не угадывал, выигрывал Гриша, и бил Титу пять подзатыльников. За тридцать минут игры счет был восемьсот сорок пять – ноль в Гришину пользу. Тит не угадал ни разу, чем фактически опроверг теорию вероятности. Угадать, впрочем, было сложно, поскольку камешек преспокойно лежал у Гриши за спиной, и участия в игре не принимал.
Когда у Гриши заболели обе руки от бесконечной раздачи затрещин, он предложил напарнику новую игру под названием «Отгадай загадку». Суть ее состояла в том, что игроки поочередно загадывали друг другу загадки, и тот, кто отгадывал, плевал сопернику в лицо. Если же игрок не отгадывал, плевали, соответственно, ему. Гриша загадывал загадку первым.
– Без окон и без дверей, полна жопа огурцов, – сказал он. – Что это?
Крепко Тит призадумался. Он хмурил мохнатые брови, шевелил губами, морщил грязный лоб. Наконец, измаявшись, сдался:
– Не знамо.
– Тьфу! – тут же выдал ему приз Гриша. – Опять я загадываю, потому что ты не отгадал. Слушай: не лает и не кусает, а хрен его знает. Что это?
Тит опять не угадал, и опять был оплеван.
Гриша, сжалившись над Титом, решил загадать простую загадку:
– Лежит – воняет, бежит – воняет, когда умрет – тоже воняет. Что это?
По мнению Гриши, вопрос был проще некуда, но Тит и здесь столкнулся с трудностями. Он честно пытался родить ответ, опять хмурил брови, шевелил губами, чесался, но в итоге вновь признал свое поражение.
– Как же ты не угадал? – удивился Гриша. – Правильный ответ – холоп. Тьфу! Давай еще одну загадаю. Слушай: с когтями, но не птица, тупой, но не валенок, волосатый, но не зверь. Кто это?
– Не знамо, – безнадежно покачал головой Тит.
– Тьфу! И как ты не угадал, а? Ведь это же ты!
– Я?
– Ты! С когтями – когти есть. Смотри, какие черные, страшные, большие. Тупой – а разве нет? Тебя по тупости даже с валенком сравнивать нельзя – валенку будет обидно. Волосатый – тоже про тебя. Вон ты весь с ног до головы шерстью густой покрыт. Слушай другую загадку: у кого изо рта воняет, как из задницы, а из задницы так, что просто конец света?
– Не знамо.
– Тьфу! Да это же опять ты. Тит, ты что, себя не узнаешь? Тогда слушай вот так: как ишак тупой, как куча фекалий вонючий, с рождения не мывшийся, ветры звонкие пускает. Кто это?
И вновь Тит не сумел одолеть вопроса. Гриша плюнул ему в лицо и сказал:
– Тит, я все тебя описываю, а ты никак не хочешь догадаться. Слушай, – вдруг осенило Гришу, – ты, может быть, загадки отгадывать не умеешь? Попробуй вот эту: не лает, не кусает, на ходу зловонный кал по ляжкам вниз спускает. Кто это? Что, опять не знаешь? Да снова ты! Тьфу! А ну-ка эту: сидит девица в земле, а коса наружу. Кто это?
И вдруг Тит совершил немыслимое. Он угадал.
– Морковка, – произнес холоп не без страха, уже заранее жмурясь, чтобы плевок не угодил в глаза.
Гриша от удивления потерял дар речи, но тут же совладал с собой и взял ситуацию под контроль:
– Что? Морковка? Да ты тормоз! Какая же это морковка? Вообще дурак! Морковка тут не при чем. Это просто крепостная девка, которая себя плохо вела, и ее надзиратели в землю живьем закопали, а коса наружу торчит. Ух, Тит, тупее тебя нет на свете животного. Тьфу! Слушай новую загадку: помои жрет, в штаны кладет, из пасти дерьмом несет, по мозгам совсем идиот. Кто это?
– Девка непослушная, кою в землицу прикопали? – с надеждой спросил Тит.
– Девка в прошлый раз была, тормоз. Тьфу! Сейчас про тебя была загадка. Слушай новую….
Через час игры Тит быль оплеван с головы до ног. Гриша чувствовал, что ему грозит обезвоживание – так много слюны он извел на соперника.
– С тобой ни в какие игры играть не интересно, – заметил он. – Вот тебе моя последняя загадка: что у Тита ненужное промеж ног болтается?
Тит лукаво заулыбался и ответил:
– Се окаянный отросток.
– Неправильно. Тьфу! Это не окаянный отросток, это твоя голова, потому что она у тебя из жопы растет. Иди, свинья, умойся в бочке, скоро барин проснется.
Хорошенько поспав после завтрака, гости еще раз перекусили, и помещик Орлов повел их смотреть свое обширное хозяйство. Гриша и Тит сопровождали господина, Матрены не было, потому что Танечка в прогулке участия не приняла – наряжалась к обеду. Делегация хозяев жизни вышла за ворота усадьбы и тут же столкнулась с холопом, который тащил на горбу огромный камень. Завидев барина, холоп бросил свою ношу и пал перед ним на колени.
– Кормилец! Отец родной! Благодетель! – бормотал крепостной, утопая в слезах и соплях. – Допусти ступни твои лобзаниями покрыть, сделай милость.
– Обожди, – велел помещик Орлов. – Прежде скажи, как твое имя?
– Холоп Тишка я, ваше благородие.
– А скажи-ка, Тишка, вольготно ли тебе живется в моем имении? И не терпишь ли в чем нужды или притеснения? Ежели есть тебе на что пожаловаться, то говори смело, без страха, ибо я человек справедливый, и не бываю глух к гласу народному.
– Да на что же жаловаться, отец? – возрыдал Тишка, переполняемый восторгом от одного вида барина. – Уж такая-то жизнь важная, что во всем имеем достаток и обилие. И сыты мы, и обуты мы, и без работы не просиживаем, а все благодаря тебе, благодетель. Денно и нощно о благе нашем печешься, только и мыслишь, как бы бытие наше благоустроить. А мы, псы неблагодарные, черви навозные. Гной мы и кал пред тобою. Посему просьбу имею весьма настоятельную. Желаю, чтобы сек ты нас больше и крепче, ибо нуждаемся весьма в порке постоянной.
– Прелестно, – кивнул граф Пустой.
– Весьма благовоспитанный холоп, – согласился Пургенев. – Особо же примечательно, что требует сечь его более. Видимо чувствует, что лишь через телесные наказания обретают холопы образ и подобие человеческие.
Гриша стоял в стороне и с омерзением наблюдал за этим спектаклем. Представление было бездарнее некуда. В школе, где он учился, имелся театральный кружок, и Гриша даже присутствовал на трех представлениях, потому что на сцене играла девочка, в сторону которой он неровно дышал. Но даже тот самодеятельный отстой был более реалистичен, чем этот откровенный розыгрыш. Гриша опытным взглядом сразу заметил на теле Тихона следы недавнего посещения воспитательного сарая. Там-то его, похоже, и подготовили к встрече с гостями. В силу того, что холоп был скотиной тупой, учебный материал удавалось закрепить только с гарниром из побоев. А судя по тому, как странно передвигался Тишка, можно было заключить, что помимо банальных побоев в дело были пущены веники.
– Ступай, Тишка, с богом, – великодушно позволил барин. – Просьбу твою удовлетворяю. Отныне ввожу в имении еще одну порку – предобеденную. Доволен ли ты?
– Спасибо, отец, спасибо, кормилец. Осыпал милостями, облагодетельствовал. И мечтать не осмеливался. Храни тебя бог. Ужель не православные? Позволь ноги облобызать, сделай милость.
Барин нежно простился с Тишкой, но ноги лобзать не позволил – сегодня, по случаю гостей, надел новые хромовые сапоги из Парижа, и не хотел, чтобы холоп своим грязным языком пачкал их.
Делегация двинулась дальше. Время от времени барин заводил разговоры со встречаемыми холопами, и те отвечали ему одно и то же, как под копирку. Гриша вначале думал, что барину нарочно подсовывают специально проинструктированных крепостных, но после с ужасом догадался, что никаких специально проинструктированных не было. Инструктировали всех. Поголовно. На основании этой догадки у Гриши возник вопрос, который он облек в стихотворную форму:
– Если каждому холопу в зад по венику вогнать, где в отечестве родимом столько веников набрать?
– Ась? – не расслышал Тит.
– Расслабься. Глухих повезли уши мыть.
Вышли в поле, и помещик Орлов стал рассказывать гостям об осуществленных в его имении инновациях.
– Вот я слышал, – сказал хозяин, – что некоторые помещики гонятся за техническим прогрессом, что именно в нем видят будущее страны, и даже говорят, что будто бы Русь-матушка в этом плане отстает даже от стран третьего мира. Эти сторонники прогресса закупают за границей новейшую сельскохозяйственную технику, генетически модифицированные сорта сельскохозяйственных культур, устойчивые к резким перепадам температур, к засухам, и способные обильно произрастать даже в самой бедной почве. Самое же смешное, что все это пытаются соединить со своим холопами, заставляют крепостных осваивать трактора. Дикость, по-моему. Лично я категорический противник подобных экспериментов. Мало того, что все эти новшества противны русскому национальному духу, так они еще и подрывают устои экономики. Судите сами, к чему это может привести. Нынче я со своих полей собираю ровно столько урожая, сколько мне нужно на прокорм холопов и надзирателей. Но закупи я трактора и новые сорта семян, закупи удобрения, ведь урожай будет собран куда более обильный. И что вы мне с ним прикажете делать? Надзиратели и без того едят вдоволь, больше в них не влезет, повышать норму холопам тоже нельзя – им, согласно научным исследованиям, избыток пищи крайне вреден. К тому же давать холопам свежие овощи невозможно, поскольку желудки их так устроены, что способны переваривать только гнилое, прокисшее и заплесневелое. Следовательно, картошку, прежде чем им дать, надлежит сгноить. У меня сейчас есть один гнойный сарай – там гниет картошка, ну а если я больше урожай соберу, мне придется еще один сарай строить. Ну а если я за один год соберу и нагною холопского корма на три года вперед, чем холопы будут заниматься каждую весну? И это уже не говоря о том, что сельскохозяйственная техника значительно облегчает труд, и поле, которое десять холопов перекапывали бы целый месяц, один холоп на одном тракторе может вспахать за день. Встает закономерный вопрос: что в это время делать остальным холопам? Холоп не может жить без постоянного физического труда – это всем известно. Праздный образ жизни пагубно сказывается на здоровье холопа. Я слишком люблю своих крепостных, чтобы подвергать их жизни опасности, и просто не могу допустить, чтобы они сидели без дела. Следовательно, нужно выдумывать какую-то для них работу. Ну а зачем? Зачем вообще все это затевать, ежели и без всяких тракторов у нас, слава богу, дела обстоят благополучно? Холопы вручную перекапывают поля, и, тем самым, получают двойную пользу: во-первых, физический труд благотворно сказывается на их самочувствии, во-вторых, выращивают себе пропитание. Не знаю, кто как, но я люблю своих крепостных, всем сердцем люблю, и я буду заставлять их пахать, буду сечь их по десять раз на дню, сделаю все, что от меня потребуется, лишь бы повысить уровень их жизни. Считаю, что мы не имеем права наказывать холопа праздностью в угоду технического прогресса. Холопы, они как звери. Мы в ответе за них. Раз уж бог возложил на нас эту обязанность, будем же исполнять ее честно.
– Прекрасная речь, – заметил граф Пустой. – Хочу лишь добавить, что все эти разговоры об отставании Руси-матушки от прочих государств в плане технического оснащения, суть бредни безумные. Да можно ли сравнивать Русь с другими странами? Что нам смотреть по сторонам, у нас свой особый исторический путь развития. Тракторы России не нужны. Тракторы нужны морально ущербным странам, давно отказавшимся от крепостного права. А у нас своя дорога, по коей и пойдем с божьей помощью, помолившись да перекрестившись. Ну а коли вздумают супостаты учить нас уму да разуму, пускай вспомнят наше героическое прошлое и вострепещут.
Пустой говорил дело – прошлое в этой ветви пространственно-временного континуума у России было и впрямь героическое. Гриша уже выяснил, что вместо двух мировых войн здесь была одна, произошедшая в двадцатые годы. Российская Империя в это войне принимала активное участие целых две недели. После того, как четыре миллионные армии православного воинства, вооруженные кремневыми ружьями, заряжающимися с дула, медными пушками, стреляющими литыми ядрами, и деревянными палицами типа «Булава» были начисто истреблены пулеметами, скорострельными нарезными винтовками, танками и авиацией, Российская Империя поспешила заключить сепаратный мир со всеми участниками мирового конфликта. После войны размеры империи резко сократились – каждый из победителей, а равно и побежденных, кое-что себе да урвал. Япония объявила всю территорию Сибири по Уральский хребет Курилами, и присоединила к себе. Впрочем, уже через два года Сибирь была героически отбита обратно: на интервентов бросили чудовищную силу – восемнадцать миллионов холопов, вооруженных лопатами, вилами и палками. Бойня была страшная. Четыре дивизии японцев держались трое суток. Пулеметы перегревались и выходили из строя, снаряды не успевали подтаскивать к орудиям, а русские с шанцевым инструментом наперевес все шли и шли. Вокруг японских укреплений громоздились целые горы трупов, и числа им не было. Но еще большее число живых продолжало тупо переть на амбразуры, падать под пулями и снарядами, разлетаться на куски от взрывов гранат, но все идти, идти. Японских солдат объял страх великий. Им показалось, что они попали в голливудский фильм про зомби. Грязные, заросшие, тощие ополченцы шли на пулеметы с хоругвями, иконами и громким пением молитв. У японцев не выдерживали нервы стрелять по холопам, идущим на верную смерть с потрясающим воображение хладнокровием.
– Годзилла их задери, когда же они уже кончатся? – злобно бормотал японский генерал Сунь Вынь, сын доблестного самурая Вынь Сунь. – Фудзияму им промеж булок! Как бы не дошло до харакири.
К исходу третьих суток у японцев закончились суши, саке и патроны, а холопское воинство, не кормленное уже две недели, все так же бодро наступало. Сунь Вынь в расстройстве чувств сделал себе неудачное харакири (рука дрогнула, и он, промазав мимо себя мечом, заколол стоявшего за спиной адъютанта), а японские солдаты, примкнув штыки к карабинам, приготовились к последней рукопашной схватке.
Холопская лавина, полная отваги и мужества, нахлынула на бастион. Не успели японские солдаты бросится в штыковую, как на них вдруг обрушилась волна нечеловеческого смрада, и они, уронив оружие, сложились пополам в приступах рвоты.
Сунь Вынь и еще с десяток уцелевших солдат попали в плен. Их какое-то время держали в тюрьме, как безбожников и военных преступников, а затем обменяли на первый серийный видеомагнитофон и кассету с фильмами о греховных утехах.
Победоносное сражение надолго стало предметом национальной гордости, и этот фетишизм с каждым годом все прогрессировал. В Великой Битве (так ее называли) погибло двадцать три тысячи японских солдат и восемь с половиной миллионов русских холопов. Помимо этого примерно миллион крепостных числился пропавшим без вести. Ходили слухи, что господа офицеры под шумок продали их в рабство китайским фермерам. Японцы выкупили тела своих солдат, русских холопов бросили лежать там, где они упали, объявив поле боя местом национальной гордости, а гору человеческих останков – братской кучей, символом единения и согласия.
Эта победа считалась чудом военного гения, ее преподносили как образец тактического мастерства, а полководца, руководившего Великой Битвой, князя Тараканова, осыпали медалями, памятниками, земельными участками, деньгами и канонизировали заживо. Князю Тараканову установили приблизительно две сотни бюстов по разным городам и весям, а миллионам погибших холопов, безымянным и безвестным, не перепало ничего, крое той земли, которую покрывали их изуродованные тела. Хотели, впрочем, устроить вечный огонь где-нибудь на окраине, но возмутился патриарх Иоанн. Вечный огонь назвал богопротивным языческим символом, а по поводу погибших холопов высказался в том духе, что сами виноваты. Ибо не случайна была смерть их, но за грехи свои ответили. Много грешили холопы эти при жизни, вот господь и покарал их. Ну а грешникам памятники ставить вообще не положено.
Что интересно, с патриархом охотно согласились все. Даже годы спустя, когда опять некоторые стали заикаться о необходимости какого-то памятника, патриарх Никон поддержал решение предшественника, руководствуясь тем доводом, что никто ведь не ставит памятники животным, а холоп все же больше скотина, чем человек.
В общем, прошлое у Гришиной родины было героическое, в какой бы вариант реальности он ни попал.
Господа опять завели свой разговор, Гриша, изнывая от скуки, таращился в небо. Рядом стоял Тит и отравлял воздух своим тонким ароматом. Из уроков физики Грише было известно, что существует три агрегатных состояния вещества – жидкое, твердое и газообразное. Тит изобрел четвертое состояние – вонючее. Он вонял сам и пропитывал вонью все, с чем соприкасался. Грише хотелось подумать о Матрене, но ему показалось, что будет кощунством думать о симпатичной девушке в том момент, когда в нос вторгается немыслимая вонь. Поэтому он стал думать о том, как бы наказать Толстого за все его наезды. Мысль об утоплении в отхожем месте родилась сама собой, и Грише понравилось. Толстой, барахтающийся в фекалиях, просил бы пощады и прощения, а добрый Гриша большой палкой погружал бы его голову в испражнения и круто ржал.
Вскоре состоялась демонстрация инноваций. Перед благородными зрителями прошел холоп, неся четыре кирпича на вытянутых руках. Жилы на его лице вздулись от напряжения, руки трясло, но он не осмеливался опустить их, держа строго горизонтально земле. Помещик Орлов пояснил:
– Холоп, нося кирпичи обычным способом, то есть, прижав к груди, устает мало, а от малой усталости все холопские болезни. Дабы здоровье холопское было железно, а сон крепок, пускай носит кирпичи на вытянутых руках.
Следом появился еще один холоп, который не шел, а прыгал, и при этом тащил на плече огромное бревно. Прыгал же он потому, что ноги его были связаны проволокой.
– Холоп, передвигаясь привычным шагом, устает недостаточно, – прокомментировал помещик Орлов. – При прыжках же мышцы задействуются в больше степени, и скорее наступает изнеможение.
Подтверждая его слова, холоп с бревном прыжками преодолел метров тридцать, после чего упал на землю. К нему тут же подбежали надзиратели и стали взбадривать дубинками.
Следующая звезда подиума шла нормально, но медленно и тяжело. К ногам холопа прочной стальной проволокой были примотаны две пудовые гири, которые тащились следом.
– Дополнительная нагрузка на мышцы бедер, спины и брюшного пресса не только положительно сказывается на общем самочувствии холопа, но и существенно повышает скорость его изнеможения, – прокомментировал помещик Орлов.
Следующий демонстратор шел нормально, без всяких гирь и бревен, но при этом дышал часто и хрипло, так, словно пробежал кросс. Перед высокочтимыми гостями он остановился и снял рубаху. Все увидели, что грудная клетка холопа сжата металлическим обручем так плотно, что бедолага не может сделать глубокий вдох, и вынужден дышать часто, но не глубоко.
– Дыхание, один из важнейших факторов, отвечающих за изнеможение, – сказал помещик Орлов. – При нормальном дыхании холоп может проработать весь день и при этом не устать достаточным образом. Но если искусственно ограничить возможности его легких, мы можем добиться скорейшего изнеможения при меньших физических нагрузках.
Высокие гости одобрительно похлопали в ладоши. Дефиле продолжалось. Мимо проходили холопы с пришитыми к туловищу руками, с гвоздями, вбитыми в ступни, со свинцовыми браслетами по десять кило весом каждый, и тому подобные чудеса науки. Гриша, наблюдая за выступлением, испытывал двойственные чувства: с одной стороны, ему были ненавистны эти холеные садисты в чистеньких костюмчиках, но с другой, он не мог не оценить юмора помещика Орлова. А когда появился гвоздь программы, холоп экономного класса, Гриша испытал чувство зависти – сам бы он до такого не додумался.
С целью приучения холопов к экономии помещик Орлов продемонстрировал холопа-эконома. Этому холопу почти полностью зашили рот, оставив крошечную дырочку, в которую и палец-то толком не засунешь. Затем радушный хозяин сообщил, что согласно последним научным выводам, прожорливость холопа обусловлена, в первую очередь, размерами его рта. Чем больше рот, тем больше холоп будет кушать. И наоборот – чем рот меньше, тем холоп экономнее.
Гриша толкнул Тита локтем, и весело сказал шепотом:
– У девчонок так же. Если рот большой, вместительный и талантливый, то голодной не останется, а если маленький и бездарный, придется ей искать себе работу по другому профилю.
Экскурсия по имению продолжалась почти до вечера. Вместе с господами Гриша насмотрелся всякого. Уже немного привыкший ко всем этим ужасам, Гриша воспринимал их спокойно, но когда делегация проследовала на женскую территорию, Гриша возбудился. Местных баб, не вошедших в число дворовых, он видел только издали, и показались они ему страшнее Тита. Теперь выпал шанс пронаблюдать местных красоток с близкого расстояния.
Первое впечатление оказалось верным. Холопки были страшны, грязны, все поголовно лысые, но не обритые, а ощипанные. Дабы не тупить лезвия бритв, надзиратели просто рвали у них волосы руками, когда те немного подрастали. Иногда волосы опаливали огнем, иногда, забавы ради, склеивали волосы двух холопок между собой надежным клеем, после чего заставляли их освобождаться самостоятельно. Как производилось удаление волос с иных участков женского тела, Грише не сообщили, но вряд ли более гуманными методами.
Баб выстроили перед гостями. Те прохаживались, осматривали самок, переговаривались между собой. Тит тихонько сказал Грише:
– Хорошо девки.
Гриша удивленно посмотрел на Тита, затем на «хороших девок», покачал головой, и высказался в том духе, что на вкус и запах товарища нет.
К вечеру гости вернулись в особняк и сели ужинать. Опять потекли уже привычные разговоры, но ни один из господ так ни разу и не упомянул жезла Перуна. Вернувшись в свою коморку за полночь, Гриша улегся на лежанку и пригорюнился. Где-то бродили двадцать восемь блондинок, еще диких, но должных принадлежать ему, где-то лежали миллионы, его миллионы.
Но как же все это далеко и недостижимо!
Глава 25
Танечка собралась с друзьями и подругами на пикник.
Настала пора отпусков и каникул, и все отпрыски соседей стали возвращаться в родительские имения, дабы навестить предков и отдохнуть от городской суеты. Вот и решили они собраться на природе, пообщаться и вспомнить детство. Мероприятие, что ни говори, намечалось во всех отношениях приятное, но приятное лишь для тех, кто с рождения носил дворянский титул. Тем же, кому повезло родиться в массе простого и бесправного народа, традиционно не приходилось рассчитывать ни на что приятное. Более того, этого не полагалось по законам как земным, так и небесным.
На пикник Танечка собралась, как на зимовку в Антарктиду. Ехали тремя машинами. В первой, самой шикарной (разумеется, немецкой), везли самый драгоценный груз – барыню Танечку собственной персоной. У Танечки имелся личный водитель, крепостной ее имения, прошедший обучение в городе. Поскольку водитель в дороге очень часто оставался с Танечкой наедине, его кастрировали еще на вступительных экзаменах в автошколу. Этот водитель жил лучше всех холопов, потому что занимался только вождением автомобиля госпожи, а когда госпожа никуда не ехала, он тоже бездельничал – либо по десять раз на дню мыл машину, либо валялся в своей коморке на лежанке и таращился в телевизор. Холопом разрешалось смотреть только один канал, предназначенный для крепостных. Там крутили в основном религиозные проповеди, да еще сериал «Слуга покорный». Гриша эту оперу без мыла терпеть не мог, потому что по уровню тупости и бездарности она превосходила даже тот однообразный многосерийный отстой отечественной сборки, что крутили в его родном мире по федеральным каналам. К тому же в «Слуге покорном» не было целого ряда важных элементов, делающих телепостановку хоть сколько-то интересной. Например, там полностью отсутствовала любовная интрига. Главный герой фильма, кастрированный холоп-доходяга, в своей холопской жизни любил только барина. К тому же в фильме не было никакого намека на счастливый финал, и каждая новая серия заканчивалась мрачнее предыдущей. По мнению Гриши, регулярный просмотр «Слуги покорного» мог привести либо к депрессии, либо к суициду. Но холопам нравилось это кино. Они всерьез переживали за главного героя, и сочувствовали ему. Что характерно, холопы болели душой за вымышленного персонажа, иной раз до слез, а вот друг на друга им было плевать, и они относились к страданиям своих товарищей с непробиваемым равнодушием. Та же Матрена как-то раз, когда им ненадолго удалось уединиться и поговорить без свидетелей (у господ как раз был тихий час после плотного обеда), вдруг, ни с того ни с сего, разрыдалась и схватилась за сердце. Гриша сильно испугался, но когда Матрена объяснила ему причину своей истерики, едва сдержался, чтобы не отвесить дуре подзатыльник. Оказалось, такие бурные эмоции у Матрены вызвала очередная серия «Слуги покорного», в которой главному герою, ни за что ни про что, поместили в задний проход восемь веников. Матрене было ужасно жалко нечастного героя, она рыдала и рыдала, и Гриша просто запарился ее утешать. Он даже попытался объяснить девушке, что все это не на самом деле, что это просто постановка, а помещение веников в зад холопу – результат компьютерной графики, но Матрена ему не поверила. Она была свято убеждена, что все, происходящее на экране, происходит взаправду, и верила всему, что видела и слышала. Гриша не стал настаивать на своем, а сам, тем временем, подумал, что в его родном мире тоже довольно много таких Матрен.
Однако та же самая Матрена, что ревела навзрыд и хваталась за сердце, соболезнуя киношному герою, с абсолютным равнодушием слушала разносящиеся по всему имению дикие крики терзаемого Яшки. Преступного засранца продолжали наказывать. Уже который день садисты ввергали бывшего лакея в адские муки, а он, живучий, все никак не подыхал. Но его жуткие крики не трогали никого из крепостных. К ним относились с таким же безразличием, как к мычанию коров или жужжанию мух. Один только Гриша проявлял заинтересованность. В редкие минуты покоя он подходил к забору, отделяющему усадьбу от холопских территорий, останавливался, и с мечтательной улыбкой на лице слушал вопли Яшки. Гришина душа ликовала. По его мнению, Яшка заслужил все муки, которые уже претерпел, и все, что еще претерпит. Ведь он пытался ухаживать за Матреной, даже подарил ей огрызок яблока. Гриша был очень ревнив. По своей натуре он был собственник, и считал, что девушка может уйти от него по доброй воле только на кладбище.
Так вот, в первой машине кортежа ехала Танечка, ее шофер и шляпка Танечки. Это был какая-то особенная шляпка, очень дорогая и модная, выписанная из самого Парижа. Танечка мечтала покрасоваться в этой шляпке перед друзьями и подругами. Поэтому шляпку она везла с собой в салоне, а свою служанку Матрену отправила ехать в автомобиле для прислуги.
Второй автомобиль, небольшой грузовик, вез все, что могло понадобиться Танечке в дороге, от мобильного туалета повышенной комфортности до трех теплых шуб, на случай резкого похолодания и снегопада, что, в общем-то, является обычным делом в разгар лета.
На третьем автомобиле ехали слуги.
Но что это был за автомобиль! Он чем-то напоминал знаменитого «козлика», был весь грязный, ржавый и жутко смердел. Сиденье имелось только одно – водительское. Холопам надлежало разместиться на железном полу. Для своей служанки Танечка приказала положить в машину подушку, остальные не удостоились такой чести. Гриша присел рядом с Матреной на корточки, более опытный Тит сразу плюхнулся на задницу, и крепко вцепился руками в борт. Гриша только посмеялся над ним. Он видел здешние дороги, видел их потрясающее качество, и понимал, что тряски можно не опасаться. Одного только Гриша не учел – что дороги для господ.
Лимузин с Танечкой и микроавтобус с ее барахлом летели по ровной и гладкой дороге, расшатанный рыдван с холопами несся рядом по бездорожью, подскакивая на ухабах и проваливаясь в ямы. На первой же кочке Гриша упал на задницу, на второй кочке отбил себе копчик и контузил ягодицы. На третьей кочке отбил весь ливер и едва не откусил язык. Одной рукой он вцепился в борт, второй прижал к себе визжащую Матрену, дабы девушка не вылетела из автомобиля на ходу. Тит сидел на заднице, далеко вытянув грязные ноги с огромными черными ногтями, наводящими на мысль об исполинских вымерших животных. На каждой кочке он громко бился тылом о днище, и редко когда не сопровождал это дело громовым раскатом анального звучания. Гриша и сам несколько раз просыпал горох, даже Матрена, до чего уж девушка культурная, и та разок звонко согрешила.
Грише безумно хотелось выразить словами все то, что он думал о крепостном праве и сопровождающих его милых обычаях, но открывать рот было опасно. А водитель, будто нарочно, прибавил газу, и пошел выбирать самый ухабистый маршрут. На одной племенной кочке автомобиль взлетел в воздух, а пассажиры оторвались от днища на добрых полметра. Тит, не удержавшись на месте, частично вывалился наружу. Некоторое время он висел на борте, шустро перебирая ногами по несущейся под ним земле, затем изловчился, кое-как залез обратно, но тут автомобиль опять подпрыгнул, и Тит, крепко ударившись о борт спиной, запятнал штаны репутацией.
На одном из ухабов у машины оторвало запасное колесо. Потеря запаски Гришу не удивила. При такой гуманной езде потерять можно было все, что угодно, от девственности до жизни. Он сам чувствовал себя так, будто стал жертвой успешного сексуального домогательства со стороны дюжины садистов-извращенцев. На теле не было живого месте, задница, после двенадцатого удара о железное днище, превратилась в тыкву. С правой ноги слетел лапоть и остался за бортом, из-под Матрены выбило подушку, и она, приложившись попой об твердое, застонала, как порядочная девушка в первую брачную ночь.
До места пикника добрались примерно минут через сорок, но Грише эти минуты показались вечностью, проведенной в аду. Автомобили остановились на вершине пригорка, под которым начинался песчаный пляж. Небольшое озерцо с кристально чистой водой, со всех сторон окруженное хвойным лесом, выглядело живописно и заманчиво. От окружающей природы веяло какой-то первозданностью, девственной чистотой, воздух был свежий и вкусный. На голубом небе величественно раскинулись бесформенные облачные образования, напоминающие обрывки нижнего белья.
Гриша, кое-как выгрузив свои измученные останки из садомобиля, огляделся, принюхался, и понял, что в окружающем пейзаже чего-то недостает. Спустя секунду понял – не было мусора. Он-то привык, что выезжая в родном мире на природу, оказываешься на свалке, где под слоем из баклажек, окурков, пластиковых тарелок, пакетиков из-под чипсов и использованных презервативов земли не видно.
Постанывая, через борт перевалилась бледная Матрена. Гриша помог ей спуститься на землю и придержал, потому что девушку вдруг качнуло.
– Ты как? – спросил Гриша, хотя и понимал, что подобный вопрос нельзя расценивать иначе, как издевательство.
– Локоть сильно ушибла, – охотно пожаловалась Матрена. – Коленку. Спинку вот тут и вот тут. Затылком ударилась. Попа…. Не чую попы.
Прежде Матрена жаловаться не любила и не умела, да и некому было, и на вопрос «как дела?» всем и всегда отвечала «слава богу». Но теперь, когда рядом появился неравнодушный к ней человек, Матрена стала активно сообщать ему о том, что у нее и где болит, потому что Гриша всегда ее жалел и утешал, и горничной это было приятно.
– Господь-вседержитель, – раздался из кузова предсмертный голос Тита. – Ангелы небесные. Мать-заступница. Святые угодники.
– Ты живой? – спросил Гриша.
– Пробку вышибло, портки замарал, – пожалился Тит, с трудом переваливаясь через борт. Новые штаны Тита были темно-коричневого цвета, и пахли экстримом.
– Тит, тебя как человека разумного на пикник взяли, надеялись на тебя, верили, – проворчал Гриша, – а ты все в своем репертуаре. Вот скажи, пожалуйста, без ложной скромности – зачем ты с головы до пят фекалиями истек? Как ты собираешься благородным особам, барышням благовоспитанным, в таком виде прислуживать? Даже меня с души воротит, как на тебя гляну.
Тит беспомощно пожал плечами. Сам он никакой проблемы не видел, поскольку мог легко кушать и испражняться одновременно. Однако зловонный слуга согласился, что утонченные барышни при виде его штанов могут утратить аппетит, да пожалуй, что и сознание тоже.
– Вон там, на берегу, кусты у самой воды, – сказал Гриша Титу. – Беги туда, выстирай свою одежду, и живо обратно, пока господа тебя не хватились.
– Это мы живо, – закивал Тит, стаскивая с себя портки. Под портками у Тита никакого нижнего белья не было, если не считать нижним бельем густую черную шерсть (лишнее доказательство, что зловонный холоп все же забыл произойти из обезьяны в человека) и слой грязи в палец толщиной. Заодно Тит стащил и рубаху, которую бросил сверху на залитые испражнениями штаны, и смешал все в одну кучу. Торс у Тита был такой же мохнатый, как и ноги. На впалой груди иные волосы достигали такой длины, что Тита, окажись он в ином времени и месте, избрали бы королем хиппи. Живот тоже был впалый, ребра и ключицы нагло выпирали сквозь серую от грязи кожу. Плечи были узкие, руки тонкие, жилистые. В подмышках шумел темный лес. Мечта антрополога схватила вещи и потрусила вниз по склону холма, к берегу.
– Вот же зверь мохнатый, – сказал Гриша. – Тут охотников не бывает? Как бы не подстелили его по ошибке.
– Сейчас не сезон, – ответила покрасневшая при виде голого мужика Матрена. – Осенью охота. Барин страсть любит уток стрелять. Он с Яшкой той осенью каждый день ходил. Барин по уткам из ружья стрелял, а Яшка потом в камыши лез и добычу в зубах приносил. Бывало, смотришь вечером в окно – возвращаются. Барин усталый, довольный, с ружьем на плече, утки на поясе болтаются. Яшка рядом на четвереньках трусит, на кошек гавкает.
– Ничего другого я от Яшки и не ждал, – признался Гриша. – Если уж он господские ягодицы языком полировал, то ничем остальным меня не удивишь.
Тут раздался недовольный голос Танечки:
– Матрена? Матрена? Сколько тебя ждать можно? По мне козявка ползает.
– Пойду, прогоню козявку с госпожи, – быстро сказала Матрена, и побежала спасать хозяйку от лютого зверя. Гриша поплелся к грузовику, выгружать барское добро. Делать это ему предстояло в гордом одиночестве, поскольку Тит не вовремя дал волю своему щедрому на дары кишечнику.
Они приехали первыми, остальных участников пикника пока не было. Танечка, одетая как на бал, выбралась из автомобиля, и стояла столбиком, с умиленным выражением на лице. Вокруг нее суетилась Матрена, отгоняя от госпожи муравьев и мух. Танечка раскрыла белый зонтик, дабы не напекло головушку, огляделась по сторонам, вдохнула полной грудью и с восторгом произнесла:
– Гляди, Матрена, благодать-то какая!
– Да, госпожа, – согласилась служанка, ловко прихлопывая комарика, вздумавшего полакомиться дворянской кровушкой.
Гриша, наживая грыжу, вытащил из микроавтобуса кабинку биотуалета. Кабинка была тяжела, как гроб с телом терминатора. Поставив ее на землю, Гриша решил выяснить причину такой тяжести – ему показалось, что в туалете занято, потому что пластиковый короб не может столько весить. Открыв дверку, Гриша увидел внутри кабинки плазменный телевизор, холодильник, кондиционер, вешалку для одежды из мореного дуба, и недобрым словом помянул Тита. Напарник словно бы чувствовал, что грядет работенка, и нарочно обгадил штаны.
– Нет-нет! – вдруг закричала Танечка, обращаясь к Грише. – Здесь это ставить нельзя. Ты его вон туда отнеси, к зарослям.
Проклиная слабого на клапан Тита, Гриша потащил нужник в указанном направлении. Вообще-то было бы логично установить на кабинку парочку колес, для удобства транспортировки, но Гриша быстро понял, что люди, проектировавшие этот сортир, точно знали, что им никогда не придется его таскать.
Разместив основное удобство, Гриша занялся монтажом навеса. Каркас собирался из дюралюминиевых трубок, затем сверху натягивался тряпочный тент белого цвета. Вытащив из грузовика большой продолговатый мешок с железными трубками, Гриша вывалил их на траву и крепко призадумался. Со сборкой чего бы то ни было, у него всегда возникали проблемы. Тумбочку под телевизор он собирал четыре дня, и в итоге у него получилась скамейка, а когда в детстве Гриша брался за конструктор, то собирал из деталей что-то бесформенное, бессмысленное и тупое. Поначалу воспитатели в детском саду решили, что имеют дело с гением. В то время как прочие дети конструировали танки, самолеты, замки и прочие узнаваемые объекты, Гриша творил такое, что человеческий мозг не в силах был классифицировать. Испуганные воспитатели даже пригласили какого-то специалиста, вроде психолога, тот пришел, полюбовался Гришиными творениями, и сделал вывод, что Гриша далеко пойдет. Специалист как в воду глядел. Гриша действительно далеко пошел, хотя и не так далеко, как послали. Далекий поход случился после того, как Гриша, ночью подсмотрев за мамой и папой, попытался воспроизвести их загадочные для детской души действия во время тихого часа. Девочка на соседней койке вначале была сильно удивлена, когда Гриша зачем-то полез к ней под одеяло, а когда он навалился на нее, стал дергаться в конвульсиях и страшно дышать, испугалась, расплакалась и стала звать воспитателей. Прибежали няньки, стащили юное дарование с девочки и изолировали от вменяемого общества. Вечером, когда пришли родители, воспитатели объявили им, что такому вундеркинду не место среди нормальных детей.
С тех пор Гришу больше в детский сад не отдавали, и пока родители находились на работе, за ним присматривал прадед – старик-ветеран, повидавший на своем веку много страшных вещей. Но даже немецкие танки, даже ковровые бомбежки, даже ужасы сталинских лагерей для недостаточно героических героев меркли в сравнении с родным правнуком. Помирая со скуки, Гриша развлекал себя тем, что издевался над стариком. Прадед был стар, ходил с трудом, опираясь на костыль, а потому был идеальной мишенью. Родители как раз купили юному Грише лук, стрелы с присосками, и головной убор вождя племени чероки. Присоски со стрел Гриша Большой Змей поснимал сразу – он не собирался щадить бледнолицего старца. Прадед повидал многое, но когда потомок отрыл топор войны, пенсионер крепко пожалел, что навечно не остался под Сталинградом вместе со всей ротой.
Жестокое избиение белых переселенцев началось сразу же после того, как за ушедшими на работу родителями захлопнулась входная дверь. Мирно спящий дед вдруг был зверским образом разбужен – Гриша, забавы ради, пожелал ему доброго утра мухобойкой по лицу. Перепуганный дед едва успел подняться на ноги, как в него градом посыпались стрелы. Вождь краснокожих, воинственно улюлюкая, разил без промаха – длительные тренировки не прошли даром. Когда колчан опустел, Гриша стал стрелять в деда карандашами, пультом от телевизора, тапками, футляром от очков. Разозленный дед схватил ремень и погнался за обидчиком, но он недооценил коварства потомка. На каждом шагу его встречали новые и новые индейские хитрости. Дед влетел в мышеловку, затем споткнулся о натянутую веревку и грохнулся на пол. Гриша подбежал к поверженному врагу и попытался оскальпировать его отцовским напильником.
Возвратившиеся с работы родители застали деда на полу в предсмертном состоянии. Гриша в это время сидел за столом и рисовал в альбоме похороны. Старика увезли в больницу, откуда он уже не вернулся.
После смерти деда за Гришей за небольшую плату присматривала соседка – семнадцатилетняя барышня, кончившая среднюю школу и теперь раздумывающая, как распорядиться своей дальнейшей жизнью – учиться в ПТУ, забеременеть или сразу идти на панель. Эта девица оказала огромное влияние на Гришу. От нее он узнал так много нового и интересного, что надолго опередил в развитии сверстников, продолжающих наивно считать, что детей находят в капусте. Соседка не только в подробностях рассказала маленькому Грише, где именно и каким образом на самом деле находят детей, не только показала это удивительное место на своем молодом теле, но даже разрешила его потрогать. Так же соседка в деталях объяснила Грише назначение той смешной сморщенной штуковины, которой он был оснащен с рождения, и у которой, как выяснилось, была еще одна невероятная функция. Соседка обожала, раздевшись донага, разглядывать себя, стоя перед зеркалом. Гриша сидел тут же, и, раскрыв варежку, приобщался к прекрасному. Он узнал слово сиськи, узнал, что это такое, потрогал, понюхал, но по малолетству не оценил. Но своего пика просвещение достигло в тот день, когда к соседке, исполнявшей роль няньки, заглянул ее приятель. Гришу никто не прогонял и смотреть не запрещал. В тот день сухая теория была подкреплена практикой – наблюдая воочию невероятное зрелище, Гриша наконец-то понял все то, что рассказывала ему соседка. Теория ему давалась слабо, но наглядный пример все прояснил. А когда, после акта соития, приятель няньки угостил Гришу пивом и дал затянуться сигаретным дымом, малец, кашляя и балдея, понял, что детство кончилось. Начиналась взрослая жизнь.
В общем, Гришино дошкольное образование было весьма разносторонним. Вот только собирать каркасные беседки его никто никогда не учил. Если бы была инструкция, дело бы, возможно, сдвинулось с мертвой точки, но ее не было. Гриша схватил из кучи две трубки, соединил их вместе и получил одну длинную. Одна длинная трубка была так же мало похожа на беседку, как две короткие. Гриша понял, что не справляется. Обращаться за помощью к водителям было бессмысленно – барский рулевой евнух был туп, как колода, а водители грузовика и «козлика» – надзиратели, умели помочь только кулаком по роже. Возможно, Матрена имела опыт сборки навеса, поскольку давно служила господам и наверняка не раз выезжала с ними на пикники, но служанка была занята. Она бегала за Танечкой со стулом, а барыня, продолжая восторгаться окрестными красотами, расхаживала туда-сюда, издавала восклицания и все хвалила воздух. Гриша со злостью подумал, что хорошо радоваться свежему воздуху и зеленой травке, когда у тебя все есть и нечего желать. Лично он легко променял бы все эти красоты на банку холодного пива.
– Нужно Тита позвать, – решил Гриша, окончательно убедившийся в том, что одному ему с навесом не справиться. Он честно попытался, но у него получился не навес, а опять какая-то бесформенная конструкция, будто он снова попал в детство.
– Надо звать Тита! – окончательно убедился Гриша.
Далеко идти не пришлось – Гриша заметил, что его заместитель робко выглядывает из-за «козлика».
– От работы, скотина, прячется! – проворчал Гриша недобро. – Или опять обделался?
Гриша обогнул автомобиль, и увидел Тита целиком. Тит стоял на полусогнутых ногах, в мокрой рубахе и без штанов.
– Тит, в чем дело? – спросил Гриша, стараясь говорить спокойно. Он по опыту знал, что ни криком, ни руганью, ни угрозами холопов не пронять. Они понимали язык грубой безжалостной силы, и только его. Но бить Тита на глазах Танечки было, к сожалению, нельзя. А хотелось!
– Водяной, проказник, портки унес, – пожаловался Тит, и лицо у него стало кислым.
Отдельные слова Гриша понял, но общий смысл как-то ускользнул.
– Что у тебя случилось? – спросил он.
– Водяной портки украл, – сказал Тит. – Почто шалит? Аль я на дочек его заглядывался?
– На чьих дочек?
– Знамо дело на чьих. На водяного дочек. Ох, чертовки, хороши, молвят, дочки у него. Токмо днем на глаза люду не кажутся, должно быть стеснительные весьма, аль господь так положил. Ну а ночью темной лучше молитвою оберегаться, супротив молитвы никакая нечисть не устоит. А иначе утянут в омут и поминай, как звали.
Гриша понял, что он ничего не понял. Какой водяной? Чьи дочки? Кто не кажется людям на глаза днем? Что и на что положил господь? Какая нечисть не устоит супротив молитвы? И самое главное – куда пропали штаны Тита?
– Завязывай с бредом! – строго приказал Гриша. – Хватит мне пургу гнать про водяных и земляных. Мне сейчас не до этого. Надевай штаны, и пошли навес собрать. У меня одного что-то не выходит.
– Хоть казни меня, хоть секи, хоть оскопи, нету больше портков у Тита, – вдруг выпалил зловонный холоп, и самым неожиданным образом разрыдался. – Иуда я неблагодарный! Креста на мне нет! Даровал барин портки, и те утратил. Ой….
Гриша подошел к Титу и с огромным удовольствием влепил ему звонкую пощечину, одновременно пробивая коленом в пах. Суровые меры сработали – истерика была прекращена.
– Тит, животное ископаемое, – взмолился Гриша, тряся за грудки своего заместителя, – скажи мне русским языком, куда ты свои штаны дел.
– Уплыли, – признался Тит со слезами на глазах.
– Упустил что ли? – проворчал Гриша, с ненавистью глядя на позор человеческого рода. Он только что понял, что Тит сочинил всю эту наивную ерунду про водяного и его дочек с целью отбрехаться.
– Упустил, – кивнул Тит, глотая слезы. – Каюсь, грешен. Возмечтал о несбыточном, в отвлечение впал, а как опомнился, глядь – уж портки мои в пяти шагах от берега.
– Почему же ты, придурок, не сплавал за ними? – спросил Гриша, испытывая неодолимое желание сократить заместителя оглоблей по затылку.
– Знамо дело почему. Не учены мы плавать.
Гриша схватился за голову, лихорадочно соображая. Запасных штанов, разумеется, не было, достать их было негде. Прятать Тита все время нельзя, могут подумать, что сбежал, но и пускать его к людям в его нынешнем виде тоже не вариант – благородные господа и дамы могут неправильно все понять.
Как бы подтверждая этот вывод, Тит, потерявший вместе со штанами и терпежные принадлежности, вдруг породил низом звонкий комариный писк, громкость которого нарастала и нарастала, и вдруг звук оборвался, закончившись сочным хлюпаньем и бульканьем.
– Важно оправился, – поделился ощущениями Тит, притопывая правой ногой. На траву под ним стали падать крупные капли густого бурого вещества.
– Короче, – сказал Гриша, – поступим так. Ноги у тебя волосатые, издали как будто в штанах. Будешь делать то, что скажу, но только не вздумай к господам близко подходить. Держись подальше. Если тебя позовут, мне скажешь, я вместо тебя подойду. Понял?
– Знамо дело.
– И завязывай уже дерьмом истекать. Попытайся терпеть. Не можешь терпеть, найди ветку потолще, и закупорь свою вонючую дырку. Понял?
– Знамо дело. Ветку сыщу, жопу закупорю. Знамо дело. Важно придумал. Голова!
Вместе с Титом они приступили к сборке навеса. Танечка, к счастью, была занята окрестными пейзажами, и не обращала внимания на холопов. Но даже если бы ее случайный взгляд и скользнул по двум крепостным, она едва ли стала бы разглядывать их подробно, и обращать свое внимание на такие мелочи, как наличие или отсутствие на них штатов. Господа не держали холопов за людей, на лестнице эволюции им отводилась та же ступень, что охотничьим собакам, кошкам, коровам и прочей домашней живности. От графа Пустого, выдающегося мыслителя своей эпохи, Гриша услышал теорию, согласно которой крепостные имеют человекообразный облик только благодаря тому, что живут под мудрым руководством господ. Если же крепостных отпустить на волю, то есть дать им свободно собой распоряжаться и делать все, что захочется, то через пару лет все они покроются шерстью, обзаведутся хвостами, затем начнут ходить на четвереньках и гавкать, и так через десяток годков окончательно превратятся в животных, коими и являются по своей сути. Если эта теория была верна, то Тит, судя по его густому волосяному покрову и нечеловеческой тупости, был свободен, как ветер. Как тот ветер, что постоянно рвался наружу сквозь его шоколадное око.
Однако тупость тупостью, но включившись в процесс сборки, Тит сдвинул дело с мертвой точки. Он как-то сразу сообразил, что, как, куда и в какой последовательности надо вставлять, и каркас стал стремительно обретать свои очертания. Грише стало обидно и совестно за себя. Тит, тупейшее из млекопитающих, легко сделал то, на что у него, крутого перца, не хватило серого вещества. Чтобы отомстить Титу за то, что тот такой умный, Гриша несколько раз наступил ему на ногу, но боль этим причинил исключительно себе. Ноги Тита, покрытые мощными грязевыми наростами, напоминали бронированные сапоги рыцаря, а когти, могучие и черные, могли повергнуть в трепет любого хищника. Гриша, наступив на такой коготь, едва не порвал об него лапоть, а Тит даже не поморщился, и похоже вовсе не заметил возмездия.
Собрав каркас, стали натягивать навес от солнца. Силясь забросить материю на каркас, Тит высоко подпрыгивал, рубаха его задиралась, и открывала на всеобщее обозрение весело болтающийся срам. К счастью Танечка в это время рассматривала пейзажи чрез театральный бинокль, и прозевал потрясающее зрелище.
Натянув тент, холопы поставили под навесом круглый столик и шесть стульев. Затем притащили холодильник, полный вкуснятины. Холодильник был крест-накрест перетянут якорной цепью и заперт на амбарный замок мегалитических габаритов. Ключ от замка находился у одного из водителей из числа надзирателей. Затем холопы вынесли мангал, и поставили его неподалеку от навеса. Вытащили неподъемный бензиновый генератор, укатили его подальше, чтобы своим звучанием не мешал господам отдыхать, протянули от него провода к навесу и установили по углам четыре светильника. Светильники подключили к генератору, к нему же подключили музыкальный центр и ультразвуковую примочку, отпугивающую насекомых в радиусе десятка метров.
– Блин, я вообще уже запарился! – пожаловался Гриша Титу. – Пот с самой задницы по ногам до пяток течет. Сейчас бы в речке поплескаться.
– Важно бы, – согласился Тит, который потел гораздо меньше, поскольку и ноги, и пятки и задница у него отлично проветривались. Но не только проветривались, но и благоухали. За Титом постоянно следовал рой навозных мух, они группами приземлялись на его ягодицах и присматривали место для колонии. Возможно, планировали отстроить себе столицу на двух холмах.
Остальные участники пикника стали прибывать уже после того, как Гриша и Тит, обустроив лагерь, отправились за дровами. По берегу озера росли деревья, под ними было вдоволь сушняка. Надзиратель выдал Грише тупой топор, Титу хотел дать пилу без зубьев, но посмотрел на него внимательно, и передумал.
– Что это у тебя штаны с начесом наружу? – спросил надзиратель, подслеповато щурясь на Тита. – С начесом летом не положено.
Гриша понял, что у надзирателя серьезные проблемы со зрением. Это большей частью объясняло его странный стиль вождения по всем буеракам и ухабинам.
– Барин за исправную службу пожаловал, – соврал Гриша.
– Барин? Ну, раз барин, тогда ладно. Бегом за дровами, скоты. Скоро господа прибудут, шашлыки пора готовить.
Гриша с Титом спустились к реке и спрятались в густых зарослях. Тит, душа нараспашку и мозги набекрень, тут же приступил к сбору хвороста, Гриша, без сил повалившись на землю, проворчал, глядя на коллегу:
– Работа не жена – к другому не уйдет. Сядь, отдохни. Не мельтеши перед глазами.
– А дрова? – спросил Тит удивленно.
– На юг не улетят, не ссы. Успеем еще собрать.
– Негоже так, – покачал головой Тит. – Господ обманывать, что бога обманывать. Грех великий. Пойду, пожалуй, расскажу об этом, облегчу душу.
Гриша положил немало сил на воспитание Тита, но ему так и не удалось вытравить из него рабскую суть, составляющую основу его личности. Такая милая черта, как рефлекторная склонность к фискальству, являлась неотъемлемой частью рабского менталитета.
– Иди-иди, – напутствовал коллегу Гриша. – Расскажи надзирателям, что я бездельничаю. А я потом расскажу, как ты за молодой барыней, девушкой благовоспитанной, цветочком девственным, в замочную скважину глазом своим развратным подглядывал и дрочил на нее самым циничным образом. Как думаешь, кого сильнее накажут? Меня-то просто посекут, а вот что с тобой сделают, этого даже не представляю. Но думаю, что Яшке ты в первый же день позавидуешь.
Тит все взвесил, обдумал, поскреб ногтями зад, после чего подошел к Грише и сел рядом с ним на землю.
– За грех свой я тысячу поклонов уже отбил святому Игнату. Теперь еще тысячу святому Степану отобью. Тяжек грех – за девкой голой подглядывать. Тьфу! Мерзость! Попутал нечистый.
– Заставь дурака богу молиться, он и будет молиться, – сделал вывод Гриша. – Это ты сейчас плюешься, а если тебе бабу голую показать, сразу про своих святых позабудешь.
– Супротив нечистого устоять нелегко, – со вздохом произнес Тит. – На то и святые старцы, чтобы наставлять на путь истинный и беречь от соблазнов дьявольских.
– Надо все-таки тебе свидание с какой-нибудь прачкой устроить, – весело сказал Гриша. – Чтобы ты эти дьявольские соблазны хорошенько распробовал. Потом за уши не оттянешь. А хочешь, можешь прямо к Акулине яйца подкатить. Ей, наверное, сейчас одиноко. Герасим-то больше недееспособен. Барин наш уже староват, вряд ли его ракета часто встает в боевое положение. А ты мужчина видный, крепкий, волосатый. Волосатые женщинам нравятся. Как покажешь Акулине свою булаву, она вмиг Герасима забудет. Да и Герасим этот, между нами, не мужик, а так, горилла дикая. Теперь еще и кастрированная. Все мычит и мычит. Ты дело другое. У тебя талант к красноречию. Как проедешь Акулине по ушам, а потом булаву ей сразу – на-ка оцени! Только смотри, про святых старцев не упоминай. Лучше комплимент ей сделай.
– Кого сделать? – не понял Тит.
– Похвали ее как-нибудь. Скажи, например, что у нее жопа классная, или про сиськи что-нибудь.
Тит опустил глаза в землю, немного помолчал, а затем признался:
– Боюсь я Акулину шибко. Грозна девка.
– Ясное дело, бесится, – кивнул Гриша. – Ощущает острый недостаток любви и ласки.
– Вчера меня самоваром ударила, – пожаловался Тит.
– Самоваром? – удивился Гриша. – Вот это да! Ты что, ничего не понял? Да это же даже не намек, это явный сигнал о готовности отдаться. В следующий раз, как она тебя самоваром отоварит, ты не стой столбом, а сразу хватай ее за жопу, юбку задирай и греши, греши….
– Она надзирателей кликнет, – покачал головой Тит.
– Это как грешить будешь. Плохо согрешишь – может и кликнуть. Поэтому постарайся согрешить ее хорошо. И многократно.
– Все равно боязно, – пробормотал Тит. – Как опосля такого греха на исповеди в глаза святому старцу смотреть?
– Я бы на твоем месте святому старцу об этом не рассказывал, – посоветовал Гриша, но заранее понял, что зря старается. Всех холопов раз в месяц подвергали обязательной процедуре исповеди, в ходе которой крепостные сознавались во всех своих грехах, даже в самых смехотворных (а иных они и не совершали). Холопы были уверены, что если они сокроют от святого старца хоть один свой грех, то господь тут же поразит их огнем небесным. Гриша-то понимал, что сразу же после исповеди на стол помещика ложился подробный отчет обо всех преступлениях его крепостных, или же святой старец передавал все услышанное в устной форме, за рюмкой вина. Но убедить Тита в том, что исповедь это не таинство божие, а еще один инструмент контроля над народными массами, не представлялось возможным. В вопросах религии Тит был феноменально твердолоб. Гриша сумел убедить Тита не портить воздух в их коморке, но убедить его не читать перед сном получасовую молитву, с поклонами и возгласами «аминь», так и не смог.
– Мне барыня шибко нравится, – вдруг сделал сенсационное признание Тит.
– Танечка?
– Да.
– С Танечкой будет сложнее, но в целом возможно. Только самоваром тебе ее придется бить, притом желательно сразу насмерть, чтобы после пожаловаться папеньке не смогла.
– Неужто под венец дочку вести заставит?
– Вряд ли. На что ему кастрированный зять с содранной кожей, переломанными костями и отрубленной головой? И вообще, ты давай губу на Танечку не раскатывай. Сосредоточься на Акулине. И помни: вначале хватаешь за жопу, да покрепче, чтобы не вырвалась, потом задираешь юбку, и начинаешь грешить. Перед началом прицелься, не суй вслепую. Мало ли куда попадешь. Ну и задницу свою держи под контролем, а то ты анальным громом всю романтику распугаешь, да и бабу еще уморишь. Она уже отвыкла от запаха простого народа, может не пережить возвращения к истокам.
Тут со стороны лагеря зазвучали многочисленные голоса, в том числе и женские, и Гриша догадался, что пожаловали прочие участники пикника. Нехотя поднявшись на ноги, он сердито посмотрел на Тита и недовольно проворчал:
– Кто за тебя работать будет? Уселся и сидит. А ну встал и пошел дрова собирать, скотина ленивая!
Глава 26
Когда Гриша и Тит, нагруженные дровами, вышли из леса, то увидели рядом с их шатром еще два. Народу там толпилось множество, в основном, разумеется, холопы и надзиратели. Гриша еще издали приметил музыкантов с инструментами, разместившихся под одним из шатров. Два незнакомых холопа, треща задами от натуги, волокли рояль. Рядом с Танечкой стояли ее подруги, уже хорошо знакомые Грише, было и новое лицо – кудрявая особа, как прической, так и физиономией похожая на овечку. Все барышни нарядились так, будто ехали не на природу, а на бал. Рядом с барышнями находились их служанки – у каждой была своя персональная Матрена.
Возле девушек стоял тощий прыщавый паренек лет семнадцати в военной форме незнакомого образца. Рядом топтался еще один, невысокий и пухлый, как пупс, со щеками, напоминающими ягодицы младенца, и в очках. Этот был одет в гражданский костюм, плотно облегающий его бесформенную фигуру. Гриша догадался, что наблюдает молодых дворян, сыночков таких же помещиков, как добрый дядя Орлов.
Каждый привез с собой свою челядь, так что крепостных на пригорке оказалось едва ли не три десятка. Все работали, все суетились, повара уже готовили закуски, откупоривали шампанское. Надзиратели держались в стороне, у машин, где играли на капоте в карты.
Гриша велел Титу ссыпать дрова у мангала, а самому скрыться с глаз долой, дабы не светиться перед господами. Сам же он попытался незаметно опрокинуть в утробу бокал шампанского, но лакей, что разливал его, уставился на Гришу страшными глазами и тоненьким голоском пригрозил:
– Надзирателей покличу.
– Я просто попробовать хотел, вдруг прокисшее, – проворчал Гриша, с омерзением глядя на верного евнуха.
Когда все было готово, господа и дамы сели за стол – трапезничать. Прислуживали им личные слуги и служанки, прочая челядь выстроилась чуть в стороне, и должна была смотреть на то, как благородные люди кушают и выпивают. Гриша, зверски проголодавшийся после трудов, был окончательно добит новостью о том, что никто из участников пикника не догадался захватить помоев для холопов. Это значило, что холопской еды нет, есть лишь еда для господ. А господской едой крепостных кормить нельзя, они ведь ею отравиться могут.
От мысли, что до завтрашнего дня придется голодать, на глазах у Гриши выступили слезы. Он слегка повернул голову, и посмотрел на Тита, что ловко затесался в ряды крепостных и почти не выделялся на их фоне со своими оригинальными штанами не по сезону.
Делать было нечего, и Гриша невольно прислушался к разговору хозяев жизни. Понимал он не все, поскольку те говорили то по-русски, то на каком-то незнакомом Грише языке. Однако вскоре он выяснил, что овечку зовут Катрин, прыщавого офицера Николай, а пупсика Владимир. Имена уже знакомых ему подруг Танечки, блондинки и брюнетки, Гриша принципиально знать не хотел – к этим особам он питал сильные, но отнюдь не теплые чувства. Он до сих пор не мог простить им тех позорных смотрин, и страстно мечтал встретить в своем мире зеркальных двойников этих клуш. Ох, несладко бы им пришлось! Гриша бы на них отыгрался за все свои обиды и унижения.
– Скажите, Николай, – спросила Танечка, весело поглядывая на прыщавого защитника отечества, – а на войне страшно?
Прыщавый юнец приосанился, попытался расправить узкие плечи, более подобающие девушке, чем стражу земель русских, сделал героико-патриотическое лицо, и заговорил таким тоном, за который в Гришиной среде сразу били по роже, безошибочно опознавая в говоруне гнойного попирателя традиционных семейных ценностей.
– Не то, чтобы страшно, – пошел выпендриваться сопляк. – Страх присущ солдатам, холопам, людям низкого происхождения. Офицеру же бояться стыдно.
– И вы совсем не боитесь? – кокетливо спросила Катрин, хлопая своими овечьими глазками.
– Ничуть.
«Встретился бы ты мне в темной подворотне, – подумал Гриша кровожадно, – ты бы у меня не то что испугался, ты бы у меня дерьмом от страха истек!».
– Я бы боялась, – призналась блондинка. – Выстрелы, взрывы, это все так страшно.
– Офицер не должен показывать своего страха, даже если он его испытывает, – важно произнес Николай. – Только личным примером можно заставить трусливых холопов идти в бой. Они ведь подлый и трусливый народ. Если не сечь их каждый день до полусмерти, если малейшую слабину дать, то при первом же выстреле неприятеля разбегутся, как тараканы. Вот случай был на последних учениях. Поручили мне с моей ротой минное поле обезвредить. Я выстроил своих в линию, и приказываю – вперед. Ну, вроде бы идут. Тут первый подорвался, второй, и сразу оробели. Двое назад побежали, ну, я их пристрелил – так с трусами поступать и надо. Остальные стоят, и не идут. Воют, плачут, как дети, крестятся, молятся. Я сержантам говорю – ежели сию же секунду не пойдут вперед, расстрелять всех. И что же вы думаете? Только после того, как пятерых пристрелили, они вперед пошли. Трусы! И чего бояться? Всего только двадцать три человека подорвалось.
– Использовать людей для разминирования минных полей нецелесообразно и негуманно, – прорезался тонким голоском пупсик Владимир. – Существует специальная техника, зачем же людей гробить?
Прыщавый поморщился, и неприязненно глядя на пупсика, проворчал:
– Вы, сударь, избавьте меня, пожалуйста, от ваших либеральных идей. Солдаты для того и существуют, чтобы их, как вы изволили выразиться, гробить. Специальная техника больших денег стоит, а холопов на Руси много. К тому же все разговоры о прекрасном оснащении нашей армии новейшими видами вооружений сильно преувеличены. Главная сила нашей армии не в технике и не в солдатах, а в офицерах. Офицер должен уметь жертвовать своими людьми ради победы. Да и какие это люди? Животные, а не люди. Если бы вы их видели, если бы вы знали, что они творят, вы бы свои либеральные суждения сразу бы позабыли. При мне пятерых рядовых вешали за то, что они порох ели. Вообразите, разбирали патроны, ссыпали в каску порох, и ели. Ну как воевать с такими негодяями? И ладно бы их голодом морили, ладно бы недоедали они. Так ведь нет. Каждый по охапке соломы в день получал. Этого хватит, чтобы лошадь насытить, не то что человека. А им все мало, они давай патроны портить. Боеприпасы. А если вдруг война? Чем они во врага стрелять будут? Либеральными идеями? Или вот еще случай, о котором бы я в присутствии благородных барышень и упоминать бы не стал, да вы вынудили. Была у нашего полковника собачка, породы пудель. Премиленькая собачка, доложу вам, нраву самого кроткого и ласкового. Все мы очень ее любили. А уж полковник в ней души не чаял, отборной вырезкой кормил. И вдруг однажды пропала собачка. Стали искать, спрашивать – никто не видел. Сразу на солдат подозрение пало. Стали их пороть. Восьмерых насмерть засекли, девятый не выдержал, во всем сознался. Оказывается, схватили солдаты собачку, утащили к себе в яму, изнасиловали ее там и съели.
– Боже мой! – вскрикнула Катрин. Остальные девушки тоже были потрясены холопской жестокостью.
– Надеюсь, этих чудовищ жестоко наказали? – спросила прослезившаяся Танечка, которую до глубины души тронула ужасная судьба несчастной собачки.
– Всю роту перевешали, – кивнул прыщавы. – Полковник весь полк хотел вздернуть, но смилостивился. А зря. Был бы другим урок.
– Так им и надо! – с чувством произнесла добрая овечка Катрин. – Настоящие звери! Дикие и ужасные.
– А я не считаю их зверьми, – опять сал возражать пупсик. – Да, крепостные кажутся нам дикарями и животными, но это все потому, что мы не понимаем их и не желаем понять. Мы даже не пытаемся взглянуть на мир их глазами, ощутить себя на их месте.
– На месте этих скотов? – хохотнул прыщавый. – Ну, вы и скажете! Нет уж, спасибо, я лучше останусь на своем месте.
Барышни засмеялись, пупсик обиженно надулся.
– А я еще раз повторяю, – проворчал он, – что мы ничего о крепостных не знаем. Вдумайтесь только – ведь никто никогда не занимался толком их изучением. Мы о них вообще ничего не знаем.
– Кое-что знаем, – громко сказал прыщавый. – Они тупые, ленивые и смердящие.
Дамы опять зашлись от восторга, пупсик помрачнел еще больше.
– Разве это не странно, – горячась, заговорил Владимир, – что рядом с нами уже много столетий живут внешне похожие на нас существа, и до сих пор никого не заинтересовало, а что это за существа, как они устроены, что за мысли бродят в их головах.
– Мысли? – воскликнул офицер, а девушки уже заранее захихикали. В этом споре они явно отдавали предпочтение прыщавому герою. – Вы изволили сказать – мысли? Простите великодушно, но это чистой воды ересь. Нашими учеными мужами давно доказано, что крепостные мыслить не умеют. Да это, мне кажется, и в доказательствах не нуждается. Где вы видели хоть одного крепостного, умом далеко ушедшего от коровы? Как и скотину, крепостных занимают исключительно животные потребности, и ни о чем они не способны думать, кроме как об их удовлетворении.
– Некоторые холопы, при должном обучении, осваивают чтение и письмо, азы математики, – горячо возразил пупсик. – Разве корова способна на это?
– Я не знаю, – пожал плечами Николай. – По видимому никому не приходило в голову попытаться обучить корову чтению и письму, но ежели бы кто-то попробовал, то у него, возможно, получилось бы.
Девушки засмеялись, пупсик покраснел.
– Я вам приведу пример, – сказал прыщавый. – Вот, извольте видеть моего лакея Пантелея.
Он указал рукой на молодого парня, что стоял рядом с прочими слугами в почтительном ожидании приказа. Гриша еще во время подготовительной суеты подметил этого Пантелея, поскольку у того имелась одна весьма выразительная особая примета – огромный черный фингал вокруг левого глаза. Пантелей, как и все крепостные, отличался крайней худобой, болезненной бледностью, и казалось, что он вот-вот рухнет за землю без сил и испустит дух. Гриша не мог похвастать медицинским образованием (как и никаким другим), но даже ему было ясно, что Пантелей или серьезно болен, или же его недавно подвергли суровой процедуре телесного воспитания.
– Этот лакей у меня уже лет семь, – продолжил Николай. – Я сам лично выучил его чтению и письму, он научился считать до ста и делать простые арифметические вычисления на пальцах. Забавы ради, я обучал его закону божьему, научному православию, истории православной веры, и он даже кое-что запоминал, а после мог повторить это. Но никогда я е слышал от него чего-то такого, чего бы я не вложил в его голову. Он учился, но это учение было напрасной тратой сил и времени, потому что Пантелей, как и все прочие крепостные, не мог самостоятельно пользоваться почерпнутыми знаниями. Никогда не слышал я от него ни одной им рожденной мысли, ни одного им сделанного суждения. Он лишь повторял как попугай то, что слышал от меня, или то, что прочел в книге. Я даже не уверен, что он понимал смысл того, что говорил, и не действовал как автомат, просто воспроизводя текст. Наличие разума подразумевает возможность не только усвоения информации и овладения теми или иными навыками, как письмо и чтение, но и способность на основе почерпнутых знаний делать новые самостоятельные выводы, глубже анализировать окружающий мир, идти от простых вещей к более сложным. Крепостные же могут лишь повторять то, что услышали и зазубрили наизусть, и не более того. И то лишь до тех пор, пока вы каждый день просите их об этом. Но стоит взять ученого холопа и поместить обратно в его естественную среду, в хлев к грязным скотам, и через неделю он охотно опустится до их уровня, начисто забыв все, что умел. Опять же наглядный пример в лице Пантелея. Две недели назад совершил он проступок – прислуживая нам за столом, осмелился громко икнуть и испугать папеньку. За этого его высекли и на неделю вернули в общий сарай, где он жил с другими холопами, работал с ними, питался. И когда он вернулся обратно через неделю, я его не узнал. Это был совершеннейший дикарь, тупой и нечистоплотный, и я не мог поверить, что одна неделя способна перечеркнуть семь лет, прожитые среди людей. За эту неделю он разучился читать и писать, зато начал, я прошу прощения, портить воздух, чего с ним прежде никогда не случалось. Всего неделя, и кажущийся человек вновь вернулся в свое естественное состояние. Прежде благовоспитанный, он стал ковыряться пальцем носу, и не только в носу, сморкался в шторы, а ночью наполовину съел мой кожаный сапог. Я вызвал надзирателей, приказал бить мерзавца. И они его били. Долго, упорно, пока не выбили из него его истинную суть. Но выбили на время. Стоит прекратить ежедневно избивать его, и он опять вернется в свое скотское состояние. Так что никаких мыслей у холопов быть не может. Они не умеют думать, мечтать, не умеют любить. Это просто животные, внешне похожие на людей. Но они не люди, никогда ими не были и никогда не будут.
Дамы были в восторге от прозвучавшей речи, даже Гриша, и тот заслушался, хотя ничего не понял, а вот пупсик, едва прыщавый кончил излагать, принялся горячо возражать ему.
– Подобного рода милые вещи мне приходилось слышать неоднократно, – заметил он ворчливо. – Люди благородного сословия относятся к крепостным с подчеркнутой брезгливостью и непобедимым отвращением, считают их грязными скотами, лишенными зачатков разума и души. И это не смотря на то, что крепостные одевают и обувают нас, строят нам дома, добывают для нас пропитание и готовят нам кушанья. Они моют полы в наших домах, заправляют наши постели, накрывают на стол и моют грязную посуду. Они даже отгоняют от нас назойливых мух, они делают за нас все.
– Согласен, – кивнул офицер. – Они делают за нас всю работу, требующую физического труда. Нам же остается труд умственный, духовный. Это логично и правильно.
– Правильно насильно лишать людей права на умственный и духовный труд, оставляя им только тупую физическую работу?
– Разумеется. А как же иначе, если ни на что другое они не способны? Разве будет хорошо, если вместо себя я поставлю командовать ротой неотесанного и тупого солдата, ничего не смыслящего ни в тактике, ни в стратегии, не способного мыслить творчески, не умеющего даже читать и писать, а сам пойду вместо него рыть окопы? Какие решения сможет принять командир, не способный анализировать ситуацию?
– Вовсе не факт, что крепостные не способны не это, – возразил пупсик. – Никто просто не давал им возможности проявить себя и свои способности. Мы не позволяем им самим принимать рения, своим умом оценивать окружающий мир, анализировать его, делать выводы. С самого своего рождения они находятся под нашим контролем, и не только телесно, но и умственно. Это мы ограничиваем им доступ к информации, внушаем примитивные представления, лишаем возможности духовного и умственного роста. Их единственный источник информации это проповеди святых старцев да телевизионный канал с отупляющими передачами и фильмами. Мы ничему их не учим, кроме покорности и послушания, а учитель их – страх. Страх перед телесным наказанием или перед адскими муками за грехи. Мы учим их бояться и покорствовать. Как они могут мыслить свободно, самостоятельно принимать решения, делать независимые выводы, если мы с ранних лет отучаем их от этого, и внушаем мысль, что все это греховно и преступно?
– А что же вы предлагаете? – насмешливо спросил прыщавый.
– Я предлагаю освободить крепостных от гнета страха и лжи. Вместо святых старцев и каждодневных побоев должны быть нормальные школы, где преподавались бы науки, а не религиозные небылицы. Каждый помещик в нашей империи тратит огромные деньги на строительство церквей и храмов, так почему бы не направить честь этих денег на строительство школ? Мы выгоняем крепостных на работу, едва только они научатся ходить. Мы лишаем их детства, крадем у них тот период жизни, когда человек наиболее приспособлен для восприятия новых знаний. Дети должны учиться, а не работать по двадцать часов в сутки.
– Ну, уж вы и скажете, – засмеялся прыщавы. – Вместо церквей школы, избавить от побоев…. Сразу видно, что вы слишком много времени провели в Европе, и плохо представляете себе здешние реалии. Поверьте, голубчик, если крепостных перестать бить и пугать геенной огненной, они превратятся в животных быстрее, чем вы успеете моргнуть глазом. Вы изволили тут заявить, что страх мешает им быть людьми. А я вам говорю, что страх помогает им быть людьми, и не будь этого страха, вы бы ужаснулись. Страх сдерживает в крепостных зверя. Ведь они лишены каких-либо моральных и нравственных понятий, они не отличают хорошее от плохого и добро от зла. Уберите страх, и все эти животные моментально выйдут из-под контроля, и начнут творить все, что им пожелается. А что может пожелаться животному? Уж конечно не писать книги, не сочинять музыку, не постигать науки и не изучать философию. Животные будут грабить, насиловать и убивать – и только. Они убьют вас только затем, чтобы завладеть вашими ботинками, они изнасилуют вашу супругу просто потому, что им хочется плотских утех. Животные не умеют создавать, не умеют преумножать, они умеют только грабить. Умеют захватить уже созданное кем-то другим, но даже этой своей добычей они распорядятся не во благо своей страны и народа, но лишь для собственной выгоды. Холопы лишены понятия родины, им не свойственен патриотизм. Родина их там, где их кормушка. Они и в бога-то верят из-под палки да по привычке. А вы перестаньте их бить, вы увидите, какие они православные.
– Свобода выбора должна быть у каждого, – сказал пупсик. – И если крепостные откажутся от веры, это их право.
– Да о чем вы говорите? – взорвался прыщавый. – О какой свободе выбора? Да ежели бы они осознанно от веры отреклись, то есть пришли бы к выводу, что православие есть учение ложное и неприемлемое, то это одно дело. А им и в голову не придет об этом раздумывать и что-то для себя решать. Будут, как прежде, молитвы бормотать и поклоны бить, просто по инерции. Перекрестятся, и пойдут глотки резать. А кому резать-то? Вам же и пойдут. Или вы думаете, они понимают, что такое бог или вера? Ничего они не понимают. То, что они молитвы бормочут и поклоны бьют, это результат дрессировки, не более того. Моя собака тоже умеет бегать за палочкой, и мне ее приносить. Полагаете, собака понимает, что она делает? Осознает?
– Крепостные не животные! – с каким-то непонятным упрямством повторил пупсик. – И вы напрасно их сравниваете с собакой. И напрасно упрекаете меня в том, что я долго прожил в Европе и не понимаю России. Могу вас заверить, что я понимаю крепостных лучше, чем вы. Я две недели провел среди них, жил их жизнью, общался с ними не как барин, а как равный, и могу вас заверить – все, что вы говорите о них, это сплошное заблуждение.
Новость вызвала сенсацию. Все, особенно дамы, набросились на пупсика, требуя от него рассказа о своем эксперименте, который Танечка в порыве чувств назвала почему-то великим нравственным подвигом. Пупсик вначале кривлялся, ломался, но уступил просьбам общественности. Гриша ревниво заметил, как похотливо косился свершитель великого нравственного подвига на Танечку, и тут же возненавидел пупсика всей душой. Таких ботаников он в школе окунал головой в унитаз – были же чудесные времена! И ведь не ценил.
– Я приказал поставить свою кровать в барак крепостных, – начал хвастаться пупсик. – Вначале я хотел отделить свое спальное место перегородкой, ибо в бараке стоял ужасный смрад, но передумал. Мне необходимо было глубже понять этих людей, слиться с ними, а перегородка лишь помешала бы мне. И в первую же ночь я понял, что поступил мудро. Вы тут изволили сказать, что крепостные не способны мыслить творчески, что они просто животные, но вот вам пример, доказывающий обратное. Итак, я заснул, но спалось мне плохо. В бараке ужасно воняло, было жарко, душно, холопы храпели. Далеко за полночь я задремал, но вскоре был разбужен кошмарным грохотом. В страхе я вскочил со своего ложа, полагая, что рушится потолок, или же еще хуже – разверзается земная твердь под моими ногами. Я не мог обнаружить источник шума, как вдруг грохот повторился. Тут я понял, что это было. Это ближайший ко мне холоп изволил пустить ветры. Изнемогая от порожденного его задом смрада, я зажал пальцами нос, и хотел было броситься вон из барака, но тут этот холоп повернулся ко мне, и сказал фразу, потрясшую меня до глубины души. Он сказал: ночью жопа барыня. После чего прогремел в третий раз.
Слова крепостного потрясли меня настолько, что я забыл и о смраде, и о духоте. Я лег обратно в кровать и стал думать. Слова холопа были и логичны и остроумны, в них присутствовала великая мудрость, та самая народная мудрость, о которой принято говорить, но мало кто понимает, о чем идет речь. Я словно бы прикоснулся к древнему и могучему кладезю мудрости, что веками накапливался русским народом, множился от поколения к поколению, рос и развивался. И как же мы не замечали его прежде? Ведь он всегда был у нас перед глазами.
Взволнованный своим открытием, я встал с постели и разбудил холопа. Мне хотелось вновь прильнуть к источнику народной мудрости, хотелось черпать из этого источника. Я попросил холопа сказать еще что-нибудь, но он не проронил ни слова, только долго и пристально смотрел на меня, словно оценивая – достоин ли я. Затем он опять упал на солому и захрапел, а я вернулся на кровать. Я понял, что холопы все еще не доверяют мне, считают чужаком, пришельцем из другого мира, из мира господ. Следовало набраться терпения.
Пупсик замолчал, переводя дыхание. Танечка, взирая на него восторженным взглядом, прошептала:
– Какой вы храбрый. Я бы умерла со страха, если бы мне довелось провести ночь в холопском бараке.
– Все холопы вшивые, по ним блохи скачут, – заметила овечка Катрин. – Это ужасно. Разве можно доводить себя до такого состояния? Я согласна, что жестокое обращение с крепостными недопустимо, и мне всегда больно видеть, как кого-нибудь из них наказывают оглоблей, но их нечистоплотность вызывает во мне отвращение. Особенно это касается женщин. Разве женщины могут выглядеть так, как выглядят они? И благоухать так, как они?
– У нас в имении холопов при каждом дождике моют, – похвасталась брюнетка. – Как дождик, так их раздеться заставляют, и себя ладошками тереть. Дождики, правда, редко бывают. Зато зимой они каждый день моются – снегом. Говорят, снежные ванны очень полезны, они бодрят и укрепляют здоровье.
– В тех условиях, в которых они живут, трудно выглядеть достойно, – заметил пупсик.
– В любых условиях женщина должна выглядеть достойно, – возразила Катрин. – Конечно, никто от них не требует заграничных нарядов и дорогой косметики, но можно же хотя бы брови угольком подрисовать, щеки подрумянить свеклой. Мне бабушка рассказывала, что так в старину делали. Это ведь не трудно. А они даже не умываются, даже зубы не чистят. Это дикость.
Гриша стоял, слушал, и криво улыбался. Очень ему хотелось посмотреть на овечку Катрин, окажись она в холопской шкуре. Как бы она подрисовывала брови угольком и терла щеки свеклой. И было бы ей до красоты, когда с утра по спине дубиной, в обед кнутом по заднице, на ужин кулаком в ухо, а между этими ласками адский труд – тупой, однообразный и никому не нужный. И в качестве приятного дополнения – помои вместо еды. При таком раскладе не то что брови угольком подрисовывать, жить не захочется.
– Нечистоплотность у крепостных в крови, – сказал прыщавый.
– Неправда, – возразила Танечка. – Вот моя горничная, – она указал на стоящую подле нее Матрену, – очень чистоплотная, всегда за собой следит. Никогда я не замечала от нее неприятного запаха, никогда не видела ее грязной.
– Да, но стоит вернуть ее обратно в барак, и через неделю ваша горничная превратится в ту нечистоплотную свинью, каковой и является по своей сути, – пожал плечами прыщавый. – Я даже думаю, что ей вся эта чистота вовсе неприятна, и даже в тягость, и она только и мечтает о том, как бы вываляться в грязи и источать смрад.
«Повстречать бы тебя, пидора, в темном переулке, – возмечтал про себя Гриша, волком глядя на офицера. – Как дал бы по морде – все прыщи бы осыпались».
– Матрена, подойди, – попросила Танечка.
Горничная торопливо подбежала к хозяйке, и застыла рядом с ней, ожидая дальнейших указаний.
– Матрена, тебе нравится быть чистой, или ты больше грязной быть любишь? – спросила Танечка.
Кажется, таких трудных вопросов Матрене сроду не задавали. Она сильно растерялась, и, боясь поднять глаза на знатных господ, чуть слышно пролепетала:
– Как вам будет угодно.
– Да нет, Матрена, я тебя спрашиваю – что тебе больше нравится, – громко и с нажимом сказал Танечка. – Ты сама должна ответить. Нравится тебе каждый день мыться, или не нравится?
– Как прикажете, – робко прошептала Матрена.
– Ну, что я говорил! – обрадовался прыщавый. – У них даже своего мнения нет, да и быть не может.
Но Танечка не сдавалась.
– Матрена, – сказал она ласково, – если ты мне сейчас не ответишь, я тебя прикажу прямо сейчас насмерть насечь. Отвечай – если бы тебе было позволено решать за себя, ты бы стала мыться каждый день, или бы вовсе не мылась?
Гришины глаза забегали – он оценивал обстановку. На Матрену и Тита он не рассчитывал, так что приходилось надеяться только на себя. Все надзиратели собрались у машин, до них довольно далеко, вокруг только холопы, но те пассивны и забиты, они господ защищать не кинутся. Так что если резко рвануть, схватить со стола нож и приставить его к горлу Танечки, можно диктовать свои условия. На миллион долларов и самолет до Америки рассчитывать глупо, но, по крайней мере, они сумеют сбежать. А дальше будь что будет. Слишком далеко в будущее Гриша никогда не заглядывал, но одно он решил твердо – засечь Матрену до смерти он не позволит.
Как Гриша и рассчитывал, даже под угрозой смерти Матрена не сумела подумать своей головой. Точнее – не смела. Ей с рождения внушали, что она тварь бессловесная, назначение которой одно – исполнять чужую волю, а свою иметь вовсе не положено. И внушали не абы чем, а кнутом, кулаком и дубиной. Это был метод воспитания кнута и кнута. Пряник же обещали только после смерти, в качестве компенсации за несладкую жизнь на грешной земле.
Прошла томительная минута, затем Матрена вдруг грохнулась перед барыней на колени, зарыдала и стала униженно просить прощения и пощады. Гриша уже готов был взять низкий старт к господскому столу, уже присмотрел лежащий на краю стола нож для нарезки торта, но тут Танечка проявила доброту. Она не только не стала наказывать горничную, но даже пожаловала ей кремовое пирожное. Матрена, заплаканная и растерянная, как будто еще не верящая, что страшная смерть обошла ее стороной, вернулась в строй слуг, держа в руке утешительный приз. Гриша медленно выпустил воздух из легких и разжал кулаки. Революция отменялась.
Глава 27
После допроса Матрены пупсик продолжил рассказ о своем великом нравственном подвиге. Розовый холеный толстячок говорил о том, как он вместе с холопами пробуждался рано утром и шел завтракать. Вот только вместо помоев барский отпрыск вкушал бутерброды с ветчиной, запивая их кофе со сливками.
– Я завтракал вместе с ними, на воздухе, – взволнованно вещал пупсик, а остальные господа и дамы, подавшись вперед, жадно слушали эти откровения. – Я ел такую же грубую пищу, что и они. Я приказал поставить свой столик рядом с Капитоном – так звали того холопа, с которым я познакомился ночью. Он стоял и ел помои, я сидел с ним рядом и пил кофе с бутербродами. Никогда еще я не ощущал такую близость к простому русскому народу. В этом Капитоне я увидел человека большого ума и великого христианского смирения. Но если наш ум отравлен знаниями, большинство из которых вовсе не нужны и не применимы в жизни, то его ум был чист от всевозможной шелухи. Я предложил ему бутерброд с ветчиной, но он вежливо отказался, сказав мне, что господь не велит ему вкушать господскую пищу. Вначале я решил, что он боится, и не берет из страха, но после меня буквально осенило. Ведь судите сами – мы, дворяне, вкушаем пищу утонченную и разнообразную, потребляем изысканные блюда многих кухонь мира, и при этом постоянно чем-то болеем. И взгляните на холопов. Вы видели когда-нибудь больного холопа? Никогда. Ни один холоп никогда не жалуется на здоровье, он бодр и трудолюбив до самой смерти. А причина тому его естественная простая пища. В помоях нет никаких вредных веществ и элементов, все, что в них содержится исключительно полезно для организма. Мы, господа, сами травимся изысканными кушаньями, и при этом питаем своих рабов самой здоровой и полезной едой на свете.
– Неужели вы тоже ели помои? – спросила Катрин с выражением отвращения на лице.
– Нет, увы, – покачал головой пупсик. – Я хотел попробовать, но Капитон объяснил мне все. Он сказал, что мясо да икра – господская еда, а помои да отруби – холопская. И заметил, что так же, как если холоп отведает мяса, он помрет, и господин, если отведает помоев, тоже помрет. Я понял его слова. Он хотел сказать, что к полезным и здоровым помоям нужно привыкать с рождения, и тем более к не распаренным отрубям, от которых у любого благородного человека сразу произойдет заворот кишок. Мы, выросшие на изысканных кушаньях, уже никогда не сможем питаться полезной едой – помоями. И в этом трагедия нашего поколения.
– Неужели помои это полезная еда? – усомнилась блондинка, к которой у Гриши имелись большие счеты.
– Разумеется. Ведь что входит в состав холопских помоев? Во-первых – вода. Вода, это источник жизни на нашей планете, это основа основ и начало начал. Человеческое тело на восемьдесят процентов состоит из воды. Много ли воды пьете вы? Едва ли. Вы пьете разные соки, компоты, алкогольные напитки, чай или кофе, но не воду. В то время как вода является необходимым организму элементом. Во-вторых, в состав помоев входят сырые овощи, такие как кожура от картофеля, гнилые капустные листья, кусочки моркови, лука. Мы едим овощи в вареном или жареном виде, но любая термическая обработка убивает в них все полезные элементы. Холопы едят овощи сырыми, и потому получают все содержащиеся в них витамины и микроэлементы. Еще в состав помоев входит заплесневелый хлеб. Но что такое плесень? Это грибок. А любой гриб, это источник чистого протеина. К тому же размокший хлеб легче переваривается и не перегружает желудок. Люди благородных кровей постоянно страдают расстройства пищеварения, потому что питаются неправильно, потребляют тяжелую, вредную для организма пищу. Но ни один холоп еще не пожаловался на боль в животе, или, я прошу прощения, на запор. Желудок холопов работает как часы, и все благодаря правильному питанию. Так же в состав помоев входит яичная скорлупа, а это чистый кальций, делающий кости крепкими. Вот в чем секрет выносливости холопов. Они работают по двадцать часов в день, они способны перемещать тяжелые предметы. Их кости настолько крепки, что спокойно выдерживают удары дубиной или оглоблей.
– А ведь правда, – прошептала овечка Катрин. – Я на днях одну свою служанку бронзовым бюстом Кутузова по голове ударила, и ничего. Встала, платье поправила, и пошла за тряпкой – кровь с пола вытирать. Если бы меня так ударили, я бы умерла.
– О чем я и говорю, – кивнул пупсик. – Кальций – великая вещь. А уж о комбикорме, турнепсе и отрубях нечего и говорить – чистые витамины. Я прочел в одном научном журнале, что в трех мешках турнепса содержится больше килокалорий энергии, чем в стограммовом бифштексе. Но если мясо вызывает избыток холестерина и ускоряет процесс старения организма, то турнепс напротив, выводит все вредные вещества и способствует омоложению. Так кто же мудрее и разумнее: мы, что травим себя изысканными кушаньями, или крепостные, потребляющие исключительно здоровую и полезную пищу?
Затем пупсик стал рассказывать, как отправился вместе с Капитоном перекапывать поле. Он сам попросил раздающего работы надзирателя ни в чем его не выделять, так что им дали норму на двоих: вместо одного гектара в день – два. Капитон вскапывал землю тупой лопатой, барин, опершись на лопату, вел с ним беседы. Во время заутренней порки (в имении пупсика холопов секли четыре раза в сутки, и порки назывались соответственно: заутреня, обедня, вечерня и всенощная) Капитон получал по спине плетью, а барин сидел рядом, пил какао с французской булкой и поражался, с каким философским спокойствием его новый друг воспринимает профилактическую взбучку. После порки пупсик спросил у Капитона, не больно ли ему. Капитон ответил: господь терпел и нам велел. И в этих словах барин тоже усмотрел великую мудрость.
Вечером Капитон выхватил внеочередную призовую порку, поскольку не успел перекопать два гектара за себя и того парня, что целый день топтался рядом и отвлекал от работы глупыми вопросами. Пороли не плетью, как во время профилактических процедур, а мокрым полотенцем. Капитон орал, поминал господа, ангелов, пресвятую деву Марию и прочих небожителей. Пупсик стоял рядом, слушал и восхищался высоким уровнем духовности холопа. Даже в минуту суровых испытаний, он не забывал о господе, взывал к нему, уповал на него. А когда надзиратели объявили, что за невыполнение нормы Капитон останется без ужина, пупсик даже прослезился от жалости. Он быстро доел мясное рагу, допил вино, подошел к холопу и обнял его, как брата, шепча в ухо слова утешения и поддержки.
Всю следующую ночь барин и холоп вели беседы о высоких материях. Пупсик восхищался простой жизнью крестьянина. Он говорил Капитону о том, как это прекрасно постоянно поддерживать контакт с живой природой, работать на земле, своими руками добывать себе помои насущные. Капитон, зверски уставший за день, вынужден был стоять, слушать и кивать. Его необоримо валило в сон, но надзиратель шепнул ему на ушко, что если он посмеет сомкнуть очи прежде, чем барин выговорится, его ждет очень-очень много неприятных ощущений. Ну а барин и не собирался замолкать. Он все говорил и говорил, восхвалял простую крестьянскую жизнь и тут же принимался клеймить аристократию, паразитирующую на труде простого мужика и простой бабы.
– Это ужасно! – сокрушался пупсик, сидя на своей кровати посреди холопского барака. – Прежде я не понимал, насколько наш образ жизни противоестественен, насколько он противен самой природе. Мы ничего не производим, ничего не создаем, мы лишь потребляем плоды чужих трудов.
Тут он взял с полочки бутерброд с ветчиной, умял его, запил остывшим кофе, и с жаром продолжил:
– Сегодня у меня открылись глаза на всю несправедливость нашего мира. Я понял, что наше социальное устройство несовершенно, что великая масса народная не должна тратить девяносто девять процентов своих усилий на содержание жалкой кучки бездельников и дармоедов. Боже, сколько же крови мы попили из наших соплеменников за те века, что угнетали и эксплуатировали их. И не просто эксплуатировали, но и оправдывали это страшное преступление божьей волей, освящали его, возводили в ранг неизбежности и предопределенности. Но теперь я смотрю на все это, и вижу, что мы исказили и извратили божью волю, что так быть не должно и не может. Господь справедлив, а здесь нет никакой справедливости.
Пупсик был взволнован, а когда он волновался, то всегда хотел кушать. Его личный лакей уже четыре раза за ночь бегал в барак с тарелками бутербродов и чашками кофе. Капитон стоял столбом напротив постели барина, слушал его пламенные речи, кивал время от времени невпопад и старался не истечь слюной, глядя на то, как господин изволит лечить нервишки ветчиной. Ничего из того, что говорил молодой барин, Капитон не понимал, да и не мог понять, потому что мозг его, и без того погруженный во тьму невежества и мракобесия, почти не соображал от жуткой усталости и желания поскорее упасть и уснуть.
– Я полагаю, что есть более справедливая форма общественного устройства, – поделился своими соображениями пупсик, дожевав второй бутерброд. – И мне кажется, что в будущем, когда человечество достигнет стадии высокого духовного просветления, уже не будет ни слуг, ни господ, и все будут равны. Каждый сам будет добывать себе все необходимое, и никто не станет угнетать другого ради обретения материальных благ.
Тут пришли надзиратели на всенощную порку. Холопов разбудили пинками, установили в воспитательные позы, и пошли пороть. Капитон тоже не избежал профилактической процедуры. Пока его и прочих крепостных секли кожаными ремнями, вымоченными в соляном растворе, пупсик сидел на кровати, и с мечтательным видом думал о временах высокого духовного просветления.
Получив свое, холопы вновь попадали на солому, а Капитон, едва держащийся на ногах, опять оказался напротив барина. И вновь зазвучали речи о вопиющей несправедливости, о необходимости глобальных перемен и о благословенных временах равенства и братства, что неминуемо наступят в далеком будущем. Капитон же в то время думал о том, что завтра ему опять придется скапывать два гектара вместо одного, потому что барин вряд ли от него отвяжется, пока не отправит на заслуженный отдых. А вскопать два гектара он не успеет, и вновь останется без ужина. И без сна, потому что вновь придется стоять и слушать барина. Но Капитон не роптал, и сносил все с христианским смирением. Да и глупо было роптать супротив божьей воли, согласно которой все в мире и происходит.
Ближе к утру, за час до подъема, барин утомился и изволил отойти ко сну. Едва он заснул, как Капитон бревном повалился на солому, захрапев еще в полете, но не успела его голова коснуться пола, как в бок вонзился носок тяжелого сапога.
– Встать! – шепотом, чтобы не разбудить барина, приказал надзиратель. – Вчера норму не выполнил, гнида, сегодня начнешь на час раньше.
Капитон поднялся, взял лопату, получил плетью заутреню, и пошел работать без завтрака.
Хорошо поспав, пупсик к трем часам дня появился на поле, где Капитон, держась на одной вере в бога, перекапывал землю тупой лопатой. Сегодня он превзошел самого себя, и почти закончил гектар, но второй ему до ужина было не успеть. Обед Капитон тоже пропустил – надзиратели о нем попросту забыли, а в имени действовало строгое правило: кто не поел – тот пролетел. Так что когда пупсик, сытый, румяный и бодрый появился на пашне, Капитон, едва живой от голода и усталости, воображал себе царство небесное в виде бескрайнего тазика, полного комбикорма.
– Брат Капитон, погода-то какая! – воскликнул пупсик. – Душа поет. Вот бы сейчас в лес сходить, по грибы. А?
Несмотря на усталость, Капитона при упоминании грибной охоты объял липкий ужас. Вспомнил он, горемычный, один страшный случай из своего холопского детства, и стало ему не по себе.
Страшный случай, произошедший с крепостным Капитоном в далеком детстве при сборе грибов в господском лесу.
Было это давно, когда Капитон, восьмилетний мальчишка, худой как щепка, болезненно-бледный, покрытый слоем грязи и разноцветными гематомами, еще жил в детском бараке. Работа у него тогда была не пыльная – он таскал кирпичи. От этих кирпичей (меньше чем пять штук за один раз брать запрещали, иначе грозились переломать руки, ноги и то, что между ними) с ладоней мальчишки не сходили кровоточащие и гноящиеся мозоли, а надзиратели, глядя на это, весело ржали и кликали его чемпионом рукоблудия. Но вот однажды Капитона сняли с кирпичей, окатили водой из ведра, и отвели к воротам на территорию барского особняка. Он должен был сопровождать трех барских фавориток в походе за грибами.
Дело в том, что супруга барина, несмотря на молодость, отличалась скверным здоровьем и по этой причине почти безвылазно проживала на Кавказе, лечась там минеральной водой и прочими целебными дарами природы. А молодой барин, дабы не скучать завел себе вначале одну, а затем и вторую любовницу. Обе девицы, Настасья и Ольга, повторили карьеру Акулины. Их обеих вытащили из грязи, отмыли, еще раз отмыли, потом еще раз отмыли, показали барину, и тот остался доволен. Девки очень старались доставить господину радость, и у них неплохо получалось. Вначале они конфликтовали, но вскоре конкурирующие стороны пришли к соглашению, и с тех пор действовали совместно, так что если одна по каким-то причинам не могла исполнить всех своих служебных обязанностей, ее подменяла другая.
Девки жили как в раю. Барин не жалел денег на подарки, одевал их как принцесс, исполнял все прихоти. Девки, впрочем, не наглели, ибо прекрасно понимали шаткость своего положения.
Так прошел год. Настасья и Ольга к тому времени уже чувствовали себя полноправными хозяйками в господском доме, понукали прочими крепостными как своими рабами, придирались к ним и били нещадно за дело и просто так. Но вдруг, как снег на голову, на них обрушилась беда. Прогуливаясь по женской территории с обходом, барин заприметил среди бесполых страшилищ с упирающимися в землю руками и жуткими лицами молоденькую девчушку лет пятнадцати, высокую, худенькую и большеглазую. По приказу барина девчушку, звавшуюся Марфой, отскребли от слоя грязи и в чем мать родила привели на осмотр. Барин внимательно осмотрел и пощупал юное дарование, и остался очень доволен увиденным и пощупанным. Конечно, по сравнению с Настасьей и Ольгой Марфа была еще ребенком, но то ли в барине проснулся педофил, то ли просто захотелось свежих впечатлений, но он все же решил взять Марфу в дом, руководствуясь, вероятно, тем соображением, что бог любит троицу.
С первых же дней Настасья и Ольга невзлюбили Марфу, и на то были причины. С появлением новой пассии барин заметно охладел к ветеранам, уделял все внимание исключительно Марфе и открыто называл ее своей любимицей. Отныне все самые лучшие подарки доставались ей, а старая гвардия, иной раз, оставалась вообще ни с чем. За обедом Марфа сидела к барину ближе всех, он проводил с ней почти все ночи, кроме субботней, в которую традиционно устраивалась оргия с участием даже запасных игроков. Но Настасье и Ольге отнюдь не нравилось посиживать на скамейке запасных, поскольку это приносило гораздо меньше прибыли, чем игра в основном составе.
Но последней каплей стало заявление барина о намерении барина даровать Марфе свободу, и не только свободу, но и купить ей небольшое имение по соседству, где бы она была полноправной хозяйкой, и куда бы благодетель мог ездить к ней в гости. Тут уже терпение подруг лопнуло. Они и раньше смотрели на Марфу как на своего заклятого врага, а теперь и вовсе озверели. Барин уже настолько охладел к ним, что заставлял мыть полы, посуду, работать с прачками, и недалек был тот день, когда обе вчерашние королевы вернутся обратно в тут грязь, из которой их когда-то извлекли.
Выход был один – устранить коварную и подлую Марфу физически. Подруги были уверены, что тинэйджерка только с виду кажется простой и глупой, а на самом деле строит против них козни и нашептывает барину всякие гадости. И хотя в действительности Марфа ничем таким не занималась, поскольку была именно простой и глупой, смертный приговор ей был вынесен и утвержден.
И вот как-то раз весь гарем в полном составе собрался в лес по грибы. Это была идея Настасьи и Ольги. Они наврали Марфе, что барин большой любитель грибов, и предложили порадовать благодетеля собранным своими руками лакомством. Наивная Марфа тут же согласилась. И в тот день, когда барин рано утром уехал в город по делам, три наложницы, прихватив с собой крепостного мальчишку, чтобы нес лукошко, отправились в ближайший лес. При этом Настасья взяла топор, сказав, что будет срубать им крупные грибы, а Ольга взяла лопату, чтобы самые крупные грибы подкапывать. Простодушная Марфа всему поверила.
Три красны девицы в русских народных сарафанах и в лаптях, сопровождаемые крошкой Капитоном, потащились в лес, собирать подберезовики. Но из всех троих грибы честно искала только глупая Марфа, а Настасья и Ольга шепотом выясняли, кому выпадет честь отправить конкурентку на заслуженный отдых. Набожная Ольга не хотела брать грех на душу, Настасья была менее религиозна, но и ей не хотелось пачкать руки в крови. В итоге решили тянуть жребий. Потянули. Выпало рубить конкурентку Ольге. Всплакнула Ольга, да ничего не поделаешь. Нужно. Определившись с исполнителем, хитрые бабы коварством заставили Марфу рыть себе же могилу. Дали ей лопату, указали место, и наврали, что тут, на глубине двух метров, растут удивительные грибы – подземельники. А барин, между прочим, эти грибы больше всего на свете любит кушать.
Глупая Марфа до невозможности была рада угодить благодетелю. Схватила она лопату, и ну копать яму, а добрые девушки Настасья и Ольга ей еще пальчиками показывали, какую яму надо копать и где. В итоге девка перекидала куба три земли. Настасья, не желая транжирить добро, предложила Марфе снять сарафан, дабы в земле не испачкать. Марфа сняла одежду, и отдала заботливой подруге, оставшись в одних лаптях, потому что нижнее белье экономила, и надевала лишь в торжественных случаях, руководствуясь принципом, что оно, дескать, завтра пригодится. Так, в чем мать родила, и копала себе могилу.
Когда яма стала настолько глубока, что Марфа уже скрылась в ней с головой, Настасья предложила девке вылезти и передохнуть. Марфа вылезла – выбраться помогли заботливые подруги. Они же предложили перекусить, и даже сами накрыли поляну. И вот когда Марфа присела на травку голой попкой, и сунула в ротик малосольный огурчик, Оленька, подкравшись к ней со спины, занесла для удара топор.
Последовательница Раскольникова оказалась способной ученицей. Первым же ударом она отправила конкурентку в мир иной. Затем они с Настасьей сбросили голое тело Марфы в яму и стали по очереди закапывать могилу. Но тут произошло событие, едва не погубившее все дело. Напевая какую-то нерифмованную чушь, из зарослей вдруг вывалился крепостной Епифан, в обязанности которого входил сбор дров для камина. И хотя камин давно уже был газовым, никто не отменял сбор дровишек. Епифан каждый день собирал их в лесу, приносил в имение и там складировал в огромную поленницу.
Заметив двух знакомых девок с лопатой на краю большой ямы, Епифан растерялся и крепко удивился.
– Ой, барышни, а что же вы тут делаете? – спросил он ласково, по-отечески, ибо годился им в деды.
– Грибы! – угрожающим тоном бросила Настасья случайному свидетелю, взглядом нащупывая лежащий подле нее топор.
– А, грибочки собираете, – обрадовался Епифан.
– Ты чего, не понял? – разозлилась Настасья, протягивая руку к топору. – Тебе же сказано было – грибы отсюда!
Тут мужик понял, что в чужие дела лезть – себя не жалеть, и поспешил от греха подальше, собирать дрова. Но далеко уйти ему не удалось. Настасья и Ольга, быстро посовещавшись, решили, что оставлять свидетеля глупо. Тогда хитрая Настасья покликала Епифана обратно, поманила пальчиком к яме, и попросила заглянуть в нее. Епифан – душа нараспашку и мозги набекрень, подошел и заглянул. А в следующую секунду его постигла судьба некой Лизаветы, тоже погибшей чисто за компанию.
Пока Ольга пучком травы счищала с лезвия топора налипшие мозги Епифана (у мужика, как выяснилось, были мозги, хотя кто бы мог подумать), Настасья, хрипло дыша, забросала землей парное погребение. Сверху на могилу набросали сухих веток и палой листвы, после чего достали из лукошка бутылку винца, откупорили, и помянули рабов божьих, сложивших головы за веру. Очень уж были доверчивые, верили всем, вот и сложили головы за эту веру. А после поминок подозвали к себе маленького Капитона, который стоял рядом и все видел, показали ему топор и ласково предупредили, что если вдруг он что-нибудь кому-нибудь сболтнет, то отправится на заслуженный отдых не успев устать. Капитон от ласковых уговоров, не сходя с места, обмочился и обгадился на неделю вперед, а про себя решил вообще больше никогда не разговаривать, дабы случайно не проболтаться.
Обратно в имение две лучшие подруги вернулись уже затемно, уставшие, но очень довольные. За ужином барин заметил, что за столом отсутствует Марфа. На вопрос о том, куда делась его любимица, Настасья, сделав печальные глаза, ответила, что несчастную сегодня в лесу загрызли волки. Барин помрачнел – крепко ему успела полюбиться Марфа. Тогда Ольга добавила, что фаворитка погибла героически, защищая их от волков, и если бы не она, то погибли бы все. Барин совсем пригорюнился – Марфу было жалко. Но тут Настасья и Ольга, не сговариваясь, нырнули под стол, и уже через минуту барин забыл и о Марфе, и о волках, и вообще обо всем на свете. А в это самое время в детском бараке, лежа на соломе, трясся от страха и истекал испражнениями маленький мальчик Капитон. Из боязни проговориться во сне, он набил себе рот навозом, и данная привычка сохранилась у него на всю жизнь. Иногда утром он забывал вытряхнуть свой зловонный кляп, и ходил с ним до завтрака, а если с завтраком случался пролет, то до обеда. Надзиратели даже повадились в шутку бить его по спине бревном, когда замечали, что щеки Капитона раздуты. От удара Капитон проглатывал свой кляп, а надзиратели весело хохотали.
Вот, собственно, по какой причине при упоминании грибов у Капитона мелодично сыграло очко.
– Капитон, брат, – восторженно вещал пупсик, встав рядом с рабом и наблюдая за его простым крестьянским трудом, полным величавого благородства. – А не махнуть ли нам с тобой за грибами?
У несчастного мужика едва не подкосились ноги. Он еще в раннем детстве узнал, зачем господа ходят в лес по грибы.
– Докапывай скорее свою норму, и пошли в лес, – принял решение пупсик. – Ужин прогуляем, ну и ладно. Зато свежим воздухом подышим, березки обнимем, водицы родниковой изопьем.
Второй гектар Капитон закончил часам к девяти вечера. Ужин он пропустил, точнее его к столу и не приглашали. О барине, впрочем, не забыли. В поле приехал автомобиль, привез кушанья. Прямо на пашне накрыли столик, пупсик сел и отужинал плотно, как всегда любил. Капитон рядом рыл землю, находясь в шаге от голодного обморока. И хотя он знал с детства, что господские кушанья для холопов чистейший яд, но яд на тарелке пупсика так благоухал, что у бедолаги мутился рассудок. Дважды он терял сознание, но был тут же возвращен в суровую реальность ударами дубины. В третий раз он не просто отключился, у него остановилось сердце. В состоянии клинической смерти Капитон обнаружил себя несущимся по черному тоннелю, а в конце этого тоннеля, сияя и переливаясь всеми цветами радуги, ждала его райская благодать – огромная тарелка картофельной кожуры. Рядом с тарелкой Капитон разглядел двух ангелов с голубиными крылышками, которые призывно махали ему руками и добро улыбались. Капитон возликовал, ибо кончилось страшное земное бытие, и вот наступает долгожданнее воздаяние за все побои и унижения, за постоянный голод и адский труд, за спанье на соломе и хождение в обносках. Все, что говорили святые старцы, оказалось правдой.
Но когда до тарелки с божественным лакомством оставалось всего ничего, откуда-то сзади прозвучал гнусный голос из прошлой жизни. А вслед за этим раздался страшный удар, тоннель захлопнулся, и Капитон обнаружил себя лежащим на пашне. Над ним навис надзиратель, намереваясь повторно ударить его ногой в грудь.
– А! Очухался! – заорал страшный жлоб, и тут же провел процедуру реабилитации – отлупил Капитона палкой. Вернувшийся с того света мужик кое-как поднялся под градом ударом и вновь схватил лопату. Он понял – надо работать лучше и усерднее, поскольку до этого он, видимо, плохо исполнял свои обязанности раба, раз царство небесное от него ускользнуло.
Вечером барин с Капитоном и пятью надзирателями пошли в лес, собирать грибочки. При этом один из костоломов задушевным голосом сообщил Капитону, что если тот до темноты не набьет грибами свою и барскую корзины, ночь его ждет весьма интересная. При этом прозрачно намекнул, что старый баян, которым баловался один из надзирателей, пока не сломал, может в эту ночь очутится у Капитона в таком неожиданном месте, что мало не покажется. Капитон затрясся от страха – у него уже имелся определенный анальный опыт: как-то надзиратели, перепившись самогона, затолкали ему в зад четыре веника сразу, и заставили бегать по двору, изображая кочета. Так что стимул искать грибы у Капитона был велик.
Капитон, забыв об усталости, бегал по всему лесу, заглядывал под каждый куст, ворошил сухую листву, нюхал воздух, как трюфельная свинья. Но словно какое-то проклятье довлело над ним – чертовы грибы никак не желали искаться. Один раз он нарвался на целую поляну огромных грибов с красивыми красными шляпками, набил ими свою корзину и помчался к барину, похвастаться добычей.
– Ну что ты, Капитон? – засмеялся пупсик, оценивая улов. – Это же мухоморы. Их кушать нельзя.
Тут же пупсик рассказал, что в старинные года некоторые викинги готовили из мухоморов удивительный настой, пили его и превращались в берсеркеров, и такое творили на поле боя, да и в мирной жизни тоже, что их даже свои соратники побаивались. Все поблагодарили барина за лекцию, затем один из надзирателей отвел Капитона за ближайшее дерево, взял из его корзины самый большой мухомор, и заставил холопа поужинать. Гриб оказался на вкус сладковатым и не слишком приятным, но Капитон за свою жизнь ничего слаще отрубей все равно не пробовал, так что мухомор ему понравился. Надзиратель же, пробив по печени, ласково напомнил Капитону, что время тикает, и у его зада есть все шансы взять сегодня ночью несколько уроков игры на баяне.
Новоявленный берсеркер все понял, и тут же бросился искать хорошие грибы. Пупсик бродил по лесу, мечтательно насвистывал, вспоминал свою последнюю поездку в город, в частности визит к одной даме повышенной аморальности, надзиратели шли рядом, оберегая барина от любых возможных опасностей, а Капитон, как с уда сорвавшись, носился по лесу с круглыми глазами, и изо всех сил искал грибочки. Он нашел две лисички, подберезовик, с пяток опят, но тут съеденный мухомор дал о себе знать. Капитон не отравился и не ощутил прилив отваги и кровожадности на пример викингов – его тренированный организм мог без всякого ущерба переварить и кирзу и гудрон. Но вот на клапан придавило так мощно и неизбежно, что холоп, прекратив бегать, вынужден был тащить портки и присесть под куст. И все бы обошлось, если бы вдруг рядом с ним не возник барин вместе со своей стражей.
– Что же ты, Капитон, – расстроился барин, глядя на своего нового друга, застигнутого в самый неподходящий момент. – Я думал, мы с тобой грибы собираем, а ты….
Так обиделся пупсик на Капитона, что даже испортил себе настроение. Собирать грибы он больше не хотел, и приказал везти его обратно в имение. Капитон, растеряно хлопая глазами, натягивал штаны, когда к нему подошел широко улыбающийся надзиратель, похлопал по плечу дубиной, и весело сказал:
– Ну что, берсеркер, слюнявь очко. Баян ждет.
Огорченный пупсик в эту ночь отправился спасть в особняк, а вот Капитону, как и обещали надзиратели, было не до сна. Что там с ним делали в воспитательном сарае, так и осталось загадкой, но всю ночь оттуда неслись дикие крики и как будто музыка. А когда утром Капитон в раскорячку вышел из воспитательного сарая, то при каждом шаге из него низом звучала та или другая нота. Надзиратели заставали холопа пойти трусцой, и едва он припустил, как ноты слились в берущую за душу мелодию.
За ночь пупсик успокоил свою тонкую душевную организацию (помог плотный ужин, в ходе которого было поглощено восемь рябчиков и выпито две бутылки вина) и утром следующего дня вновь проникся к Капитону братской любовью. Напрасно музыкальный холоп думал, что барин наконец-то отстал от него, и все обошлось малой кровью и порванным задом. Едва Капитон получил лопатой по спине и разнарядку копать землю, как тут же рядом с ним появился сияющий пупсик, нежно обнял друга, и сообщил, что им о многом нужно поговорить. Слыша это, Капитон не выдержал и всхлипнул. О уже понял, что хуже барского гнева может быть только барская любовь.
Спустя два дня пупсик стоял весь в слезах, и с болью в сердце смотрел на хладный труп внезапно и беспричинно скончавшегося Капитона. Только вчера этот веселый и жизнерадостный мужик, не унывающий ни при каких обстоятельствах, работящий, всегда добрый и приветливый, прекрасный и умный собеседник, был здоров и чувствовал себя превосходно. До поздней ночи он беседовал с барином о смысле жизни, и пупсик не переставал поражаться мудрости своего нового друга. В первую очередь поражало безразличие Капитона ко всем земным благам. Уже четыре дня он ничего не ел (или надзиратели о нем забывали, или он не выполнял норму и наказывался целебным голоданием), и по этой причине превратился в ходячие мощи. Одежда висела на нем как на огородном пугале, щеки ввалились так, что кожа теперь плотно обтягивала все восемь зубов, и издалека могло показаться, что на лице у Капитона улыбка от уха до уха. Глаза стали большими и совсем грустными. Тонкие, как плети, руки, едва держали лопату, тонкие ноги то и дело подкашивались. Из чрева Капитона продолжала литься музыка, и пупсик, желая усладить свой слух, иногда просил Капитона побегать кругами вприпрыжку.
За день до кончины Капитон начал зеленеть и источать трупный смрад. Пупсик очень озаботился здоровьем друга, и спросил у надзирателя, не показать ли Капитона ветеринару. На это надзиратель ответил:
– Ну а смысл, ваше благородие? Яйца ему еще три года назад отрезали, а чем еще медицина поможет?
– Может быть, пропишут лекарства? – предположил барин.
– Лекарства холопу не помогут, – убежденно ответил надзиратель. – Да и не надобны они. Вы, ваше благородие гляньте на него. Он же здоров, как бык. Уж поверьте мне на слово – лучшее лекарство для холопа, это побои. Они и бодрость придают, и жизнерадостность возвращают. Загрустил Капитон, затосковал. Бить его надо, иначе пропадет мужик.
– Ох, ну ладно, пробейте, – согласился пупсик. – Да только хорошо побейте, не абы как. С душой. Мне для своего друга ничего не жалко.
Надзиратели не подвели. Капитона так душевно отлупили по блату, что он только чудом не отдал богу душу во время лечебной процедуры. Бодрости и жизнерадостности заметно прибавилось. Надзиратели предупредили, что если он не будет улыбаться при барине, то у них в казарме стоит старый рояль, и он вполне может последовать за баяном.
Вид улыбающегося сквозь болевой шок Капитона наполнил сердце барина ликованием. Видя своего друга счастливым и здоровым, он тут же заявил, что в этот день они вскопают не два гектара, а три, потому что таким бодрякам и три гектара – пустяк.
Ничто не предвещало трагедии. Капитон целый день работал как проклятый, лопата в его руках мелькала с умопомрачительной скоростью. Тихая счастливая улыбка не сходила с его уст, и душа пупсика ликовала, когда он видел результат своей дружеской помощи. В этот день Капитон сделал невозможное – один перекопал три гектара. Когда подошло время обедать, пупсик спросил у своего друга:
– Капитон, ты отобедаешь, или пропустишь?
– Да, барин, – прогудел Капитон, поскольку ничего иного барину сказать не мог – страшно было.
– Ну и правильно. Что тебе этот обед? – возликовал пупсик, усаживаясь за накрытый в поле стол. – Это мы, изнеженные праздностью аристократы, не можем жить без пятиразового питания. Слабы мы, Капитон. Немощны. Вот прадед мой кочергу мог в узел завязать, а я и согнуть ее не могу. Слабеем, вырождаемся. То ли дело ты. Настоящий богатырь! Таким и пищи никакой не надо, они прямо из матери-земли силу черпают.
Говоря это, пупсик наворачивал наваристый борщ с говядиной и сметаной, и любовался блестящим от пота и грязи богатырем, перекапывающим никому не нужный участок земли.
Когда подошел час ужина, пупсик спросил:
– Капитон, брат, отужинаешь или нет?
– Да, барин, – хрипло ответил Капитон.
– Нет? Ну и верно. Что тебе ужин? Тебе само солнце силу свою дает, ветер энергией своей наполняет твои мускулы. Вон как работаешь ты без устали, а я, просто глядя на тебя, устал и изнемог. Я уж тут посижу в тенечке, перекушу, чем бог послал, а ты трудись, богатырь великорусский. Трудись! Покажи нам слабым и изнеженным пример своим мирным подвигом.
Закончил Капитон часам к одиннадцати. Он мечтал о мягкой душистой соломе, чтобы упасть на нее и спать, спасть, долго и беспробудно, а вместо этого пришлось до трех часов ночи стоять и слушать речи барина. Тот говорил о боге, о душе, о внутренней свободе, которая присутствует в каждом человеке, о счастье простого крестьянского труда, о духовной силе русского народа и о прочих непонятных Капитону вещах. В три часа ночи барин устал и лег почивать. Ева он захрапел, как Капитон колодой повалился на солому и больше с нее не встал.
Утром состоялась церемония прощания. Тело лежало на земле возле сортира, пупсик, глядя на хладный труп своего друга, рыдал и спрашивал провидение, зачем забрало оно этого молодого, полного сил богатыря. Ему ведь жить да жить, да жизни радоваться. Нет. Уснул и умер без всякой причины.
– Прощай, Капитон, – всхлипнул пупсик. – Жаль, умер ты рано. А какой был человек! Какой человек!
Два холопа взяли труп Капитона за ноги и потащили волоком в сторону могильника.
Глава 28
Рассказ пупсика о его экспериментах произвел сильное впечатление на благородную публику. Девушки взирали на него, как на героя, совершившего немыслимый подвиг, и прыщавому, естественно, стало обидно. В связи с чем, он поторопился вызвать интерес и к своей персоне.
– Вы, верно, знаете, что мой папенька страстный коллекционер, – начал он издалека, нагнетая интригу, – и тратит огромные деньги на приобретение древних артефактов. Так вот, всего за неделю до моего приезда он раздобыл одну интересную вещицу.
На девушек это вступление не произвело никакого эффекта, а пупсик, явно наслышанный и о папеньке прыщавого и о его страсти к коллекционированию древностей, усмехнулся и язвительно спросил:
– И что же ваш батюшка на этот раз купил? Ковчег завета? Мьелльнир? Доспехи Ахиллеса?
Надо пояснить, что папаша прыщавого с детства отличался страстью к коллекционированию. Одновременно с этим его одолевали мечты о дальних странствиях, об опасных приключениях, о разграблении древних гробниц и о поиске сокровищ. Но он не стал ни путешественником, ни кладоискателем, ни даже грабителем, а вместо этого лежал колодой в своем имении на любимом диване, курил кальян и отдавался мечтаниям о всяком разном. Однако страсть к коллекционированию не угасла с годами, она лишь приняла болезненную форму одержимости. Приезжая в город, чудаковатый барин первым делом шел в антикварный магазин, и выискивал там какую-нибудь древнюю вещицу, притом, чем древнее, тем лучше. Сама по себе вещь его интересовала мало, ему важно было приобрести вещицу с историей. Например, если он покупал какие-то потемневшие от времени серьги, то не просто так, а с клятвенным уверением продавца, что некогда эти цацки болтались в ушах у Клеопатры. Торговцы антиквариатом быстро пронюхали что к чему, и среагировали адекватно ситуации. Едва появлялся чудаковатый барин, как они сразу же предлагали ему очередную древнюю реликвию, и всякий раз встречали полное доверие к своему вранью. Поначалу они еще побаивались разоблачения, и масштаб их вранья был относительно скромен. Но когда одному из антикваров удалось впарить барину свои старые кожаные сандалии, выдав их за обувь Александра Македонского, все поняли – стесняться нечего. И пошло-поехало. Барину коллекционеру в течение десяти лет продали столько бесценных исторических реликвий, сколькими не располагает ни один музей мира. В коллекции барина появились такие предметы, как сабля Чингисхана, барабан, на котором сидел Наполеон во время Бородинской битвы, седло Буцефала, три гвоздя с креста распятого Иисуса, бритва, которой Петр Великий лично сбрил первую бороду первому боярину и прочие реликвии. Что казалось истинного происхождение этих реликвий, то сабля, барабан и седло принадлежали одному кавалерийскому капитану, который был в городе проездом лет сто назад и пропил все эти трофеи в трактире. Гвозди происходили с железной дороги, и в народе назывались костылями. А что касается бритвы, то она была честно найдена антикваром во время загородной прогулки на берегу озера. Но хотя реликвии и являлись фальшивыми, денег за них барин отвалил как за настоящие. И всякий раз, когда к нему наведывались гости, чаще всего соседи, он с гордостью показывал им свою коллекцию, для которой выделил самую большую комнату в доме. Людям, впервые оказавшимся в этом музее, трудно было сдержать улыбку, но, к счастью для барина и ушлых торговцев, гости у него бывали одни и те же, уже свыкшиеся с его чудачествами и давно отсмеявшиеся по поводу его коллекции. Пупсик, как и вся губерния, тоже был в курсе, что там за сокровища хранятся в доме папеньки прыщавого. Он бывал в гостях у чудака, и наблюдал коллекцию воочию. Хозяин особенно похвалялся своим последним приобретением – поясом Афродиты, опоясавшись которым, любая дурнушка тут же превратится в писаную красавицу. Пупсик держался изо всех сил, но когда экскурсовод назвал сумму, которую он выложил за обычную грязную тряпку, истерически захохотал, чем очень обидел гостеприимного хозяина.
За глаза соседи чудака посмеивались над ним, впрочем, давно беззлобно, а в глаза же, как принято у семи миллиардов лицемеров, населяющих комочек грязи под названием Земля, выказывали ему величайшее уважение, а коллекцией барахла восхищались так искренне, что не придрался бы и Станиславский.
Ирония пупсика была вполне обоснована, поскольку он тут же решил, что папаше прыщавого в очередной раз продали какую-нибудь рухлядь со свалки по цене алмазов. Но прыщавый тут же возразил:
– Это не то, что обычно. На этот раз предмет действительно древний, и вовсе не простой. Он обладает определенными свойствами, которые поставили в тупик даже настоятеля храма святых страстотерпцев Фомы и Федота, а уж он славится своей ученостью и понимает что к чему. Так вот осмотрев экспонат, святой старец заявил, что вещь эта очень древняя, и относится, очевидно, к дохристианскому периоду.
– И что же это такое? – спросил пупсик, в голосе которого прозвучали нотки любопытства. Барышни тоже заинтересовались. Жизнь в провинции была скучна, и любое событие, способное как-то разнообразить приевшуюся цикличность размеренного существования, воспринималось с большим энтузиазмом.
– Это трость. Точнее это жезл. В общем, посох, украшенный странным орнаментом. Святой старец предположил, что это не орнамент, а буквы неизвестного языка. Он срисовал их и пообещал навести справки.
– Простая деревянная палка с узорами? – разочаровался пупсик. Девушки тоже поспешили разочароваться, чтобы не отстать от моды.
– Она не деревянная, – проворчал прыщавый. – Жезл выполнен из неизвестного материала. Что-то вроде пластика, но тяжелее и гораздо прочнее. Я пытался его согнуть, так ничего не вышло. Еще папенька сказал, что посох не горит в огне.
– И как же это диво называется?
– Папенька называет его жезлом Перуна. Он вычитал в какой-то книге об этом мифическом жезле, и теперь уверен, что посох, оказавшийся в его руках, он и есть. Я бы и сам посмеялся над этим, да только жезл уж очень непростой. Например, если погрузить его в воду одним концом, вода закипит, а если другим – замерзнет до состояния льда. Папенька выписал из Петербурга какого-то знаменитого специалиста по загадкам древности, и через неделю он прибудет в имение, чтобы изучать жезл. И если окажется, что посох действительно волшебный, за него можно будет выручить целое состояние.
Последние слова прыщавый произнес, пристально глядя на Танечку. Как бы намекал, что не за горами тот день, когда его семья несказанно разбогатеет, а так как папа старый и часто хворает, вскоре всего богатства отойдут наследнику, продолжателю рода, то есть ему. Тем самым прыщавый сигнализировал потенциальным невестам, что тем пора что-то предпринимать, пока он еще не вознесся на вершину богатства и славы, где пару ему сможет составить разве что принцесса.
Неизвестно, поняла ли намек Танечка, но вот на Гришу слова молодого барина произвели страшный эффект. От упоминания в разговоре жезла Перуна по Гришиной спине покатились струи холодного пота. К сему времени он уже успел свыкнуться с мыслью, что найти артефакт ему не удастся, потому что трудно заниматься поисками чего-либо, когда ты раб, скотина подневольная, и не можешь собой распоряжаться даже в таких вопросах, как отправления малой и великой нужд.
Гриша побледнел и затрясся от волнения. Он не верил своей удаче. Вполне могло оказаться, что не только сам жезл, но даже люди, которые хоть что-то о нем знают, находятся на другом континенте, а на деле выходит, что искомый артефакт преспокойно лежит себе в коллекции чокнутого барина всего-то километрах в ста от их имения. Такое расстояние можно было преодолеть и пешком. Вот только стоило ли? Ведь Гришино задание заключалось в том, чтобы узнать, где жезл находился двести лет назад, а не похитить его здесь и сейчас. Даже завладей он артефактом, он не сможет принести его Ярославне, ведь жезл материален, а ретранслятор способен перемещать только сознание живого человека. Значит, требовалось узнать, у кого папаша прыщавого его купил, найти продавца и расспросить его. А он, скорее всего, пошлет просителя или на хрен, или к другому продавцу. Кто знает, сколько хозяев жезл сменил за двести лет? Одно дело, если он все это время пролежал у какого-нибудь балбеса в сундуке, и совсем другое, если артефакт, как аморальная девушка, ходил по рукам. Тогда концы можно и не найти. Особенно, будучи крепостным крестьянином, то есть рабом бесправным, с которым никто не станет разговаривать.
И все же это была зацепка, да еще какая. Теперь, по крайней мере, стало понятно, с чего начинать.
После чаепития с тортиком и приятной беседы господа затеяли развлечения. Благородные девицы выразили желание поиграть в бадминтон, для чего, усилиями холопов, был организован корт. Два холопа натянули сетку и держали ее, еще четверо бегали за воланом, когда тот улетал мимо ракетки. Грише повезло, его отправили топить самовар. Вместе с ним на это ответственное дело бросили его верного напарника Тита.
Гриша сидел возле походной печки, машинально подкладывал в нее дрова, а сам непрерывно думал о том, что услышал при разговоре господ. Наконец-то у него появился сколь-либо осязаемый шанс выполнить свое задание и получить долгожданное вознаграждение. Гриша уже весь извелся, страстно мечтая о миллионах и блондинках. Ему уже даже не верилось, что он когда-либо обретет все эти богатства. И вот что-то начало вырисовываться. Теперь оставалось понять, что ему делать дальше. Гриша попытался выстроить хитроумный план, но быстро оставил эту безнадежную затею. Решил, что лучше действовать наобум, как всегда, так больше шансов на успех. Потому что когда он что-то планировал, а потом пытался действовать, согласно плану, все всегда шло через задницу.
Пошарив вокруг себя рукой, Гриша обнаружил, что извел все дрова.
– Тит, – позвал он негромко, – тащи топливо.
– Иду! – отозвался ароматный помощник.
Гриша поднял на напарника взгляд и не поверил своим глазам – из задницы у Тита торчало целое дерево. Точнее, это было не дерево, а большой сук, совсем свежий, покрытый зеленой листвой. Похоже, холоп только что оторвал его от ствола, и заткнул им свой вольнолюбивый кишечник. Ветка волочилась за Титом по земле, как павлиний хвост.
Увидь такое Гриша в иной обстановке, он бы, вероятно, умер от смеха, но сейчас ему было не до веселья. В любой момент господа могли заметить диковинного павлина с волосатыми ногами, и чем бы все это в итоге обернулось для двух слуг – один бог знает. Судьба Тита заботила Гришу меньше всего, но он боялся, как бы зловонный дурень не потянул за собой и его. Тит, бесхитростное создание, сразу же сообщит, кто ему позволил без штанов ходить, и кто надоумил ветку в жопу сунуть. А за такое безобразие одна кара – пожалуйте, господа холопы, в воспитательный сарай, а то Яшка что-то один тоскует да печалится, не с кем, горемычному, криком болезненным обмолвиться.
Быстро подойдя к Титу, Гриша схватил его за руку, и спросил:
– Что у тебя из жопы торчит, тормоз?
– Важно засунул, – заулыбался Тит. – Глубоко.
– Немедленно вытащи, пока господа не увидели.
Тут Гриша обратил внимание на то, что живот Тита страшно раздуло, словно изнутри его распирало страшное давление. Походило на то, что полезные для здоровья помои породили при своем распаде слишком много газов, которые теперь не могли найти выхода из сложившейся ситуации. Все шло к тому, что Тит либо лопнет, либо из него вышибет ветку и хорошо, если никого ею не убьет.
– Тит, живо беги к роще у реки, и там ветку вытащи, – приказал ему Гриша.
Исполнительный холоп потрусил в указанном направлении. Ветка волочилась за ним, повторяя все движения ягодиц, что еще больше усиливало сходство с павлиньим хвостом. К счастью, на дивную птицу никто не смотрел – все, и холопы, и надзиратели, наблюдали за барскими забавами. Господа увлеклись бадминтоном, девушки громко смеялись, мальчики пытались ухаживать за ними.
Прошло минут пять, но Тит из рощи так и не вернулся. Гриша понял, что с тупым напарником стряслась беда, и, воровато озираясь, сам спустился к реке. В зарослях он застал ароматического холопа, живого и здорового. Ухватив руками ветку, Тит, скрежеща зубами, пытался вырывать ее из плена своего шоколадного ока, но у него ничего не получалось. Похоже, дерево прижилось в его заду и пустило туда корни.
– Боже, какой же ты страшный дебил! – потрясенно проронил Гриша, наблюдая за тем, как Тит мечется по роще с веткой в жопе.
– Засела, окаянная, яко гвоздь в доске, – посетовал Тит. – Уж я ж ее и так, и этак, и дергал, и шатал, а она, проклятущая, токмо глубже залезла.
– Зачем ты вообще ее туда засунул? – спросил Гриша, который не знал, чего ему хочется больше: смеяться, плакать или кого-нибудь убить.
– По твоему мудрому совету, брат Григорий. Ловко придумал – ветку в зад, и вся недолга.
– Да зачем же ты, животное, целое дерево туда пристроил? Ну, вял бы палку, сучок, но зачем дерево?
– Помыслил, что оно надежнее будет-то, дерево. А нынче вот какая оказия – застряла, и хоть тресни.
Грише действительно хотелось треснуть Тита, но он понимал, что побоями горю не поможешь. Точно так же он понимал, что тупого холопа ни в коем случае нельзя в таком виде показывать господам.
– Брат Григорий, подсоби, – слезно взмолился Тит.
Проклиная все на свете, Гриша зашел Титу с тыла, и ухватился за ветку обеими руками. Тит, чтобы зафиксировать себя, вцепился в дерево. Гриша потянул, вначале осторожно, затем все сильнее. Вскоре его ноги уже буксовали по лесной почве, хилые холопские мышцы вздулись от напряжения.
– Тужься! – прохрипел Гриша сквозь стиснутые зубы. – Тужься, Тит! Еще! Уже головка показалась!
Тит весь содрогался от усилий, яростно толкая из себя сук. Гриша тянул так, что содрал кожу с ладоней. И в какой-то момент дерево поддалось. Гриша, потеряв равновесие, упал на земле вместе с веткой, а в следующее мгновение его с ног до головы окатило густой коричневой струей.
– Господь-вседержитель! – стенал Тит, повиснув на дереве. – Тяжко! Ох, тяжко!
Гриша поднялся на подкашивающиеся ноги, и с непередаваемым омерзением осмотрел себя. Гнусный напарник, в благодарность за избавление от анальной затычки, лихо оросил его фекалиями с головы до пят.
– Блядь! – простонал Гриша, чувствуя, что еще немного, и он сорвется. И тогда в заду у Тита окажется столько инородных предметов, сколько не снилось даже Яшке – засранцу-богохульнику.
Срывая с себя оскверненную одежду, Гриша бросился к воде. Затем он долго отстирывал рубаху и штаны, а так же яростно тер себя прибрежным песочком. Но запах все равно никуда не уходил. Гриша понял, что этот аромат теперь с ним надолго. Возможно, что и навсегда.
– Когда уже дадут миллионы и блондинок? – прорыдал он в отчаянии. – Сил моих нет это дальше терпеть!
– О чум тужишь, брат Григорий? – участливо спросил Тит, подкравшись к безутешному начальнику.
– Не подходи ко мне! – нервно вскрикнул Гриша. – И не вздумай больше поворачиваться ко мне спиной. Никогда. Слышишь? Никогда!
Глава 29
– Обычно ты из гроба восстаешь хмурый и злой, а сегодня прямо светишься, – заметила Ярославна, когда Гриша поднимал из саркофага свои нетленные мощи. – Что, весело провел время с Танечкой?
С тех пор как он наплел про свой роман с барской дочкой, Ярославна его страшно ревновала, хотя и пыталась это скрыть. Гриша не очень понимал Ярославну. За все то время, что он пытался за ней ухаживать, девушка относилась к нему, как к существу, лишенному пола, а теперь вдруг взбесилась и никак не желала успокоиться. Гриша ломал над этим голову, и в итоге пришел к выводу, что Ярославне он сам по себе безразличен, а бесит ее то обстоятельство, что он перестал сохнуть по ней и выбрал себе новый предмет обожания. Самолюбие красивой девушки оказалось задето, вот она и злилась. Поняв это, Гриша перешел в наступление, и всякий раз, заговорив с Ярославной, сводил все к расписыванию своих отношений с Танечкой. Гриша посмотрел много фильмов для взрослых, так что материал для производства легенд имелся богатый. Ярославна первые десять минут слушала, всячески скрывая свое раздражение, потом не выдерживала, вставала и удалялась быстрой походкой. А Гриша всегда кричал ей вслед:
– Куда же ты? Самое интересное впереди.
Однажды его рассказ подслушал Лев Толстой (Ярославне так и не удалось убедить Гришу в том, что этот тип вовсе не автор Анны Карениной, а их научный руководитель Дмитрий Васильевич Новиков), после чего потребовал у Гриши отчета. Так как Льва Толстого Гриша ненавидел еще со времен средней школы (когда школьник Гриша увидел два громадных тома «Войны и мира», которые надлежало прочесть за лето, его стошнило на стол библиотекаря), он наотрез отказался обсуждать с ним интимные подробности своей личной жизни. Толстой, по своей хамской привычке, стал требовать и угрожать.
– Там не ваша жизнь! – орал он, разбрызгивая слюну. – Там чужая жизнь! Вы в том мире всего лишь ментальный паразит, поселившийся в чужом теле. Каждый дневной сеанс обходится нам в один миллион рублей.
– Если бы у меня был миллион рублей, я бы нанял орду извращенцев, они бы тебя нашли и надругались бы над тобой, – проворчал Гриша негромко.
– Что ты там бормочешь? – спросил Толстой.
– Я говорю, что это вас вообще не касается, с кем у меня там отношения. Я жениться не собираюсь, если вы об этом, и от венерических болезней, вроде триппера и детей, предохраняюсь надежно. Проблем не будет.
– Они уже есть! – заорал Толстой, будто ему в трусы кипятка плеснули. – Проблема – это вы! Вас послали туда искать следы артефакта, а вы, вместо этого, занимаетесь тем, чем занимаетесь.
Но Гриша был не тот человек, на которого можно наорать просто так, безнаказанно. Гриша уже из чрева матери вышел с твердой уверенностью в том, что он всегда и во всем прав, а если кто-то пытается доказать обратное, тот дятел конкретно опух.
– А ну хватит на меня орать! – завопил Гриша так громко и страшно, что Толстой даже присел от испуга. – Пришел тут, начальник, рот разинул. Смотри, как бы в этот рот тебе кое-что интересное не поместили. Нечего на меня орать, я тоже орать умею.
И в подтверждение свих слов Гриша заорал так громко и истошно, что сбежались все – и Ярославна, и два гоблина, и даже глухонемая Галина. Охрипший Гриша уставился на них лютым взглядом, и злобно спросил:
– Вам тоже интересно, чем я с Танькой занимаюсь? Ну, так я вам сейчас все расскажу!
Через двадцать секунд после того, как из Гришиного рта потекли откровения, из комнаты выбежала покрасневшая Ярославна. Наступая ей на пятки, вылетел бурый, как перезрелый помидор, Лев Толстой. Гоблины продержались три минуты, но когда Гришин рассказ из серии грязной порнографии перешел в откровенно тошнотворную фазу, поспешно ретировались. Последней откланялась глухонемая Галина – ее Гриша вытолкал сам.
Больше Толстой не лез в Гришину частную жизнь. Ярославна тоже рада была бы не лезть в это, но Гриша нарочно злил ее, расписывая свои вымышленные сексуальные подвиги. Однажды вечером он пришел к ее апартаментам и постучался в дверь. Ярославна долго не открывала, притворялась, что спит и не слышит, но когда Гриша в восьмой раз грохнул по двери ногой с разбега, все же открыла.
– Тебе чего? – спросила она недружелюбно.
Судя по ее виду, Ярославна только что приняла душ и собиралась укладываться на боковую. Ох, как же Грише хотелось быть этой самой боковой.
– У меня к тебе важное дело, оно касается задания, – с серьезным и даже суровым видом ответил Гриша.
Ничего не подозревающая девушка пустила его в свои покои. Руководствуясь законами гостеприимства, она позволила ему присесть и даже угостила чаем на травах. Судя по омерзительному вкусу и странному цвету напитка, травы собирали вдоль автомагистрали.
– Так что у тебя за дело? – спросила Ярославна гостя.
– В общем, тут такое дело, – немного смущаясь, заговорил Гриша. – Я, в общем, к тебе пришел, потому что мне это больше не с кем обсудить.
Ярославна была заинтригована и слушала очень внимательно. Озабоченный и даже немного встревоженный тон Гриши подсказали ей, что дело действительно очень серьезное.
– Я тебя слушаю. Говори, – предложила она.
– В общем, короче, даже не знаю, как сказать. Ты понимаешь, у Таньки скоро день рождения, и мне бы хотелось ей какой-нибудь подарок сделать. Ну а что я, простой русский холоп, могу подарить барыне? Вот я и подумал, что может быть что-нибудь этакое в постели ей устроить новое и приятное. Я, собственно, к тебе за этим и пришел. Чтобы ты мне подсказала, что вам, девушкам, особенно нравится. Так-то вы об этом не говорите, но может быть что-нибудь такое этакое, какое-нибудь извращение. Я ради любимой на многое готов. Страсть как хочется Танюшку порадовать.
Ярославна вскочила на ноги, глаза ее бешено засверкали.
– Пошел вон! – закричала она, указывая пальцем на дверь.
– Вон так вон, – пожал плечами Гриша, и поплелся на выход. – А могла бы и посоветовать что-нибудь по дружески. Придется к другой девчонке за консультацией обратиться. Толстой, кстати, на объекте, не знаешь?
Дверь за Гришей с грохотом захлопнулось, мелкий пакостник, купаясь в море положительных эмоций, побрел в свой люкс.
В общем, живущий в Гришиной душе садист нашел себе объект для издевательств.
– Скажи, – спросил Гриша, выбравшись из гроба, – а в нашей конторе за трудовые успехи премии не полагаются?
– Ты хочешь премию за доведение Танечки до оргазма? – язвительно спросила Ярославна, стоя к нему спиной и нажимая какие-то кнопки на пульте.
– Если бы вы мне за это каждый раз премию платили, давно бы разорились, – заверил девушку Гриша. – Но я, вообще-то, о деле.
Ярославна повернулась к нему и недоверчиво посмотрела на успевшего зарекомендовать себя вруна.
– О каком деле?
– Да о жезле вашем, вот о каком. Я, в общем, кое-что выяснил. Теперь я знаю….
Вдруг Ярославна стремительно прижалась к нему и поцеловала Гришу в губы. От столь неожиданно обрушившегося на него счастья Гриша так растерялся, что не успел среагировать адекватно, а когда запоздало попытался ухватить Ярославну за попу, поезд уже ушел.
– Ни слова! – прошептала Ярославна ему на ухо. – Иди за мной и помалкивай.
Заинтригованный Гриша направился за Ярославной по коридорам секретного объекта. Голова у него немного кружилась, а при мысли о том, что Ярославна наконец-то пала под натиском его невероятной сексуальности, и теперь в ее апартаментах его ждет праздник, Грише хотелось вопить от радости.
Едва они зашли в номер Ярославны, Гриша, одной рукой стаскивая с себя штаны, другой попытался пощупать грудь хозяйки. Ему уже очень давно хотелось сделать это, но после избиения в коридоре за прикосновение к попе, он берег здоровье. Ярославна поймала его руку на подлете и сделала болевой захват. Кричащий Гриша рухнул на колени и залился слезами. Еще ни разу при сексуальной близости он не испытывал столь яркий ощущений. Ощущения были такими яркими, что у бедняги потемнело в глазах. И только когда он начал терять сознание от боли, Ярославна сжалилась, и выпустила его руку.
– Ты остыл? – спросила она. – Говорить можешь?
– Не хочу я с тобой разговаривать, – всхлипывая от боли и унижения, ответил Гриша с пола. – Ты что, больная, что ли? Вначале целуешь, потом руки выкручиваешь….
– Я тебя поцеловала, чтобы ты не наговорил лишнего, – призналась Ярославна. – Там везде микрофоны. Только в моей комнате нет прослушки. Здесь можно говорить.
– О чем? О твоих садистских наклонностях?
– О жезле Перуна. Что ты узнал?
– А вот ничего я тебе не скажу! – пошел на принцип Гриша.
– Если не скажешь, я возьму утюг, и ударю им тебя по гениталиям, – честно предупредила Ярославна.
После прозвучавшей угрозы Гриша на одном дыхании выложил все, что узнал. Ярославна внимательно слушала, затем, присев на кровать, задумалась. Гриша кое-как поднял себя с пола. Рука, так и не достигшая заветной цели, болела и не слушалась. Он присел на стул, подальше от Ярославны и поближе к двери, чтобы в случае чего дать деру. Больше девушка ему не нравилось. Она либо страдала какой-то крайне болезненной формой целомудрия, либо была тяжело нездорова на голову. В любом случае связываться с ней было опасно. Грише не нравились девушки типа «Брестская крепость», которые скорее умрут, чем допустят кого-нибудь к телу. Опять вспомнилась Машка, отдавшаяся ему в разгар первого свидания. Хорошая правильная девушка. И драться не лезла.
– Я пойду? – осторожно спросил Гриша, потирая онемевшую руку. – Мне помыться надо и покушать. Нехорошо умирать грязным и голодным.
– Одну минуту, – попросила Ярославна, очнувшись от раздумий. – Я должна тебе кое-что сказать. Кое-что очень важное.
Эти слова не сулили ничего хорошего. У Гриши внутри все оборвалось, и настойчиво запросилось наружу. Ему показалось, что самый жуткий его кошмар начинает сбываться.
– Ты что, беременна? – простонал он помертвевшим голосом.
– Что? Беременна? С чего ты это взял?
– Нет?
– Нет, разумеется.
– Уф! – Грише показалось, что с его плеч упал такой большой камень, какой шестьдесят пять миллионов лет назад ухлопал динозавриков. – Слава богу! Уф! Блин! Подожди, дай в себя прейти. Блин, ну ты и напугала. Я-то думал, что ты от меня залетела….
– У нас с тобой ничего не было, – на всякий случай напомнила Ярославна. – Во всяком случае, наяву. Если ты там во сне что-то увидел, или нафантазировал перед сном, это не считается.
Гриша тяжело дышал, держась за сердце. Вся жизнь только что промелькнула у него перед глазами, а в сознании медленно гасли огромные огненные буквы, складывающиеся в страшное слово – алименты. Он-то знал – нет ничего, страшнее ребенка. Грише много раз доводилось наблюдать по телевизору, как разбойники в черных масках врываются в квартиры несчастных мужиков, повинных лишь в том, что когда-то имели глупость кончить в мохнатую дырку. Следом за разбойниками в квартиру вламываются грабители, и начинают выносить имущество. Иногда эти бандиты приводят с собой попа, и тот пугает несчастного мужика адскими муками, пока его подельники выносят из квартиры телевизор. Гриша понимал – если что, бандиты отыщут его везде, и отнимут все его миллионы, и крутую тачку и всех блондинок.
– Слушай, ты больше так не пугай, – попросил он Ярославну.
– Хорошо, – пообещала Ярославна. – Ты готов слушать?
– Ага. Давай, говори все побыстрее, да я пойду. Что-то живот схватило, надо на параше поскучать.
– Если тебе невмоготу, то воспользуйся моей уборной, – предложила Ярославна.
Гриша хотел вежливо отказаться, но Гриша предполагает, а кишечник располагает. На клапан придавило так однозначно, что Гриша понял – ему теперь одна дорога.
– Да, спасибо, – пробормотал он, вскакивая со стула. – Пожалуй, воспользуюсь твоим гостеприимством. Боюсь, до своего толчка не донесу, по коридору просыплю.
Гриша бросился в уборную, распахнул дверь, спустил штаны и с наслаждением уронил ягодицы на стульчак. Дверь он за собой закрывать не стал, поскольку считал, что процесс испражнения и беседу можно совместить.
Ярославна какое-то время глядела на него, гордо сидящего на керамическом троне, хотела сделать замечание, но передумала.
– Так что ты мне хотела… сказаааать? – тужась, прохрипел Гриша.
– Будем говорить прямо сейчас? – спросила Ярославна.
– Да! – выдохнул Гриша, одновременно слыша громкий плеск под собой – часть балласта удалось благополучно сбросить.
Ярославна вооружилась освежителем воздуха, и заговорила:
– Дело в том, что я, на самом деле, работаю на стрельцов. Мое задание заключалось в том, чтобы проникнуть в организацию опричников и выяснить все, что они знают о жезле Перуна.
Тужась так, словно тройню рожая, Гриша попытался что-нибудь ответить, но прозвучал лишь скрежет зубовный.
– Понимаю, ты удивлен, – проговорила Ярославна, видя дико выпученные глаза Гриши.
Гриша действительно был удивлен. Более того, он был потрясен. Так туго из него никогда не шло. Грише в какой-то момент показалось, что он сейчас извергнет в унитаз боксерскую грушу. От натуги у него заложило уши и потемнело в глазах. Голос Ярославны долетал словно издалека:
– Ты должен знать: все, что я рассказывала тебе об угрозе, нависшей над человечеством, правда. И то, что технологии атлантов сумеют изменить ситуацию, тоже правда. Другой вопрос, каким образом будет протекать это изменение.
Гриша схватился руками за края унитаза. Он чувствовал себя ракетой на стартовом столе, готовой воспарить в космос.
– Опричники хотят изменить настоящее, изменить людей здесь и сейчас, через кровь и насилие, через массовое истребление, которое они сами называют очищением. По их планам после чистки на Земле должно остаться немногим больше десятка миллионов особей, которые и положат начало новому миру. Современная цивилизация со всеми ее достижениями будет уничтожена, планета очищена от ее следов. Выжившие люди окажутся в условиях первобытного общества, и начнут все сначала. А опричники, словно боги, будут контролировать их развитие, поощрять угодные им тенденции, и отсекать неугодные.
В Гришиных ушах стоял колокольный звон, глаза лезли на лоб, ноги свело судорогой. Он чувствовал себя гаубицей, готовой пустить в сторону врага огромный смертоносный снаряд.
– Но мы, стрельцы, против столь радикальных мер, – продолжила Ярославна. – Мы считаем, что уничтожение всей цивилизации не является выходом из положения. Да, человечество зашло в тупик, но проблему этого тупика не решить, если отбросить развитие цивилизации на тысячи лет назад. Минуют века, и человечество опять окажется все у той же стены. Да и тотальный контроль ни к чему хорошему не приводит. Если опричники, даже в роли богов, будут активно вмешиваться в дела земные, то это неизбежно вызовет реакцию отторжения. Людям свойственно восставать против своих богов, потому что рано или поздно общественная мораль меняется настолько, что идолы прошлого теряют свою актуальность. В эпоху гуманизма неуместными кажутся кровожадные боги, по своему произволу истребляющие целые народы, и активно помогающие одним людям уничтожать других. Как бы опричники ни контролировали развитие человеческой цивилизации, они все равно не сумеют уследить за всем. В любом покорном и тупом стаде всегда найдется паршивая овца, которая пойдет своим путем, и потащит за собой всех собратьев.
И вот, когда уже Грише казалось, что сейчас его размажет по стенкам уборной та чудовищная энергия, что скопилась в его утробе, состоялся прорыв низом. От страшного грохота Ярославна, взвизгнув, спряталась за диван, а из уборной полетели брызги воды и осколки белой керамики. На том месте, где когда-то располагался унитаз, а теперь громоздились кучи бесформенных обломков, сидел Гриша со спущенными штанами и счастливо улыбался. Так легко и непринужденно он себя уже давно не чувствовал.
– Это что, террористический акт? – спросила Ярославна, выглядывая из-за дивана.
– Нет, это ваше пюре из лопуховых листьев, – проворчал Гриша, вытирая туалетной бумагой забрызганные коричневыми каплями уши. – Я тебе уже говорил, что меня таким дерьмом кормить нельзя. А вы заладили – полезная еда, полезная еда. Сказали бы сразу – на колбасу денег жалко. Ну, так хотя бы китайской лапши закупили, самой дешевой. Унитаз-то новый дороже обойдется. Притом это уже не первый, который подо мной пал.
Израсходовав два рулона туалетной бумаги, Гриша аккуратно прикрыл за собой дверь в разрушенный туалет, и присел в кресло. Ярославна выбралась из-за дивана, и устроилась на прежнем месте.
– Я так понял, что ты типа шпионка, и тут трешься, чтобы все разнюхивать, – подытожил Гриша все, что услышал на толчке.
– Вроде того.
– И ты типа не хочешь, чтобы Толстой узнал что-нибудь о жезле, да?
– Да.
– Вот как. Но если я ничего Толстому не скажу, он не заплатит мне три миллиона долларов и двадцать восемь блондинок. Э-э, нет! Я так не согласен.
– Да какие еще миллионы? – повысила голос Ярославна. – Ты что, идиот?
– Попрошу без диагнозов.
– Не будет никаких миллионов и блондинок. Как только ты станешь им не нужен, они просто избавятся от тебя, как избавились от всех прочих операторов.
– Считаешь, убьют? – призадумался Гриша.
– Не считаю. Знаю.
– Это плохо.
– Да, плохо, но если будешь сотрудничать с нами, то получишь не только свою жизнь, но и кое-что сверху.
Гриша и сам в глубине души догадывался, что никаких миллионов и блондинок ему не видать, так что с радостью изъявил желание выслушать новое предложение от конкурентов Толстого и его дружков.
– Если сделаешь так, как я скажу, – пообещала Ярославна, – то мы заплатим тебе пять миллионов долларов. Пять! И дадим тебе сорок блондинок и сорок брюнеток….
– Стоп, какие еще брюнетки? – всполошился Гриша, сладко убаюканный заманчивыми посулами. – Мне брюнеток не надо. Зачем брюнетки?
– Хорошо, не хочешь, как хочешь, – не стала настаивать Ярославна.
Но Гриша посчитал, что так легко этот вопрос закрывать не стоит.
– Почему ты мне брюнеток пыталась всучить? – стал допытываться он. – Что, всех своих некрасивых подруг решила одним махом пристроить в добрые и щедрые руки? Не выйдет! Не хочу брюнеток! То есть я бы взял штуки две-три, но зачем мне сорок? И вообще мне ни одной не надо. Я суеверный. Если черная кошка дорогу перебежит, тридцать раз через левое плечо плюю. А представь эти брюнетки начнут по дому толпой шастать – да у меня никакой слюны не хватит после каждой отплеваться. Нет, ты своих подруг лучше мне не сватай. Не возьму. Пускай вместо них будет лишний десяток блондинок. Ровно пятьдесят. На это очень даже согласен.
– Хорошо, как скажешь, – утомленным голосом произнесла Ярославна. – Что-то еще?
– А можно еще? – оживился Гриша. – Тогда вот что. Хочу тачку крутую, с кожаным салоном и реальным музоном, мобильник самый дорогой, какой на свете есть, чтобы там тоже крутой музон был, типа шансон, все дела, про зону там, про воров. Еще хочу…. Блин! Подожди. Так-так, дай-ка я подумаю. Тачка была, мобильник был…. Блондинок называл? Ага, называл. Так, еще раз: тачка, мобильник, блондинки, пять миллионов баксов….
– Это все? – уточнила Ярославна.
– Нет, не все! Не все! Мне нужно время, чтобы подумать.
– Ладно, думай. Но на наше предложение ты согласен?
– Да, да, согласен. Так, не мешай. Еще раз: тачка, мобильник, блондинки….
Глава 30
Гриша решился на побег по двум основным причинам. Во-первых, жизнь холопа подневольного его уже конкретно достала, во-вторых, ночевать с Титом в одной коморке было выше человеческих возможностей. Не сразу можно было определить, какая часть тела Тита производит больше невыносимого смрада. Казалось, он одинаково интенсивно и смрадно благоухал всей поверхностью туши, но Гриша, проведя в компании Тита несколько ночей, уже научился разделять эту зловонную волну на отдельные тошнотворные оттенки.
Сперва он приказывал Титу ложиться к двери ногами, а к нему головой, так как полагал, что нижние конечности холопа, черные, грязные, никогда не знавшие иного мытья, кроме хождения по лужам, покрытые густой свалявшейся шерстью, смердят сильнее, чем костяной нарост на плечах, называемый у нормальных людей головой. Но в первую же ночь Гриша понял, что расчет его был неверен. Тит развалился на полу у двери, разверз уста, и пошел храпеть. Вместе с храпом из его ротовой полости вырывался злой дух тошнотворного характера. Гриша в страхе проснулся, чувствуя, что сейчас его вырвет. Сон, навеянный вонью, тоже был гнусный, но реальность оказалась еще хуже. Едва пробудившись и сделав первый осмысленный вздох, Гриша закашлялся, чувствуя, как к горлу подкатывает комом вчерашний ужин. Казалось, что рот Тита ведет прямо в отхожее место, в полную перепревшими фекалиями яму под сельским нужником, откуда в часы летнего зноя поднимаются такие благовония, что люди скорее бегут под куст или за сарай, чем в этот вонючий ящик. Задыхаясь, Гриша выбежал из коморки, и едва не захлебнулся чистым воздухом. За его спиной неистово храпел Тит, и у Гриши, в который раз, возникло желание обагрить руки кровью ради спасения всего чистоплотного человечества.
На следующую ночь Гриша приказал Титу лечь к двери головой. Но от перемены положения тела объем зловонных молекул в воздухе не изменился. Грише в страхе проснулся, чувствуя, что задыхается. Мимо него с громким гудением пронеслась муха, ударилась об стену и упала на пол замертво. Там уже лежало с десяток тел наложивших на себя лапы насекомых.
Казалось, что человеческие ноги не могут так ароматизировать окружающую действительность, они просто не способны на это. Но Тит был особенный, и он мог. Зажимая руками рот, Гриша выскочил наружу, и здесь уже его вывернуло наизнанку.
В третью ночь Гриша решил отыскать компромисс, и приказал Титу лечь к двери боком. Тит послушался, и лег, повернувшись к двери передом, к Грише задом. Утомленный дневными трудами Гриша сразу же заснул, но не успел он хорошенько разглядеть во сне Танечку в бикини, как по ушам ударил страшный грохот.
Гриша попытался вскочить с постели, но понял, что ноги его не слушаются. Распахнув глаза, он обнаружил, что всю комнату заволокло зеленым туманом, притом наибольшая концентрация марева наблюдалась вокруг растянувшегося на полу Тита. Вони Гриша не чувствовал – она была настолько сильной, что у него наступил временный паралич обонятельных рецепторов, но зато глаза выедало самым натуральным образом, будто в лицо плеснули серной кислотой.
– Помогите! – закричал Гриша, понимая, что умирает. Голова кружилась, тело почти не слушалось. Откуда-то из зеленого тумана прозвучал громкий низкий звук, как будто кто-то дул в огромную медную трубу. Гриша кожей ощутил порыв жаркого ветра, и почувствовал, что падает. Он пополз по земле к выходу, впиваясь ногтями в почву. Слезы безостановочно лились из глаз, в голове стоял перезвон, душа всеми фибрами рвалась в баню. Тут Гришина рука, слепо шарящая в зеленом тумане, нащупала ножку стола. Приподнявшись, Гриша дотянулся до спичек, коробку которых он уже давно умыкнул у поваров. Едва не теряя сознания, Гриша вытащил спичку из коробка, чиркнул ею, и тут же над его головой вспыхнул огненный вихрь, закружился, заметался под низким потолком каморки. Гриша в страхе вжался в пол, наблюдая за бушующим над ним огненным адом. Языки пламени лизали деревянные стены, скользнули по соломе на крыше, но та не занялась – была сырая после недавнего дождика. Затем, когда весь горючий газ выгорел, все успокоилось, наступила непривычная тьма. Только один огонек рассеивал ее – небольшой язычок пламени стабильно вился над задницей Тита, лизал пропитавшиеся грязью, потом и прочими выделениями штаны. Тупо глядя на этот олимпийский огонь, Гриша понял, что только чудом избег смерти. Еще немного, и концентрация анального газа в помещении достигла бы критического показателя. И тогда зажженная спичка спровоцировала бы настоящий взрыв огромной разрушительной мощности.
Это происшествие окончательно убедило Гришу, что так жить невозможно. Спать с Титом в одном помещении означало подвергать свою жизнь ужасной опасности, а выгонять вонючку на улицу было нельзя – надзиратели не позволяли холопам проводить ночь вне отведенных для них помещений. Оставалось два выхода: убить и закопать Тита или сбежать из имения и отправиться на поиски жезла Перуна. Первый вариант выглядел крайне заманчивым, Гриша уже все руки расчесал – так хотелось, но в то же время он понимал, что в скитаниях ему понадобится слуга, пускай зловонный и непроходимо тупой. И Гриша выбрал побег.
Как-то вечером, когда Гриша сидел за столом и ужинал вареной свеклой с черствым хлебом, а Тит, стоя на коленях, молился перед иконкой, между ними произошел следующий разговор. Гриша долго готовился к этой беседе, прекрасно понимая, что она будет трудной, но он обязан был уговорить Тита составить ему компанию в побеге.
– Тит, – начал он издалека, – свобода зовет на баррикады.
Тупой холоп повернул голову и уставился на собеседника пустыми глазами.
– Тит, сбросим оковы рабства! – воззвал Гриша. – Лучше умереть вольным соколом, чем жить петухом опущенным.
Тит размашисто перекрестился и помянул божью матерь.
– Тит, свобода, это самое дорогое, что есть у человека. Это то, без чего человек не человек. Лучше прожить день свободным, чем сто лет рабом.
Тит отбил три поклона и перечислил имена ангелов, притом половину этих имен он придумал сам.
– Вот же скотина тупая! – потерял терпение Гриша. – Тит, тормоз злостный! Мне сегодня явился святой Пантелей, и приказал вместе с тобой бежать от барина на волю. Понял? Святой Пантелей приказал.
– Знамо дело, – кивнул Тит. – Раз святой повелел, Тит не прекословит. Воля святого для Тита закон.
– Фуу! – выдохнул Гриша. – Слава богу. Да, слава богу! И святому Пантелею тоже.
Побег решили не откладывать в долгий ящик, на чем особенно настаивал Тит, ибо святой Пантелей же приказал, а его надобно слушаться. Гриша приоткрыл дверь и выглянул наружу. Двор барского особняка был пуст, ряд фонарей вдоль кованой ограды хорошо освещал его. Вообще-то по инструкции надзирателям полагалось всю ночь патрулировать и территорию вокруг особняка, и, в особенности, зону, где обитали холопы, даже имелся утвержденный старшим надзирателем график обходов, но на деле этого не происходило. У барина и в мыслях не было вставать среди ночи и проверять лично, как несут вахту его подчиненные. Ему и помимо этого было чем заняться, поскольку Акулина, после смерти мужика в Герасиме, стала отличаться удивительной ненасытностью. Старшему надзирателю, суровому и вечно хмурому мужику лет пятидесяти, было глубоко до седалищного нерва, чем занимаются его подчиненные ночью. Сам он ночью пил, а как напивался, колотил до полусмерти свою наложницу из числа холопок, пятнадцатилетнюю девку, которая после месяца половой жизни с этим дядей стала хромать на обе ноги, заикаться и косить на оба глаза. Надзиратели тоже предпочитали проводить время с пользой – у них был самогон и целый гарем рабынь. В лучшем случае, дежурные совершали один-два обхода за ночь, а иногда обходились и без этого. И все же осторожность не была лишней, поскольку оставался шанс столкнуться с кем-нибудь из надзирателей чисто случайно. В этом случае, как прекрасно понимал Гриша, побег накроется медным тазом, а вместе с ним и жизнь. Даже если удастся убежать от надзирателей, те поднимут по тревоге все имение, сядут на свои вездеходы, возьмут карабины, и организуют облаву. До ближайшего укрытия – небольшого леска, бежать и бежать, а до него сплошь чистое поле. В леске тоже особо не спрячешься. В общем, лучше было не попадаться никому на глаза.
Беглецы успели сделать всего шагов пять на пути к свободе, как вдруг за их спинами прозвучал голос, полный искреннего злорадства:
– Попались!
Отчаянно сопротивляясь спазмам мочевого пузыря, Гриша обернулся, и увидел перед собой нагло ухмыляющегося шута. Мерзкий Пантелей давно уже рождал в Грише желания кровожадного толка, хотя лично ему ничего плохого он не сделал. Он вообще не контактировал ни с кем из дворовых, зато, благодаря своему специфическому статусу, пользовался определенной свободой, и не только свободой передвижения. Иной раз Пантелей прилюдно изрекал такое, за что любому другому холопу давно бы выписали билет в один конец до воспитательного сарая. Но шуту все сходило с рук. Во время трапезы он не сидел у стены, как прочие слуги, в ожидании подачки, а расхаживал вдоль стола, иногда хватая что-то прямо с тарелок и пожирая. Дворовые его недолюбливали и побаивались, даже ключник Петруха трепетал перед уродцем. Гришу, однако же, Пантелей никак не задевал, зато бросал на Матрену такие многозначительно голодные взгляды, что Грише сразу все стало ясно. И хотя ревновать Матрену к этому перекошенному недоразумению было глупо, все же определенная опасность существовала, ведь Матрена, скотина подневольная, могла отправиться в брачный сарай с тем, с кем прикажут, а не с тем, с кем сама захочет. И судя по благосклонному отношению барина к уродцу, он вполне мог удовлетворить его просьбу, и премировать его служанкой своей дочери. Не навсегда, так хотя бы на одну ночку.
Гриша и Тит застыли, как вкопанные. Пантелею достаточно было крикнуть один раз, и весь побег провалился бы, не успев начаться.
– Попались! – прошипел он повторно, пучимый счастьем. – Надзирателям вас сдам, они вас в воспитательном сарае сгноят. А мне в награду за вашу поимку барин Матрену пожалует.
В прежние времена вспыльчивый Гриша взбесился бы после этих слов, и обязательно повел бы себя глупо. Но солидный опыт работы тайным агентом научил выдержке и хладнокровию. Вместо того чтобы с диким криком броситься на Пантелея с кулаками, он посмотрел ему за спину, округлил глаза и выдохнул:
– Барин! Отец!
Пантелей торопливо обернулся, желая увидеть барина и отца, но на крыльце никого не оказалось. А в следующую секунду Гришин локоть врезался ему в затылок. Уродец рухнул, как подкошенный, не издав ни звука.
– Почто разбой чинишь? – возмутился Тит. – Почто убогого смертным боем колотишь? Аль бога не боишься?
– Боюсь, – признался Гриша. – Уж очень он несправедливый, твой бог. Одним черную икру, вино и девок сочных, а другим хрен без соли и оглоблей по спине на десерт. Такого типа надо бояться.
Он схватил бесчувственного Пантелея за руки, и приказал Титу:
– Бери его за задние лапы, и потащили.
– Куда? – спросил Тит, но приказ все же исполнил.
– На заслуженный отдых, куда же еще? Нам свидетели не нужны. Да и Пантелей, похоже, на этом свете задержался. Таким праведникам самое место в раю. Сейчас мы его туда чартерным рейсом и отправим.
– В рай, к архангелам и святым угодникам? – набожно произнес Тит, и размашисто перекрестился, уронив ноги Пантелея. – Вот бы куда хотелось. Повезло ему.
– Счастливчик, – согласился Гриша. – Такой фарт не каждому выпадает, рай тоже заслужить надо. Пантелей заслужил. Он очень старался. Хотя, если по чесноку, у меня, когда его впервые увидел, сразу руки зачесались этого убогого к святым угодникам переправить. А теперь хватай его за вонючие ноги и понесли.
С бесчувственным, но еще живым, Пантелеем на руках, беглецы покинули двор особняка. Пошла холопская зона, беспорядочно застроенная сараями всевозможного назначения. Из одного сарая несся дружный храп и заднепроходный грохот, из другого, напротив, слышалось недовольное хрюканье свиней. Гриша прикинул, что тащить Пантелея до холопомогильника далеко и лениво, и решил, что свой последний приют он обретет в свинарнике.
Занесли Пантелея в свинарник. Внутри, за прочной деревянной перегородкой, в жидкой грязи возлежали розовые туши свиней, толстые и довольные жизнью. Только одна свинка беспокойно бродила по загону, нюхая воздух и похрюкивая.
– Божьи твари, – сказал Тит, с умилением глядя на свиней. – До чего хороши. Важные свиньи.
– Чем-то на тебя похожи, – заметил Гриша, – только пахнут получше. Вы не родня? А то вдруг ты, на самом деле, хряк, только воспитанный людьми.
Он взял в руки тяжелую грязную мотыгу, которой, по всей видимости, отгребали поросячье дерьмо, и вручил ее Титу со словами:
– Будь христианином, помоги Пантелею в рай попасть.
Тита не пришлось просить дважды – под такую благую мотивацию он бы сделал что угодно. Схватил мотыгу, размахнулся, и ударил Пантелея по голове. Череп шута треснул, из ушей и глаз потекла кровь.
– Аминь! – подытожил Гриша. – Пошел процесс вознесения души в рай. Давай его к свиньям забросим. Чего мясу-то пропадать?
Вместе с Титом они перебросили еще дергающийся труп Пантелея через перегородку. Тело шмякнулось в грязь, скрывшись в ней почти полностью. Свинки, потревоженные шумом, проснулись и подошли к Пантелею. Вначале робко нюхали, затем одна хрюшка, самая отважная, рискнула откусить шуту ухо. Плоть захрустела на свинских зубах, Гришу передернуло, и он вышел наружу.
Дальнейший побег прошел без эксцессов. Со стороны казарм доносилось хоровое пение – пьяные надзиратели тянули какую-то заунывную русскую народную песню. Из холопского барака несся грохот извергаемых ветров. На краю поселка Гриша обернулся, бросая взгляд на возвышающийся над сараями барский особняк. Свет в окне Танечки продолжал гореть. Гриша представил себе, как Танечка сейчас сидит на кровати в коротенькой и прозрачной ночной рубашке, а Матрена стоит рядом и развлекает ее беседой. Нестерпимо захотелось вернуться, влезть на второй этаж по стене, проникнуть в окно и развлечь скучающих девчонок, но Гриша сдержался. И без того побег не обошелся без потерь – героически отдал свою жизнь шут Пантелей. Верой и правдой служа барину, грудью попытался закрыть беглецам путь к свободе. Пал в неравном бою с превосходящими его умом силами противника. Одно хорошо – у свиней случился поздний ужин. Гриша сам любил пожрать ночной порой, так что хрюшкам откровенно завидовал.
Выбежав в поле, понеслись, как зайцы. Гриша толком не знал дороги до имения нового владельца жезла, но предпочитал не думать об этом. Радовало уже то, что искомый барин – сосед помещика Орлова, следовательно, идти до него не слишком далеко. Вот бы еще с направлением угадать. Гришу, однако же, немного утешала мысль, что Земля шарообразная, так что до места они доберутся в любом случае, куда бы ни пошли, вопрос только – сколько это путешествие может занять лет.
– А то вовсе сбежим из этого дурдома, – размечтался он, когда они расположились отдохнуть в леске на краю поля. – В смысле – из империи. Я по телевизору слышал, что на западе политических беженцев очень любят и нежно встречают. Меня можно выдать за борца с тоталитарным режимом, а тебя за узника совести, избравшего свободу.
Тит, громко дыша, непринужденно сгустил атмосферу. Гриша, зажимая нос, проворчал:
– Слышь, узник совести, ты совесть-то поимей! Хоть бы отвернул в сторону свое орудие. Вдруг вправду до свободной Европы доберемся? Встретят нас культурные добрые люди, а ты как начнешь там жопой греметь налево и направо. Конечно, это можно будет списать на последствия жизни в условиях бесправия и несвободы, но все же не хотелось бы негативное впечатление производить. Тем более, вдруг там телки будут. Представь, как ты меня осрамишь перед ними. Я тогда сразу скажу, что тебя не знаю, и что ты не узник совести, а пердун без совести. И посоветую тебя обратно депортировать, на родину, чтобы ты не отравлял свободный воздух демократической Европы своими кишечными газами. Им одного «Северного потока» хватает, без твоего газа как-нибудь обойдутся.
Отдышавшись, узник совести и борец с тоталитарным режимом продолжили свой путь. Лесок кончился, не успев начаться, дальше простирались бескрайние поля, залитые безжизненным лунным светом и, судя по запаху, удобрениями естественного происхождения. Гриша на втором же шаге по колено вступил в огромную кучу, какую в силах был оставить после себя только очень крупный динозавр.
– Тит, дай мне свою рубаху! – сквозь зубы процедил Гриша, из последних сил сдерживаясь, чтобы не заорать благим матом на весь белый свет. Тит послушно стащил свою одежку через голову, Гриша кое-как вытер ею штанину, а босую ступню долго чистил травой. Он уже понял, что на этом поле холопы занимались точечным удобрением, то есть растаскивали навоз на носилках и раскладывали его квадратно-гнездовым способом, дабы затем продукт, размытый дождями, равномерно впитался в почву. Зачем это было нужно, никто не знал, ведь урожаи все равно снимались скудные, их едва хватало, чтобы прокормить надзирателей и холопов. Сами господа питались исключительно продуктами иностранного производства. Даже на мешках с картошкой, которые Гриша видел в господской кухне, красовались надписи на английском языке. Разумеется, при грамотном ведении сельского хозяйства, огромные плодородные земли давали бы отличный урожай, которого с избытком хватило бы всем слоям населения, но это можно было осуществить лишь при ряде условий. Самым главным условием было желание, а оно-то, как всегда, и отсутствовало. Судя по всему, страна кормилась тем же способом, что и ее параллельный двойник – распродавая невосполнимые богатства недр. На получаемые с продажи деньги покупалось все необходимое для красивой и сытой жизни господ. Ну а родная землица кормила холопов. Но что могли вырастить холопы из плохих семян, исключительно ручным трудом (труд был натурально ручной, поскольку, в большинстве случаев, землю вскапывали не дорогими лопатами, а ладонями) и при отвратительных условиях хранения урожая, когда большая его часть попросту сгнивала? К тому же львиная доля собранного урожая уходила на корм домашним животным. Гриша выяснил, что вся содержавшаяся в имении животность предназначалась для надзирателей, господам же даже молоко и яйца привозили из-за границы. Еще надзиратели отбирали себе самую лучшую картошку, из той, что выращивали холопы, а оставшуюся специально хранили в таких условиях, чтобы она как можно скорее сгнила. Гриша догадывался, что во всем этом неизбежно кроется какой-то важный экономический резон – иначе трудно было объяснить подобную абсурдную ситуацию. Но отыскать его он не смог. Утешил себя тем, что ему всегда трудно давались точные науки, а гуманитарные еще труднее. В школе спасали только физкультура и пение. Физрук был постоянно пьян, и, не глядя, ставил всем пятерки, а преподавательнице музыки еще в раннем детстве на ухо наступил мамонт, и она ставила оценку тем выше, чем громче пел ученик. Качество пения не играло роли, ну а уж громко и истошно орать Гриша умел с рождения.
Дабы больше не вступать в удобрения, Гриша послал вперед себя Тита. Но миноискатель оказался бракованным. Расчет подвел Гришу, поскольку Титу было безразлично, во что и как глубоко вступать. Он шел прямо и целеустремленно, и когда на его пути встала очередная мегалитическая куча, даже не сбавил хода. Гриша, пребывающий в неведении относительно мины в фарватере, шагнул следом и погрузился в оное второй ногой. В этот раз самообладание сохранить не удалось, и над русским полем прозвучали смачные русские слова. Адресат слов почесал затылок, пожал плечами, и явно не понимая, в чем его обвиняют, промолчал.
Напрасно Гриша надеялся, что холопы, при раскладке удобрений на поле, соблюдали строгий геометрический порядок. Кучи оказались навалены как попало, то есть, как упало. Осторожное прощупывание отнимало слишком много времени, и Гриша, плюнув на все, уподобился Титу – пошел по полю, не разбирая дороги.
Мириады звезд сияли над головами беглецов, Млечный путь размазался по небу длинной густой соплей. То и дело черноту неба прорезали алые линии – это сгорали метеориты. Их было так много, что Гриша, повторяя слышанные прежде слова диктора новостей, предположил, что с землей столкнулся астероидный поток.
– Кстати, – сообщил он Титу, – ты знаешь, что если загадать желание, глядя на падающую звезду, оно обязательно сбудется?
– У меня единое желание, – тяжко вздохнул Тит. – Грехи отмолить, заслужить божье прощение.
– Ясно, – кивнул Гриша. – Ну, на это ты две звездочки потратишь. Одну на отпущение грехов, вторую на прощение. А остальные?
– Более ничего не желаю.
– Ага, конечно! Гони больше! Не желает он. Я тебя насквозь вижу, как рентгеновская установка. Ты еще скажи, что Танечку не хочешь.
– Барыню… – протянул Тит мечтательно.
– Ее самую. Вот видишь, уже что-то. У барыни-то жопа круглая, сиськи белые, сама вся вкусная-вкусная.
– Спаси и сохрани отец небесный от искусов бесовских, – забормотал Тит, панически крестясь. – Не введи во искушение, но избавь от лукавого.
– Что опять молитву затянул? Окаянный отросток снова голову поднял? А ты его полешком! Пускай знает, кто в штанах хозяин.
– Оторву его и выброшу собакам, – решительно произнес Тит. – Святой старец Маврикий учил: ежели искушает тебя правая рука, отруби и брось псам.
– Тебя правая рука точно искушает по полной программе, – согласился Гриша. – Только зачем же членовредительством заниматься? Тебе же его бог дал, верно? А ты хочешь, как скотина неблагодарная, оторвать его и выбросить. Дар божий выбросить хочешь. Ну, Тит, даже мне рядом с таким грешником, как ты, немного страшно.
– Смирение и воздержание – православные добродетели, – сообщил Тит, по пояс вваливаясь в огромную гору удобрений. – Нечистый искушает, соблазнами с пути праведного сбивает. Страстотерпец Потап сам себя оскопил, дабы не даться соблазнам.
– Это ты о каком Потапе? – заинтересовался Гриша. – Который себе мошонку зубами отгрыз. Блин, ну ты и нашел о чем ночью беседовать.
– Святой человек! – набожно произнес Тит.
– Кто? Потап? Да он просто мазохист обыкновенный. Это же надо – зубами!
– То борьба с нечистым. Великий подвиг.
– То трусость, а не подвиг. Подвиг, это когда у тебя все на месте, а ты дьяволу, в образе Танечки, сопротивляешься. Потап же понял, что не устоять ему перед сиськами прекрасного третьего размера, вот и отгрыз себе источник соблазнов.
Регулярные проповеди святых старцев не прошли даром – Гриша нахватался от них всякой всячины, и теперь рассуждал как настоящий богослов, наставляя неразумного Тита на путь истинный.
– Если тебе яйца отрезать, – рассуждал Гриша, – то ты, при всем желании, согрешить не сможешь, даже если сильно захочешь. Где же тут подвиг? Подвиг тогда, когда есть выбор, а когда выбора нет, то нет и подвига. Потап струсил, понял, что бесы похоти и разврата, сексуального буйства и ночных оргий одолели его, вот и пустил в ход зубы. Это, считай, поражение. Все-таки завладел им дьявол. Ты же, если хочешь вымолить у бога прощение за все свои многочисленные и тяжкие грехи, должен поступать иначе. Легко сопротивляться соблазну, когда не знаешь, чему сопротивляешься. Мой тебе совет: при первом же удобном случае согреши с какой-нибудь телкой. Распробуй, что это такое, а вот после уже воздерживайся. Это будет настоящий подвиг. Бог как увидит его, так сразу тебя к лику святых причислит. Представляешь, как будет красиво звучать – святой великомученик Тит. Тит – это ведь сокращение. А полное имя как? Тертуллиан, что ли? Святой Тертуллиан. Хм…. А ведь что-то в этом есть, согласись.
– Важно! – мечтательно протянул будущий святой великомученик.
– То-то же. А ты заладил – оторву его, оторву. Да ведь он твой единственный путь к спасению души. Оторвешь, считай, пропала твоя душа. Как докажешь богу, что ты смиренный и воздержанный? На слово он тебе не поверит, уж больно рожа у тебя брехливая, а делом ты подтвердить не сможешь. Так что мой тебе совет: береги его, как зеницу ока, заботься о нем, колыбельную на ночь пой, поленом больше не глуши. Ведь если он встает, это бог тебе испытание посылает. Ты не за полено должен хвататься, а из помыслов своих грешные мысли изгнать. Как изогнешь, он и уляжется обратно. Ведь он почему у тебя все время на без четверти полночь? Потому что только и делаешь, что о Танечке мечтаешь. Говоришь о боге, а представляешь себе ее попу. И ты, после этого, не грешник? Еще какой грешник! Тьфу на тебя!
– Помолюсь! – с жаром произнес Тит. – Супротив молитвы темная сила не устоит!
Он стал молиться, горячо, но невпопад, неся какую-то отсебятину. Гриша слушал, слушал, косясь на спутника, затем громко сказал:
– Нет, Тит, не помогает. Может быть, темная сила против молитвы и не устоит, но вот твой индикатор греховности стоит и не колышется. Все потому, что неискренне ты молишься. Сам молишься, а думаешь о Танечке. Плохо ты святых старцев слушал. Ничего не понял.
– Ежели его к ноге бичевой примотать, авось уймется? – в отчаянии простонал Тит.
– Примотаешь, придется на одной ноге прыгать. Крепко тобой греховные мысли овладели, тут веревка не поможет. Ты не сопротивляйся. Хочешь о Танечке думать – думай. Я тоже о ней все время думаю. Как вспомню ее попу…. Ой! Лучше не вспоминать, а то тоже придется к ноге привязывать. К ноге, да…. К ноге! – я сказал. Ну вот, полюбуйся, чего ты добился. Ох, Тит, великий ты грешник. Трудно будет твою черную душу отмолить.
Впереди замаячила черная стена деревьев. Беглецы свернули к ней, и вскоре вышли на берег небольшого прудика, со всех сторон поросшего кленами и акациями. Гриша с наслаждением стащил с себя пропитавшиеся потом и грязью одежды, голый зашел в воду и долго плескался, смывая многочисленные культурные слои приросшего к коже грунта. Накупавшись, Гриша выстирал одежду, отжал ее и надел уже чистую.
– Вот! Хоть человеком себя чувствую, – признался он. – Даже как-то непривычно. У вас тут такие прекрасные условия, что все больше скотиной грязной себя ощущаешь.
Тит же не то что не сделал попыток помыться, но даже не приблизился к воде. За Гришиным купанием он следил с почтительного расстояния, временами крестясь и бормоча заклинания.
– Помылся бы ты, – предложил Гриша.
– Господь с тобой! – ужаснулся Тит. – Как можно?
– Очень просто: заходишь в воду и моешься. Советую тебе уделить особое внимание зоне бикини. Не знаю, что у тебя там происходит, но, судя по запаху, ничего хорошего. Уж не протухли ли они у тебя там?
Тит не понял, о чем речь, но вновь помянул господа, и заявил, что купаться не желает.
– Почему? – стал допытываться Гриша. – Неужели святые старцы мыться запрещают?
– На это запрета не было, – ответил Тит.
– Тогда какого лешего ты в воду не лезешь? Тит, серьезно тебе говорю – помойся. У меня от твоего благоухания глаза режет.
– Ночью в реку аль пруд аль озеро не можно входить православному человеку.
– Да? Обоснуй.
– Нечистая сила может вред причинить.
– Чего? – наморщился Гриша. – Какая сила? Нечистая? Тит, из всей нечистой силы на сто километров вокруг есть только ты.
– Русалка может потяпку откусить, – смущенно поведал Тит. – Так люд глаголет.
– Ты еще и в русалок веришь, – усмехнулся Гриша. – А в деда Мороза?
– В кого?
– В деда Мороза. Это такой старик с ватной бородой и большим мешком. Он на Новый год детям подарки приносит. У него еще внучка есть, Снегурочка…. Хм, странно. Внучка есть, а дети его где? Никогда раньше об этом не задумывался. А вдруг это никакая не внучка, а молодая любовница? Он ее перед детьми внучкой обзывает, чтобы киндеров не шокировать, а на самом деле они уже давно осваивают методику восхождения по нефритовому стержню без страховки.
– Не знамо такого деда, – признался Тит.
– Это понятно. У вас же даже Новый год не празднуется. Господа, то есть, отмечают, а вы в пролете, как всегда. Это к Танечке дедушка Мороз приходит, а к тебе дед Облом с пустым мешком и большой дубиной. Тит, в пруду нет русалок. У нас для них климат неподходящий. Помойся, будь хоть раз в жизни человеком.
– Нет! – твердо ответил Тит. – Водяной за потяпку ухватит и в омут утащит.
– Что ты так трясешься из-за своей потяпки? – проворчал Гриша. – Все равно она без дела болтается. Ладно уж, пошли дальше. Только близко не жмись. Не хочу тобой провонять.
Покинув пруд, вышли на новое поле. Тит стал сбивчиво рассказывать о домовых, леших, кикиморах, водяных, русалках, упырях и прочих соотечественниках. С его слов выходило, что все эти существа реальны, и обитают рядом с человеком. Причем, являясь бесами, православным людям они всячески вредят, а безбожникам и смутьянам всегда помогают в их черных делах.
– Странно, – проронил Гриша. – Что-то нам никто помогать не кидается. А я бы с русалочкой познакомился.
Дальше Тит пояснил, что единственная защита православного человека от нечистой силы это барская благодать. В силу того, что барин является наместником бога на земле, он наделен загадочной силой – благодатью, которая защищает и его и верных ему холопов от слуг дьявола. Вот почему так важно во всем повиноваться барину и верно служить ему. Ибо лишившись благодатной защиты, холоп окажется лицом к лицу с силами тьмы, которые мигом погубят его душу. Затем Тит сообщил, что самые главные смутьяны и безбожники одновременно являются злыми колдунами и ведьмами, которые верно служат дьяволу точно так же, как святые и праведники служат богу. Человека святого отличает кротость, смирение, послушание, самоотверженный труд на барина, беззаветная преданность хозяину, склонность к самопожертвованию. Праведники так сильно любят барина, что не смеют объедать его, и не получают положенную им пайку помоев. Они питаются подножным кормом – травой, да и то самой худшей, какую не станет кушать ни одна домашняя скотина. Очень часто пример праведного поведения оказывается заразительным, и тогда десятки холопов начинают морить себя голодом, днем работают на износ, ночь проводят без сна – возносят молитвы во здравие барина и занимаются самобичеванием.
Иное дело смутьяны и безбожники. Эти глубоко эгоистические натуры не любят никого, кроме себя, и пекутся исключительно о своем благополучии. Бессовестные грешники не только съедают свои порции помоев, чем вводят барина в убыток, но, не довольствуясь этим, часто покушаются на корм животных. Грешникам всегда всего мало, кроме работы. Работать на барина они не хотят, двадцатичасовой рабочий день считают слишком длинным, трудятся вполсилы. Телесные наказания принимают не с положенным смирением, но с возмущением и негодованием. Всегда всем недовольны. Греховно мечтают о лучшей жизни. Но разве бывает что-то лучшее на свете, чем самоотверженный труд на барина, полученные за него побои и кормление помоями? Разумеется, только помутнение разума, насланное на грешников дьяволом, заставляет желать иную долю.
– Я тебя понял, – кивнул Гриша, выслушав сбивчивую проповедь Тита. – Надо тупо пахать, пока не издохнешь, а из всех радостей жизни одни побои.
– И в бога веровать, – добавил Тит. – И барина, кормильца и отца родного, благодетеля и заступника, любить пуще себя. Только тогда после упокоения в рай попадешь.
– А в раю все то же самое?
– В раю турнепса и комбикорма видимо-невидимо! – с придыханием произнес Тит.
– А телки в раю есть?
– Кто? Коровы?
– Достал уже со своими коровами! Я спрашиваю, есть в раю бабы или нет?
– Токмо праведные девы.
– Праведные, – нахмурился Гриша. – Это те, которые принципиально сексом не занимаются? Мне такие не подходят. Тит, а все неправедные девчонки куда попадают? Которые грешницы, и все такое.
– В ад.
– О! Тогда мне тоже туда.
– В аду еще дьяволицы есть, – сообщил Тит. – Чертовки, суккубы, блудницы вавилонские.
– Ничего себе! Что же ты раньше молчал, а? Так, Тит, срочно начинаем грешить. Нам просто необходимо попасть в ад к чертовкам, дьяволицам и неправедным девчонкам. Ты не волнуйся, долго там не задержишься. На тебя там посмотрят немного, и выгонят в жопу. То есть – в рай.
– Не видать мне рая, – убито пробормотал Тит. – Не отмолить души моей грешной.
– Не волнуйся. Мне кажется, такого осла, как ты, в ад не пустят по причине тупости. Автоматически в рай попадешь. Конечно, за стол со святыми угодниками и страстотерпцами тебя не посадят: во-первых, ты не заслужил, а во-вторых, тебя вообще за стол сажать нельзя. Уж больно ты парень ветреный. Все время только и делаешь, что ветры пускаешь. Выделят тебе там стойло где-нибудь на окраине, навалят в кормушку турнепса, и будешь чавкать.
– Это бы важно, – заулыбался Тит. – Турнепса поснедать дело доброе.
– Во-во, – согласился Гриша. – Пока ты в раю будешь турнепсом давиться, я в аду зажгу. Хорошо бы дьяволицы на Ярославну оказались похожи. Или на Танечку. Хотя бы на Матрену. Главное, чтобы не на тебя….
Гриша, уже собравшийся расписать Титу свое предстоящее сказочное житье в аду, полное необузданного секса и обильных мясных трапез, вдруг осекся. Он увидел вдали свет явно искусственного происхождения. Впрочем, для имения света было маловато, да и расстояние они преодолели не настолько большое, чтобы добраться до владений соседнего помещика.
– Что это там? – заволновался Гриша. – Не засада ли?
Тит вдруг упал на колени и перекрестился.
– То храм божий, – сказал он. – Нас сюда прошлый год на службу водили.
– Церковь? – заинтересовался Гриша. – Отлично! А не заглянуть ли нам на огонек к святым старцам? У меня уже кишки от голода слипаются. Самое время наведаться в церковные кладовые.
Глава 31
Тит оказался прав – источником электрического света оказалась большая церковь, стоящая на границе поля и леса. К церкви вела хорошая дорога, по периметру культовое сооружение ограждал чисто символический заборчик.
Гриша и Тит на четвереньках подкрались к ограде. При этом Гриша все время шикал на спутника, а тот, как попугай, продолжал повторять, что из храма божьего воровать не будет и другим не позволит.
– Тит, идиот клинический! – шипел на него Гриша. – Мы же не собираемся иконы красть. Нам только еда нужна. Ведь господь велел делиться.
– Чем же нам, горемычным, поделиться со святыми старцами? – удивился Тит.
– Нам с ними нечем, а вот им с нами – возможно. Возьмем чуть-чуть еды, чисто червячка заморить. Это не грех.
– Грех! – твердил свое Тит. – Великий грех.
– Что же ты предлагаешь, а? С голоду подыхать? Это ты наловчился травой питаться, а я еще в парнокопытное не мутировал.
– Надлежит войти с поклоном низким и попросить Христа ради, – подсказал Тит.
– Ага! Так они нам и дали!
– В храме господнем завсегда православный человек убежище найдет, – с железной верой в истинность своих слов, сказал Тит. – Там и насытят и обогреют.
– И обратно барину сдадут, – закончил за подельника Гриша. – Тит, я все понимаю – трудное детство, суровое отрочество, юность тоже ни в пизду. Но надо же когда-то умнеть. Попы нам не друзья. Они барину друзья. И надзирателям, которые таких, как мы, бесправных холопов, дубинами лупят. Так что давай тихонько проберемся на церковный двор и пошарим там без спроса.
– Из церкви воровать? – ужаснулся Тит, отшатываясь от Гриши. – Опомнись! Аль креста на тебе нет?
– Нет. Я его неделю назад снял и выбросил, чтобы шею не натирал.
– Да ты нехристь! – с нарастающей громкостью уличил подельника Тит. – Да ты супротив господа идешь! Меня речами коварными с пути православного своротил, на побег подбил. Душу мою сгубил. Смутьян! Грешник! Покличу святых старцев, пускай нас барину ворочают. Все отцу родному поведаю, как дело было. Скажу ему, что ты меня на грех великий попутал. Скажу, что….
Гриша не стал дослушивать все обвинения в свой адрес. Навалившись на впавшего в религиозный экстаз Тита, он прописал ему с полдюжины смачных ударов по болевым точкам.
– Дурак! – прорычал он, зажимая Титу его громкий рот. – Да барин и слушать тебя не станет. Сразу прикажет тебе в зад сорок веников засунуть.
Мрачная перспектива немного остудила религиозный пыл Тита. Но не погасила его полностью.
– Барин справедлив, он наместник господа на земле, – прошептал холоп. – Во всем разберется, благодетель, виновных покарает, праведных помилует.
– Это ты, что ли, праведник? – разозлился на тупого соратника Гриша. – А кто ворованное барское вино пил? А кто, за барской дочкой подглядывая, дрочил по-македонски, в две руки? А кто от барина сбежал? А кто при побеге Пантелею башку тяпкой разбил? Это все ты!
Захлебываясь соплями раскаяния, Тит обхватил голову руками и запричитал:
– Помилуй мя господи, грешника окаянного! Бесы попутали, совратили с пути истинного. Супротив воли барина пошел, супротив бога пошел. Не видать мне царствия небесного, гореть мне в адском пламени.
– Это да, – согласился Гриша. – Тебе теперь прямая дорога в ад.
– Вымолю у бога прощение, – в отчаянии прорыдал Тит. – В пустыню уйду, в пещере буду жить, травой сухой питаться. Дни и ночи молитвам посвящу. Вериги трехпудовые справлю, поклонов отобью столько, сколько звезд на небе. Плеть изготовлю, бичевать себя буду каждый божий день. Искуплю грехи великим православным подвигом.
– Считаешь, этот мазохизм поможет? – усмехнулся Гриша. – Бог, на все это сверху глядя, со смеху лопнет.
– Уйду в чащу дремучую, к зверю дикому, – бредил Тит, – отрину одежды человеческие, с колен годами подниматься не буду, дни и ночи молитвам посвящу. И в день ясный, и в день дождливый, и в ночи лунные, и в ночи темные, буду взывать к господу….
– Представляю, как ты его заебешь, – заметил Гриша. – Я бы, на его месте, тебя на третий день грохнул. Тит, завязывай уже с этим мракобесием. Ничем ты свои грехи страшные не замолишь. Не простит тебя бог. За побег простил бы, и за вино господское простил бы, но вот за то, что ты за Танечкой в замочную скважину подглядывал, и свой окаянный отросток, при этом, цинично дергал – за это не простит. Теперь, Тит, ты грешник. И после смерти тебе в любом случае в ад идти. Смирись с этим. Так что лишний грех-другой ничего не изменят.
– Грешник, – бормотал Тит со слезами на глазах. – Ой, грешник.
– Посмотри на это с другой стороны, – предложил ему Гриша. – Да, с раем вышел облом, но зато представь, сколько новых возможностей открывается здесь, в этом мире. Тебе ведь вино понравилось?
– Важно было, – заулыбался пахучий мужик.
– Вот теперь можешь сколько угодно его пить. Все равно бог тебе ничего не сделает, потому что ты уже грешник.
Тит нахмурился, явно пытаясь думать. Гриша наблюдал за ним с радостью педагога, наконец-то, после титанических усилий, сумевшего вдолбить в порожнюю голову ученика хоть какие-то крохи знаний. Один тот факт, что Тит задумался, уже говорил о многом. Прежде Тит этим не грешил.
– Вина бы важно похлебать, – произнес грешник с лукавой улыбкой.
– Молодец! – похвалил его Гриша. – А где вино, там и бабы, согласен?
– То грех великий, – по привычке выдал Тит. – Негоже о девках помышлять – господь покарает.
– А что он тебе сделает? – тут же спросил Гриша. – Два раза в ад он тебя не сошлет, а на один раз ты уже нагрешил.
– Да, – согласился Тит. – Верно молвишь.
– Еще бы! Но на вино и на баб деньги нужны. А где нам, простым грешникам, деньги взять? Только украсть и остается.
– Грех это, – вякнул Тит.
– Верно. Ну и что? На тебе и без того грехов целый воз. Одним больше, одним меньше – кто их там, на небе, считать станет? Согласен?
– Да.
– Тогда пошли на дело. И чтобы тихо у меня. Не вздумай молитву затянуть во весь голос, или еще что-нибудь выкинуть в этом же духе.
Из окон церкви лился тусклый свет, внутри метались какие-то тени, из чего Гриша заключил, что святые старцы работают в ночную смену. Это показалось Грише немного странным. Далекий от религии, плохо знающий обряды и обычаи христианства, он почему-то считал, что добрым богам полагается молиться днем, при свете Солнца, а вот ночь – время всяких темных сил. Но, видимо, святые старцы считали иначе.
Низко пригнувшись, Гриша быстро пробежал открытое пространство двора и прижался спиной к стене церкви. Тит замешкался. Упав на колени, он бил поклоны и яростно крестился.
Плюнув на религиозного напарника, Гриша осторожно заглянул в окно церкви. Он ожидал увидеть внутри некий обряд, какую-нибудь торжественную церемонию, вроде тех, что ему иногда доводилось наблюдать по телевизору. Священнослужители в разноцветных халатах с какими-то смешными ведрами на головах ходят туда-сюда, носят свечи, кресты и какие-то странные палки, поют непонятное, издают возгласы, которые затем подхватываются паствой. Все выглядит важно и величественно. Возникает впечатление, что все эти люди заняты каким-то чрезвычайно нужным делом, к которому подходят со всей серьезностью. Гриша не верил в бога, хотя если бы ему довелось стать участником социологического опроса, назвался бы православным, но нарядные священники, такие солидные, упитанные, бородатые, их песнопения, их маневры – все это вызывало у него невольное уважение. В церковь он никогда не ходил, поскольку там не продавали спиртное, и не было шанса познакомиться с девушкой, но в целом православные обряды ему нравились. Он относился к ним как к театрализованным костюмированным представлениям, вроде исторических реконструкций, когда люди, облачившись в старинные доспехи, понарошку лупят друг друга мечами и палицами. Это, впрочем, вовсе не значило, что Гриша относился к церкви, как к сплошному театру. Он прекрасно понимал, что дело это серьезное и важное, раз на него выделяются такие огромные деньги, и раз повсюду строятся в огромных количествах новые церкви. А однажды, увидев батюшку за рулем крутой тачки, которая пролетела на красный свет, едва не намотав на колеса какую-то нерасторопную бабку, Гриша на целых три дня всерьез захотел стать священником. Он даже представлял себе, как сошьет черную кожаную рясу с цепями и заклепками, повесит на грудь здоровый золотой крест, отпустит бороду и патлы, и станет реально конкретным батей. Особенно Гришу прельщала перспектива отпускать грехи молодым симпатичным девушкам. Открывались такие невероятные возможности пользоваться служебным положением в личных целях, что голова шла кругом. Но мечты так и остались мечтами. Гриша был слишком ленив, чтобы бороться за теплое место под нефтяной трубой.
Так вот, ожидая увидеть очередной костюмированный спектакль, Гриша заглянул в окошко, и обомлел. Ко многому он был готов, но не к такому.
В помещении церкви ночной порой возрождались лучшие традиции Содома и Гоморры. За накрытым столом сидели святые старцы, пьянствовали и лапали полуголых девиц. Гриша потер глаза, думая, что ему привиделось. Оказалось, что глаза его не обманывают. Тут он заприметил старого знакомого – святого старца Маврикия. В одном нижнем белье (трусы, носки, нательный крест) он гонялся по церкви за монашкой в мини-рясе. В дальнем углу, прямо под иконой святого великомученика Тимофея (ныне покойный крепостной из Смоленской губернии, прославившийся тем, что уморил голодом себя и еще двадцать три холопа, и все ради того, чтобы барина не объедать) святой старец грешил девку, прижав ее к стене. На столе танцевала танец семи покрывал весьма соблазнительная особа с божественной геометрией корпуса. Из семи покрывал на ней осталось одно, да и то прозрачное.
За время своего вынужденного воздержания ото всех радостей жизни, Гриша немного отвык от подобных прекрасных зрелищ. Вид пьянства и разврата вызвал в его душе чувство глубочайшего возмущения. Гриша был глубочайше возмущен, что вот люди отрываются по полной программе, а он снова в пролете.
К нему подполз намолившийся Тит, глянул в окно и ахнул.
– Бесы глаза застят! – забормотал он, крестясь и кланяясь. – Видения жуткие насылают. С пути праведного совратить норовят. Святых людей опорочить.
– Я тоже это вижу, – сказал Гриша. – Похоже, что бесы не причем.
Тит опять приник к окну, во все глаза любуясь оргией.
– Святой старец Маврикий девку голую на колени поставил, – прокомментировал он. – Исповедовать ее будет.
– У вас это так называется? – усмехнулся Гриша. – У нас говорят проще и честнее.
Когда святой старец сунул свой окаянный отросток в рот девице, Тит с такой силой прижался лбом к окну, что чуть не выдавил стекло.
– Это что же он делает? – бормотал мужик. – Это как же? Это зачем? Неужто причащает? А другой-то, смотри, девку нагнул. Сейчас плетью стегать будет, грешницу…. Ой, ангелы небесные! Это зачем же он ей туда-то его сунул?
– Тит, ты насмотрелся? – спросил Гриша, оттаскивая мужика от окна. – Нет? Хватит с тебя. Хорошего понемногу. Я тебе потом куплю диск с немецкими фильмами, и смотри их хоть до кровавых мозолей. Надо еду поискать. Я, на их стол глядя, чуть слюной не захлебнулся.
– Господская еда для холопа яд, – напомнил Тит. – Я вон там, за оградой, скирд сена душистого видел. Важная снедь.
– Сено сам жри! – сердито ответил Гриша. – Можешь еще навоза навернуть на десерт. А я мяса хочу. Колбасы. Сала бы шмат вот такой сожрал бы в один анфас.
– То отрава, – покачал головой Тит.
– Вот и не ешь. Налегай на траву, быстрее блеять начнешь. По мозгам ты уже типичный баран, только речь человеческая все портит.
Они прошли вдоль стены, затем Гриша хитро выглянул за угол. Там, на вымощенной тротуарной плиткой стоянке скромно приютились шесть автомобилей аминь-класса – шикарные, дорогие, отливающие хромом. У одного огромного внедорожника была поднята задняя дверь, оттуда торчали две пары ног и суетливо дергались. На земле, возле автомобиля, стояли какие-то коробки, судя по всему не пустые.
– Тит, жди здесь! – приказал Гриша. – Если издашь хоть звук, со святыми угодниками увидишься раньше, чем планировал.
Оставив ненадежного подельника на месте, Гриша ужом проскользнул к внедорожнику. В салоне ерзали и громко дышали. Мучимый любопытством, Гриша осторожно заглянул в окно автомобиля. Внутри он увидел жирного святого старца в чем мать родила, который неуклюже елозил на худенькой монашке. Та постанывала не столько от удовольствия, сколько от навалившейся на нее тело тяжести.
– Святые старцы, ну-ну, – беззвучно проворчал Гриша. – По сравнению с ними я вообще ангел.
В одной коробке оказалось всякое несъедобное барахло, зато во второй Гришу ждал джек-пот. Он даже не успел толком рассмотреть, что там, но сразу понял по запаху – здесь еда. Заправив рубаху в штаны, Гриша стал переправлять трофеи за пазуху, но вдруг возня в салоне прекратилась, и, судя по звуку, люди начали выбираться наружу. Недолго думая, Гриша упал на землю и вполз под машину, благо высокий дорожный просвет позволял это сделать. Тут же он увидел босые ноги, что тяжело, вразвалочку, прошагали мимо. Через какое-то время появились вторые ноги, худенькие, с синими прожилками вен, отчетливо проступающими сквозь тонкую кожу.
– Чего хнычешь? – прогремел могучий профессиональный бас. – Чем недовольна? Обратно в монастырь хочешь, на хлеб, воду и побои?
– Нет, святой старец Алексий, не хочу.
– То-то же. Вот и не криви рожу. Улыбайся. Бери коробку…. Да не эту, дура!
Послышался звук смачной оплеухи, худенькие ноги едва не подкосились.
– Вот эту коробку бери, и иди вперед. Сейчас тебя прочие святые старцы отведают. Но учти – если будешь хныкать и лежать, как бревно, поедешь обратно в монастырь, к матушке Агафье. Хочешь к матушке?
– Нет! – пропищала девушка, и в голосе ее прозвучал неподдельный ужас. Судя по всему, матушка Агафья была чем-то настолько жутким, что на ее фоне святые старцы действительно казались святыми.
– То-то же. Матушка с тобой цацкаться не будет. Она строгая. Святая женщина. Как видит в какой-то из монахинь греховные помыслы, так сразу камень на шею и в колодец. Так что, если не хочешь к ней вернуться, порадей как следует. Доставь святым старцам удовольствие.
– Я доставлю, доставлю, – бормотала девушка. – Только я не ученая, не знаю всех премудростей.
– Ты уж, дочь моя, как-нибудь сама сообрази, с божьей помощью. Некогда мне тебя всему учить. На других монахинь посматривай, что они делают, то и ты делай.
Монашка и святой старец скрылись в церкви, после чего Гриша осторожно выполз из-под машины.
– Сволочи! – выплюнул он в сердцах, обнаружив, что унесли они с собой именно ту коробку, в которой была еда. Впрочем, того, что Гриша уже успел урвать, должно было хватить на неоднократный замор червячка.
Во второй коробке Гриша нашел только одну полезную вещь – холщевый мешочек. Туда он сложил трофеи, и с ними вместе поспешил обратно к Титу.
– Я узрел святого старца и юную инокиню, что из самоходной колесницы вышли, – шепотом сказал Тит. – Святые люди! Одежды отринули, ходят нагие, телесные муки терпя, лишь бы наши грехи отмолить.
– Грехи-то ладно, – проворчал Гриша, выдавая Титу разгонный пинок под зад. – Грехи отмолить можно. А вот твою тупость все ангелы, вместе взятые, отмолить не сумеют.
– Куда мы теперь? – спросил Тит оглянувшись.
– В лес! – скомандовал Гриша. – Надо пожрать и отдохнуть. У меня уже ноги от того места отваливаются, каким ты думаешь.
Ветви деревьев скрыли огни церкви. Гриша с Титом углубились в лес, забрались в непроходимую чащу, и устроили бивуак. Усевшись задом на ворох палой листвы, Гриша, почти ничего не видя в темноте, на ощупь развязал мешок с трофеями и запустил в него руку. Из мешка пахнуло божественными ароматами. Несмотря на очередной пост, духовенство потчевало себя исключительно скоромной пищей. Гришина длань выхватила из мешка гирлянду сарделек, зубы тотчас же вонзились в нормальную человеческую еду.
– Блин! – застонал Гриша. – Тит, ползи сюда. Поешь хоть раз в жизни как человек, а не как животное.
Тит устроился в сторонке, он был угрюм и молчалив. Гриша подумал, что на Тита так подействовало все, что он увидел в церкви, но тут напарник подал голос, и объяснил причину своего мрачного настроения. Как и в большинстве случаев, когда Тит говорил, в этот раз он лучше бы вовсе не открывал рта.
– У святых людей на святой земле украсть, – пробормотал он из темноты. – Грех-то какой! И как только нас земля носит? Как еще господь нас громом не поразил?
Гриша нащупал в мешке бутылку, выдернул зубами пробку и отхлебнул. В бутылке оказалось довольно крепкое вино. Гриша не любил вина, но после диеты из помоев, отрубей и турнепса, он наслаждался этой амброзией. Закусив вино сарделькой, он наставительно сказал:
– Ты, Тит, не парься. Никакие они не святые. Ты же сам все видел. Это сатанисты какие-то, или просто извращенцы больные. Нормальные люди в церкви такое делать не станут. Всему свое место. Бухать в кабаке надо, а не в церкви. И телок драть тоже в другом месте. В лифте, например, или в подъезде, или на чердаке, или в подворотне. На хате, правда, лучше всего. А в церковь телку вести вообще дурная примета – можно венчание накаркать. Вот, съешь лучше сардельку.
– Нельзя, – отказался Тит. – То яд.
– Я же ем, и живой.
– Тебя нечистый хранит. Ты грешник великий, смутьян и бунтарь. Меня сгубил. Из-за тебя не видать мне царства небесного.
– Тит, поешь, не ломайся. Я с нечистым поговорю, он и тебя хранить будет.
Но Тит, как будто не слыша, бормотал свое:
– Замолю грехи. В Иерусалим пойду пешком, в паломничество пойду по всем святым местам.
– Опять началось, – простонал Гриша, вытаскивая из мешка завернутую в фольгу курицу. – Вериги, самобичевание, тысяча поклонов…. А ведь я тебя раскусил, Тит-простатит. Ты еще больший грешник, чем я.
– Нет! – выдохнул Тит.
– Да, – не согласился Гриша. – Это тебя гордыня одолевает, вот что. Хочешь своими православными подвигами славу себе снискать и святым великомучеником прослыть. Не грехи стремишься замаливать, но пиар дьявольский вершить. Желаешь, чтобы и твою рожу на иконе намалевали. А ведь гордыня это первый смертный грех. Бог все видит, Тит. Ты у него уже в черном списке. Меня-то он простит, я все это делаю, чтобы просто выжить, а ты, грешник матерый, о славе мечтаешь. Хочешь из себя кумира сотворить, чтобы люди на тебя молились и святым называли. Да как тебя земля-то носит? Как тебя господь еще громом не пришиб, гада такого? Удивляюсь я его зряшной доброте. Другой бы, на его месте, давно бы тебя в ад отправил, а этот терпит, все ждет, что ты образумишься. Зря ждет. Ты грешник неисправимый, и к тому же пердун страшный.
Тит катался по земле, рыдал и рвал на себе одежду и грязную бороду. Только благодаря Грише он понял, что является великим грешником. В пылу душевных мук он бился головой о дерево, и при каждом ударе его анальный клапан музыкально выпускал кишечный газ. Затем Тит схватил сухую ветку, и стал избивать себя, что следовало понимать, как самобичевание. Ветка сломалась после третьего удара.
– Тит, мазохизмом делу не поможешь, – сказал Гриша, наворачивая курочку.
– Я помолюсь! – вскричал Тит, упал на колени и стал горячо бормотать заклинания.
– Бог тебя не слушает, – заметил Гриша. – Он вообще с дураками не общается.
Обессиленный Тит воздел руки к ночному небу, скрытому кронами деревьев, и вскричал:
– Не могу жить во грехе! Руки на себя наложу.
– Самоубийство – смертный грех, – посмеиваясь, напомнил Гриша. – Так поп по ящику базарил. Сказал, что раньше самоубийц за пределами кладбищ хоронили, как лохов последних. Тебя тоже до ямы с трупами не донесут, рядом бросят.
– Что же делать? – рыдал Тит. – Как жить? Боже, пошли знак!
Гриша взял сардельку и бросил ее в Тита.
– Вот знак, – сказал он. – Бог хочет, чтобы ты заткнулся, поел и лег спать. Он тоже на боковую собирается, да твои вопли заснуть не дают.
Тит взял сардельку, обнюхал ее и спросил:
– Ежели отравлюсь господской едой и помру, будет ли это считаться самоубийством?
– Нет, не будет. Жри. Только молча. Меня уже от твоих бредней тошнит.
Тит съел сардельку, и с удивлением обнаружил, что на свете, оказывается, есть что-то вкуснее отрубей. Гриша дал Титу куриную ножку, затем угостил хлебом, а напоследок позволил глотнуть вина. Тит все поел и попил, после чего лег на землю, сложил руки на груди и приготовился умирать. Гриша развалился рядом, благоразумно положив мешок с едой под голову. После скотской жизни в имении свобода показалась опьяняюще прекрасной. Немного огорчало, что спутник у него дурак, но за время общения с крепостными Гриша смирился с мыслью, что скудоумие это типичное явление для представителей данной социальной группы.
Тит какое-то время лежал тихо, ожидая смерти, затем помолился богу, повернулся на бок и захрапел. Гриша улыбнулся, закрыл глаза и послал свое сознание обратно в родную ветвь пространственно-временного континуума.
Глава 32
Едва он успел поднять свое тело из гроба, как на него набросилась Ярославна.
– Ну? – прошептала она, прижавшись к Грише так тесно, что парень всерьез забеспокоился, как бы дело не обернулось алиментами.
– Все пучком, – заверил ее Гриша. – Сегодня из имения сбежали.
– Сбежали?
– Да. Я Тита с собой прихватил. Надежный мужик. И полезный. На него все мухи слетаются, а меня не беспокоят.
– И где вы сейчас?
– Хрен его знает. В каком-то лесу. Церковь обокрали, и в зарослях спрятались. Кстати, там такие попы интересные, такие веселые и затейливые. Если бы в наших церквях такое же творилось, я бы каждый день туда молиться ходил….
– Ладно, потом расскажешь, – прервала его Ярославна. – Ситуация изменилась. Я перехватила послание Толстого в центр. Он что-то заподозрил, и попросил прислать компетентных людей. Завтра они будут здесь.
– Компетентные люди, это кто? – уточнил Гриша.
– Это те люди, которые занимаются утилизацией останков шпионов и предателей, – растолковала Ярославна. – Но прежде они их зверски пытают, дабы выбить всю информацию. Если бы ты знал, какие варварские методы работы с персоналом у этих опричников. Еще до твоего появления тут работал один паренек. Его заподозрили в связях с какими-то негосударственными общественными организациями, финансируемыми из-за рубежа. Толстой вызвал компетентных людей. Те приехали, схватили паренька, и пытали его три дня и три ночи. В итоге выяснилось, что подозрение было ошибочным, а то, что осталось от бедняги, вынесли наружу в трех пакетах для мусора.
Побледневший Гриша решительно заявил:
– Я категорически не имею ни малейшего желания знакомиться с компетентными людьми.
– Я тоже, – кивнула Ярославна. – Остается только один вариант – немедленный побег.
– Но как? – растерялся Гриша. – Единственный выход заперт бронированной дверью, а ключ у гоблинов. А спят эти гады по очереди – один спит, а второй сидит с пушкой наперевес, и охраняет. Я к ним ночью один раз заглянул, так меня чуть не пристрелили.
Ярославна схватила Гриша за руку и потащила за собой.
– Уйдем через подземный ход, – сказал она на ходу. – Я его три месяца копала чайной ложкой.
Они вбежали в апартаменты Ярославны. Хозяйка заперла за собой дверь, затем прошла в угол и сдернула с пола ковер. Под ним оказалась картонка, а под картонкой черный провал подземного хода. Ход был не слишком широкий – Ярославна явно рассчитывала его под свои модельные габариты.
– Вот, возьми, – сказала девушка, протягивая Грише сосательную конфету.
– А шоколадных нет? А гамбургеров? А пива?
– Это не просто конфета. Внутри леденца находится цианистый калий. Если нас схватят, постарайся успеть раскусить конфетку, если не хочешь провести следующие три дня и три ночи в лапах компетентных людей.
– Ясно, – кивнул Гриша, пряча конфету в карман. Про себя он твердо решил, что не станет глотать эту гадость ни за что на свете. – Что теперь?
– Лезь в нору. Я за тобой. И постарайся не шуметь.
Побег начался так внезапно и происходил так стремительно, что Гриша даже не успевал толком удивляться. Тем не менее, грядущие перемены радовали его. Тюремный режим объекта откровенно утомил. Уже которую ночь он видел во сне огромный, наполненный пивом, бассейн, в котором плескались обнаженные объекты его сексуальных фантазий – Ярославна, Танечка и Матрена. Все это говорило о том, что с воздержанием от всех радостей бытия пора уже завязывать раз и навсегда.
Гриша с трудом втиснулся в узкий тоннель, попутно расширяя его плечами и задом. Путь ему освещал крошечный фонарик на присоске, который Ярославна прилепила ему на лоб. Гриша вспомнил, что не успел поужинать, но возвращаться было поздно – он, при всем желании, не сумел бы вернуться назад, поскольку размеры тоннеля исключали возможность маневра. Теперь у него был один путь – только вперед. За собой он слышал громкое дыхание Ярославны, ползущей следом. Как бы Грише хотелось заставить девушку дышать так же громко и страстно в своих объятиях. Но стоило ему подумать о прекрасном, как его изголодавшийся по работе окаянный отросток охотно пришел в боевое положение и начал вспахивать землю, мешая продвижению вперед.
– Вот блин! – прорычал Гриша, стараясь думать о чем-нибудь другом, кроме голых баб. Это оказалось нелегким делом, поскольку он уже давненько не думал ни о чем другом.
– Ты чего застрял? – спросила Ярославна.
– Да у меня тут этот… Блин! Якорь сбросился.
– Что-что?
Гриша, напрягая силы и поднимая целину, прополз еще сантиметров двадцать, но тут его мужское начало окрепло настолько, что намертво зафиксировало хозяина на месте. Теперь он не мог сдвинуться ни вперед, ни назад.
Это был конец. Это он, паразит, мешал ему двигаться к свободе.
– Будь добр, поторопись немного, – раздраженно попросила Ярославна, хватая его за ноги.
У Гриши сдали нервы и он заплакал.
– Все ты виновата, – глотая слезы, бормотал он. – Неужели трудно было доставить мне радость? Ведь столько раз просил. Нет, блин, все ломалась, недотрогу из себя строила. Теперь видишь, к чему это привело.
– Господи, что ты там скулишь? – проворчала Ярославна, и ущипнула его за ногу. – Хватит отдыхать. Ползи!
Гриша собрал все силы, зарычал, но не сумел сдвинуться с места. Он чувствовал себя гвоздем, вбитым в землю по самую шляпку.
– Я застрял, – прорыдал он громко.
– Не может быть, – не поверила Ярославна. – Я все рассчитала, ты должен пройти.
– Не все ты рассчитала, – отозвался Гриша. – Одного ты не учла. Самого главного.
– Самого главного? О чем ты говоришь?
– Как это о чем? О самом главном, что у меня есть. Надо было канавку прокопать, что ли.
До Ярославны, наконец-то, дошла суть проблемы, и она, в сердцах, произнесла:
– Если бы я знала, что все так обернется, я бы тебе….
– Да, теперь уже поздно кусать локти, – прервал ее Гриша. – Понимаю, ты теперь раскаиваешься, жалеешь, что не одарила меня неземными ласками, что не вознесла меня на вершину орального блаженства….
– Я бы тебе его отрезала, – закончила свою мысль Ярославна.
– Что? – взвыл Гриша. – Да как у тебя язык повернулся?
– Ори громче, – проворчала Ярославна. – Мы как раз под комнатой охраны.
– Никогда больше так не говори! – громким шепотом потребовал суеверный Гриша. – Еще накаркаешь.
– Тут и каркать нечего. Боюсь, что теперь это неизбежно.
– Что неизбежно? – простонал Гриша.
– То, чего ты так боишься. Когда нас схватят, то меня сразу убьют, но вот ты им нужен живой. Живой, но не здоровый. Им твой мозг нужен, а всем остальным организмом можно пожертвовать. Думаю, тебя обязательно кастрируют.
– Зачем? – разрыдался Гриша, в полном отчаянии кусая зубами землю.
– В целях улучшения твоего послушания. Котов ведь, знаешь, тоже кастрируют, чтобы они стали смирными и спокойными. Ты тоже таким котом будешь, которому кошечки до фонаря. Представляешь, как обидно – дадут тебе двадцать восемь блондинок, а тебе и одной не надо. С другой стороны, это даже к лучшему. Возникнет много свободного времени, глядишь, учиться пойдешь, красный диплом получишь. Хобби себе придумаешь какое-нибудь. Например, запишешься в танцевальный кружок.
Слушать все эти ужасы было страшнее смерти. Ярославна умела найти нужные слова, когда хотела запугать до икоты. Только что Грише казалось, что он намертво застрял в земляной норе, но после прогноза на будущее у него словно открылось второе дыхание. И он пополз вперед, пропахивая в земле глубокую борозду, цепляясь за грунт руками, ногами, зубами.
Впереди забрезжил свет, точнее, чуть менее темная тьма, чем в тоннеле. Гриша, напрягая остатки сил, словно младенец из утробы матери, вывалился из тесной норы на свет божий.
Свобода встретила Гришу ночной тишиной и непривычно свежим воздухом, наполненным всевозможными ароматами. Примерно так же ароматизировал окружающую действительность некий Тит и его коллеги по реальности. Гриша встал и огляделся – вокруг вставал таинственный ночной лес. Кривобокие деревья стояли редко, вся трава под ними была вытоптана и завалена мусором. Бутылки, фантики, кульки от чипсов и сухариков, сигаретные пачки, коробки из-под сока устилали землю. На ветвях висело рваное женское белье и использованные презервативы. Слабый ветерок доносил откуда-то ядреный запах фекалий.
Сзади послышалось кряхтение. Ярославна, некоторое время тщетно выжидавшая, что в Грише проснется джентльмен и поможет ей покинуть нору, так ничего и не дождалась, и выбралась самостоятельно. Если где-то в глубине Гришиной души и спал джентльмен, будить его не стали.
– Где мы сейчас? – спросил Гриша.
– За городом, – ответила Ярославна. – Это место, куда цивилизованные люди выезжают отдохнуть на природе.
– А воняет откуда?
– Тут рядом очистные сооружения. Большая часть городской фекальной массы стекается сюда и здесь складируется. Ладно, хватит болтать. Нужно спешить. Если обнаружат, что мы сбежали, могут организовать погоню.
Они побежали через лес. Ярославна двигалась первой, поскольку только она знала дорогу, Гриша трусил следом, стараясь не отстать. За время, проведенное на секретном объекте опричников, он двигался так мало и так обленился, что теперь физические нагрузки давались ему очень тяжело. Впрочем, Гриша и в своей прошлой жизни старался больше ездить на автобусе, чем ходить пешком. Он уже задыхался, когда лес внезапно оборвался, и перед ними простерся дачный массив, погруженный во тьму зловещую. Откуда-то издалека, впрочем, неслась музыка, и долетали звонкие девичьи голоса. Грише неудержимо захотелось туда, к девкам, музыке и пиву, но у Ярославны были совсем иные планы на будущее. Перемахнув через забор ближайшего участка, она подбежала к небольшому кирпичному домику, вытащила из кармана крошечный фонарик и осветила замок. К тому моменту, когда Гриша перетащил через забор свои мощи, Ярославна уже справилась с дверью. Амбарный замок, вскрытый куском стальной проволоки, валялся на ступеньках, девушка проникла внутрь. Все эти действия попахивали статьей, но Гриша вспомнил о тех миллионах, которые ему предстоит получить от щедрых стрельцов, и решил не забивать себе голову законопослушанием. В крайнем случае, он всю вину на допросе свалит на Ярославну, а себя выставить невинной жертвой, находящейся в момент совершения преступления в состоянии аффекта. Гриша не знал, что такое аффект, но из криминальных сериалов выяснил, что это такая хреновина, которая помогает избежать тюрьмы.
В дачном домике не нашлось ничего интересного. Он, как и весь участок, выглядел заброшенным. Похоже, в этом году хозяева сюда даже не наведывались. Гриша пошарил по шкафам, но нашел только ржавый напильник и радиоприемник, сошедший с конвейера во времена динозавров. В кастрюлях и чашках была только пыль, она же лежала на всем, что оказалось в домике.
Появилась Ярославна. Она закончила исследование дома, и нашла это убежище непригодным для того, чтобы пересидеть тут до утра.
– Я видела во дворе бак с водой, – сказала она. – Надо выстирать одежду и помыться самим, прежде чем двигаться дальше.
Это действительно требовалось сделать, поскольку Гриша, пробираясь сквозь подземный ход, прихватил с собой на память пуда три грунта.
– Как скажешь, – не стал спорить Гриша. – А бак-то большой? Вдвоем поместимся?
– Придется по очереди. Мало ли что. Пока один будет мыться, другой его прикрывать.
Ярославна протянула Грише крошечный пистолет, и спросила:
– Умеешь обращаться?
– Шутишь? – презрительно усмехнулся Гриша. – Да у меня вторая группа по стрельбе. В смысле – второй разряд. В смысле – первый. В смысле…. Ладно, ладно, умею я стрелять. Кино смотрел, в компьютер играл. Последняя игрушка такая классная была, правда, там не пистолет был, а полуавтоматический плазмотрон с лазерным прицелом. Эх, мне бы сейчас ту штуку, я бы тебе показал, как крутые перцы стреляют.
Первой, как решили на общем собрании акционеров, мылась Ярославна. Гриша настоял, что в целях безопасности он должен находиться как можно ближе к ней. Ярославна не стала протестовать и быстро разделась, оставшись в одном нижнем белье. Узрев свою богиню в лунном свете, Гриша выронил пистолет, и схватился одной рукой за сердце, а другой за ниже – и одно и второе рвалось наружу. Пока Ярославна полоскала в баке свои тряпки, Гриша боролся с желанием подойти сзади и погладить ладошкой по попе. Попа притягивала его, как магнит. Эта попа каждым своим заманчивым движением словно требовала, чтобы ее погладили. Она настаивала. Умоляла.
– Скорее бы дали мои миллионы! – страстно шептал он, воображая, как оторвется тысяч на триста за все дни тотального воздержания в логове опричников. Вообще-то Гриша планировал одним махом прогулять примерно миллион баксов, но вспомнив подаренное Ярославне белье, в частности его цену, решил включить эконома. Ухаживание за такой дорогой девушкой неизбежно встанет в копеечку. Был, правда, вариант вернуть Машку – той хватило бы издали показать стодолларовую купюру, как живо прибежала бы с извинениями. Но Гриша не хотел Машку. Он хотел Ярославну. Сотрудница тайной организации сумела изрядно его раздразнить.
– Спинку потереть? – спросил Гриша.
Выстирав одежду, Ярославна залезла в бак, немного поплескалась и, выбравшись на сушу, надела мокрые тряпки.
– Мойся живее, и идем, – сказала она Грише.
– Идем? А разве мы не заночуем здесь?
– Слишком близко к логову опричников. Опасно. Нужно связаться со стрельцами прежде, чем враги обнаружат наше бегство. Ведь если опричники настигнут нас и схватят, то меня немного попытают и убьют, а тебе сломают позвоночник, чтобы больше не бегал, и заставят искать жезл дальше. А если откажешься, начнут шкуру заживо сдирать, в день по лоскутику. Или мясо срезать, по кусочку. А чтобы жизнь медом не казалось, будут раны солью присыпать. Или вот еще – ты помнишь тот анальный зонд? У них в медицинском отсеке три таких, разных калибров. Тебе самый маленький показали. А через самый большой кошка пройдет, не опустив хвоста. Одному из твоих предшественников, когда он начал утрачивать синхронизацию, провели анальное зондирование самым крупным калибром. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю его дикие крики. Так кричат, когда…. Да так вообще никогда не кричат.
Ярославна очень нравилась Грише, она была и умна, и красива. Но вот ее методика подбадривания не лезла ни в какие ворота. Обрисованная ею перспектива заставила Гришу обильно пропотеть.
– Не буду мыться! – решительно заявил он. – Грязным похожу. Только бы поскорее отсюда свалить.
Дачный массив тонул во мраке, его хаотично проложенные улочки напоминали лабиринт. В темноте Гриша два раза падал в лужи, и тихо радовался, что не потратил время на стирку и мытье. Ярославна была более осторожна, держалась ближе к заборам и все время к чему-то прислушивалась, словно ожидая услышать лай собак, крики загонщиков и прочие звуковые атрибуты погони. Но было тихо. По всей видимости, в логове опричников еще ничего не знали о состоявшемся побеге.
Вскоре им посчастливилось наткнуться на разумную жизнь в лице отдыхающей на даче мужской компании. Мужики средней поношенности, судя по рожам – пролетарии, из тех, что считают свои неновые автомобили своим главным достоянием, а уход за ними возводят в степень религиозного культа, сидели во дворе дачи, под навесом из маскировочной сетки, кушали, пили и вели беседы матом. Гриша давно подметил, что пролетарии в принципе не могут говорить ни о чем, кроме как о своих автомобилях и о половых извращениях. Попавшаяся им компания не стала исключением. Пьяные мужики перечисляли поломки своих тарантасов, как бабки на скамейке перечисляют свои болячки, и как бабки делятся с подругами народными рецептами и эффективными творениями фармацевтики, так и мужики взахлеб рассказывали, где можно недорого заменить ту или иную деталь.
Грише не слишком хотелось связываться с пьяной компанией. Он один, с ним весьма симпатичная Ярославна, а этих целая толпа, и, похоже, отдыхают они без баб. Но это вовсе не значит, что они откажутся от подарка судьбы в лице симпатичной Ярославны.
– Пойдем дальше, ну их, – предложил Гриша, но Ярославна возразила.
– Я должна позвонить своим, и за нами приедут. Нужен левый телефон. У них телефоны есть.
– И не только телефоны, – проворчал Гриша, прекрасно понимая, что если мужики начнут приставать к Ярославне, а они ведь точно начнут, ему придется вмешаться. Их много, он один. Опричники шкуру не содрали, зато эти все кости переломают.
– Ты тут меня подожди, – предложила Ярославна, – а я одна подойду к ним и попрошу телефон позвонить.
– Да делай ты что хочешь, – безнадежно бросил Гриша, предвидя скорое знакомство с чужими кулаками.
И Ярославна, в самом деле, сделала так, как хотела. Ее появление из тьмы ночи было встречено вначале удивленным, а затем восторженным ревом. Возникла пауза – Ярославна говорила. Следом опять зазвучали пьяные крики, и речь уже зашла о порядке очередности. Судя по всему, назревал конфликт – каждый хотел быть первым. Вдруг прозвучали три хлопка, кто-то заорал, послышался звон бьющейся посуды, грохот, мат. Еще два раза хлопнуло. А затем, в воцарившейся тишине, прозвучал голос Ярославны:
– Гриша, иди сюда. Я нашла телефон и машину.
Глава 33
Автомобиль летел по ночному шоссе к точке встречи, где их должны были ждать агенты стрельцов. За рулем была Ярославна, Гриша сидел рядом в кресле пассажира, и жадно пожирал прихваченную со стола покойных мужиков копченую курицу. Были там еще шампуры с ароматным шашлыком, но те оказались забрызганы человеческой кровью, и Гриша ими побрезговал.
То, с каким хладнокровием Ярославна убила пятерых незнакомых людей, неприятно поразило Гришу. Теперь, косясь на девушку с опаской, он начал понимать, что связался с очень серьезными людьми, для которых что человека шлепнуть, что муху прихлопнуть – одно и то же. Заметив, что Гриша притих, Ярославна заговорила первой.
– Не одобряешь наших методов? – спросила она прямо.
– Одобряю, – быстро ответил Гриша, боясь, как бы его не заподозрили в измене. – Просто как-то типа жестоко – сразу пятерых на тот свет отправить оптом. Можно было просто припугнуть, ну или ранить одного, или двух. Или убить одного. Но всех-то зачем?
– Ага, ясно, – кивнула Ярославна. – Сейчас ты мне будешь читать лекцию на тему гуманизма, скажешь о том, что у всех этих мужиков есть жены, дети, а я вот, такая плохая, лишила семьи кормильцев. Сиротами хочешь пристыдить?
– Нет, не хочу, – сказал Гриша, и нехотя признался. – Я вообще-то детей не люблю. Они мелкие, тупые, все время орут. У меня в подъезде живет один такой ребеночек. Всего пять лет отроду, а уже такой большой мешок говна. Каждый день на меня своим предкам жалуется, те приходят, скандалят, мешают наслаждаться жизнью. И было бы из-за чего! Продумаешь, леща звонкого выдал или пендаль смачный прописал – прямо катастрофа. Я, может быть, так с детьми здороваюсь. У меня к ним свой подход. А то, что я ему в лоб камнем попал, так это не считается. Я в голубя целился, а этот малолетний недоумок сам под траекторию булыжника выскочил. Вот второй камень я уже в него кидал, не спорю, но ведь за дело же, а не просто так. Он мне всю охоту испортил, тормоз юных годов, голубя-то спугнул. И камень-то был, смешно сказать, так, ерунда – четвертинка силикатного кирпича. А они там раздули, что я в него чуть ли не бетонным блоком запустил. Даже заявление на меня написали. Но я тоже в долгу не остался – на следующий день их собаку поймал, облил бензином, поджег и в мусоропровод сбросил.
– Да ты просто маньяк! – ужаснулась Ярославна. – И ты еще меня упрекаешь в жестокости. А ты, выходит, издеваешься над детьми и животными, то есть над теми, кто тебе ответить не может.
– Детей терпеть не могу, признаюсь, – сказал Гриша. – А вот животных люблю. Правда, не везет мне с ними. После того как я в пятом классе вскипятил аквариум в красном уголке вместе с рыбками и черепахой, ни одна скотинка у меня не приживается. Котята все время в окно вылетают, попугай трагически утонул в унитазе при самопроизвольном спуске воды из бачка, произошедшем без моего участия. Щенок и недели не протянул – залез, шалун, в барабан стиральной машины и дверцу захлопнул, а та сама собой включилась в режиме центрифуги.
Ярославна молчала, молчала, затем вдруг всхлипнула, и по ее щекам покатились слезы. Гриша, обнаружив, что девушка плачет, очень взволновался.
– Да ты не принимай все так близко к сердцу, – поспешил успокоить он. – Тот щенок и без центрифуги какой-то болезный был, долго бы не протянул. А что касается котят, так они теперь в раю, им хорошо.
– Я не из-за котят, – всхлипывая, ответила Ярославна.
– А из-за чего? Из-за моего малолетнего соседа? Не реви! Ты его еще не видела. Если бы ты его видела, тебе бы тоже захотелось этому тормозу леща прописать. Хочешь, поедем ко мне, я тебе его покажу. Даже постою на стреме, пока ты его лещами будешь угощать. Потом можем ко мне зайти, выпьем пивка, поставим романтическую музыку. Насчет резинок не беспокойся, я их всегда под подушкой держу, на всякий случай. И еще, если ты не против, давай Кольку Скунса позовем. Нет, я не в том смысле, что и он тоже участвовать будет. Просто пускай он посмотрит, какая у меня девушка, истечет завистливой слюной и всем потом расскажет. Блин, как же мне будут завидовать. А когда до Машки дойдет, вот она локти-то кусать будет…. Эй, ну хватит уже плакать. Вдруг нас гаишники остановят, а ты вся в слезах. Подумают, что я тебя побил.
– Я просто вспомнила свою черепашку Лялю, – громко шмыгая носом, сообщила Ярославна.
– Чего? Кого вспомнила?
– Черепашку. У меня в детстве была черепашка.
– Черепашка? Нет, у меня черепах не было. А вот у Кольки была. Помню, мы ею зимой в хоккей играли. По льду катится хорошо, а вот удар держит неважно. Колька мне передачу сделал, я прошел защитника, пробил по воротам, но мимо. Черепаха ударилась о бортик коробки, и нам пришлось искать новую шайбу. Хорошо Витька рядом жил, сбегал домой за хомячком.
– Бедная Ляля, – утопая в слезах, бормотала Ярославна.
– А что с ней случилось? – участливо спросил Гриша. – Тоже хоккей? Или эксперименты с микроволновой печкой? Нет! Не говори! Сейчас угадаю. Ты просверлила панцирь дрелью, чтобы посмотреть, где у нее моторчик. Точно?
– Боже мой! Нет! – в отчаянии вскричала Ярославна. – Я любила Лялю. Я бы никогда не причинила ей вред. Тем более, не стала бы сверлить панцирь дрелью.
– Тогда что же с ней случилось?
– Она улетела в космос.
– Чего?
– Я так любила Лялю, что хотела сделать ее первой в мире черепахой-космонавтом, – стал рассказывать Ярославна. – Я сконструировала ракету, посадила в нее Лялю и запустила с балкона к звездам.
– Неужели она в космос улетела? – изумился Гриша, ощущая укол зависти. Как убого он выглядел со своими живодерскими достижениями в сравнении с Ярославной и ее конструкторской мыслью. Это же надо – запустить черепаху на орбиту Земли!
– Ракета взорвалась при запуске, – выпалила Ярославна, и громко зарыдала. – Ляля погибла. Балконную раму разнесло вдребезги, из всех соседних окон стекла выбило.
– Ничего себе! – восхитился Гриша. – Блин! И чего мы раньше с тобой не познакомились? Ты такая классная. Я бы в жизни не додумался балкон взорвать. Слушай, а в милицию тебя не забрали?
– Мне тогда всего восемь лет было, – проворчала Ярославна, прекращая оплакивать первую в мире черепаху-космонавта. – Какая милиция? Отругали, конечно, сильно, потом месяц гулять не пускали.
– Да, здорово, – продолжал восторгаться Гриша. – Слушай, а давай еще раз такое повторим, вместе? У Кольки Скунса балкон большой, а соседи все одни уроды. Взорвем весь дом на хрен! Я знаю, где можно пороха достать. Давай! Будет весело. Уверен, что это нас очень сблизит. Вот только где Колька после этого жить будет? – вдруг озадачился Гриша. – Как бы ко мне не пришел проситься. Так-то он парень терпимый, но уж больно прожорливый. И храпит он жутко. И еще у него привычка дурная есть – грязные носки не стирает, а в морозилку складывает, чтобы они морозной свежестью пропитались. Вместо этого вся еда пропитывается ароматом его ног. Нет, Кольку к себе пускать не вариант. Придется ему жить в подъезде. Поставит там раскладушку, телевизор, нужду будет в шахту лифта справлять.
Ярославна вытерла слезы, и сказала уже спокойно:
– Подъезжаем. Веди себя хорошо. Не провоцируй людей резкими движениями и глупыми вопросами.
На обочине стояло два автомобиля. Рядом с ними топтались люди в черном одеянии, весьма зловещие на вид. Ярославна съехала с дороги, заглушила двигатель и выбралась наружу. Гриша, немного робея, вылез следом. К Ярославне привык, уже не боялся, но эти, новые, незнакомые и невесть что замышляющие, внушали определенные опасения. Толстой ведь тоже обещал миллионы и блондинок, а на деле выяснилось, что хотел расчленить и скормить голодным животным. Быть может стрельцы окажутся добрее опричников?
Гриша опасливо приблизился к группе людей. Ярославна говорила с лысым типом средних лет, судя по уголовной физиономии – потомственным коллектором.
– А с этой машиной что делать? – спросил лысый, имея в виду трофейный автомобиль, на котором они прибыли на место встречи.
– Отгоните в лес и сожгите, – ответила Ярославна.
– Опричники знают о вашем побеге? Погони ждать?
– Не думаю. Но нужно спешить. Утром наш побег раскроется в любом случае.
Один из крепышей подошел к Грише, держа в руках подозрительный прибор с длинной и очень толстой антенной. Гриша попятился, и с опаской спросил:
– Это случайно не анальный зонд?
– Нет, – сухо ответил крепыш, и провел прибором вдоль Гришиного тела. – Просто хотим убедиться, что на вас нет жучков.
– Каких еще жучков? – возмутился Гриша. – Нет у меня их. И никогда не было. То есть, один раз подцепил от жрицы продажной любви, но я их уже давно вывел. Да и откуда им взяться? Меня последние недели держали в условиях преступного воздержания. Разве что от Толстого перебежали, он все время чесался, скотина заразная.
Лысый, кивнув на Гришу, спросил:
– Это он и есть?
– Да, – подтвердила Ярославна.
– Сотрудничать согласился добровольно, или пришлось заставить угрозами? А то мы тут прихватили цепи и мешок, если вдруг откажется ехать с нами по-хорошему.
Услыхав эти слова, Гриша громко сказал:
– Очень люблю стрельцов. Давно мечтал с ними куда-нибудь поехать добровольно.
Ярославна подошла к оробевшему Грише, и сказала:
– Не бойся. Тебе не причинят вреда. Доверься нам, и все будет хорошо.
Гриша попытался поверить ей, но у него не получилось. Впрочем, отступать было поздно. Начти он артачиться – сунут в мешок, обмотают цепями и поместят в багажник. Хорошо, если при этом бить не будут. Очень не хотелось становиться инвалидом накануне получения миллионов и блондинок.
Грише завязали глаза, чтобы он не видел дороги. Стрельцы при нем не разговаривали, даже Ярославна помалкивала. Гриша пробовал задавать разные вопросы, но никто ему ничего не ответил. Тревожные предчувствия стали овладевать им. Такими ли плохими были опричники? Действительно ли Толстой хотел его кинуть? А не могло произойти так, что Ярославна просто обманула его, наврала с три короба, чтобы заманить к своим подельникам? Гриша запоздало корил себя за доверчивость, но теперь он уже не в силах был что-то сделать. Оставалось уповать на то, что Ярославна все-таки сказала правду хотя бы отчасти.
Автомобиль остановился, двери открылись. Гришу довольно грубо выволокли наружу, и, не позволив снять повязки, куда-то повели.
– Ярославна? – жалобно позвал он, боясь остаться наедине с незнакомыми людьми.
– Я здесь, – откликнулась Ярославна.
– Мне в туалет надо.
– По маленькому или по большому?
– По огромному. Можно повязку снять, а?
– Скоро будет можно. Потерпи.
Довольно долго его куда-то вели, затем вдруг рука поводыря жестко придержала его за плечо, а голос Ярославны предложил:
– Можешь снять повязку.
Гриша медленно стащил с глаз платок, больше всего на свете боясь обнаружить себя в камере пыток, где классические аттракционы типа дыба и «испанский сапог» мирно соседствуют с такими новинками, как кинетический удалитель мужского начала и анальный зонд несовместимого с жизнью калибра. Но на деле все оказалось не так плохо. Они стояли в довольно просторном помещении с множеством дверей, а к ним как раз приближался незнакомый седовласый старик в костюмчике и при галстуке.
– Рад тебя видеть, Ярославна, – сказал старик, и по-отечески обнял девушку. – Все хорошо?
– Да, вовремя успели уйти, – ответила Ярославна. – Проблем не возникло.
– Ясно. Вот только хотелось бы знать, откуда у опричников возникли подозрения на твой счет.
С этими словами старик покосился на Гришу, и тот, переполнившись возмущением, закричал:
– Не надо на меня так смотреть! Я пацан конкретный, не стукач.
– Вас никто ни в чем не обвиняет, – примирительно сказал старик.
– За базар отвечаю! – на всякий случай сообщил Гриша. – Сам стукачей не перевариваю. Был у нас в школе один, любил классной на всех жаловаться. Другие побоялись, а я его реально наказал – навалил, гаду, полный ранец. Его до самого выпускного говновозом обзывали. Все над ним смеялись, ни одна девчонка дружить не хотела. Я слышал, он после школы маньяком стал, пять человек зарезал. С чего бы это? Вроде такой тихий был, безобидный…. А что касается вашего дела, так это Толстой во всем виноват. Вы ведь не знаете, что он извращенец, в замочную скважину любит подглядывать. За мной-то особо не поподглядываешь – он раз попробовал, да я его раскусил, и замочную скважину трусами заткнул. А вот за Ярославной он точно мог подглядывать, когда она вам шифровки передавала. За ней бы и я подглядывал, если бы меня на ночь не запирали.
– Кто такой Толстой? – спросил старик.
Гриша покосился на седовласого неуча с великим презрением и произнес высокомерным тоном:
– Толстой Тигр Николаевич, писатель с большой бородой. Что, не слыхали? Надо было меньше школу прогуливать.
– Он говорит о докторе Новикове, – пояснила Ярославна.
– А, понятно. Да, этот неприятный субъект мог пуститься на любую подлость и низость. Как и все опричники, он эгоист, готовый идти к своей цели по трупам.
– Узнаю, где эта гнида живет, подстерегу его вечером! – грозно сообщил Гриша.
– Дело не только в докторе Новикове, – заметил старик. – Все опричники злодеи, без исключения.
– С этим я согласен, – кивнул головой Гриша. – Там фашист на фашисте. Обещают долларовые горы, а потом хотят кинуть через конский пенис. Но вы ведь не такие, да?
– Разумеется. Наша священная миссия состоит в том, чтобы, вопреки всему, довести человечество до светлого будущего, – сообщил седой старик, который был тут, похоже, главным.
– До задницы мне, кого вы и до чего доводить собрались, – проворчал Гриша. – Но я ничего делать не буду, пока мы не утрясем вопрос с блондинками.
– С чем, простите? – нахмурился старик, а Ярославна сделала такое кислое лицо, словно только что умяла целый лимон.
– С блондинками, – охотно повторил Гриша. – Понимаете, бывают не очень хорошие блондинки. Толстые, например, или совсем тощие и голодные. Мне таких не надо. Когда я говорю – мне нужно двадцать восемь блондинок, я имею в виду, что мне нужно двадцать восемь красивых стройных блондинок, чтобы попы у них были такие круглые и вкусные, и сиськи чтобы третьего размера, ну или четвертого, я не обижусь. Потому что вы тут могли подумать, что мне все равно, какие блондинки, лишь бы блондинки, и надавали бы мне всяких некрасивых, а мне такие совсем не нужны. Мне нужные такие блондинки, как вот Ярославна. Она, правда, не блондинка, но все остальное у нее подходящее. Так что если будут такие, как Ярославна, но не блондинки, такие тоже подойдут. Но это, блин, не значит, что мне какие угодно подойдут. Мне или классные блондинки нужны, или такие, как Ярославна. А вот такие, – Гриша указал на какую-то худощавую девушку в больших очках, что с любопытством разглядывал новичка, – такие мне и даром не нужны! Я на нее сейчас гляжу, и у меня сексуальная активность снижается. Слушайте, можно ее убрать куда-нибудь?
– Мариночка, иди на свое рабочее место, – попросил дед. Худая Мариночка со слезами обиды посмотрела на неласкового Гришу, и ушла. После этого Гриша смог вздохнуть спокойно.
– Слава богу. Спасибо вам сердечное, – поблагодарил он старика. – У меня к вам большая просьба: сделайте так, чтобы эта Мариночка никогда мне на глаза не попадалась. Потому что сексуальная активность, это самое главное, особенно если у тебя двадцать восемь блондинок.
Дед повернулся к Ярославне, и спросил:
– Ты понимаешь, о чем он сейчас говорит?
Ярославне явно не хотелось обсуждать это, но пришлось.
– Неизменным условием своего с нами сотрудничества он ставит передачу ему в безраздельное пользование блондинок модельной внешности, общим количеством двадцать восемь штук, – нехотя пояснила она.
– Если отдадите мне Ярославну, то я восемь блондинок, так и быть, скину, – подал голос Гриша.
Седой вождь был явно озадачен таким требованием. Ярославна была мрачна, как ночь. По всей видимости, она забыла уведомить своих коллег о специфических особенностях нового оператора, и теперь ей было банально стыдно.
– Послушайте, – наконец заговорил дед, – а нельзя ли заменить блондинок деньгами?
– Ясное дело – нет! – возмутился Гриша. – Что такое деньги? Бумага обычная. А блондинка, это ноги, жопа, сиськи и еще много всякого интересного. Как все это бумагой можно заменить? Резиной иногда заменяют, но это тоже не то.
– Да вы меня не поняли. Я хотел сказать, что, может быть, мы вам вместо блондинок денег заплатим.
– Вы мне и так их заплатите, – кивнул Гриша. – Вы мне за все заплатите. Я уже сколько дней не видел ни пива, ни телок, ни телевизора, ни компьютера…. А вы знаете, какие там прикольные ролики в интернете есть? И как без них жить тяжело? Плюс, когда убегали, я фотографию Танечки забыл. И теперь страдаю. Мы с ней так сблизились за эти дни.
– С Танечкой?
– С фотографией.
– Ну, все, хватит, – не выдержала Ярославна. Она подошла к Грише и крепко взяла его за руку. – Мы все устали, нам нужно отдохнуть. Тем более что вставать рано. Пойдем, Гриша, спать.
– Пойдем Гриша спать с тобой вместе или пойдем Гриша спать в разных комнатах? – уточнил Гриша. – Эй, народ, дайте мне девку на ночь. Какую угодно. Пускай даже ту, страшную в очках. Как ее? Марина? Эй, Марина, иди сюда, у тебя отныне новое рабочее место. Дайте хотя бы журнал с голыми телками, люблю почитать на сон грядущий.
Ничего Грише не дали. Ярославна силой отвела его в его новые апартаменты, втолкнула внутрь, и, пожелав в крепких выражениях доброй ночи, заперла дверь. Гриша с грустью оглядел новое пристанище, и понял, что оно ничем не отличается от старого. Тот же убогий дизайн интерьера, ни тебе телевизора, ни компьютера с бесплатным доступом на порнографические сайты. Кровать, стол, стул, за дверью душевая кабина и крошечный гальюн – даже ноги со вкусом не вытянешь. Гриша без особой надежды поднял подушку – вдруг чья-то заботливая рука положила туда журнальчик с девочками. Увы. Теперь там не было даже фотографии Танечки.
Приняв душ и свалив всю грязную одежду в пластиковую корзину, Гриша рухнул на кровать и забылся беспокойным сном. Всю ночь его мучили кошмары: снилось, что он окаянным отростком вспахивает бескрайнее поле, а Ярославна подгоняет его кнутом по спине.
Проснулся Гриша разбитый и уставший. Дверь в его келью открылась, вошла незнакомая девушка с комплектом чистой одежды. Гриша притворился спящим, подпустил ее поближе, затем внезапно вскочил и попытался схватить с грязными намерениями. Девушка взвизгнула и проворно выбежала из комнаты, захлопнув за собой деверь. Одежду она бросила на пол. Гриша поднял ее и облачился.
– Рано дернул, – бормотал он, застегивая пуговицы рубахи. – Надо было еще выждать. Сорвалась, зараза!
Чуть позже пришла Ярославна, и по ее мрачному лицу Гриша понял, что несостоявшаяся жертва изнасилования уже успела обо всем наябедничать. Действуя на опережение, Гриша заявил:
– Не понимаю, что на меня нашло. Я себя не контролировал. У меня аффект на почве сексуального голодания.
– Еще один такой аффект, и я подниму вопрос о твоей принудительной кастрации, – пообещала Ярославна.
– Можно решить эту проблему проще и приятнее, – проворчал Гриша. – Могла бы навестить меня сегодня ночью. Или прислать подругу. А еще лучше, пришли бы обе, принесли бы пива….
– Ты готов? – прервала его Ярославна. – Идем. Время сеанса.
Она отвела Гришу в операторскую, где стоял точно такой же, как и у опричников, ретранслятор, только вместо гроба тут был вполне комфортный ложемент. Гриша сразу же завалился на него, стараясь не встречаться взглядом с хмурым стариком. Тому, похоже, уже донесли о плохом поведении нового оператора.
– Достигнута синхронизация, – сказала Ярославна, нажимая кнопки на пульте. – Канал устойчивый. Запуск.
«Только бы не кастрировали, пока буду в отрубе» – успел подумать Гриша, прежде чем его создание отправилось в иную реальность.
Глава 34
Гриша понял, что дело дрянь, еще до того, как его сознание успело полностью влиться в тощую немытую тушу зеркального двойника. Это пробуждение в чужом мире чем-то неуловимо напомнило ему его первый опыт путешествия за пределы родной действительности. В обоих случаях его встречали, как дорогого гостя – зверскими тумаками.
Распахнув глаза, Гриша увидел вокруг себя незнакомых мужиков в странной униформе. Судя по отличительным знакам и невыносимо честным лицам, это были стражи правопорядка. Точнее, стражи того беспредела и беззакония, которые назывались порядком в этой конкретной ветви пространственно-временного континуума.
Гриша понял ситуацию очень быстро. Похоже, пока они с Титом спокойно спали под сенью крон, подзакусив трофейными яствами, на их след вышли представители власти. Ответ на вопрос «а как вышли?», лохматый, зубастый, громко лаял и рвался покусать беглых холопов.
– Вот тебе! – закричал один из стражей порядка, и перетянул Гришу по горбу резиновой палкой. Гриша взвыл и шлепнулся на землю.
Второй полицейский вытряхнул из мешка добытую в церкви снедь, и с ненавистью глядя на Гришу, проворчал:
– Еще и ограбили кого-то. Что смотришь, нехристь?
– Да верующий я, – в который уже раз соврал Гриша.
– Где пищу господскую взяли?
– Нашли в лесу, – начал импровизировать Гриша. Еще оставался крохотный шанс, что ситуацию можно из разряда «полный пиздец» перевести в разряд «просто пиздец». У Гриши даже наспех сложился кое-какой план. Он решил косить под дурака (то есть под обычного крепостного) и тупо стоять на своем: дескать, пошли по велению барскому по грибы, да заплутали.
– А почто взяли чужое? – требовал полицейский, размахивая дубинкой перед Гришиным носом. – Почто пищу господскую ели? Или не знаете, что для холопов господская еда – яд.
– Бес попутал, – ответил Гриша. Это был единственный ответ, не способный породить тысячу новых вопросов. Правда, за удачный ответ пришлось поплатиться – дубинка вновь прошлась по его спине.
– Чьи сами? Что тут делаете?
– Да мы… – не успел Гриша озвучить наспех состряпанную легенду, как в дело вмешались форс-мажорные обстоятельства. К разряду таких обстоятельств Гриша разумно причислял тупость своего напарника, поскольку ее невозможно было контролировать, и проявлялась она всегда в самый неподходящий момент. Вот и в этот раз Тит, стоящий чуть поодаль на коленях, и, судя по талантливо расписанному лицу, уже успевший получить свою порцию «доброго утра», распахнул зловонный рот и понес чистую правду:
– Православные мы, крепостные помещика Орлова. По наущению дьявольскому (после этих слов Тит кивнул на Гришу, обозначая, о каком именно дьяволе идет речь) вчера бежали от господина своего. Снедь же была нами, грешными, украдена у святых старцев в храме господнем. Не видать нам царствия небесного, не замолить вины перед господом и барином. Пропащие мы души….
Тит хотел расплакаться, но дубинка полицейского, опробовавшая на прочность его лоб, заставила холопа передумать.
– Так и есть – беглые, – кивнул один из полицейских. – Еще и воры. В храме, говоришь, тварь, еду украли?
– Да, да, – бормотал Тит. – В храме господнем.
– Тут рядом церковь есть, – заметил полицейский с собакой.
– Разберемся. А этих нехристей под суд. Ежели бы только побег, вернули бы барину, пускай сам бы их наказывал. Но кража, да еще из церкви, это уже уголовное преступление. Ну, что расселись, скоты? Встать!
Гриша и Тит вскочили на ноги, их немного обработали дубинками, сковали наручниками и повели из леса.
– Тит, тормоз чудовищный, тебя кто за язык тянул? – спросил Гирша, с ненавистью косясь на подельника.
– Нешто не ответить можно, когда вопрошают? – удивился Тит.
Грише очень хотелось наговорить Титу комплиментов, но идущий сзади полицейский выдал им обоим дубинкой по головам, и приказал не болтать.
На опушке леса их ждал фургон. Гришу и Тита запихнули внутрь, после чего повезли в обворованную церковь. Там уже и не пахло ночным весельем, навстречу гостям вышли сильно опухшие святые старцы и набожные инокини. Стражи порядка поинтересовались у них, не пропало ли чего из церкви, так как неподалеку задержали двух разбойников. Святые старцы хитро переглянулись, и тут же ответили, что да, пропало. И немало пропало. Стали составлять список похищенного добра, и тот оказался неимоверно длинным. В числе украденного были старинные иконы, пять золотых крестов, позолоченное кадило и пятьдесят червонцев из церковной казны. Гриша наблюдал за опросом пострадавших из крошечного зарешеченного окошка фургона, и не особо удивился, когда на них с Титом повесили целое состояние. К тому же было не так уж и важно, что и в каком количестве они умыкнули. Известно ведь – дальше Сибири не сошлют, два раза голову не снимут. А на один раз они уже наработали.
Затем, по просьбе святых старцев, из фургона вытащили злодеев-святотатцев. Хотя господь и завещал прощать обидчиков, святые старцы пренебрегли этим заветом. Били, впрочем, не сильно, но когда одна инокиня с невысохшим молоком на губах, вдруг лягнула Гришу промеж ног, небо показалось ему в конкретную овчинку.
– Ах ты проститутка! – выдавил сквозь зубы Гриша, у которого глаза лезли на лоб от полученного благословения.
Святые старцы и праведные инокини, отлупив святотатцев, долго стыдили их и призывали на их нечестивые головы гнев божий. Тит рыдал от омерзения к себе, ощущая себя последним грешником, Гриша все еще не мог прийти в себя после прямого попадания. Затем, когда составили неприлично длинный список похищенного церковного имущества, двух матерых злодеев загрузили в фургон и повезли на суд.
Потирая отбитое хозяйство, Гриша обратился к ароматному подельнику:
– Надо договориться, что будем на суде врать. Понимаешь, да? Чтобы показания совпали.
– Врать? – спросил Тит, подняв на Гришу полные слез глаза.
– Да, врать.
– Нет уж, не бывать этому! – выпучив глаза, выпалил Тит. – Грех тяжкий на нас, святых старцев и инокинь непорочных обокрали, имущество церковное умыкнули. Лиходеи мы, после этого, не видать нам прощения на страшном суде.
– До страшного суда еще дожить надо, – заметил Гриша. – Нам бы на обычном выкрутиться.
– Иконы украли, кадило, червонцы… – утопая в слезах, блажил Тит. – Как земля-то нас носит? Как святой Пантелей еще не поразил нас молнией небесной?
– Какие еще иконы? – испугался Гриша. – Какие червонцы? Тит! Опомнись! Мы всего-то еды немножко взяли. Не было никаких икон.
– Аль не слыхал святых старцев? – спросил холоп.
– Да они все соврали!
– Что? – ужаснулся Тит. – Старцы святые соврали? Чур! Чур тебя! Одумайся, ирод, что ты говоришь? Да разве могут святые старцы врать?
– Могут, – уверенно заявил Гриша. – Я это только что видел. Ты, кстати, тоже.
Но Тит его не слушал. Гриша еще какое-то время пытался достучаться до тупого подельника, но успехом это не кончилось. Пахучий холоп тупо твердил, что виновен в страшном злодеянии, и желает отныне лишь одного – самого страшного и сурового для себя наказания.
– Провались ты пропадом! – в отчаянии проворчал Гриша, и присел к зарешеченному окошку.
– Вериги пудовые… тысяча поклонов… в Иерусалим пойду… – обмотал слезоточащий Тит.
– Кому ты там нужен, в Иерусалиме? – фыркнул Гриша. – Ты лучше в другое место иди, оно и ближе, и загранпаспорт не потребуется.
– Явлюсь в Суздаль, припаду губами к мощам страстотерпца Потапа, – буровил смердящий холоп.
– Тит, прекращай! – взмолился Гриша. – Без тебя тошно.
Минут через сорок они прибыли в город. Тот оказался небольшим, и без особых достопримечательностей. Единственное, что бросилось в глаза пришельцу из иного мира, это странно малое количество автомобилей на дорогах и отсутствие столь привычных глазу хрущевок. Архитектура была в целом какая-то архаичная, преобладали образцы деревянного зодчества. Людей на тротуарах было мало, в основном это были либо полицейские, либо крепостные, волокущие на своих плечах тот или иной груз в сопровождении надзирателей.
Вот в свое окошко Гриша увидел большое красивое здание с колоннами, перед которым стояла на постаменте весьма сексапильная бронзовая Фемида с четвертым размером правосудия, явно навеянная скульптору после похода в стриптиз-бар. Над колоннами золотыми буквами шла надпись – «Суд господский». Однако «воронок» проехал мимо, свернул в какой-то грязный темный двор, и остановился возле покосившегося на сторону саманного сарая с дырявой крышей. Сарай заваливался на юго-запад, а табличка с названием «Холопское судилище», прибитая к его фасаду одним ржавым гвоздем, напротив, имела крен в северо-восточном направлении. Никаких Фемид рядом с «Холопским судилищем» не было, и все указывало на то, что богиня правосудия сюда вообще ни разу не заглядывала. Вместо нее имелась виселица и большая деревянная колода с вонзенным в нее окровавленным топором. Судя по всему, большинство приговоров приводилось в исполнение тут же.
Преступников выгрузили из транспорта и ввели внутрь. Грише прежде доводилось бывать в суде (однажды судили за кражу металла с дачных участков, но с учетом малолетства ограничились условным сроком), так что он был несколько удивлен, увидев вместо всего положенного один хромоногий стол, один кривобокий стул, и одного пьяного и небритого мужика. На столе стоял графин с прозрачной жидкостью, пустой стакан и тарелка с солеными огурцами.
– Вот, злодеев привели на суд справедливый, – сказал один из полицейских, указывая рукой на Гришу и Тита. – Беглые, воры и разбойники. Церковь ограбили, на жизни святых старцев покушались.
– Не было такого! – возмущенно вякнул Гриша, и тут же получил по спине дубиной.
Мужик за столом, больше похожий на бомжа, чем на судью, громоподобно высморкался в ладошку, вытер оную о штаны, хрюкнул и вынес приговор:
– За побег пятьдесят плетей каждому. За воровство еще пятьдесят плетей каждому. За посягательство на православную веру – два года каторжных работ в каменоломне. Там как раз камень добывают для строительства новой церкви, вот грехи свои и искупите делом богоугодным.
– А потом? – спросил Гриша.
Полицейские переглянулись и громко заржали. Судья, оскалившись, ответил с кривой усмешкой:
– А потом в ад пойдешь. Туда все грешники попадают.
– В ад? – повторил Гриша. – А разве это не он?
– В каменоломнях никто больше трех месяцев не протягивает, – добродушно сообщил полицейский, перетянув Гришу дубиной. – Свежий воздух, активный образ жизни, дружный коллектив…. Сам понимаешь. При таких благодатных условиях живи да живи, ежели, конечно, дневную норму будешь выполнять. А если не выполнишь – не пожрешь.
– Что-то я не слышал, чтобы там хоть кто-то норму выполнил, – заметил судья.
– Был один, – не согласился полицейский. – Настоящий богатырь. Так вот он целую неделю норму выполнял.
– А потом что? – рискнул спросить Гриша.
– А потом его свои же каторжники и убили. Они-то от голода пухнут, а он каждый вечер у них на глазах свою пайку за обе щеки уплетает. Не выдержали. Набросились ночью, когда спал, да камнями ему голову и размозжили. Одно слово – нехристи.
– Да, такую каторгу только нехристи могли придумать, – согласился Гриша, и снова получил палкой по спине.
Часть наказания Гриша с Титом получили тут же, во дворе суда. Пороли душевно и умело, без поблажек. Когда все закончилось, двух злодеев волоком потащили обратно в «воронок», поскольку идти они не могли. В этот момент к зданию судилища подкатил еще один автомобиль, откуда полицейские вытащили грязного и заросшего бородой мужика без штанов. Мужик выглядел так, будто его пропустили через мясорубку.
– Тебя за что? – подняв голову, спросил у него Гриша.
– За кощунство, – простонал бородатый, которого волоком перли на суд – идти он не мог, поскольку у бедняги были переломаны ноги.
– А что ты сделал?
– Во время молебна ветры громкие пустил.
– Ну, за это сразу голову долой, – со знание дела кивнул полицейский, запихивающий Гришу в «воронок».
Гриша невольно позавидовал осквернителю священного обряда. Быстрая смерть в этом прекрасном мире для холопа была чем-то сродни амнистии из преисподней. А вот им с Титом предстало умирать долго и мучительно, поскольку знающие люди утверждают, что смерть от голода так же страшна, как и смерть от отсутствия пищи.
– Все из-за тебя, барана тупого! – в сердцах сказал Гриша Титу, когда двери фургона захлопнулись. – И за каким хреном я тебя с собой взял?
– На все воля божья и промысел, – ответил Тит. – Через муки телесные прощение обретается.
– Не волнуйся, бог тебя уже простил, – заверил товарища Гриша. – Он вообще на дураков не обижается.
Вся судебная процедура вместе с поркой заняла не больше часа. Дело вышло резонансным – когда Тита секли в две плетки, его задница вибрировала, как камертон. Теперь злодеев ждало искупление их грехов – работа на каменоломне, обеспечивающей известняковыми блоками строительство большой церкви, возводимой в честь святого страстотерпца Пантелея, посмертно прославившегося тем, что бросился под колеса барского автомобиля, дабы тот не проколол шину валяющимся на дороге кривым гвоздем. Пантелей выжил после своего подвига, но выжил себе на беду. К тому моменту, когда разобрались в благородных причинах его поступка, надзиратели успели нанести праведнику травмы, несовместимые с жизнью. Пытали быстро и зверски – опасались, как бы он не помер раньше, чем все изведает. Когда человек прибежал от барина, отменить Пантелею смертный приговор, заплечных дел мастера уже смывали с рук кровь. Растерзанный страстотерпец по кускам валялся на полу в луже крови и испражнений.
Эта история волею случая получила огласку, и вскоре святые старцы уже ставили Пантелея в пример в своих проповедях, обращенных к крепостным. Его наскоро канонизировали, нарисовали несколько икон (никто не знал, как выглядел Пантелей при жизни, так что натурщиком послужил другой крестьянин), а затем популярность страстотерпца среди простого бесправного люда стала столь высока, что взялись строить и церковь. Церковь решили возвести из белого известняка, просто потому, что неподалеку имелся заброшенный карьер. Вначале работы велись силами холопов пяти самых богатых помещиков губернии, но в связи с высокой смертностью решили использовать труд каторжников, то есть тех же крепостных, но уже лишенных хозяев, чья смерть никого не ввела бы в убыток.
Глава 35
– Тупого Тита матеря, поехал Гриша в лагеря… – с хрипотцой, как заправский шансонье отечественного разлива, напевал себе под нос Гриша, с тоской поглядывая в крошечное зарешеченное окошко фургона. «Воронок» несся по грунтовке мимо возделанных полей. Кое-где виднелись фигурки людей, делающие кривым и тупым ручным инструментом ту работу, какую во всем нормальном мире уже сто с лишним лет выполняли машины.
Тит, усевшись на железный пол, крестился обеими руками, поскольку был скован наручниками, и бормотал молитвы. В своих молитвах Тит благодарил бога за его милость, за доброту, щедрость и прочие положительные качества, которые тот являл не всем, но лишь самым достойным и праведным. Например, помещику Орлову, холеному бездельнику, в течение пятидесяти лет бившему баклуши, или его дочурке, ненаглядной Танечке, в жизни своей не ударившей пальцем о палец, которая даже попу себе сама не подтирала – эта почетная обязанность была возложена на ее служанку Матрену.
Вспомнив о Матрене, Гриша взгрустнул. Горько было осознавать, что он так и не сподобился на нее влезть, а теперь уже точно случая не представится. И все же Гриша был рад, что не позвал Матрену с собой в побег. По сравнению с прочими крепостными, Матрена жила в раю, а он все равно не мог предложить ей ничего лучшего в этом мире.
– Эх, все равно жаль, что не отодрал на посошок, – с сожалением произнес Гриша, и, покинув окошко, присел на пол. Тит сидел напротив и что-то распевно бормотал. Кромешная тупость светилась в каждой черточке его грязного лохматого лица.
– …во имя отца и сына…. – бормотал Тит.
– Протоирей, завязывай! – строго приказал Гриша.
Тит прервал молебен и уставился на Гришу. Взгляд был до того тупой, что собеседнику сделалось тошно.
– Знаешь, куда нас везут? – спросил Гриша.
– Знамо дело, – кивнул Тит. – Куда надо, туда и везут. Господам виднее. Наше дело холопское – повиноваться и покорствовать. Кто господам верой и правдой служит, тому рай уготован.
– Тит, ты не перестаешь меня удивлять, – признался Гриша. – Когда мне начинает казаться, что тупее, чем ты есть, быть уже нельзя, ты всякий раз доказываешь, что я конкретно неправ. Очнись же ты, наконец, от своей тупости! Нас на каменоломню везут, где собираются трудом и голодом в два месяца в могилу свести. Признаюсь тебе – я трудиться не люблю. И голодать тоже. Нам оттуда бежать надо. Ты со мной?
– Бежать? – испугался Тит. – Опять? Нет! Нет! Упаси меня бог! Один раз меня нечистый попутал от барина сбежать, теперь и не знаю, как такой грех страшный замолить. Второй раз уж не бывать этому.
– Тит, мне видение было, – соврал Гриша. – Явился святой Маврикий и повелел гласом божественным из каменоломни бежать. И тебя прихватить. Ужель супротив воли святого пойдешь?
– Ежели святой повелел, тогда повинуюсь, – кивнул Тит после минутного раздумья.
– Слава богу, – возрадовался Гриша, наконец-то понявший, как нужно управлять Титом. Все разумные доводы и уговоры были тут бесполезны, зато прекрасно работала наглая примитивная ложь на нужную тему. Тит мог легко пропустить мимо своих грязных ушей все слова о свободе, но готов был беспрекословно подчиниться приказу святого Маврикия (которого Гриша только что выдумал).
– Еще святой Маврикий приказал тебе всегда меня слушаться и без моего разрешения рта не открывать, – добавил Гриша. – И еще святой сказал, что если ты продолжишь все время воздух портить, тебя ждет ад.
– Святому повинуюсь, – кивнул Тит. – Справлю нитку с иголкой, заштопаю зад зловонный.
– Это необязательно. Постарайся для начала просто иногда сдерживаться. Или, если невтерпеж, отходи от меня подальше, и там уже греми столько, сколько влезет. То есть – сколько вылезет.
– Важно придумал, – согласился Тит.
Видя, что Тит верит всему на свете, Гриша решил, что этим грешно не воспользоваться:
– Еще святой повелел, чтобы ты себе правую ногу в жопу засунул. Прямо сейчас.
Весь оставшийся путь до каменоломни Гриша провел в состоянии истерического хохота. Тит изо всех сил пытался исполнить волю святого Маврикия, идущую вразрез с физическими возможностями организма. Он пытался и так и сяк и об косяк, но ничего не получалось. Мужик вспотел, дышал тяжело и надрывно, но нога все равно не желала сгибаться под нужным углом. Он тянул ее руками с такой силой, что едва не сломал. Вероятно, этим бы и кончилось, если бы «воронок» не прибыл в пункт назначения. Двери открылись. Первым наружу выпрыгнул икающий и хрюкающий от восторга Гриша, за ним выбрался прихрамывающий Тит – он все же повредил себе ногу.
Однако, выбравшись из фургона и оглядевшись, Гриша сразу же утратил всю свою веселость. Увиденное им красноречиво указывало на то, что попытка Тита совершить невозможное станет последним светлым воспоминанием об этом мире.
Именно так Гриша всегда представлял себе ад. Огромный карьер, образованный наполовину срытой горой, был по периметру огорожен высоким сетчатым забором. Никаких предупреждающих знаков на изгороди не было, но Гриша ни на секунду не усомнился в том, что по ограде пропущен ток. Обугленный до черноты труп какого-то бедолаги, повисший на сетчатом ограждении, красноречиво подтверждал эту догадку.
За пределами огороженного периметра находилось двухэтажное здание конторы и с десяток домиков для охраны и начальства. Над одним строением к небу поднимался дымок, и Гришин нос сразу учуял долетающий оттуда аромат вкусной и здоровой пищи. По всей видимости, там готовилась еда для людей.
А в пределах огороженного высоковольтным забором периметра копошились в пыли и грязи те, кто не попадал под определение – люди. Стоял несмолкаемый стук кирок и молотков, грязные и тощие оборванцы таскали камни, долбили ломами монолитную известняковую стену карьера, другие, орудуя киянкой и долотом, придавали валунам правильную прямоугольную форму. Отовсюду слышался кашель, предсмертные хрипы, глухо щелкали кнуты надзирателей, без промаха разящие сгорбленные спины каторжников. Сколько Гриша ни вглядывался, он не увидел ни одного инструмента или механизма, созданного позднее пятнадцатого века. Картина, открывшаяся его очам, не имела хронологической идентичности. Все это с равным успехом могло происходить и три тысячи лет назад, задолго до появления на свет такого понятия как «права человека».
– Дайте угадаю – кремниевая долина? – проворчал Гриша.
– Известняковая, – уточнил надзиратель, и тут же выписал болтливому холопу смачный пинок под зад.
Гриша ждал, что их зарегистрируют, как вновь прибывших, запишут имена в специальную книгу и поставят на довольствие, но дело обошлось без всей этой бюрократической волокиты. Полицейские просто сдали их на руки местным надзирателям, сели в машину и укатили. Гриша пожелал им скорейшего ДТП со смертельным исходом для всех участников, и повернулся к новому начальству.
Надзиратели карьера разительно отличались от надзирателей имения. Если в имении они еще пытались маскироваться под людей, дабы не напугать благородных господ своим истинным обличием, то тут все маски оказались сброшены. Перед Гришей и Титом предстали три существа, больше всего напоминающие снежных людей, сколотивших незаконное бандформирование. Огромные, волосатые, бородатые, с неохватными пивными животами и натруженными кулаками, все в жутких шрамах, увешанные оружием с головы до ног, дяди взирали на свежее мясо с отеческой нежностью. Помимо кнутов, надзиратели были вооружены ножами, кастетами, револьверами и обрезами. Один из чудовищ ковырялся мачете в зубах, и все лезвие огромного ножа было в свежей крови. У второго на поясе висела человеческая голова, снятая, судя по ее состоянию, дня три назад.
Вперед выступил самый здоровый дядя, ростом выше двух метров и шириной не меньше, окинул новичков скучающим взглядом, и страшным голосом произнес:
– Пойдете в камнетесы, у нас там как раз нехватка кадров. Дневная норма – тридцать блоков. Норму сделал – пожрал. Норму не сделал – голодаешь. Работать на износ. Если заметим, что работаете не на износ, пойдете на арену или в яму к собакам. Вопросы… – дядя сплюнул себе под ноги, – задавать запрещается. Кто будет вопросы задавать, тот пойдет на арену или в яму к собакам. Вы кастрированные?
– Нет, – дрогнувшим голосом ответил Гриша.
– Плохо, – покачал головой здоровяк. – Всех прибывающих положено кастрировать.
Гриша почувствовал, что у него затряслись колени. Он уже смирился с мыслью, что смерть неминуема, но все же надеялся умереть с достоинством, а не отдельно от него.
– Вот только нашего штатного кастраэнтеролога вчера увезли в город с «белой горячкой», – продолжил дядя. – Ладно, обойдемся без этого. Степа, отведи их на рабочее место и проведи вводный инструктаж.
Из толпы реликтовых гоминидов вышел могучий лось в ковбойской шляпе, и приказал:
– За мной.
Гриша и Тит покорно побрели следом. Не смотря на мрачность их положения, Гриша благодарил бога за то, что ветеринара не оказалось на месте. Значит, оставался еще крошечный, микроскопический шанс сбежать из этого ада, добраться до жезла Перуна, затем вернуться в имение помещика Орлова, найти там Матрену и осуществить свою эротическую мечту. Как все это сделать Гриша себе не представлял, а что-то планировать даже не пытался. Решил положиться на волю случая, авось привалит удача.
Через ворота, запиравшиеся на обычный амбарный замок, их ввели в пределы очередного ада. Глядя по сторонам, Гриша все сильнее ощущал острую тоску по прекрасной жизни в имении, где бесчеловечность все же не представала во всей своей обнаженной красе. А вот тут все было выставлено напоказ, и никаких дополнительных вопросов не возникало. Гриша как огляделся, так сразу понял, что попал в самую настоящую жопу, притом жопу безвыходную и безнадежную. Высокий забор под током исключал возможность побега, да и надзирателей на объекте было предостаточно, и дело свое они знали. На Гришиных глазах тощий заморенный мужик, явно стоящий на краю могилы, без сил рухнул на землю, уронив огромный валун, который куда-то нес. К нему тут же подбежал надзиратель, но бить, к Гришиному удивлению, не стал. Осмотрев распластавшегося на земле каторжника, надзиратель кивнул каким-то своим мыслям, и крикнул напарнику, стоящему на возвышении с кнутом в руке.
– Этот не добытчик. Пора списывать. Как думаешь, куда его: на арену или в яму?
Услыхав надзирателя, мужик вдруг ожил и хрипло закричал, притом в голосе его сквозил неподдельный ужас:
– Я добытчик! Добытчик! Я еще поработаю.
Он попытался встать, но ноги его не слушались.
– На арене такому не место, – постановил второй надзиратель с возвышения. – В яму его.
После этих слов бедолага завыл страшным воем, а надзиратели засмеялись. Гриша не знал, что такое арена и что такое яма, но почему-то вдруг осознал, что ни в одно из этих мест его совершенно не тянет. Надлежало переступить через себя и свою лень, и работать изо всех сил. Так у него было больше шансов дожить до благоприятного для побега момента.
Вскоре они прибыли на свое новое рабочее место. Как и было сказано, им предстояло тесать камень, то есть превращать бесформенные глыбы известняка в одинаковые по форме и размеру блоки. Грише выдали персональный набор инструментов – долото с плоским тупым наконечником и деревянную киянку. Предупредили, что долото дается на три месяца, а киянка на месяц. Если по каким-то причинам инструмент прослужит меньше положенного срока, недобросовестный работник будет подвергнут дисциплинарному взысканию. На карьере действовала система штрафов. За утрату киянки штрафовали тремя переломанными ребрами, за утрату зубила пятью, за утрату всего комплекта инструментов отправляли на арену или в яму.
– Тут будете работать, – сказал надзиратель, указав место возле прочих камнетесов, которых было не меньше полусотни. – Вот образец, – надзиратель пальцем указал на каменный блок, установленный на старом табурете. – Делать один в один. Если размеры не соблюдете, переведут в службу доставки. Ясно?
– Ясно, – хором ответили Гриша и Тит.
– Сейчас вам камни поднесут, начинайте работать.
Сказав это, надзиратель удалился. Гриша повертел в руке киянку, затем, для пробы, стукнул ею Тита по лбу. Звук вышел такой, будто столкнулось дерево с деревом.
Тит перекрестился и промолвил:
– Потрудимся по православному. Все же благое дело, святое. Каменья на церковь пойдут.
– Не на церковь, а на наши надгробия, – проворчал Гриша, которого буквально бесил религиозный оптимизм коллеги. – Что это за церковь, в которой каждый камень чья-то могильная плита? Тит, ты вообще точно уверен, что вы все богу поклоняетесь, а не дьяволу?
– Чур тебя! – испугался Тит. – Не поминай нечистого.
– Думаешь, явится? – с грустной ухмылкой спросил Гриша. – Ну и пусть. Хуже, чем сейчас, здесь уже все равно не будет, кто бы ни явился.
В этот момент два заморыша притащили им камни, и беглецы засели за работу. Гриша пару раз стукнул по зубилу киянкой, отбил мизинец, глянул на крошечную царапину на валуне, и пригорюнился. Таким инструментом он не сумел бы выполнить дневную норму и за месяц. Рядом сидел Тит, который тупо таращился то на камень перед собой, то на образец, и явно никак не мог увязать одно с другим.
Даже по меркам крепостных Тит был тормозом, поэтому ему не поручали сложных заданий. В основном он или перевозил навоз или рыл ямы. И вот теперь Тит закономерно оказался в затруднении. Ему предстояло понять, как превратить бесформенный валун в кирпич правильной формы. Злокозненный Гриша, едва сдерживая смех при виде выражения ослиной тупости, застывшего на лице коллеги, дал дельный совет:
– Тит, помолись с поклонами, дело и пойдет.
Верно народ глаголет: заставь дурака богу молиться, он и будет молиться. Тит поднялся во весь рост, воздел лицо к небу, и пошел, крестясь и кланяясь, читать свои заклинания. Гриша тихонько тюкал киянкой по зубилу и ждал развязки. Та вскоре последовала. Послышался нарастающий свист, затем Тит, как раз собиравшийся отбить пятнадцатый по счету поклон, вдруг закричал и свалился на землю. А булыжник, который со страшной силой врезался ему в спину, отлетел в сторону и насмерть зашиб одного из камнетесов. Камнетес с размозженной головой упал на землю, Тит, охая и поминая ангелов, кое-как ожил. Откуда-то сверху прозвучал сердитый голос надзирателя:
– Ты что там задумал, скот? Нечего руками размахивать в рабочее время!
Тит схватил свои инструменты и стал бестолково долбить камень. Гриша, желая посочувствовать богомольцу, сказал:
– Я же говорил тебе – ты грешник. Такой грешник, что бог даже твои молитвы слушать не хочет. Это ведь он тебя камнем поразил.
Из глаз Тита брызнули слезы. Кажется, он и сам начал догадываться, что не является божьим любимчиком.
– Ты, главное, меня слушай, – советовал Гриша. – Я тебе помогу на праведный путь встать. Мне тут на днях архангел Пантелей явился, и приказал за тобой присматривать. Слышишь?
– Слышу, – отозвался грустный Тит.
– Хорошо. И вот тебе воля архангела Пантелея. Ты должен, кровь из носу и кал из задницы, сегодня дневную норму выполнить, а после сказать, что это я сделал. Будем твою гордыню лечить. Ну, что уставился? Начинай. Время-то идет.
Гриша не верил, что Тит выполнит дневную норму, но попытаться стоило. Уж очень не хотелось голодать. Сам он работал чисто символически: киянкой взмахивал часто, но силу в удары не вкладывал, а просто так – стукал по киянке без всякого результата. Тратить силы на заведомо обреченную попытку изваять кирпич Гриша не собирался. Силы ему требовалось сберечь для побега.
Несмотря на кажущийся хаос, карьер работал как хорошо отлаженный часовой механизм. Каждая шестеренка знала в нем свое место, и честно исполняла свои обязанности до тех пор, пока не ломалась и не заменялась на новую. Одни холопы, вооруженные кирками, ломами и кувалдами, вгрызались в монолит, откалывая от него подходящие для транспортировки валуны. Это была самая тяжелая работа, и, как ни парадоксально, выполнять ее ставили самых слабых и больных. В этом, однако, имелась и своя логика. Надзиратели полагали, что нет разницы, крепкий холоп или тщедушный доходяга – на добыче он все равно через пять-шесть дней протянет ноги, поэтому тех, что поздоровее, берегли, ставя на иные работы, а тех, кто уже и так стоял на краю могилы, гнали, что называется, на передовую. А это и впрямь была передовая. Там люди сгорали буквально на глазах, иногда всего за одну смену. Добытчиков секли почти непрерывно, дабы подбодрить их и подтолкнуть к новым трудовым подвигам. Добытчик не имел права останавливаться и отдыхать, инструмент в его руках постоянно находился в работе.
Другие каторжники доставляли отколотые добытчиками валуны камнетесам. Логика подсказывала, что проще возить огромные камни на тележках, но зачем думать о логике, когда в твоем распоряжении неограниченный, постоянно возобновляющийся запас бесплатной живой силы, за которую ты не несешь никакой ответственности и с которой волен поступать так, как подсказывают тебе твои садистские наклонности? Поэтому носильщики таскали камни на руках, притом в карьере существовало строгое правило: один камень – один человек. Даже если валун весил центнер, его должен был тащить один каторжник, но ни в коем случае не два и не три. Кто придумал это правило Гриша так и не узнал, но про себя удивился, почему этого выдумщика не судили в Нюрнберге вместе с его коллегами.
Следующим звеном в этой цепи были камнетесы. В камнетесы отбирали самых здоровых и выносливых, и по слухам, хороших умельцев, даже если они и не выполняли дневную норму (ее никто не выполнял), надзиратели подкармливали сухими коровьими лепешками. Надзиратели держали у себя небольшое хозяйство, за которым присматривали особые каторжники. На их маленькой ферме жили куры, свиньи и коровы. Все они радовали мордоворотов молоком, мясом и яйцами. Вот лепешками этих коров надзиратели и подкармливали ударников производства, чтобы те промучились на этом свете подольше. Гриша своими глазами видел, как трое камнетесов зверски подрались из-за брошенной им лепешки. Пока трое, сцепившись, катались по земле, подкрался четвертый и украдкой слопал лакомство.
Что касалось холопов, приглядывающих за скотом на ферме, то их было двое, и клички у них были красноречивые: одного завали Василисой Прекрасной, а второго Василисой Премудрой. В связи с тем, что карьер считался особым объектом, держать там баб строго запрещалось даже обслуживающему персоналу (всем, кроме начальника, который все время проводил в городе, и приезжал на работу только по понедельникам, чтобы покричать на всех и укатить обратно), две Василисы не давали надзирателям зачахнуть без женской ласки. За свои услуги они неплохо питались и никогда не были биты кнутом. Узнав об этом, Гриша призадумался. С одной стороны, Василисы пользовались полной свободой передвижения и находились по ту сторону забора. Оказавшись на их месте, он смог бы без проблем сбежать. Но вспомнив, что коварный план будет сопровождаться пересмотром его сексуальной ориентации, а так же учтя тот факт, что бежать придется сильно в раскорячку, Гриша решил поискать иные пути на волю, желательно не через постель, в которой его будут ждать все надзиратели в порядке живой очереди.
За камнетесами следовали грузчики. Они стаскивали готовые блоки к воротам, а когда приходила телега со стройки, нагружали ее. Грузчиков было только двое, и от недостатка работы они не страдали. Если случалось так, что у них выпадала свободная минутка, надзиратели заставляли их приседать или отжиматься, чтобы, значит, не простаивали порожняком.
Беседуя со старожилами, Гриша выяснил, что это за арена с ямой, о которых упоминали надзиратели. Яма действительно оказалась ямой, вырытой в земле. Площадью она была с небольшой бассейн, глубиной два с половиной метра. В яме жили три огромных злющих пса, выращенных на одной человечине. Когда какой-нибудь холоп вырабатывал свой ресурс, его оттаскивали к яме и сбрасывали вниз. При этом существовал тотализатор, и надзиратели делали ставки, что первое откусят собаки – руку, ногу или голову. Псы набрасывались на несчастного, и начинали пожирать еще живого и орущего, отгрызая от тощего тела куски свежей плоти. Псы эти были такие сумасшедшие и лютые, что никто из надзирателей не отваживался спуститься к ним. Всю свою жизнь они провели в этой яме, и иного мира для них не существовало. Ну а все, что падало в яму, псы считали едой. Однажды произошел досадный инцидент – молодой инженер, недавно присланный на карьер, познакомился в городе с юной барышней, и привез ее с собой, показать достопримечательности. И эта любопытная особа так сильно склонилась над ямой, любуясь огромными злыми псами, что потеряла равновесие и упала вниз. Инцидент, конечно, замяли, тем более что улик почти не осталось. Разорванное и окровавленное платье вытащить из ямы удалось с помощью удочки, а разгрызенные кости присоединились к бесчисленным костям скормленных псам холопов. Яма была прекрасным развлечением, но, разумеется, она не шла ни в какое сравнение с ареной – главной достопримечательностью карьера.
Надзирателям на карьере было очень скучно, и главным источником скуки было отсутствие баб. Василисы, конечно, старались, трудились в поте лица, но это все же был эрзац, а громилы скучали по натуральному продукту. Так же крайне огорчал запрет на спиртное. Сухой закон, понятное дело, никогда не будет работать на территории России по причине несовместимости с жизненными реалиями, так что надзиратели выкручивались, но выкручивались с трудом и риском потерять в качестве штрафных санкций львиную долю своего жалования. Попытки покупать спирт у штатного ветеринара не увенчались успехом – тот не продавал его, потому что сам остро нуждался в этом дивном продукте, и употреблял его исключительно для личных нужд, что в конечном итоге и привело его на свидание с «белочкой». Надзирателям не оставались ничего другого, как пытаться производить алкоголь кустарным способом по старинным дедовским рецептам. Деды были мудры, и умели выгнать самогон даже из продукта жизнедеятельности – судя по всему, это сырье было во времена оные самым доступным, или же самым популярным. Надзиратели раздобыли старинный трактат по самогоноварению – древнюю книгу на церковнославянском языке, в могучей обложке из многослойной кожи и железа. Книгу продал один залетный деятель, который помимо этого трактата впарил надзирателям несколько карт, указывающих места с кладами, и несколько пергаментов с заклинаниями, дабы возможно стало эти клады из земли извлечь. Однако попытка стремительного обогащения путем извлечения из земли бесхозных сокровищ не увенчалась успехом – то ли заклинания не сработали, то ли с приметами ошиблись, да только копали, копали, сорок ям накопали, а нашли лишь старую подкову да собачий череп.
Руководствуясь древним справочником, надзиратели стали осваивать самогоноварение. Согласно чертежам, сделанным, судя по подписи, самим Леонардо да Винчи, собрали довольно сложный агрегат, загрузили в оный испражнения и приступили к трансформации фекальной массы в жидкой источник радости и счастья.
Первый опыт трансмутации элементов вышел комом. Всю ночь над сараем-лабораторией поднимались клубы густого дыма, а смрад стоял такой ядреный, что никак не вязался с процессом приготовления чего-то пригодного в пищу. К утру крепко провонявшие алхимики добыли эликсир веселой жизни – литровую бутыль густой, темно-коричневой жидкости, аромат коей указывал на то, что она скорее порождена не научным гением, но чьим-то задним проходом в результате серьезного расстройства работы желудочно-кишечного тракта. Полученная субстанция воняла жутко, но трубы горели сильнее чувства брезгливости. Нашелся храбрец, который, зажав нос прищепкой, сделал для пробы добрый глоток. На вопрос о своих ощущениях, он ответил, что по сравнению с первоначальным сырьем ни вкус, ни цвет конечного продукта изменений не претерпели, но градус определенно присутствует.
В результате дальнейших экспериментов надзирателям удалось создать более чистый и менее тошнотворный продукт, который, при большом желании, уже можно было пить. Он все так же вонял дерьмом, и имел все тот же коричневый оттенок, но зато удалось значительно снизить густоту и свести к минимуму наличие комочков первоначального сусла. В общем, пить это стало можно, но жутко противно. Особенно тяжело давались первые три стопки, идущие на трезвую голову, и оттого особенно мерзкие. Дальше продукт шел легче и приятнее.
Что еще весьма огорчало надзирателей, так это запрет на драки. Они имели право делать с каторжниками все, что угодно, но не имели возможности почесать кулаки друг о друга, а такое желание рано или поздно посещает всех членов изолированного от внешнего мира мужского коллектива. И вот все эти факторы – жесткий дефицит женской ласки, дерьмовое пойло, невозможность выплеснуть адреналин на коллег по цеху, в конечном итоге привели к возникновению арены.
Арена представляла собой круглую яму двухметровой глубины, диаметром примерно метров шесть. Она находилась за поселком начальства, в поле, и являлась главным развлекательным центром карьера. Почти каждую ночь на арене устраивались бои. Но поскольку надзирателям драться между собой запрещалось, а выставлять против надзирателя каторжника было скучно и неинтересно, между собой стравливали холопов. Им, в зависимости от жребия, вручали оружие, и заставляли драться. Драться насмерть. Труп проигравшего сбрасывали в яму к псам, а победителя награждали великой наградой – человеческой пищей. Это был либо кусок заплесневелого хлеба, либо тарелка прокисшего супа, иногда даже мясо с несвежим душком. Чем больше побед было на совести гладиатора, тем щедрее была награда за каждый следующий бой. При этом надзиратели, разделившись на два лагеря, готовили свих чемпионов, болели за них и ставили на них деньги.
Вместо доспехов гладиаторов наряжали в потешные одежды. Это могло быть старое и рваное женское платье, огромные семейные трусы в горошек и резиновые ласты, или самый грозный комплект брони – плащ химзащиты и противогаз с длинным гофрированным хоботом. Оружие тоже было своеобразным. В арсенале гладиаторов присутствовали огромные деревянные члены, вытесанные вручную, но с большой анатомической достоверностью, старые чугунные сковородки, вилы и прочие забавные предметы.
В гладиаторы брали тех, кто покрепче, а если накапливались доходяги, то их двоих или троих безоружных выставляли против одного натренированного бойца. В данный момент чемпионом арены числился носильщик Тарас, одержавший восемь побед. За свои заслуги Тарас ел каждый день, вне зависимости от того, предстояло ему драться, или нет. Дабы другие каторжники не удавили его из зависти, Тараса отзывали в сторонку и там кормили. Кормили тухлятиной, но все же это было лучше, чем свежий воздух – полезный, но катастрофически низкокалорийный продукт.
Выяснив все это, Гриша крепко призадумался. Жалости к другим холопам он не испытывал, и считал, что смерть для них единственное возможное избавление от всех ужасов жизни. Он даже готов был даровать им это избавление, особенно если за это еще и покормят. К тому же чемпионов часто отводили на тренировки за пределы огороженного периметра – тренироваться предстояло на доходягах. А выход за пределы периметра резко увеличивал шансы на побег. Надзиратели не слишком опасались каторжников, так как забитые и запуганные люди и не помышляли о бунте или бегстве, а потому частенько проявляли беспечность. Гриша сразу смекнул, что это ему очень на руку.
Первый рабочий день на карьере закончился около полуночи. Как и сказал судья, норму никто не выполнил, так что вместо ужина надзиратели раздавали тумаки. Дюжие молодцы согнали рабов в кучу, и принялись лупить их резиновыми дубинками. Судя по тому, как равнодушно воспринимали избиение каторжники, Гриша догадался, что подобная процедура является на карьере доброй традицией. Сам он затесался в гущу толпы, и прикрылся Титом. Титу досталось и за себя и за того парня, что стоял у него за спиной. Сплевывая кровавую слюну с белыми осколками разбитого зуба, Тит осенил себя крестным знамением и набожно констатировал:
– Слава богу, день прожили. Даст бог, еще поживем.
Убедившись, что надзиратели удалились, Гриша выбрался из-за живого укрытия, и ответил:
– Если бы я был богом, я бы жил на тропическом острове, целый день валялся бы на пляже, пил холодное пиво и лапал за попы мулаток. И чхать бы хотел на всех тех, кто у меня чего-то просит.
– Бог милостив, – наставительно сказал Тит. – Он всех любит.
– Оно и видно, – проворчал Гриша. – Излюбил уже до потери пульса. Блин, жрать охота. Сейчас бы я навернул целую кастрюлю рассольника, какой у нас в армии готовили. Тогда он помоями казался как на вид, так и на вкус, а сейчас бы я его умял с огромным аппетитом, а потом бы трахнул нашу армейскую повариху, хоть у нее и зубы были как у лошади.
– А я бы сейчас за барыней поподглядывал, – мечтательно протянул Тит, роняя зад на камень.
Вокруг них, на голых камнях, устраивались прочие любимцы богов. На карьере не было никакого барака для холопов, ночевать полагалось под открытым небом. Гриша присел рядом с товарищем, усмехнулся и заметил:
– Крепко тебя Танькина попка зацепила.
– Важная попка, – заулыбался Тит.
– Это да, – согласился Гриша, укладываясь на холодный камень. – Попка что надо. Эх, и что там сейчас в имении делается? Матрена теперь скучает…. Хорошая девчонка, да? Ничем не хуже Танечки. Тит, ты согласен?
Повернув голову, Гриша увидел, что Тит, мечтательно улыбаясь, сунул руку в штаны.
– Прости господи, – выдохнул он, яростно работая правой. – Грешен!
Дабы не мешать Титу вести интимную жизнь, Гриша подошел к группе каторжников, присел рядом с ними и стал задавать вопросы. Спрашивал в основном о том, кто за что сидит. Выяснилось, что каждый каторжник точно знает свой приговор и может дословно озвучить статью, по которой загремел. Гриша этому удивился, но ему тут же объяснили, что если надзиратель спросит, за что каторжник сидит, а тот не ответит подобающим образом, тому каторжнику переломают кувалдой ноги и заставят ползать стометровку на время.
Ведя беседу со старожилами, Гриша вскоре выяснил, что оказался в компании ужасных уголовников, маньяков и террористов, которым самое место за решеткой.
Хромой Петр получил три года каторжных работ за отрицание богоугодности регулярной ночной порки: во время порки просил у господа защиты и помощи, тем самым отрицая его промысел во всем происходящем.
Филипп был осужден на пять лет за осквернение христианского святого таинства: во время очередной обязательной исповеди упал перед святым старцем в голодный обморок.
Кирилл получил полтора года за оскорбление чувств верующих: во время крестного хода упал под ноги прочим холопам, и когда те топтали его, ругал их иродами окаянными.
Впрочем, были и те, кто отбывал наказание не по религиозным, а по уголовным статьям.
Пантелею впаяли четыре года за хищение господского имущества в особо крупных размерах: будучи свинарем, воровал у свиней из кормушки еду и ел ее.
Селифана приговорили к вечной каторге за убийство с отягчающими обстоятельства: зверски оголодав, живьем сожрал курицу вместе с перьями, кишками, костями и червяком в ее клюве.
Матвей сидел за каннибализм: во сне откусил ухо спавшему рядом холопу, сжевал его, и проглотил.
Макар отбывал наказание за прелюбодеяние. Ночью изловчился перебраться через забор, отделяющий женскую территорию от мужской, ворвался в женский барак, набросился на первую попавшуюся бабу, и вдруг понял, что не знает, что делать дальше. Пока он думал, в барак ворвались надзиратели, кастрировали Макара на месте преступления, а утром отвезли в полицию.
– Герой! – похвалил Макара Гриша. – Уважаю. Почти смог. Не сунул, так хоть потерся.
Беглых было мало, потому что запуганные и забитые холопы даже не допускали мысль о том, что можно убежать от любимого барина, поскольку это было преступление не только против законов людских, но и божьих. И все же находились те, кто не выдерживал и убегал. Гриша понадеялся, что беглецы окажутся людьми независимыми и не такими тупыми, как прочие, и смогут оказать ему помощь в побеге, но просчитался. Оба беглых, Варфоломей и Пантелей были глупы, как Тит. Они даже не смогли внятно объяснить, что подвигло их на побег. Оба тупо отвечали, что бес попутал, и при этом безостановочно крестились. Гриша понял, что этим людям доверять нельзя. Другое дело, если бы они бежали к красивой жизни, к пиву, к девочкам, к большим деньгам и крутым тачкам, тогда ладно. Люди, чья мотивация ясна и близка, заслуживают всяческого доверия. Но вот попутанные бесом были подозрительны. Мало ли как он в следующий раз попутает этих неадекватных. Еще надоумит пойти и рассказать надзирателям о готовящемся побеге.
В общем, пообщавшись с местным контингентом, Гриша убедился, что рассчитывать на этих людей не стоит. Все придется делать одному. Правда, был еще Тит, но тот ничуть не поумнел даже после того, как освоил онанизм. Когда Гриша вернулся к нему, Тит уже спал на камнях, улыбающийся и удовлетворенный. Гриша устроился поблизости, намереваясь пред сном хорошенько обдумать ситуацию и набросать план действий, но не успела его голова коснуться камня, как он тут же заснул, утомленный душевными потрясениями и богоугодным физическим трудом.
Глава 36
Рабочий день на карьере начинался в пять утра, но каторжников будили на час раньше, чтобы они успели размяться ото сна и приступить к выполнению своих трудовых обязанностей полными сил и бодрости. Гриша о досрочном подъеме не знал, так что, к тому моменту, когда его сознание влилось в тело зеркального двойника, тот уже проснулся и приступил к работе.
– Я что-нибудь сегодня утром говорил? – спросил Гриша Тита.
Напарник сидел рядом и остервенело стучал киянкой по зубилу. Во все стороны летели искры и каменная крошка. Тит старался, Тит честно хотел внести свою лепту в дело возведения церкви, но бог не дал ему таланта камнетеса. Второй день он мучил свою заготовку, но та, за это время, стала еще более бесформенной, и ничуть не приблизилась к эталону.
– Молился, – ответил Тит.
– Я молился? – удивился Гриша. – Надо же. Заболел что ли? Ну а кроме молитв я что-нибудь говорил?
– Нет.
– Неужели даже не удивился, как сюда попал и что вообще происходит?
Тит не ответил. В который уже раз он промазал киянкой мимо долота и отшиб себе мизинец.
– Ангелы небесные! – закричал Тит, вытаращив глаза. – Пресвятые заступники!
– Подуй, – посоветовал Гриша.
Тит стал дуть изо всех сил, так что даже глаза полезли из орбит. Гриша какое-то время наблюдал за ним, затем не выдержал:
– Придурок! На палец дуй, а не просто так.
Тит стал дуть на палец, но тот, судя по всему, уже и без того отболел свое. Тут рядом появился надзиратель, заметил, что Тит прохлаждается, поднял с земли камень и запустил в него. Камень попал в спину, Тит закричал диким криком, то ли от боли, то ли от испуга, а сверху прозвучал сердитый голос:
– Еще раз увижу, что бездельничаешь, пойдешь в яму!
Гриша еще усерднее застучал киянкой по зубилу, а когда надзиратель скрылся, спросил у коллеги:
– Тит, нас уже сколько не кормили, а из тебя все лезет и лезет? Сколько его в тебе? И есть ли в тебе что-то, кроме него?
Тит беспокойно ерзал на камне, под ним в штанах таинственно хлюпало, чавкало, вокруг распространялся характерный аромат.
– То с испугу, – виновато пояснил он.
– Похоже, сильно тебя в детстве напугали, – с отвращением бросил Гриша, – раз ты до сих пор дерьмом истекаешь. Другие заикаться начинают, седеют, но у тебя все не как у людей.
Тит открыл рот, но не успел и слова сказать, поскольку низом опять зазвучала трещотка. Мужик привстал с камня, давая дорогу калу.
– Русским духом пахнет, – проворчал Гриша, с силой ударяя киянкой по долоту. От его заготовки отскочил солидный кусок и врезался Титу в лоб.
Гриша начал догадываться, что с его новым лучшим другом что-то не в порядке. Прежде он считал, что анальный беспредел является нормой здешней жизни, и холопы, лишенные нравственных ориентиров, пускают ветры и гадят в штаны когда им вздумается. К тому же святые старцы в своих проповедях никогда не называли подобные вещи греховными, надзиратели тоже этого не запрещали. А у холопов так: за что не бьют, то можно. Нельзя было почти все, и единственная свобода, которая оставалась бесправному крепостному люду, это свобода испражнения. Гриша даже думал одно время (то есть думал не он, это Ярославна выдвинула предположение), что неоправданно частое пускание ветров и наваливание в штаны даже в тех случаях, когда их можно было бы снять, обусловлены стремлением холопов реализовать свою свободу.
– Это как? – спросил тогда ее Гриша.
– Сам подумай, – предложила Ярославна.
Гриша уставился на нее с нескрываемой обидой. И откуда в девушке столько злобы? С виду, вроде бы, добрая, хорошая, но задеть норовит за самое больное. Подумай, говорит. Ведь знает же прекрасно, что в этом-то не силен, и всякий раз напоминает, словно издевается.
– Я в другой раз подумаю, – проворчал Гриша. – Сейчас сама скажи.
– Что такое свобода? – спросила Ярославна. Гриша открыл рот, но девушка, явно не рассчитывая услышать ничего путного, ответила сама. – Свобода, это спектр возможностей. Ты всегда свободен в рамках. Одни рамки объективны – например, ты не можешь летать, потому что это противоречит законам физики. Другие субъективны – всевозможные нормы морали и нравственности, возведенные в догмат, нормы законодательства и тому подобное. Чем меньше у человека свободы, тем интенсивнее он ее использует. А когда запрещено все, кроме пускания ветров, человек полностью отдается этому процессу. Для него это как глоток свободы.
– Знала бы ты, чем эта свобода пахнет, – покачал головой Гриша. – С одного глотка наизнанку выворачивает.
– Ты не понимаешь, – осудила Гришу Ярославна. – Для них это не просто проявление бескультурья, это способ самореализации. Для тебя самоутверждение, это покупка крутой тачки и шикарной блондинки, а для них….
– Не сравнивай! – взорвался Гриша. – Не смей! Даже не думай упоминать рядом мою прекрасную мечту и кишечный газ! Все этот неправда. Выдумываешь, выдумываешь. Тит задницей гремит не потому, что так реализуется, а потому, что он свинья дикая.
– Пускание ветров есть важнейший элемент холопской культуры, – терпеливо объяснила Ярославна.
– Чего? Культуры? Ты сказала – культуры? Культура, это там театры разные, библиотеки, то да се. Вот это культура. Тит и культура – вещи несовместимые. В театрах никто ветры не пускает. И в библиотеках.
– Культура, это не только строго обозначенный набор атрибутов, это еще и сформировавшийся веками эталон образа жизни. Культура, это стандарт общения, человеческих взаимоотношений, стандарт во всех сферах жизнедеятельности. Кто отходит от этого стандарта, того называют некультурным. Как ты справедливо заметил, в театре нельзя портить воздух. А если ты туда придешь и сделаешь это, сделаешь громко, нагло, демонстративно, то это будет отступлением от норм поведения, то есть некультурным поступком. Хотя, сейчас такие театры, что в ответ на твою выходку могут прозвучать овации. Еще и гением признают. Ну а что касается Тита и остальных холопов, для них пускание ветров это норма, сформировавшаяся веками, это элемент их культуры, важный элемент. Это основа их культуры.
– Ты уж совсем-то их не опускай, – решил заступиться за холопов Гриша. – Говоришь так, будто они животные. Тит православный, в бога верует. Все же не пуком единым жив человек.
– Религия им навязана, – отмахнулась Ярославна. – Это то, что вдолбили им в головы. А свобода пука рождена в их среде, это их исконное детище. Тита можно убедить, что бога нет, если, конечно, очень постараться, но ты никогда не сможешь объяснить ему, почему нехорошо пускать ветры в лицо ближнего своего. Вера Тита лежит на поверхности, без постоянного обновления в виде проповедей святых старцев, она вскоре потеряет свою интенсивность и отойдет на второй план, а вот пук – это основа личности, и его не вытравишь. Пук, это зона внутренней свободы, которая иногда временно становится внешней. Пук Тита, это акция протеста против существующей действительности, это несанкционированный митинг несогласных с политикой угнетения и подавления. Яростный, громкий, зловонный пук – дерзкий вывозов несправедливости.
Вот как все это объяснила Ярославна. Объяснила умно и неожиданно, Гриша даже почти все понял. Понять-то понял, но смириться с этим не мог. Право Тита на самоопределение он не отрицал, но обонять его кишечные извержения был не согласен категорически.
– Жил не тужил, пока в штаны не наложил, – промямлил Тит, ладонью выгребая из закромов свое культурное наследие. – Важно оправился. Надобно удалить, дабы не слиплось, окаянное.
Что выгребал, то бросал куда попало. Капли летели на прочих камнетесов, но те и ухом не вели. Одному солидный комочек прилип к щеке, мужик провел ладонью по лицу, размазал, продолжил работу.
Глядя на все это культурное безобразие, Гриша начал сильно сомневаться в том, что слова Ярославны относятся к Титу. Возможно, они касались прочих холопов, но Тит определенно был особенный. Таких эпических засранцев еще мир не видывал.
Вновь появился надзиратель, обнаружил, что Тит, вместо работы, вычищает штаны, но вместо того, чтобы наказать лентяя, начал ржать. Даже подозвал своего товарища с соседнего участка. Оба, умирая со смеху, наблюдали за Титом, который забрасывал калом всех камнетесов.
В полдень на карьер прибыла телега. Двое грузчиков стали собирать готовые блоки, и стаскивать их наверх. Гриша к тому времени изготовил один блок, но весь такай корявый, что на него смотреть было больно. Тит тоже потрудился плодотворно – перевел на щебенку пять больших валунов, так ничего и не изваяв. Награждая его за самоотверженный труд дубиной по голове, надзиратель кричал:
– Надо блоки делать, дурак! Блоки! Понял ты?
– Знамо дело, – кивал Тит, но взгляд его был мутный и тупой. После восьмого удара из-под Тита посыпалось, и надзиратель, задыхаясь от смрада, убежал, так и не завершив курс повышения квалификации.
Поскольку никто не выработал норму, вместо обеда каждый получил физический выговор. Первых били камнетесов. Взялись весело, но Тит спас – обвалялся, и распугал экзекуторов смрадом. Те переключились на носильщиков. Налетели, пошли обрабатывать дубинками. Одному в пылу воспитательного процесса сломали шею. Пришел надзиратель с веревкой, к концу которой был привязан металлический крюк. Этим крюком зацепил еще живого каторжника под ребра, и поволок к яме – кормить собачек.
Последними били ударников – тех бедолаг, что кололи монолит на пригодные для транспортировки валуны. Но перед телесным наказанием их выстроили в шеренгу, осмотрели, выдернули троих, самых дохлых и больных, и куда-то увели. Куда – Гриша догадывался. У холопа всего две дороги – или к рабочему месту, или на заслуженный отдых. Тех, что остались, обработали дубинами, и приказали трудиться усерднее.
Морщась от боли в спине, по которой недавно прошлась дубина надзирателя, Гриша взялся за работу. Носильщик притащил ему новый валун, Гриша с ненавистью посмотрел на огромный камень, поплевал на руки и пригорюнился. Рядом работал Тит – тупо долбил очередной камень, превращая его в щебенку. До мужика все никак не могло дойти, что камень нужно не просто уничтожить, но придать ему определенные очертания.
– Что за тормоз! – изумился Гриша, в голосе которого прозвучали и нотки зависти. Тит был дурак, но дурак выдающийся, феноменальный. Если бы за глупость давали награды, Тит бы ходил весь в орденах. А вот сам Гриша являлся серой посредственностью, и никакими талантами похвастать не мог. Делать умел все, и все одинаково плохо. Тит же другое дело. Он был талантливо глуп, а его кишечные газы по убийственной мощи вообще следовало приравнять к автоматическому огнестрельному оружию. Талант на таланте. Все же богата земля русская одаренными людьми.
Тит изо всех сил ударил киянкой по долоту, и развалил свой камень пополам.
– Эка оказия! – изумился он, тупо разглядывая две половинки валуна. Он поднял их, соединил вместе, но как только убрал руки, половинки опять легли отдельно.
– Несите следующий камень, – крикнул Гриша носильщикам. – У Тита работа в руках горит. Разошелся, не остановишь. Он вам за день норму по щебенке перевыполнит.
В этот момент к Грише подсел камнетес с частично вырванной рыжей бородой. Пристроившись рядом, он, стукая киянкой по долоту, спросил у Гриши:
– Сами из далече?
– Да нет, – зевая, ответил Гриша, – можно сказать – местные.
– А из-под какого барина?
– Из-под Орлова.
– Слыхал, – кивнул рыжий. – Люд глаголет – важный барин. Не лютует. К холопам доброту являет.
– Ага, – кивнул Гриша. – Еще какой добрый. По утрам холопов кофе с шоколадом поит, на обед каждому куру-гриль, на ужин гамбургер и баклажка пива. Ночью мужиков с бабами нарочно в одном сарае запирает, и строго наказывает греховными утехами наслаждаться. Работать вовсе не заставляет, наоборот, запретил это дело раз и навсегда. Иной раз и сам бы рад потрудится, ну, ты знаешь, по-нашему, по-холопски, так ведь нельзя. Запрет. Так вот и жили: днем спишь да жрешь, ночью на бабе елозишь.
– Неужто все так? – потрясенно выдохнул наивный каторжник.
– Да, – тоскливо протянул Гриша. – Так вот всю жизнь – ешь да спишь, ешь да спишь. Уже от безделья изнемогаешь, подойдешь, бывало, к барину, да скажешь: отец, сделай милость, разреши землицу перекопать. А он на тебя как посмотрит строго, да как гаркнет: не бывать этому! Ступай обратно, дерзкий. Велено бездельничать, вот и бездельничай.
– Пресвятая мать заступница! – выдохнул рыжебородый. – Да неужто и такое бывает?
– Это что, – пожал плечами Гриша. – Тита, вон того, вонючего, с бородой в говне, барин наш и вовсе братом называл. Поселил в своем доме, личные покои ему выделил. Угощал за столом, руку жал. Мечтал дочь свою, барыню Танечку, красавицу и умницу, за него выдать.
– Как? – ужаснулся рыжий каторжник. – Неужто дочь свою за холопа хотел отдать?
– Хотел? – усмехнулся Гриша. – Не хотел. Мечтал! На коленях Тита упрашивал.
– А он?
– А он уперся. Не хочу, и все тут. Насильно мил не будешь, все дела. Танечка перед ним и так, и сяк. Что ни ночь, она у него в покоях. Придет в потемках, разденется, ходит вокруг кровати, попой виляет, сиськами трясет, дескать, бери меня, пока горячая. А Тит даже не смотрит на нее. То есть, смотреть-то смотрит, но делать ничего не делает.
Каторжник размашисто перекрестился.
– Да разве бывает этакое диво? – пробормотал он.
– Бывает! – уверенно кивнул Гриша. – Ему Танечка даже денег предлагала, за интим. Тысячу рублей обещала дать вперед, еще две опосля.
– За такие деньжищи можно полсотни холопов купить, – простонал слушатель.
– Тит того стоит, – заверил Гриша. – Ты видишь, как он камень долбит. Но все равно не согласился. Даже за деньги. Не мила, говорит, и все тут. Для любимой себя бережет.
– Ночью видел, как он в грех рукоблудия впал, – заметил собеседник.
– Это он для поддержания формы, – пояснил Гриша. – Он, и на Танечку глядя, иногда впадал, но саму ее и близко не подпускал. Высоких моральных устоев человек.
– Почто же вы сбежали, коли такая благодать? – попытался выяснить рыжий каторжник.
– Да какая там благодать, – сплюнул Гриша. – Вот… тебя как звать?
– Игнат.
– Вот, Игнат, сам посуди: все вроде хорошо, все слава богу. И кормят вволю, и работать не надо, и баб чуть ли не силой покрывать заставляют. Про Тита и не заикаюсь, у того прижизненное сошествие в рай. В смысле – вознесение. Но все-таки что-то не то. Вот чего-то не хватает.
– Побоев? – рискнул предположить Игнат.
– Да нет, – отмахнулся Гриша. – Чего-то другого.
– Работы адовой?
– И не работы.
– Голода?
– И не голода.
– Ну, я уж и не знаю, чего вам не хватало, – удивился Игнат.
– Свободы, – подсказал ему Гриша. – Ее-то и не хватало. Так и побежали к свободе, кто от чего: Тит от Танечки, я от достатка и сытости. И не жалеем об этом.
Снизив голос до шепота, Игнат спросил:
– А куда бежали? Не на Дон?
– Точно не знаю. А что там, на Дону?
– Ужель не слыхал?
– Нет, не слыхал. Телевизор в последнее время вообще некогда посмотреть, даже новости по радио послушать не получается. То одно, то другое. То по яйцам с ноги, то дубиной по горбу. Весь в делах. Надо же успеть все тумаки собрать, как бы кто не опередил. Так что там, на Дону? Выкладывай. Если что, мы с Титом туда рванем.
– На Дону воля, – совсем уже тихо поделился информацией Игнат. – Кто до Дона добежал, тот свободный человек.
– И что, обратно барину не воротят?
– С Дона выдачи нет.
Тут подал голос старый тощий камнетес, весь в морщинах и шрамах. Этого почетного труженика карьера звали Николой. На вид ему можно было дать все восемьдесят, потом подумать немного, и накинуть еще десятку. На самом деле ему было тридцать пять. По холопским меркам он считался долгожителем. Так вот, какое-то время Никола прислушивался к беседе, затем не выдержал и прокаркал:
– Все брехня!
Гриша и Игнат обратили взоры на умудренного опытом старца.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Гриша. – Если имеешь конкретные претензии – обоснуй. Если нет, то за гнилой базар можно и ответить. Мы с Игнатом не посмотрим, что ты старый, больной, беззубый и тупой. Будешь выделываться, заставим рядом с Титом спать. В обнимку.
– Дело молвлю, – обиженно прогудел старец. – Нету никакой воли на Дону. Степь там дикая, да отряды охотников за головами, беглых холопов отлавливают. Каких назад за выкуп возвращают, каких в заморские земли продают.
– А как же холопская вольница? – простонал Игнат. – Как же казаки?
– Вот казаки беглых и ловят.
– Но ведь с Дона выдачи нет, – с надеждой повторил Игнат.
– С Дона только в одном случае выдачи нет, – сердито прошамкал Никола беззубым ртом. – Если ты в нем утопишься.
На Игната стало больно смотреть. Похоже, он жил одной только мечтой добежать до Дона, где воля, и откуда нет выдачи. Умом-то, может, и понимал, что никакой Дон ему не светит, что загнется он на этом карьере от голода или побоев, или же погибнет на арене. Но все же жила в душе беспочвенная, ни на чем не основанная надежда, та самая надежда, что живет в каждом сердце вопреки всему и вся. Глупая такая надежда, что вот, дескать, все это, что вокруг, вся эта серость, грязь, все это ничтожное безрадостное существование, все это временно. Это как болезнь, которую нужно просто перетерпеть. Ну а после нее обязательно начнется что-то другое, что-то хорошее и светлое, что-то такое, что не стыдно будет назвать жизнью. Жил Игнат верой в чудесный край, под названием Дон, о котором он, быть может, слышал всего один раз, да и то краем уха, а остальное уже сам себе нафантазировал. Жил, и надеялся на чудо. Вдруг да повернется все так, что окажется он в том краю, и хоть немножко, хоть чуточку, но поживет, как человек. Но тут пришел мерзкий Никола, и погубил его надежду. Горько и обидно стало Игнату, до слез обидно и горько. Покатились соленые слезы по его пыльным щекам, затряслись потрескавшиеся от зноя губы, печальными стали очи мутные. Глядя на все это, Гриша не выдержал, и сказал Николе:
– Фекальная куча, вот ты кто. Просили тебя разве рот открывать? И так уже зубов нет ни одного, а жизнь все равно ничему не научила.
– То правда! – зло огрызнулся Никола, однако видно было, что перетрусил.
– Кому она нужна, правда твоя? Тебе что, за каждую правду пряник обещали? Если бы я всем всегда правду говорил, меня бы еще в детском саду убили. У вас тут народ терпимее, сердечнее. Тебя, правдивого такого, сколько лет терпят.
– Ложь – грех! – каркнул Никола. – Святые старцы так учили.
– Да ты борзый, я смотрю, – начал заводиться Гриша. – Наезжаешь не по-детски. Здоровья много?
– Почто он так сказал? – всхлипывая, спрашивал Игнат у Гриши. – Почто сказал, что нет никакого Дона? Почто врет, ирод?
– Потому что он опух! – ответил Гриша. – Опух самым конкретным образом. Это он специально сказал, чтобы тебе хуже стало. Другим хуже, а ему в кайф. Слышь, Никола, жопа для прокола, ты попутал!
– Уймись! – трусливо чавкал губами Никола. – Уймись, говорю! Христом-богом тебя прошу. Надзирателей покличу.
Гриша в гневе отшвырнул киянку и долото, и поднялся во весь рост, расправляя плечи. Чтобы казаться еще страшнее, чем в паспорте, он широко расставил руки и ноги, втянул голову в плечи и оскалился.
– Напугать меня решил, да? – с вызовом спросил он. – Думаешь, у Гриши очко музыкальное, чуть что – играет?
– Спасите! – каркнул Никола. – Православные, заступитесь! Христом-богом прошу. Смертным боем бьют.
– Еще не бьют, – надвигаясь на него, поправил Гриша. – Только собираются.
Никола неуклюже вскочил на ноги, но Гриша уже был тут как тут. Он надвинулся на мужика, сверля его страшным взглядом, кулаки сжались, предвкушая потеху.
– Зачем Игната огорчил? – зарычал Гриша. – Зачем со своей правдой лез? Самый умный, да?
Тут бы Николе помолчать, и так наболтал достаточно, но не был умен Никола, потому рот раскрыл, и попытался еще что-то промолвить. Гриша не стал слушать очередной наезд на свою нескромную персону. Его кулак взлетел вверх, и угодил обидчику в челюсть.
– Ушибли! – завопил свалившийся на камни Никола. – Живота лишили! Света белого не вижу!
– Да тебе мало! – удивился Гриша. – Еще просишь? На! С ноги – на!
Пинаемый Никола только теперь начал понимать, что зря полез в чужую беседу. Он все кричал, надеясь на чье-нибудь заступничество, но никто не прибежал спасти его от Гриши.
– Порву! – вдруг заорал Гриша, пытаясь, для пущего страха, разорвать на груди рубаху. Мешковина затрещала, но выдержала. – Изувечу! Об колено поломаю! Убью, и над трупом надругаюсь!
Гриша представил, что перед ним не Никола, а Лев Толстой, и бить стало гораздо интереснее. Он наказал его за все.
Камнетесы побросали работу и со страхом наблюдали за дракой. Дракой, впрочем, происходившее назвать было трудно. Это было избиение. Никола не сопротивлялся, даже не пытался закрыться руками. Он развалился на камнях, раскинул руки и ноги, и только громко вскрикивал, когда Гришина нога достигала цели.
– Вот тебе за войну, вот тебе за мир, – сквозь зубы перечислял Гриша все преступления Толстого против человечества. – Вот тебе за Аньку Корявую! Вот тебе за все остальное! Не все же тебе над детьми издеваться, старый козел! Делать тебе, что ли, было нечего – сидел, писал. Лучше бы ты водку пил, все вреда меньше. На тебе! На! Я еще узнаю, где Пушкин прописан, я и к нему зайду. Твой, поди, кореш? Вместе всякие гадости сочиняли? За всех школьников России отомщу!
Едва вспомнив список книг, заданный читать на лето, Гриша понял, что Никола не выживет. Он уже отыскивал взглядом камень потяжелее, чтобы добавить дополнительный вес своим аргументам, но тут откуда-то сверху прозвучал властный голос:
– Хватит!
Гриша прекратил избивать Николу и задрал голову. Наверху стояли три надзирателя, и, похоже, стояли там уже давно. Тяжело дыша, Гриша развел руками и попытался объяснить свои действия:
– Он на бога хулу возводил. К смутьянству склонял. Не стерпела душа православная, покарал нехристя.
– То ложь! – хрипло закричал с камней избитый Никола. – Разве мог я, православный, супротив бога слово молвить? Разве мог к смутьянству склонять? Бог все видит, бог правду видит. Невинно пострадал, муку принял от обидчика лютого.
– Врет, и не краснеет! – уверенно заявил Гриша. – Только что призывал бунт поднять, всех господ косами порезать, соблазнял вином хмельным и девками румяными.
– Не было, не было такого! – задохнулся от возмущения Никола. – Вот вам крест животворящий! Да я ж….
– Эй, как тебя звать? – обратился к Грише один из надзирателей.
– Гришка.
– Вот что, Гришка. Ну-ка пробей этому смутьяну с ноги по ребрам.
Гриша с величайшей охотой исполнил приказ – пробил мощно и красиво, так что у Николы надолго отпала охота толкать речи в свою защиту.
– Неплохо, – кивнул надзиратель.
– Ловок, быстр, двигается умело, – поддержал второй. – Чуть натаскать да подкормить, знатный будет боец. Давно уж надобно кровь на арене освежить, а то все какие-то доходяги попадаются. Тарасу с Макаром скучно.
– Эй, Гришка, – крикнул ему первый, надзиратель, что просил пробить Николе по ребрам. – Кончай работу работать. Будешь на арене выступать. Возьми себе одного холопа для тренировок, и иди к воротам.
Обрадованный Гриша схватил за бороду Тита и потащил его к выходу из карьера. Надзиратель, тем временем, обратился к Николе:
– Что, горемыка, отжил свое? Хорош ты был, Никола, верой и правдой трудился. Да видно срок твой подошел. Ползи тоже к воротам. Пойдешь нынче в яму.
– Отцы! Благодетели! – рыдая, закричал Никола. – Почто в яму? Я еще потружусь! Я здоров, крепок.
– Никола, хватит капризничать. Сказали – в яму, значит – в яму. Прежде-то ты да, хорошо трудился. А нынче уже не добытчик. Токмо место занимаешь. Молодым пора дорогу давать. Сегодня пятерых привезли, все юные, крепкие, работящие. Так и рвутся к работе. А тебе на заслуженный отдых пора. Ты уже здесь третий месяц, и все никак не сдохнешь. Так ты еще весь срок отбудешь, выпускать, чего доброго, придется. Ползи к выходу, болезный. Собачкам тоже кушать надо.
– Хоть живого к ним не бросайте! – взмолился Никола. – Добейте сперва.
– Рады бы, Никола. Хороший ты парень. Но и собачек жалко. Больно, шалуны, живое мясо любят, чтобы дрыгалось, орало. Тебе-то все одно, а им приятно. Ползи, ползи, православный, не капризничай. Животных надобно любить.
Глава 37
Над каждым гладиатором брал шефство один из надзирателей. Он подкармливал его, подыскивал противников, он же зарабатывал деньги в случае победы своего подопечного, или терпел убыток в случае поражения. Гришиным шефом оказался Борис, надзиратель молодой, но уже опытный. В самом начале своей карьеры он служил в имении, затем четыре года охранял лагерь для военнопленных папуасов. Эти папуасы сидели в плену уже второй десяток лет, со времен победоносной войны Российской Империи против Папуа Новой Гвинеи. Точнее, война велась не против всего острова, а против одного племени – Макуно.
Племя Макуно терроризировало своих соседей, племя Македо. Миролюбивые Македо платили дань воинственным Макуно, те, время от времени, приходили к ним в гости, били мужиков, имели баб, отбирали еду. Такой порядок вещей сохранялся уже тысячу лет, но однажды о нем узнал император всея Руси. Императора, помазанника божьего, наместника господа на земле, так возмутила эта история, что он, не раздумывая, приказал отправить на помощь Македо весь военный флот империи, и принудить Макуно к миру.
Могучий флот Российской Империи, состоящий из одного, купленного во Франции, дизельного крейсера, трех, работающих на угле, броненосцев отечественной сборки начала прошлого века, и ста восьмидесяти двух весельных галер, выдвинулся по указанному адресу. На французской иномарке плыли адмиралы с женами, детьми, прислугой и домашними животными, на броненосцах офицеры рангом ниже, а на галерах шли рядовые морские пехотинцы и везли разобранную церковь, которую планировали возвести на чужбине, дабы утвердить православную веру среди темных язычников.
На всем протяжении пути имперский флот подвергался провокациям со стороны кораблей заморских стран. А однажды американский фрегат подошел так близко к броненосцу «Святитель Еремей», что команда даже прикатила из трюма чугунное ядро для пушки, однако капитан не позволил разжечь международный конфликт применением ядерного оружия.
Дальний поход продолжался полгода, за это время флот понес существенные потери – двадцать восемь галер утонуло вместе с личным составом, один из броненосцев был захвачен пиратами и сдан на металлолом в первом же порту. Но, все же, понеся потери и преодолев немало трудностей, героический имперский флот достиг цели.
Не успели бросить якорь, как тут же начались кровопролитные подвиги. При высадке десанта двести человек утонули и были затоптаны, но все же православному воинству удалось занять берег и там закрепиться. Пока часть личного состава перетаскивала на берег самострельные пищали, ядра и бочки с порохом, два полка вошли в джунгли и тут же вступили в жестокую схватку с превосходящими силами противника. Бой в лесу продолжался два дня. Потеряв восемьдесят человек, солдаты вернулись обратно, доложили, что оттеснили противника вглубь острова, а так же привели трех военнопленных. При допросе пленных выяснилось, что все трое являются обезьянами породы шимпанзе. Решением военного трибунала всех троих приговорили к смертной казни, и поутру расстреляли. Поскольку на расстрел израсходовали последние патроны, сражаться стало нечем. Командующий группировкой приказал раздать солдатам весла, а кому не хватило, те выломали себе палки.
Компания по принуждению Макуно к миру продлилась два месяца. За это время имперские войска успели возвести на берегу церковь, которую смыло первым же приливом, потерять в боях пять тысяч человек, от болезней десять тысяч, дезертирами двадцать тысяч. Были взяты в плен тридцать Макуно (из них, как позже выяснилось, восемнадцать являлись обезьянами, а двенадцать холопами, одичавшими в лесу), и их на крейсере отправили в Российскую Империю, как трофеи. Остальные суда уже не могли выдержать обратный путь, поэтому командование телеграфировало приказ основать на захваченной земле колонию, и назвать ее папуасской губернией.
Через год связь с колонией прервалась, а с враждебного запада стала поступать информация о том, что в папуасской губернии одичавшие холопы бегают голые по лесу, бросаются на животных и людей, и что нужно срочно спасать племена Макуно и Македо от истребления. На помощь соотечественникам император отправил стотысячную армию, на этот раз пешком. Армия была прекрасно вооружена (кремневое ружье имел каждый десятый боец, а не каждый сотый, как это обычно практиковалось), и оснащена (одни лапти выдавались на пятерых, а не на взвод). Но в донских степях армия была атакована казаками, живущими отловом рабов с последующей продажей их в Турцию. Через месяц из донских степей вышли сто двадцать три солдата и восемь офицеров, остальных отловили и продали. Всех героев тут же представили к государственным наградам, провели в их честь парад, даже стали собирать деньги на памятник. На этом фоне все поспешили забыть о папуасской губернии. Что же касается доставленных в империю военнопленных, то их поместили в особый лагерь, и стали содержать там, в надежде на выгодный обмен. Вот этих-то военнопленных и охранял четыре года Борис, пока не перевелся на карьер.
Борис оказался парнем веселым. Он тепло встретил за воротами Гришу и Тита, внимательно осмотрел будущего гладиатора, и попросил того, в качестве демонстрации, ударить мальчика для битья. Грише и самому давно хотелось причинить вонючке боль, умолять не пришлось. Так залепил Титу кулаком в ухо, что мужик рухнул на спину, и ножки задрал.
– Неплохо, – уважительно произнес Борис. – Далеко пойдешь.
В этот момент мимо них два надзирателя протащили за ноги Николу. Тот хрипло кричал, что он еще полон сил и энергии, что на нем пахать можно, и не только можно, но и нужно. Обещал поставить рекорд по изготовлению каменных блоков, клялся, что явит неслыханное трудолюбие.
– Давно уж он себя пережил, – заметил Борис, провожая орущего Николу взглядом. – Другой бы уже три раза околел от голода, а этот, хитрый, сопли ел. На соплях и продержался.
– Слышал, как народ выкручивается в тяжкую годину, – сказал Гриша Титу. – А ты свой кефир каждый вечер на землю выплескиваешь, когда о Танечке думаешь. Нет бы, собирал в ладошку, да в рот. В твоем рту чего только не было, хуже ему не сделается. Все ж какие-то, да витамины.
– Поглодать бы портянку сочную, – мечтательно протянул Тит. – Шибко поснедать жаждется. Мочи нет.
– Можно его еще раз стукнуть? – спросил Гриша у Бориса.
– Стукни.
– На!!!
– Ого! Хороший удар. А если его сковородкой или скалкой усилить, можно сразу насмерть. Ладно, идем на тренировочную площадку. Отдохнешь там, травой перекусишь. Вечером бой. Копи силы. Нужно выиграть. Проигравший, потому что, в яму идет.
Борис отвел Гришу на площадку для тренировок. Та была пуста – гладиаторов увезли косить сено для коров.
– Сиди тут, – сказал Борис. – Можешь вонючего побить, но лучше отдохни. Вечером драться.
– Отдохну, это надо, – согласился Гриша. – Да и Тита бить противно. Все равно, что разбежаться, да коровью лепешку пнуть.
Борис ушел, Гриша покосился на возвышающуюся рядом вышку, на которой маячил часовой с винтовкой, и уронил зад на землю.
– Присаживайся, коллега, – предложил он Титу. – И помни мою доброту. Если бы не я, ты бы так и горбатился на карьере.
Тит стащил штаны, вывернул их наизнанку, и стал травой соскребать фекалии.
– Липкое, яко клейстер, – пожаловался он. – Прежде, под барином живя, жиденько оправлялся, само по ляжкам стекало. Нынче и травой не ототрешь. Ох, все у барина лучше. Почто сбежали?
Гриша отогнал Тита подальше, дабы не благоухал, растянулся на земле и задумался. Предстоящий поединок заботил его меньше всего. Драться Грише приходилось, не насмерть, конечно, но всякое бывало. Марать руки кровью не слишком тянуло, но и выбора не было. Либо он завалит своего противника, либо тот его. В этом соревновании у дружбы нет ни единого шанса на победу.
– Это все равно, что самооборона, – вслух рассудил Гриша. – Да и холопы эти, они ведь не совсем люди….
Хотя Гриша и не разделял мнения господ о том, что холопы являются недоразвитой формой жизни, стоящей ближе к обезьянам, чем к людям, он, тем не менее, не считал их полноценными людьми. Например, когда он, в прошлой жизни, бил свою бывшую подругу Машку, ему после этого всегда становилось стыдно. То есть, не то, чтобы стыдно, просто как-то некомфортно на душе. Тогда он устраивал подруге повторную взбучку, требуя, чтобы она перестала дуться, и все ему простила. А вот когда он бил крепостных, то не испытывал ничего, кроме радости. Отсюда Гриша сделал вывод, что раз его совесть, инстанция в высшей степени компетентная, не признает в холопах людей, то и ему волноваться не стоит. Подумаешь, придется грохнуть какого-нибудь кастрированного доходягу, умом недалеко ушедшего от макаки. Это, в лучшем случае, жестокое обращение с животными, то есть преступление несерьезное, и даже вовсе не преступление. Гриша, например, любил обижать животных, и не видел в этом ничего предосудительного. Он считал, что собаки для того и живут на свете, чтобы было в кого кидаться камнями, потому что кроме этого от них все равно никакой пользы, один только вред. Голубь тоже птица бесполезная, и если не стрелять в нее из рогатки с балкона, то зачем она такая нужна? К котам Гриша относился с больше симпатией, даже никогда не пинал ногами беременных кошек, но и этим зверям доставалось на орехи от венца творения. Например, Гриша любил гнаться за котом: бежал, орал, размахивал руками, угрожал. Знал, что не догонит, но такой адреналин, такой азарт, инстинкт охотника просыпается. Ну а если можно бить собак, голубей и кошек, почему нельзя холопа? Можно и убить. Холопу так даже лучше будет, потому что жизнь у него хреновая, а смерть, чаще всего, мучительная.
Приподняв голову, Гриша нащупал взглядом Тита. Тот сидел на краю тренировочной площадки и самозабвенно тужился, выпучив глаза.
– Не идет, окаянное! – сквозь зубы выплюнул он. – Слиплось, али заржавело? Справить бы палку, сунуть, поболтать маленько. Авось опосля посыплется?
– Интересно, сколько денег на психолога уйдет? – вслух задумался Гриша. – А к психологу походить придется. После всего этого обязательно нужно полечиться.
– О-о!!! – вдруг выдохнул Тит. – Ох, пресвятые угодники. Едва не разворотило. Не барские харчи, что уж там. С барских жиденько лилось, важно.
Гриша прикрыл глаза, намереваясь вздремнуть. Днем о побеге нечего было и думать, а до ночи еще следует дожить. И пережить ее тоже следует, даже если для этого придется пустить в расход холопа-другого.
Бои на арене начинались с заходом солнца. Из господ, то есть из людей, рожденных свободными, на карьере были трое – начальник, главный, он же единственный, инженер, и ветеринар. Но начальник на объекте показывался лишь по понедельникам, да и то не по всем, ветеринар был конченым алкоголиком, а инженер вообще мало интересовался рабочим процессом, и почти не казал носа из своего коттеджа. Раз в неделю из города к нему приезжал какой-то подозрительный тип с ридикюлем, и что-то, очевидно, привозил, потому что, покидая коттедж инженера, он всегда останавливался у крыльца и тщательно пересчитывал деньги. Поначалу надзиратели голову сломали над этой загадкой, но однажды все вскрылось. Свет на таинственное поведение инженера был пролит в тот день, когда он вдруг выбежал из своего домика голый, стал носиться по поселку, махать руками, как птица крыльями, и громко каркать. Инженера поймали и свели к ветеринару, а так же, пользуясь удобным случаем, осмотрели его коттедж. По обнаруженным там уликам стало ясно, что инженер является наркоманом, а тип, который появлялся раз в неделю, привозил ему новые партии жизненно необходимой отравы. Шум из-за этого поднимать не стали, напротив, надзиратели были очень рады. При таком раскладе они являлись полноправными хозяевами на карьере. Начальник всегда отсутствовал, инженер лежал в своем домике в состоянии тяжелого наркотического опьянения, ветеринар напивался с самого утра, спал до вечера, вечером опять напивался, и спал до утра. То есть, фактически, карьером руководил старшина – главный надзиратель.
Тут надо заметить, что хотя в сравнении с холопами надзиратели и казались свободными людьми, таковыми они отнюдь не являлись. Надзиратели ведь тоже происходили из холопского сословия, а один из параграфов холопского кредо недвусмысленно гласил: кто холопом родился, тот холопом помрет. Надзиратель, точно так же, как и холоп, являлся собственностью барина, и тот волен был поступать с ним так, как заблагорассудится. Надзиратель не имел гражданских прав и не пользовался свободой передвижения. Если он хотел покинуть имение и стать «ограниченным в правах лицом», надзиратель заключал с барином договор. Барин выписывал ему временный паспорт, а надзиратель подписывал долговую расписку. В расписке указывалась сумма, которую он был должен заплатить барину за свою персону, а так же сроки выплаты. После погашения долга надзиратель обретал свободу без права наследования и с ограничениями в правах. То есть, все его будущие дети являлись собственностью барина, каких бы высот ни добился вольный надзиратель. Впрочем, ни о каких высотах речи не шло, потому что существовал определенный, вполне конкретный потолок, выше которого ограниченное в правах лицо не могло прыгнуть в принципе. Надзиратель мог служить в армии, но какие бы подвиги он ни совершил, ему никогда бы не удалось стать офицером. Надзиратель мог поступить на государственную службу, но никакой карьерный рост ему не светил, и он мог всю жизнь пробегать курьером. Надзиратель так же не мог владеть землей и недвижимостью, а все, скопленные им деньги, после смерти отходили частично барину – его хозяину, частично государству. Из-за этого вольные надзиратели не занимались накоплением капитала на черный день, и спускали все заработанное сразу же. Спускали на спиртное и женщин. Но поскольку в публичные дома для господ надзирателям вход был заказан, они пользовались услугами проституток низшего сорта, из числа отбракованных, то есть больных, увечных или просто старых. Зато спиртное продавалось свободно, а под него любая потасканная и страхолюдная жрица любви шла легко и приятно.
Что странно, при всей своей жестокости и при своих навыках, почти не было случаев, чтобы надзиратели нарушали закон в отношении господ. Слово свободного человека для них было законом, они повиновались ему так же охотно, как и холопы. Бывали холопские бунты, редко, но бывали, но ни разу не случалось, чтобы какой-то дебош устроили надзиратели. Гриша, впрочем, не видел в этом ничего странного. Жизнь надзирателей была проста и легка. На них не лежало никакой ответственности, вся работа заключалась в том, чтобы чесать кулаки о холопские тела, за это им позволялось пить спиртное и щупать баб. Если бы Грише предложили придумать работу своей мечты, он бы выбрал что-то в этом же роде. К тому же они были избавлены от необходимости думать о будущем, заботится о благополучии потомства, которое иногда получалось при контактах с проститутками. Дети надзирателей были холопами, они были чьей-то собственностью, так что их судьбой даже не интересовались. Из этих детишек, как правило, тоже получались надзиратели.
До самого вечера Гриша сладко проспал, так что когда за ним явился Борис, он выглядел отдохнувшим и посвежевшим. Для полного счастья не хватало только порции калорий, но кормежку еще следовало заработать. К счастью, работенка предстояла непыльная – отправить на заслуженный отдых какого-то холопа-каторжника. Могло быть и хуже. К примеру, заставили бы грузить мешки с цементом. Ничто так не убивало в Гришиной душе веру в чудо, как тяжелый физический труд.
Вокруг арены уже собрались надзиратели, закусывали, выпивали, спорили и делали ставки на предстоящий бой. Здесь же Гриша увидел своего соперника – холопа с тупым отрешенным взглядом. Судя по глупому выражению лица и растерянному виду, мужик не понимал, где находится и что от него хотят. Это, впрочем, было типично для крепостных, которых с рождения били по головам тяжелыми тупыми предметами.
Дальше состоялась жеребьевка, в ходе которой гладиаторы вслепую выбирали, в каких доспехах и каким оружием будут биться. Гриша вытянул первый жребий – выбрал себе доспехи. Ему выпала честь биться нагишом, со старым ведром на голове. В ведре имелась большая дыра для обзора. Гриша уже было решил, что ему не повезло, но когда жребий вытянул его противник, он перестал так считать. Сопернику предстояло биться в старом и грязном женском бальном платье с корсетом. Приободрившись, Гриша вытащил жребий на оружие, и опять почувствовал, что фортуна отвернулась от него. Ему выпал деревянный член длиной двадцать пять дюймов и крышка от бочки, к которой была прибита дверная ручка. Сопернику достались две чугунные сковородки довольно грозного вида. Гриша прекрасно знал, что сковородка это сила. В далеком детстве любящая бабушка однажды отоварила его сковородой, и хотя удар пришелся по спине, Гриша за добавкой не вернулся. Если бы не ведро на голове, все было бы не так плохо, но в этом шлеме Гриша почти ничего не видел, поскольку прорезь для глаз оказалась слишком низко, и приходилось все время задирать голову.
В одну руку ему сунули крышку от бочки – типа щит, в другую деревянный член. Тот оказался удивительно тяжелым. Как выяснилось, в головке было просверлено довольно глубокое отверстие, а в него залит свинец. Это ощутимо добавляло веса данной аргументации.
Под дружный хохот надзирателей Гришу пинком спихнули в яму, куда он неуклюже грохнулся, произведя своим ведром довольно забавный звук. Следом на арену вышел его соперник, притом тем же манером – получив ногой под зад.
Гриша поднялся на ноги, глядя на своего врага, запутавшегося в полах платья. На голову бедняге напялили засаленный кокошник, отчего он стал напоминать какого-то старославянского трансвестита. Бальное платье и густая грязная борода невольно рождали смех. Но Гриша не смеялся. Он представлял себе, как выглядит сам – с ведром на голове и с огромным деревянным членом в руках.
– Начали! – заорал сверху старший надзиратель. – Победителю краюху черствого хлеба. А проигравший сам на корм пойдет.
Гриша первым делом прикрыл щитом самое дорогое, что у него было – попади туда враг сковородкой, и жизнь в одночасье потеряет всякий смысл. Занеся член для удара, Гриша стал медленно наступать на противника, а тот застыл, как баран, и ничего не предпринимал. Руки его были опущены, сковороды он едва не ронял. Кокошник от падения сдвинулся на девяносто градусов, и стал напоминать прическу ирокеза. Мужик смотрел вокруг себя потерянным взглядом, и явно не понимал, что происходит и зачем он здесь. И даже когда Гриша приблизился настолько, что уже мог нанести удар, противник и не подумал закрыться своими сковородками.
Грише стало тошно. Ему бы радоваться легкой победе, а тут рука не поднимается стукнуть этого беззащитного дурака. Но обратного пути не было, потому что сверху уже звучали угрозы отправить к псам на корм обоих участников, если те не начнет потеху.
Издав боевой клич, Гриша взмахнул членом, и ударим им противника по голове. Ударил в половину силы – рука, в самом деле, не поднималась. Но и в половину силы вышло неслабо.
Кокошник слетел с головы гладиатора, сам он закричал, выронил свои сковородки и упал на колени. Сверху кто-то гневно рявкнул:
– Кто этого идиота выбрал? Ему не на арену, а в яму прямая дорога.
Тощий бородатый заморыш стоял на коленях и молился богу, поскольку это была единственная доступная ему форма протеста против прекрасной и величественной действительности. Глаза его ничего перед собой не видели, взгляд был устремлен куда-то сквозь все бренное и земное. Гриша, понукаемый толпой, размахнулся, и изо всех сил ударил бедолагу членом по лбу. Послышался жуткий треск, деревянный член при столкновении с головой крепостного, переломился надвое. Голова выдержала. Как и у Тита, она, похоже, на девяносто восемь процентов состояла из сплошной кости.
Отбросив сломанный член, Гриша размахнулся и ударил противника по голове щитом. Щит разлетелся вдребезги, а холоп даже не прервал своей молитвы. Тогда Гриша подхватил с земли одну из сковородок, отошел на четыре метра, разбежался, и нанес страшный удар в висок. От удара чугунная сковорода деформировалась и сморщилась, но зато непрошибаемый враг наконец-то дрогнул, и повалился на песок арены. Кровь сочилась из его глаз, ушей, носа и рта. Он попытался подняться, но голова его словно прилипла к земле. Пальцы глубоко погрузились в песок и судорожно сжались, ноги медленно, как в страшном сне, двигались, словно продолжая куда-то идти независимо от умирающего мозга. Гриша подхватил вторую сковородку, подпрыгнул, и нанес добивающий удар сверху вниз. На этот раз сковорода пробила череп, и на Гришу брызнули капли розового желе – как выяснилось, мозги у холопа все же имелись. Победителю стало дурно, он стащил с головы шлем и наблевал прямо в него. Сверху неслись реплики, полные разочарования. Впрочем, причиной разочарования был не Гриша, а его противник, поведший себя совершенно неспортивным образом. Гриша же, напротив, все сделал правильно, и честно заслужил свою награду.
Когда его вытащили из ямы и окатили водой, чтобы смыть кровь и мозги, Гриша получил кусок черствого хлеба с зелеными пятнами. Несмотря на дикий голод, аппетита не было, так что Гриша повременил с трапезой.
В этот момент к нему подошел его главный тренер, куратор и хозяин – надзиратель Борис.
– Молодец! – похвалил он Гришу. – Вижу, ты парень толковый. В следующий раз я тебе нормального противника найду, обещаю. Мы еще с тобой всех по миру пустим. Сегодня заработок невелик, в другой раз будет больше. А там, глядишь, поставят против Тараса. Правда, тот зверь сущий, так что торопиться пока не будем. Поглядим, как ты с другими справишься.
Признанный перспективным бойцом, Гриша тут же получил ряд привилегий. Он был освобожден от работ на карьере, получил возможность проводить все свое время в тренировках, и даже обрел личного спарринг-партнера. Этим партнером, по просьбе Гриши, оказался Тит.
Следующее утро они уже встретили не на своем рабочем месте, возле огромных каменных валунов, а за пределами периметра, на площадке, предназначенной для тренировок гладиаторов. Когда их привели туда, Гриша обрадовался, и решил, что уже сегодня можно идти в побег, но тут он заметил деревянную вышку, а на ней автоматчика. Два бегущих по чистому полю человека – такой замечательный повод поупражняться в стрельбе. А в том, что надзиратели стреляют отменно, Гриша уже убедился: один из них, на его глазах, ссадил из револьвера пролетавшего мимо голубя. Надеяться на чудо при таких обстоятельствах было бы чистым самоубийством, так что побег он отложил до лучших времен. Вместо этого пришлось тренироваться, готовя себя к будущим схваткам.
Вместе с ним на площадке тренировались еще два гладиатора – Макар Лютый и чемпион арены Тарас. Макар полностью оправдывал свое прозвище даже внешним видом – это был невысокий поджарый мужик с частично выдранной кем-то бородой, весь в шрамах, одноглазый и почти беззубый. Свою боксерскую грушу, юного тощего каторжника, почти мальчишку, он, не щадя, лупил цепом в виде двух деревянных шаров, обклеенных клоками шерсти. Гриша, глядя на цеп, понял, что он, вероятно, шел по одной тематической линии с его огромным деревянным членом, которая представляла бы собой полный комплект вооружения генитального воителя.
Что касается Тараса, то это оказался настоящий мясник. Даже во время тренировки он набрасывался на своих партнеров со звериной яростью. Излюбленным оружием Тараса были вилы, и, надо признать, он умел с ними обращаться. Когда каторжники за ноги потащили с тренировочной площадки пятого по счету спарринг-партнера этого маньяка, окровавленного, пробитого вилами во многих местах, Гриша сильно усомнился, что ему стоит задерживаться на руднике до финальной схватки с чемпионом.
Что касается его самого, то он в отношении Тита проявлял завидный гуманизм. Изо всех сил Гриша бил Тита только по тем частям его тела, которые не выполняли никакой жизненно-важной функции – по заднице, и по голове. Тит даже не пытался сопротивляться или хотя бы блокировать удары, хотя Гриша честно вооружил его деревянным фаллосом. При каждом попадании, Тит поминал господа, деву Марию, плотника Иосифа, еще ряд еврейских имен, а так же многих новоявленных страстотерпцев и особо авторитетных святых старцев. А когда Гриша провел колющий удар в область паха, Тит, охая, и приседая на пятках, всуе озвучил всех небесных ангелов оптом.
– Тит, из тебя соперник, как из тебя же пуля, – проворчал Гриша, наблюдая за тем, как злобный Тарас выдергивает вилы из брюха очередного учебного пособия. – Гляди, с какими крутыми перцами мне предстоит биться. Смерти моей хочешь?
– Уд зело болит, – пожалился Тит, продолжая приседать и охать.
– Ничего страшного. Поболит-поболит, почернеет и отвалится. Я бы сказал – до свадьбы заживет, но в твоем случае лучше рубить чистую правду, потому что свадьба тебе все равно не светит. Разве что с забором согрешишь или со скворечником. Все, хватит притворяться. Я же знаю, что тебе не больно.
Едва Тит, превозмогая боль, разогнулся, как Гриша провел еще более мощный удар в то же место.
– Ох! Ох! Святые заступники! – закудахтал Тит, падая на землю. – Ох, света белого не вижу!
– Да ладно! – не поверил Гриша. – Я ведь легонько. Почти не коснулся. Ну, ты и неженка, Тит. Вставай, а то люди подумают, что я тебя действительно бью.
– Ох, святой старец Маврикий! Страстотерпец Потап!
– Ты всех своих друзей перечислил? Нечего меня ими пугать. Я тоже могу несколько имен назвать, да таких, что тебе страшно станет. У меня тоже есть крутые кореша. Еще неизвестно, чья бригада круче.
Тит кое-как воздвиг себя на ноги, Гриша, только того и ждавший, нанес третий удар в проверенную область.
– Господь вседержитель! – истошно, на весь карьер, заорал Тит. – Пресвятая Агафья! Ум мешается! Запамятовал молитву от хвори телесной.
– У кошки боли, у собачки боли, – подсказал Гриша. – У Тита боли-боли, почерней, загноись и отвались. Тит, кончай притворяться, на нас уже люди смотрят. Хочешь, чтобы обо мне слухи пошли? Будь ты мужиком! Подумаешь, его ткнули легонько, а он уже по земле катается и плачет. Как девчонка. То есть еще хуже, потому что девчонок еще как тыкают, и ничего, живые, многим даже нравится. Почти всем, кроме Ярославны. Вот же неприступная баба! Не дай бог с такой на необитаемом острове оказаться.
Гриша до самого вечера тренировался на Тите, отрабатывая подлый колющий удар. Вечером всем бойцам выдали ужин – каждому по горсти картофельной кожуры и разрешили попить воды из лужи. Водой Гриша с Титом поделился, а вот картофельную кожуру зажал. Вместо этого разрешил Титу сорвать пучок сухой травы возле уборной и тем утолить голод.
Ночью состоялся очередной бой. Гриша побаивался, что его поставят с Тарасом или Лютым Макаром, но, на счастье, выпало драться с очередным новичком. Новичок оказался еще тупее Тита, и когда Гриша сказал ему, что видит на небе лик преподобного Никодима, наивный дурень плюхнулся на колени и пошел отбивать поклоны. Грише осталось только подойти к нему и разбить голову деревянным членом.
Увенчанный лаврами победителя, Гриша получил приз – кусок черствого хлеба с легким налетом зеленой плесени, придающим приевшемуся блюду экзотическую пикантность. Плесень Гриша аккуратно соскреб ногтем и отдал ее Титу – известному гурману. Хлеб, рискуя переломать зубы, потребил сам. Гриша решил питаться всем, что только дают, потому что для побега требовались силы. Титу тоже предстоял побег, но эта тупиковая ветвь развития бабуина могла успешно кормиться дикорастущими травами и собственными соплями.
Следующий день, как и предыдущий, был посвящен активным тренировкам на свежем воздухе. Гриша лениво бил Тита дубовым членом, когда к нему подошел его покровитель из надзирателей.
– Радуйся, – сказал он Грише. – Сегодня у тебя бой с Макаром. Победишь, получишь в награду миску прокисших щей.
– Всю жизнь об этом мечтал, – кисло ответил Гриша.
Радоваться поводов не было. Он видел Макара в деле, и знал, что тот недаром носит прозвище Лютый. Если Тарас был суровый профессиональный убийца, убивающий так же бездумно и хладнокровно, как в прошлой жизни обрабатывал барские поля, то Макар на арене превращался в настоящего берсеркера, притом без всяких мухоморов. Гриша видел бой с его участием, и у него кровь застыла в жилах от одного только крика Макара. Он орал так громко и страшно, что его противники роняли от ужаса оружие и падали на колени. Если Тарас ограничивался тем, что просто и быстро убивал своих жертв, то Макар их терзал. Он ломал им руки и ноги, иногда грыз зубами, вырывая клоки окровавленного мяса из еще живого тела. Из бесед надзирателей Гриша узнал, что в одном из боев Макар отгрыз сопернику мошонку. Это был настоящий садист милостью божьей, вдвойне страшный своей темнотой и тупостью. Перед каждым боем, прежде чем начать рвать живого человека на куски, Макар набожно крестился и читал молитву. Эта набожность, и то, что следовало затем, так не вязались друг с другом, что добавляли облику Макара еще больше зловещих тонов. К тому же Макар был единственным, кто выжил после боя с Тарасом, хотя и лишился в том бою глаза, половины бороды и покрылся жуткими шрамами. Обычно проигравших гладиаторов бросали в яму к псам, но Макара пощадили, оценив ту ярость, с какой он вновь и вновь бросался на более сильного и опытного противника. С той поры Макар набрался сил и опыта, отъелся, окреп, и теперь уже трудно было сказать, кто победит в схватке, он или Тарас. Надзиратели постоянно спорили об этом, но чемпиона с первым претендентом на этот титул не стравливали – не хотели лишаться одного из них.
Еще раз поздравив Гришу, надзиратель удалился. Проводив его безрадостным взглядом, Гриша повернулся к Титу, и, чтобы выместить злость на безответном существе, изо всех сил ударил его по лбу членом.
– Везет как утопленнику, – проворчал он. – Да этот Макар полнейший маньяк.
Сказав это, он посмотрел на Макара, что неподалеку лупил сковородкой какого-то каторжника. Удары были страшные, спарринг-партнер был на том свете уже больше чем одной ногой, а Макар, знай себе, бил, да еще и улыбался при этом какой-то жуткой доброй улыбкой, будто кошку гладил, а не человека убивал.
Вечером надзиратель Борис повел Гришу на арену. Их с Макаром поединок должен был стать гвоздем программы. Несколько незначительных боев с участием новичков уже прошли, из ямы с псами слышалось радостное рычание – животным вдоволь досталось мяса.
– Макар этот хуже зверя лесного, – инструктировал Гришу Борис. – Когда орать начинает, у иных надзирателей ноги подкашиваются. Но ты не бойся. Пускай себе орет. Ты лучше помни, что у тебя два глаза, а у него один.
– Имеющие очи да не видят, – процитировал бредущий за Гришей оруженосец Тит.
Борис неодобрительно покосился на зловонного холопа, но промолчал.
– У циклопа тоже один глаз был, а людей жрал будь здоров, – заметил Гриша мрачно.
– У кого? – переспросил Борис.
– Да так, жил у нас в имении один, – отбрехался Гриша, про себя отметив, что надзиратели своей эрудированностью недалеко ушли от холопов. Несмотря на то, что надзирателям дозволялось учить грамоту, и даже имелись специальные курсы, стоившие довольно дешево, немногие из них могли написать даже свое имя, и лишь очень немногие могли написать его без ошибок. Более того, надзирателям, работавшим на государственных объектах особого режима, таких, как каменоломня, полагалось знать грамоту. Их даже направляли на специальные курсы, после которых они, сдав экзамен, получали диплом надзирателя третьего класса, открывающий многочисленные возможности. Но обучение было чисто формальным (надзиратели спали на партах под сладкий голос учителя, записанный на пленку), а экзамен заключался в накрытии поляны для чиновника, выдававшего дипломы. Если же надзиратель хотел повысить свою квалификацию, он писал соответствующее заявление и направлялся на более продвинутые курсы. Там было уже четыре предмета: грамота, закон божий, основы великой православной культуры и методика наказания холопов, то есть техника пыток. Обучение здесь так же проходило в состоянии сна, зато экзамены были куда сложнее, то есть дороже. Поляну приходилось накрывать не для одного, а для трех чиновников, и не просто поляну, а шикарную поляну с тремя проститутками не дешевле рубля каждая.
Если же надзиратель хотел достичь вершины своей квалификации, то есть получить звание «надзиратель первого класса», которое позволяло ему работать на ответственных руководящих должностях, например заместителем начальника карьера по воспитательной работе, он отправлялся в высшую школу надзирателей. Там было уже шесть сложных предметов: грамота, арифметика, научное православие, углубленное изучение методов телесного воздействия на холопов, оральный курс (выработка командного голоса) и заучивание табеля о рангах. Табель о рангах являлся перечнем всех чиновничьих должностей в Российской Империи. На уроках преподаватели объясняли студентам, какой размер минимальной взятки соответствует той или иной должности, дабы впоследствии те не попали впросак, совершив подношение не по чину. При этом строго возбранялось не только оскорблять чиновника высокого ранга незначительной взяткой, но и, напротив, мелкого чиновника баловать несоразмерно крупным подношением. Имелась соответствующая таблица, где напротив каждого чиновничьего звания стояла сумма, и эту таблицу следовало выучить наизусть, на всю оставшуюся жизнь. Называлась она таблицей умножения, ибо, только строго следуя ее предписаниям, человек мог славно ладить с государевыми людьми и умножить, тем самым, свое благосостояние.
Экзамены в высшей школе являлись верхом сложности, и человеку со скудными средствами были не по зубам. Приемную комиссию, состоящую из пяти уважаемых чиновников, надлежало, не больше и не меньше, ввергнуть в рай. Поляна накрывалась не где-нибудь, а обязательно в березовой роще с соловьями, напитки закупались исключительно благородные, закуска изысканная. Нанимались десять дорогих куртизанок из городского борделя, девушки высшего сорта, без слоя грязи на интимных участках тела. Так же обязательным атрибутом экзамена считались цыгане с медведем – живым символом российской государственности. Если же студенты шли на красные дипломы, то вместо куртизанок специально покупали у какого-нибудь помещика симпатичных девственниц лет пятнадцати, а к цыганам прибавлялись музыканты – баянисты, балалаечники, гусляры. Так же нанимался солист приятного звучания, долженствующий исполнять для почтенных господ хвалебные оды. В общем, экзамен в высшей школе надзирателей был труден, и абы кто его сдать не сумел бы.
На арене в этот вечер был аншлаг. Как-никак ожидался бой месяца – талантливый новичок бросал вызов прославленному многими победами чемпиону. Макар уже был в яме, и с нетерпением поджидал своего соперника. Лютый, страшный, весь покрытый уродливыми шрамами, он напоминал кого угодно, но только не человека. В руках у него были излюбленные сковородки. Чтобы поднять боевой дух, Макар непрерывно издавал боевые кличи, настолько жуткие, что вздрагивали даже надзиратели, столпившиеся на краю ямы. Макар был подобен зверю, притом не какому-то обитающему на планете зверю, а некой химере, помеси лесного вепря с огромными клыками и свирепого скунса, ибо вонял он реально свирепо. Издали заслышав его грозный рев, Гриша оробел, но постарался не выдать своим поведением игристости очка. От одной мысли, что сейчас он сойдется в смертельном бою с этим монстром, у Гриши слабели ноги, и мощно прихватывало живот.
Гриша с Титом и Борисом подошли к краю ямы. Глянув вниз на своего соперника, Гриша нешуточно испугался. Макару выпало биться голым, и он предстал перед зрителями во всей своей красе – с ввалившейся грудью, с жуткими кроваво-красными шрамами, и с маленьким смешным одиноким пеньком на том месте, где у Гриши росло много всякого полезного добра. Это был кастрат-убийца, и не просто кастрат, а кастрат полный и бесповоротный. Макару отрезали не только мохнатые шарики, и то, что эти шарики когда-то приводили в рабочее состояние.
Увидев врага, Макар закричал страшным криком, но вдруг сорвался на пронзительный тонкий визг.
– Дева Мария и плотник Иосиф! – пробормотал Тит, крестясь. – Яко страшен се человече.
К Грише поднесли банку из-под краски, и он вытянул жребий. И тут же понял, что фортуна решила в этот раз показать ему свои ягодицы. Согласно жребию он должен был биться в старом женском платье.
– Прет так прет! – в отчаянии простонал Гриша, запуская руку в другую банку, чтобы выбрать себе оружие. Он надеялся, что ему повезет, и выпадут вилы, но вместо этого судьба порадовала его новым сюрпризом.
– Да вы шутите? – простонал он, когда ему сунули грязное и рваное платье, а так же самый обычный веник – его оружие. – Мужики, я этой хуйней драться не могу. Дайте хоть пенис дубовый.
Он с мольбой посмотрел на Бориса, но тот лишь развел руками, дескать – правила есть правила.
Гриша с видом обреченного на смерть человека натянул на себя платье, взял в руку веник и обратился к Титу с прощальной речью:
– Тит, дружище, ты должен знать. Сегодня ночью мне явился святой Пантелей и сказал, что если я погибну в этой схватке, ты должен в первую же ночь оскопить себя зубами. Понял?
– Знамо дело, – серьезно кивнул Тит. – Раз святой Пантелей повелел, так и сделаю. Уж я супротив господней воли не пойду, не такой человек. Зубами выгрызу!
Сделав прощальную гадость (мелкое утешение, но хоть что-то) Гриша спрыгнул в яму. Платье ему выдали неудобное, огромное, снятое, похоже, с какой-то неохватной бочки. В это платье можно было бы засунуть трех Гриш, а если постараться, то еще влезла бы и намыленная Танечка. Гриша задрал левой рукой подол, чтобы не наступить на него и не грохнуться, правой крепко сжимал бесполезный веник. Глядеть на соперника ему было просто страшно. Перед ним стоял не человек, но какой-то демон. Он был несокрушим. Даже самый простой и самый подлый удар ниже пояса в случае Макара не имел бы успеха – все, что там можно было отбить, ему давно срезали и выбросили.
Макар вдруг растопырил руки, расправил худые плечи и заорал так жутко, что толпа зрителей шарахнулась от края. Прозвучала команда сверху:
– Начали!
Макар только этого и ждал. Он заорал дикой скотиной и бросился на Гришу. В этот момент кипящая в Гришиной душе отвага нашла лазейку и с громким позорным треском вырвалась наружу. Швырнув в летящего на него Макара бесполезный веник, Гриша, в последний момент, успел отпрыгнуть в сторону.
Макар пронесся мимо, врезался в земляную стену ямы и принялся неистово молодить ее сковородками, так что комья грунта разлетались во все стороны. Гриша вскочил на ноги, не веря своим глазам. Грозный, но дико тупой Макар, люто избивал стену, думая, что сражается с живым противником. На земле валялся веник, один из его прутьев далеко вылез из общего пучка, и на этом прутике, как кусочек баранины на шампуре, было нанизано лопнувшее глазное яблоко. Бросок оказался голевым – Гриша, не целясь, выбил вонючему циклопу единственный глаз.
Это была почти победа, теперь оставалось только прикончить ослепленного евнуха. Бить его веником было бесполезно, другого оружия под рукой не оказалось. Тогда смекалистый Гриша стащил через голову платье, скрутил из него тугую удавку, и, изловчившись, набросил Макару на шею.
Холоп оказался удивительно живучим. Гриша видел в американских фильмах, как хорошие парни душат плохих. Там вся процедура занимала секунд десять, злодей, чуть-чуть похрипев и дернув ногой, отдавал богу душу. Эх, если бы хорошим американским парням попался бы Макар, не все фильмы увенчались бы хеппи-эндом.
Макар с удивительным упорством боролся за свою никчемную безрадостную жизнь. Сдавив его горло удавкой, Гриша тянул ее концы изо всех сил, но проклятый Макар все никак не желал помирать. Он брыкался, вырывался, взбрыкивал всем телом, едва не сбрасывая с себя Гришу, даже царапался, мерзавец. Гриша удивился той могучей воле к жизни, которая присутствовала в Макаре, и не мог понять, какие причины побуждают его так яростно цепляться за свое существование на этом свете. Что такого хорошего боялся потерять Макар? Изуродованный, искалеченный, кастрированный, прекрасно понимающий, что этот рудник он уже не покинет никогда, а если и покинет, то попадет в еще более худшее место, Макар, тем не менее, хотел жить. Возможно, его согревала вера в чудо. Вероятно, он верил, что однажды к нему в голубом вертолете прилетит друг-волшебник и наладит всю его скотскую жизнь. Взмахнет волшебной палочкой, и исчезнут все шрамы, взмахнет второй, и вернутся все утраченные зубы, взмахнет третьей, и хозяйство заново отрастет. А после девятого взмаха Макар окажется в Париже с миллионом долларов, в окружении крутых тачек и дорогих проституток.
Но если Макар во все это и верил, то зря. Наивный он, Макар, и тупой, к тому же. Никто к нему не прилетел, и чудес никаких не случилось. После долгой и трудной борьбы, отнявшей у Гриши все силы, он все же придушил лютого кастрата, после чего слез с бездыханного тела, вяло вскинул над головой руки и слабым голосом издал победный клич.
Это была громкая и сенсационная победа. Давно арена не видела такого удивительного боя, в котором явный фаворит потерпел столь сокрушительное поражение. Гришу вытащили из ямы, стали поздравлять, нахваливать, притом в голосе надзирателей звучало неподдельное уважение.
Подошел Тит и подал Грише его одежду.
– Откусывание яиц отменяется, – обрадовал Гриша верного товарища. Голос у него дрожал, самому до сих пор не верилось, что он победил.
– На все божья воля, – перекрестился Тит.
– Молодец! Зверь! – кричал подбежавший к Грише Борис. – Как ты его, а! Ставки-то были десять к одному в пользу Макара. Я на тебя месячное жалование поставил. Рискнул. И ты погляди, какой куш сорвал!
И он потряс перед Гришиным носом пухлой пачкой мятых банкнот.
– Я вообще везучий, – промямлил Гриша, на которого вдруг навалилась страшная усталость. Только сейчас до него стало доходить, что он лишь чудом избегнул смерти.
– Господь помог, – со знанием дела заявил Тит. – Без божьей-то помощи что мы можем?
– Аминь, – кивнул Гриша. – Еще два-три таких чуда, и я тоже в бога поверю. Уф, блин! Смотри, как руки дрожат. Блин!
Он повернулся к яме, и увидел, как бездыханное тело Макара зацепили багром и тащат наружу, дабы отправить на корм псам.
– Я мог быть на его месте, – прошептал Гриша.
– Молодец Макар, – сказал один из надзирателей. – Умер как герой, с честью и достоинством.
К Грише постепенно начало возвращаться самообладание, и он, криво усмехнувшись, пробормотал:
– О чести ничего не скажу, а вот достоинство ему отрезали задолго до смерти.
– Пойдем, ты награду заслужил, – сказал Борис, дружески обняв Гришу за плечи. – Целая кастрюля прокисших щей и краюха заплесневелого хлеба. Пир горой! Можешь сегодня ночевать на тренировочной площадке. Полежи на травке, отдохни. У тебя впереди еще много боев. Мы еще с тобой разбогатеем!
– А Титу со мной можно остаться? – спросил Гриша.
– Этому? Пускай остается. Вы, я вижу, друзья не разлей вода.
– Какая уж там вода, – отмахнулся Гриша, – Тит с рождения не мылся.
Борис отвел их на тренировочную площадку и оставил там. Гриша тут же набросился на свой приз – щи и хлеб. Тит сидел рядом и наблюдал за тем, как его товарищ молниеносно опустошает кастрюлю.
– Сегодня побег, – сообщил Гриша с набитым ртом. – Мне надо хорошо покушать, набраться сил. А ты что сидишь, как чужой? Тит, браток, не стесняйся. Налетай! Смотри, какие лопухи сочные. А вон полынь. А рядом конопля. Это же чистые витамины. Угощайся!
Тит сорвал три больших листа лопуха, и стал с большим аппетитом потреблять их. Изо рта у него текла зеленая слюна, глаза смотрели на небо, где рассыпались звездочки.
– Лопай-лопай, – подбадривал Гриша, скребя ложкой по дну кастрюли. – Погостили на каторге – хватит. Пора отсюда дергать.
– Куда пробежим? – спросил Тит, впиваясь зубами в лопуховый лист. – В родное имение, к барину под крылышко?
– Нет. У меня секретное задание. Надо кое-что разузнать. Наведаемся в гости к одному барину, вдруг там что-то получится выяснить. Если повезет, то я получу свои бабки и блондинок, и заживу, как человек, а тебя, скорее всего, поймают, и, как рецидивиста, зверски кастрируют молотком. Потом или обратно на каторгу или на мыловарню, но ты, в любом случае, долго не протянешь. В общем, все у нас с тобой будет хорошо.
Глава 38
Чтобы не уснуть, Гриша заставил Тита беседовать с собой, и в процессе разговора вновь и вновь поражался тупости ароматного холопа. Об окружающем мире Тит не знал практически ничего. Он заявлял, что звезды, это серебряные гвоздики, вбитые в небесную твердь, за которой сокрыты некие хляби. Когда Гриша спросил, какой формы Земля, мозг собеседника просто не смог понять суть вопроса. Тит ничего не знал о том, насколько велик мир, как много в нем всякого разного. Мир он представлял себе в виде очень большого имения, где все устроено так же, как и на его малой родине. Когда же Гриша попытался просветить Тита, стал рассказывать ему о стриптизе, о дискотеках, о крутых тачках, о пиве, собеседник моментально потерял интерес к разговору. Его вообще мало что интересовало. Для Тита окружающий мир был лишь стартовой площадкой на пути в вечность. Тит свято верил в ждущий его рай, где много комбикорма и не надо работать, а ко всему земному относился равнодушно и даже презрительно. Ведь настоящая вечная жизнь начнется там, за порогом смерти, а здесь просто краткий миг боли и страдания. Господь постановил женщинам рожать детей в муках, так и душа, рождаясь из бренного тела, страдает и мучается, пока не вырвется из оков плоти и не обретет полную свободу. Для Тита его жизнь была чем-то временным и малоинтересным, чем-то таким, что нужно просто перетерпеть, стиснув зубы и ягодицы. Да, его били, морили голодом, изнуряли бессмысленным трудом, унижали, но что значили эти временные неудобства на фоне ожидающей его вечности в раю? К тому же у Тита имелось оправдание всех зверств и ужасов, которые он наблюдал вокруг себя. Все это он считал божьей волей, супротив которой способны идти только грешники и нехристи. Забили холопа оглоблей до смерти – грешен был, бог наказал. Уморили голодом – аналогичная причина. Господа бездельничают и жируют, а холопы пашут и тощают – божья воля. Всякая власть от бога, барская, соответственно, тоже. Кому хорошо и сыто живется, тот великий праведник с претензией на святость, кто живет плохо, тот грешник и сам все это заслужил: мало молился, плохо трудился, не пропускал ни одной кормежки, чем вводил барина в убыток.
Слушая все это, Гриша наконец-то начал понимать, какую огромную роль играет религия в жизни Тита и ему подобных. Ведь не будь бога и промысла божьего, не будь рая с огромными кучами комбикорма, как бы Тит жил? Ведь если вытравить из его жизни весь религиозный дурман, останется одна большая куча дерьма, зловонного и безнадежного. Тит просто не допускал мысли, что эта вот жизнь и есть все, что ему отпущено, и никакой второй серии в виде рая не будет. Как бы он смог вынести мысль, что единственное отпущенное ему время в этой вселенной он потратил на перевозку навоза и пожирание помоев?
– Да уж, ребята, – пробормотал Гриша, краем уха слушая бредни Тита, – мощный вас ждет облом после смерти.
Решив поднять себе настроение, Гриша стал рассказывать Титу свою версию загробной жизни. В Гришиной версии на небе все было организовано так же, как на земле, и холоп, умирая, оставался холопом. Господ там называли ангелами, а надзирателей святыми угодниками. Рай являл собой одно огромное имение, где души холопов пахали день и ночь, за что щедро получали тумаки и курсы лечебного голодания.
– А комбикорм? – с надеждой спросил Тит. – А турнепс? Люд глаголет, в раю всего вдоволь и работать не надо.
– Обманули тебя, – покачал головой Гриша. – Налгали грязно, да прямо в ясны очи! В раю все пашут, как проклятые, а кушают одни помои. То ли дело в аду. Вот там хорошо.
Гриша стал описывать ад, как самое прекрасное место, какое только возможно представить. В аду было все, к чему рвалось Гришино сердце: крутые тачки, классные безотказные телки, пивные реки и шашлычные берега. В аду никто не работал, там даже на законодательном уровне это воспрещалось. Если кого-то заставали за физическим трудом, то моментально высылали в рай. Все работы в аду выполняли мигранты из рая: они подметали улицы, строили новые кабаки и бордели, трудились официантами, уборщиками, драили сортиры. Праведные целомудренные девы пытались торговать собой, но успеха не имели, поскольку пожизненная девственность это, чаще всего, не результат высоких моральных черт, но страхолюдной внешности.
– Тит, представляешь, каждому грешнику в аду, как он только туда попадает, сразу дают крутую тачку, мешок денег и сочную грешницу. А в раю тебе сразу дают по морде, вручают лопату и заставляют перекапывать небеса. Так где же лучше?
Говоря все это, Гриша одним глазом следил за охранником на ближайшей вышке. Тот уже раз десять надолго припадал к большой фляжке, и по логике вещей вскоре ему придется слить топливо. Гриша точно знал, что с этой целью надзиратели спускаются на землю, так что оставалось только выждать нужный момент.
– Лучше всего в раю, – сказал Тит, но железной уверенности в его голосе не было.
– А в аду девчонки, – напомнил Гриша с многозначительной улыбкой. – Самые лучшие. Вообще самые красивые девушки, такие, как Танечка, все в ад попадают, а в раю одни страшилищи. Всякие там жирные, или с лошадиными мордами… фу! Даже говорить противно. А представь, что целую вечность на них глядеть!
– Барыня Татьяна в ад пойдет? – заинтересовался Тит.
– Конечно! Если бы и ты попал в ад, вы бы с ней там встретились и реально оторвались, но ты ведь в рай собрался. А в раю тебе только с оглоблей придется отрываться, которой тебя святые угодники будут по горбу лупить.
Тит думал, думал, затем решительно тряхнул головой и заявил:
– Нет! Устою против дьявольских соблазнов, не погублю душу свою ради сосуда греха. В рай пойду.
– Пойдешь, пойдешь, – кивнул Гриша, заметив, что надзиратель начал спуск с вышки. – Я бы тебе сказал, куда ты пойдешь, да ты все равно не поверишь…. Тит, пора! Надзиратель за сарай зашел, стенку поливает. Давай за мной, бегом и низко пригнувшись. Если успеем добежать вон до тех деревьев, тогда считай – повезло. Если нет, то ты к святым угодникам, а я к чертовкам и грешницам…. Погнали!
Гриша понесся сквозь высокую луговую траву, сзади шуршал и хрипел не отстающий Тит. Стена деревьев почти не приближалась, и Гриша начал понимать, что переоценил свои скоростные качества. В какой-то момент он оглянулся и увидел надзирателя, который, застегивая штаны, собирался лезть на вышку.
– На землю! – беззвучно крикнул Гриша, и первым рухнул в высокую траву. Следом за ним обрушилась мохнатая и зловонная туша подельника.
– Не двигайся! – приказал Гриша. – Если нашу пропажу не заметят, поползем, если заметят, то нам крышка. Мне большая красивая крышка с золотыми ручками, а тебе крышка от стульчака, которой унитаз прикрывают.
Время тянулось медленно, и дозорный давно уже должен был подняться на вышку, но сигнала тревоги никто не подавал. Жесткая, выгоревшая на солнце, трава больно впивалась в Гришино туловище, какие-то наглые букашки лезли под одежду, изучая новую территорию. Справа несло смрадом нечеловеческим – там залег Тит.
Выждав достаточно времени, Гриша осторожно пополз в направлении леса. Сухая трава громко шуршала, иной раз ее стебельки ломались с оглушительным треском, но тут, к великому счастью, в лагере надзирателей кто-то заиграл на баяне, а потом еще и запел омерзительным голосом. Гриша рискнул приподнять голову. Тит полз рядом, и полз тупо – голову прижал к земле так, что бородой вспахивал целину, зато задницу задрал высоко вверх. Гриша подполз к товарищу и прижал его пятую точку к грунту.
– Ползи вперед! – скомандовал Гриша. – Я за тобой. Буду следить, чтобы твоя корма не слишком задиралась.
Бросив взгляд на лагерь, Гриша увидел, что дозорный спустился с вышки и вместе с группой товарищей пил что-то из бутылки. Невидимый вокалист продолжал терзать гармошку, отвратный голос топтаного медведем исполнителя разносился по всей округе.
Грише показалось, что они ползли по полю целую вечность и еще два часа. Впереди пыхтел Тит, оставляя за собой непригодный для дыхания воздух. Гриша какое-то время двигался в вонючем кильватере, затем догадался сместиться в сторону. Дышать сразу стало легче.
Музыка и пение давно смолкли, воцарилась тишина. Надзиратели спали, дозорный на вышке, скорее всего, тоже дремал, исполняя свои обязанности чисто формально, но Гриша все равно боялся подниматься во весь рост. Да и до леса, к тому же, осталось рукой подать.
Когда вползли в заросли, Гриша поднялся на ноги, а Тит, как был, ползком, так и почесал дальше.
– Вставай, тормоз, – устало предложил Гриша.
Тит поднялся. Его густая грязная борода собрала все сухие былинки на своем пути, из густой шевелюры, как антенны, торчали стебельки луговых трав. В одном ухе разместился древесный лист, из правой ноздри выглядывали усики какого-то насекомого и деловито подрагивали.
– Надо идти, – сказал Гриша. – Утром хватятся, начнут искать. Найдут – шкуру спустят.
– На все божья воля, – равнодушно заметил Тит, и мощно высморкался. Таракан вылетел из его ноздри, как из пушки, и насмерть разился об дерево.
– Если схватят, – сказал Гриша, – я признаюсь, что это ты во всем виноват. Меня, честного и наивного, обманом заставил в побег с тобой идти. Когда буду говорить, ты кивай и подтверждай, что так все и было. Это не моя прихоть, это просьба святого Пантелея.
Идти ночью через лес было делом утомительным. Если в поле хватало света звезд, то под сенью крон царила непроглядная тьма. Гриша постоянно натыкался на деревья, спотыкался о пни, падал, ругал Тита. Чудовищно бесила паутина, которая с удивительным постоянством оказывалась на Гришином лице. Верный спутник в дальних странствиях тоже вносил свою посильную лепту. В дремучих дебрях Тит изволил пустить ветры, и в застоявшемся лесном воздухе Грише показалось, что его пытаются отравить химическим оружием. Задыхаясь и уже не сдерживая рвотные спазмы, он кое-как выбрался из зоны поражения, и стал на ощупь искать крепкую палку, дабы поощрить Тита за ароматическую шалость.
Всю ночь шли через лес, стремясь отдалиться от карьера. К утру, когда небо стало светлеть, Гриша почувствовал зверский голод. Съеденные на ужин щи раздразнили желудок, тот наивно решил, что отныне его всегда будут насыщать так же плотно. Гриша подобрал с земли крепкую палку, опробовал ее на Тите, и теперь нес в руке. Все надеялся подбить какого-нибудь лесного обитателя и позавтракать. Но лес будто вымер. Даже птички не чирикали в кронах, даже ежик, и тот не копошился в прошлогодней листве. Плодовых деревьев тоже не было, не было ягод, орехов – ничего не было. Зато всепожирающий Тит как на банкет попал: объедал кору с берез, жевал листья, траву, когда набрели на старый дуб, до отвала наелся желудями.
– Важная снедь! – нахваливал он, протягивая Грише горсть желудей.
Тот брезгливо отмахнулся и проворчал:
– Лучше умру от голода человеком, чем превращусь в свинью, как ты.
Когда рассвело окончательно, беглецы внезапно набрели на целую россыпь крупных белых грибов. Гриша немного разбирался в грибах, уж белые-то он знал точно. Сорвав первый гриб, и убедившись, что он не ошибся в диагнозе, Гриша с наслаждением съел его. Заметив, что Тит тоже потянулся за грибом, жадный Гриша сказал:
– Тит, эти грибы кушать нельзя. Они господская еда. А господская еда для холопа что?
– Яд, – правильно ответил Тит.
– Молодец. Ты налегай на траву и листья, а с грибами я уж сам разберусь.
Завтрак выдался сытный. Гриша жалел, что нет спичек, чтобы развести костер и пожарить добычу, но грибы и в сыром виде шли за милую душу. Тит, тем временем, нашел на одном дереве огромный гриб желтого цвета с весьма живописным узором. Гриша знал, что это трутовик. Ядовитым он не был, но в пищу людям не годился.
– Тит, угощайся, – предложил Гриша. – Этот гриб холопу снедать можно.
Тит с огромным трудом оторвал трутовик от древесного ствола, и стал яростно пожирать его. Вкусом и фактурой трутовик напоминал автомобильную покрышку, но Титу в его хреновой жизни доводилось вкушать и не такие яства.
К тому моменту, когда Гриша насытился и набрал немного грибов про запас, Тит успел затрепать огромный трутовик и набросился на березу. Своими мощными гнилыми зубами он, как рубанок, счищал с березы кору, и глотал, не прожевывая. На обнаженной плоти дерева выступал сок, Тит слизывал его языком и громко причмокивал губами. Сытый Гриша со смешанным чувством отвращения и восхищения наблюдал за пожирателем всего сущего, и не мог не восторгаться той системой, которая породила на свет это неприхотливое существо. Казалось, Тит может питаться чем угодно. Как корова он пожирал растительную пищу, но поскольку кишечник у Тита был устроен иначе, чем у дойной скотины, трава вылетала из него со свистом, не успев толком перевариться.
– Хватит жрать! – с омерзением бросил Гриша, неохотно поднимаясь на ноги после отдыха. – Сколько деревьев погубил, бобер хренов! Ешь траву, скотина, к березам больше близко не подходи.
– Березка вкусна, сочна, – сообщил Тит, слизывая стружку с губ. – А вот липка жестка, суха. Дубок вовсе не угрызешь, но желуди дает.
– Ты перечислил все меню скотского ресторана? Если да, то шевели культяпками. Надо выйти на дорогу, сориентироваться.
Лес тянулся то густой, то редкий. Гриша прислушивался, но тишину не нарушал никакой индустриальный звук. И хотя он понимал, что в этом мире автомобилей гораздо меньше, чем в его родной реальности, но хоть какая-то сволочь должна была проехать по трассе, будь она рядом.
– Куда идти? – бормотал он. – Где конец леса? Залезли в дебри, мать их так и этак!
До полудня тащились через лес, как два дурака. Гриша вымотался, успел повторно оголодать. Взятые про запас грибы давно слопал, новых трофеев не попадалось. Зато Титу везло, как ведро анализов навернувшему. Нашел три огромных трутовика, один другого больше. Последний оказался настолько огромен и стар, что уже изрядно одеревенел. Его толстый желтый покров превратился в настоящую броню, нижняя пористая часть тоже окаменела, и даже зубы Тита не смогли ее одолеть.
– Ломик бы, сковырнули, – бормотал Тит, ходя вокруг гриба. Гриша устроил привал – уселся под дерево и вытянул гудящие от туризма ноги.
– Глаз видит да зуб неймет, – пожаловался Тит, после нескольких тщетных попыток овладеть грибом. Он даже залез на него, и попрыгал, но тот и не подумал шелохнуться.
– А еще бывает так – глаз видит да уд неймет, – заметил Гриша сквозь зевоту. – Это когда видишь в хорошем журнале красивую телочку, слюни пускаешь, но понимаешь – эту делянку будет перекапывать кто-то другой.
Тит прекратил домогаться гриба и присел рядом. Чтобы время не пропадало даром, он стал рвать траву вокруг себя и пихать ее в рот. Гриша отвернулся, чтобы не наблюдать трапезу дорвавшегося до флоры вегетарианца. По-хорошему, надо было остановить Тита, поскольку растительная диета пагубным образом сказывалась на его пищеварении. Если раньше он портил воздух зверски, невыносимо, чудовищно, как скунс лютый, но все же без катастрофических последствий для окружающей среды, то теперь его участившиеся извержения достигали мощности пяти-шести магнитуд. Час назад Тит анальным громом разнес трухлявый пень, на который присел передохнуть. Щепки и труха разлетелись во все стороны, как от взрыва гранаты, Гришу с ног до головы осыпало опилками и окатило нечеловеческим смрадом. Спасаясь от злого духа, он бросился бежать и врезался в дерево, сильно ударившись носом.
– Что если никогда не выберемся из леса? – безрадостно спросил Гриша.
– На все воля божья, – пожал плечами Тит. – Вдруг господь посылает нам испытание? – внезапно спросил он с жаром. – Уж не суждено ли нам стать праведными отшельниками, что греховные соблазны отринули, и в дебри дремучие удалились, дабы жить в них в святости, дни и ночи посвящая молитвам?
Гриша покосился на праведного отшельника и в перспективе святого, который в позапрошлую ночь любил Танечку правой рукой по памяти, и спросил:
– Тит, скажи мне: твой бог что, только всяких чудиков любит? Ну, вот за каким хреном жить в лесу, питаться травой и все время молиться? Кому от этого лучше станет?
– То великий духовный подвиг! – строго ответил Тит. – Одолеть пороки и соблазны, уйти от мирской суеты, тем самым, пример подав иным, что все еще блуждают во мраке и неведении – разве это не подвиг? То великая победа над греховными желаниями.
– А у меня нет греховных желаний, – сказал Гриша. – И не было никогда. Все мои желания естественные. Я хочу драть телок – ну и что тут греховного? Это же нормально. Все нормальные мужики этого хотят. Такими их бог сотворил. Если бы бог хотел, чтобы люди не занимались сексом, мужики рождались бы без членов. Так что ничего тут греховного нет. Вот когда начинают вескими извращениями заниматься, это уже да, грех. Но тоже нужно различать. Когда две красивые девочки перед камерой друг дружку ласкают, это совсем не греховно. Это красиво. То есть они, конечно, лесбиянки злые и грешницы страшные, но, блин, заводит это реально! А если у них еще и подручные средства задействованы, то вообще нечто. Иногда бывает, что девушка и собачка…. Хм, ну, это, пожалуй, точно грех. Хотя тут все от гонорара зависит. Колька Скунс, кореш мой конкретный, тот прямо заявил, что за миллион долларов он негру отдастся не задумываясь. Он бы и за сто баксов отдался – жадный очень до денег, да и новый мобильник давно хочет.
– Все люди грешны, – сказал Тит.
– Ты не обобщай! – возмутился Гриша. – Что такое грех, а?
– Богопротивное деяние.
– Вот! Богопротивное. А что богу противно?
– Все, что грешно, то и противно.
– Тит, с тобой спорить, что пальцем в жопе ковыряться, – сердито бросил Гриша. – Никакого удовольствия, да еще и дураком себя чувствуешь. Ты конкретно скажи – что противно богу?
– Ну….
– Хорошо, тогда так: что богу угодно?
– Покорность, послушание, молитвы, – стал неуверенно перечислять Тит. – Посты, крестные ходы, покорность….
– Покорность уже была, – напомнил Гриша.
– Покорности много не бывает, – наставительно сообщил Тит. – Покорность и смирение – главные добродетели.
– Покорность кому? – уточнил Гриша.
– Всем! – без запинки ответил Тит. – Покорствовать всем надлежит. Всякому, кто бьет, покорствуй. Ударили по левой щеке – подставь правую. Ударили по правой – подставь левую….
– Ясно, ясно, не продолжай. То есть, если я тебя правильно понял, бог любит, когда людей бьют?
– Бог любит покорных, – поправил Тит.
После этих слов Гриша изо всех сил засветил Титу кулаком в ухо.
– Ну, бог тебя стал больше любить? – осведомился он с интересом.
– Почто смертным боем дерешься? – обиженно прогудел Тит, поглаживая отбитое ухо.
– Для тебя стараюсь. Хочу тебя в божьи любимчики продвинуть.
Тит громко засопел и поспешно отсел от Гриши.
– Куда же ты? – удивился тот. – А кто мне второе ухо подставит? Я только-только во вкус вошел.
Тит, было, дернулся обратно, но передумал. Уж слишком сильно побаливало первое ухо, решил второе поберечь.
– Я думаю, – серьезно сказал Гриша, – что грехи, это то, что неестественно. То, что против законов природы прет. А кто по законам этим живет, тот и есть праведник. Вот телок драть это очень даже по законам природы. Даже звери лесные и те друг дружку натягивают. И пиво тоже пить по законам можно – пиво натуральный продукт, очень полезный и вкусный. А вот жрать помои, не мыться годами и грезить мазохизмом, это точно ненормально. Ты, Тит, грешник, а вот я праведник.
Тит зажал уши коленями, чтобы не слушать еретически речи. Гриша поднялся, подошел к нему и пожаловал звонкого леща.
– Вставай, скотина ленивая! Пора идти.
Опять шли через лес неведомо куда. Ситуация все больше принимала форму безнадежной. У Гриши вся душа изболелась за его настоящее тело, что лежало в ретрансляторе вторые сутки некормленое и в уборную не ходившее. Кто его знает, что от этих стрельцов ждать? Вдруг они извращенцы через одного? Теперь стащили штаны с бесчувственного тела и любуются, а то и трогают все грязными немытыми руками. Еще хорошо, если Ярославна трогает, а если старый вождь….
– Достало все! – проворчал Гриша, и, для поднятия тонуса, ударил Тита палкой по голове. Прочная палка с треском переломилась надвое, Тит почесал репу, поднял взгляд к небу и удивленно спросил:
– Али дождик накрапывает?
Гриша бросил обломок в траву, и стал выискивать новое орудие. На глаза попалось целое дерево, поваленное то ли ветром, то ли годами. Одному такое бревно было не поднять, но вот были бы тут Колька Скунс да Степка Жмот, втроем бы сдюжили. Грише стало интересно, выдержит ли голова Тита удар деревом, и он, задумавшись над этим, сам не заметил, как вывалился из леса. Перед ним простерлась просека, по ее центру протянулась дорога. На обочине высился какой-то знак. Гриша подошел и прочел:
– Владения помещика Тарасова. Ну, Тит, хоть раз в жизни повезло. Нам же к Тарасову и надо.
– Почто к Тарасову? – удивился Тит. – Мы холопы помещика Орлова, его рабы и слуги верные.
– Тебе, лохматому, не все ли равно, чью задницу лизать? – брезгливо проворчал Гриша. – Задницы все на одно лицо.
Тут он многозначительно подмигнул Титу, и сказал:
– Хотя с этим можно поспорить. Сладкая попа барыни Танечки мне больше нравится, чем вонючее седалище ее папаши.
– Барыня… – страстно замычал Тит.
– Иди-иди! – прикрикнул Гриша, отвешивая Титу разгонный пинок. – Не время сейчас о попах думать. Работы у нас до хрена и выше. Меня там миллионы ждут и блондинки, а я тут с тобой по лесам брожу.
– Люблю барыню крепко, – признался Тит.
– Ей ты тоже симпатичен, – заверил спутника Гриша. – Вернемся, сделаешь ей предложение.
– С ума-разума свела, – жаловался Тит на ходу. – Воистину сосуд греха. Прежде о боге думал, а ныне о ней одной. Хочу ее, окаянную, шибко.
– Ну, допустим, ума-разума у тебя никогда и не было, так что на Танечку не клевещи. Но, в остальном, должен с тобой согласиться – о такой попе думать приятнее, чем о боге.
Через поля они добрались до имения помещика Тарасова. Днем все холопы были на виду, и Гриша решил выждать до вечера, после чего попытаться незаметно затесаться в крепостной коллектив. Чтобы скоротать время, они устроились в небольшой рощице на раю поля, за которым раскинулось имение. Гриша тут же упал на траву и послал свое сознание в родную реальность – проведать тело, ну а Тит присел под дерево, сунул руку в штаны и крепко возмечтал о Танечке.
Глава 39
– Тебя почти две суток не было! Мы уже стали беспокоиться.
Такими словами встретила его Ярославна.
– Ты тоже обо мне волновалась? – обрадовался Гриша. – Не волнуйся. Пока я на тебя не влезу – не умру.
– В таком случае у тебя все шансы жить вечно, – проворчала девушка. – Вставай. Наш руководитель хочет с тобой поговорить.
– А пошел бы он! – сердито бросил Гриша. – Я устал, хочу жрать, пить и на параше поскучать.
– Тебя накормят. Только кушай быстро. Наш руководитель не любит ждать.
– Во-во! Ваш руководитель. Не мой! Мне он пока еще ни одной зарплаты не выплатил, чтобы я к нему бегом бегал.
И все же Гриша не стал конфликтовать, не желая обострять отношения с новыми союзниками. Он послушно проследовал за Ярославной в столовую, где его накормили постными щами из крапивы, котлетами из подорожника, а на десерт дали стакан лопухового нектара. При этом за соседним столиком сидела страшная Мариночка, которую Гриша осыпал комплиментами в день своего прибытия, и демонстративно, явно издеваясь, потребляла что-то мясное и очень вкусное.
– Почему я опять ем парашу? – возмущался Гриша, размазывая по тарелке котлету из подорожника.
– Это все для твоего же блага, – заверила Ярославна, прихлебывая свой кофе.
– А вон та телка за соседним столиком наворачивает мясо! О ее благе ты не печешься?
– Она не настолько ценный сотрудник.
– Блин, ну я вообще везунчик! Когда получу свои бабки, куплю быка и приготовлю из него царь-гамбургер с карусель размером. Один его буду кушать, ни с кем не поделюсь! Остальных рядом построю, чтобы смотрели и слюнями истекали.
Тут Мариночка, уже откровенно наслаждаясь местью, стала с причмокиванием и облизыванием губ погружать в себя пирожное с кремовой начинкой. Из Гришиного рта на стол закапала слюна.
– Ну, зараза! – прорычал он, резко поднявшись из-за стола.
Испуганная Мариночка завизжала и убежала из столовой, Гриша бросился к ее столу, чтобы доесть пирожное, но Ярославна вовремя поймала его за руку.
– Нельзя, – мягко сказал она. – Эта еда может подорвать твое драгоценное здоровье. Где мы будем искать такого же талантливого оператора, если ты заболеешь? Пойдем лучше к руководителю.
– На парашу жажду! – волком глядя на Ярославну, объявил Гриша.
– Хорошо. Но только не засиживайся там.
Ярославна отвела Гришу в туалет, а сама осталась ждать снаружи. Прошла минута, другая, третья. Затем еще две. Встревожившись, как бы Гриша, в порыве отчаяния, не наложил на себя руки в корпоративной уборной, Ярославна осторожно постучала в дверь.
– Гриша? – позвала она. – Гриша, с тобой все хорошо?
Спустя секунду, из нужника прогремел сердитый ответ:
– Занято!
– Гриша, ты скоро? Нам нужно к начальнику идти.
– Дай мне сперва по большому сходить, потом уже пойдем к начальнику! – разозлившись, крикнул Гриша. – Что за люди, а? Даже испражниться спокойно не дадут! Сижу, главное, тужусь, никому жить не мешаю, так ведь нет, надо докопаться, вопросы глупые задавать, торопить.
Тут возникла пауза, после которой Гриша страшным голосом заорал:
– Эй! Кто там сопит в соседней кабинке? Я все слышу! Не отзываешься. А вот сейчас дерьмом сверху кину!
Послышался грохот, топот, и из туалета, едва не сбив Ярославну, выскочил один из стрельцов со спущенными штанами и круглыми от ужаса глазами.
– Не умеешь беседу поддержать – нечего в общественный туалет ходить! – прогремел ему вслед Гришин голос. – Гадь дома на газетку.
Ярославна вошла в туалет и осмотрела ряд кабинок. В трех дверцы были приоткрыты, четвертая была нараспашку. Далеко вытянув ноги, в ней восседал Гриша и рассматривал картинки в забытом кем-то журнале. Подняв взгляд, он уставился на Ярославну и спросил:
– Ошиблась дверью? Комната для девочек прямо по коридору и резко налево.
– Долго ты еще будешь тут сидеть? – поинтересовалась Ярославна, деликатно отведя взгляд.
– Сколько нужно, столько и буду сидеть. Тебе хорошо, ты все равно бездельничаешь. Можешь хоть весь день с унитаза не слезать. Нормальную ты себе работенку нашла. У других девчонок с вечера до утра работы полон рот, тяжким трудом копейку зашибают, буквально ног не покладая. Про себя молчу – уж что я пашу, как конь, этого никто не замечает. Провела бы ты хоть один день в том дурном мире, узнала бы, что Гриша и миллионы и блондинок точно заслужил.
– Я понимаю, – стала оправдываться Ярославна. – Не думай, что никто не ценит твоего труда….
– Раз цените, – перебил ее Гриша, – то дайте мне посрать по-человечески! Что ты сюда пришла, а? У тебя стыд есть? Я тут сижу со спущенными штанами, ты вошла и глазеешь. Сейчас же выйди из толчка и жди снаружи!
Долго еще пришлось Ярославне нести почетный караул возле уборной. Минуты утекали одна за другой, а Гриша все не появлялся. Несколько раз сотрудники мужского пола входили в туалет, при этом подозрительно косясь на стоящую у дверей Ярославну. Вот только входить-то входили, но как входили, так и выходили. Чаще, впрочем, не выходили, а выбегали.
Через сорок две минуты случилось чудо – Гриша вышел из уборной, отдохнувший и посвежевший.
– Задремал, – виновато признался он, глядя на Ярославну невинными глазами. Та едва сдерживала рвущееся наружу бешенство.
– Теперь мы можем идти к шефу? – спросила она.
– Пойдем, куда от вас денешься.
Старик же давно поджидал их. Едва они вошли в кабинет, как он, указав на кресло, предложил:
– Григорий, присаживайтесь.
Гриша не заставил себя упрашивать, поскольку стоять любил гораздо меньше, чем сидеть. Он плюхнулся в кресло, увидел на столике вазу с конфетами, и, прежде чем старикан успел вежливо предложить ему угощаться, набил полный рот и полные карманы. Он уже и к пустой вазе стал присматриваться – вещица, вроде бы, не с барахолки, можно выручить рублей пятьсот, но рядом стояла Ярославна, решившая присутствовать при разговоре. В отличие от бородатого начальника, она хорошо знала Гришу, и не спускала с него глаз. Гриша пригорюнился – нечего было и думать о том, чтобы украсть вазу.
– Ярославна сказала, что она уже отчасти ввела вас в курс дела, – заговорил старик. – Это все упрощает. Вы уже имели сомнительное счастье познакомиться с нашими заклятыми врагами – опричниками. В высшей степени неприятные личности.
– Согласен, – кивнул Гриша. – Есть там у них один тип гнусный – Толстой его фамилия. Так я вам скажу – полнейшая гнида. Меня голодом грозился морить, хотел зонд кое-куда вставить…. Видели бы вы этот зонд! Там такой зонд, что никакое кое-куда не выдержит – пополам треснет.
– Да, опричники ужасные люди, – кивнул старик. – Более всего ужасают их методы. Они ведь ничем не гнушаются. Вам ведь известно, что вы не первый их оператор. Но вы, полагаю, не знаете в деталях, что произошло с вашими предшественниками. Их связь с зеркальными двойниками была не столь сильна, как ваша, поэтому тот человек, которого вы называете Толстым, этот доктор Смерть нашего времени, пытался усилить ее определенным воздействием на организмы операторов. Поверьте, вам просто повезло, что вы такой уникум. Потому что анальное зондирование это самый мягкий метод воздействия. А вот бритье яичек шлифовальной машинкой, это уже куда неприятнее.
– Этого Толстого судить надо! – с жаром поделился своим мнением Гриша.
– Безусловно, – согласился старик. – И Толстой будет предан справедливому суду, когда мы одержим победу. Тогда всем опричникам придется ответить за их ужасающие преступления.
– Когда будете их судить, меня свидетелем зовите, – вызвался Гриша. – Я все, как было, расскажу. Мало будет, еще набрешу столько же, лишь бы Толстого на зону отправить.
– Вижу, вы ненавидите опричников едва ли не больше, чем мы, – заметил старик.
– А за что я их должен любить? – возмутился Гриша. – Похитили меня, кормили всяким говном, пива не давали даже понюхать. И телку тоже не давали.
– Зачем ты наговариваешь? – ласковым голосом возразила Ярославна. – Опричники, конечно, наши враги, но с тобой они обращались хорошо. Пива тебе не давали, потому что оно вредно для здоровья, а ты был им нужен живой и здоровый. Ну а насчет женщин, тебе вообще грех жаловаться. Ведь в твоем распоряжении была страстная Галина.
– Страшная, старая и глухонемая Галина, это еще одно преступление, за которое Толстого надо поставить к стенке! – проворчал Гриша. – И вообще, я сам решу, что мне вредно, а что полезно. Это, может, вам, спортсменам, пиво во вред идет, а я без него жить не могу. И не хочу. И еще Галина эта…. Я, блин, не привередливый, но это уже явный перебор.
– Все дело в том, что она не блондинка? – попытался вникнуть в ситуацию старик.
– Нет, дело в том, что она просто страшная до икоты. Вот таких страшных блондинок мне не надо. Мне нужны красивые….
– Хватит! – перебила Ярославна. – Он о своих блондинках часами может говорить, – обратилась она к старику, – так что постарайтесь не затрагивать их в беседе.
– Не хочешь о блондинках разговаривать, не мешай, – сказал ей Гриша. – А мы вот о них поговорим.
– Давайте как-нибудь в другой раз, – предложил старик.
– Базара нет. В другой раз можно не только о них поговорить, но и сюда парочку вызвать. Я один телефон знаю, там недорого и с доставкой на дом.
– А сейчас, если вы не возражаете, мне бы хотелось рассказать вам о том, кто мы такие и чем принципиально отличаемся от опричников. Я это делаю сознательно, потому что, в отличие от опричников, мы стараемся действовать методом убеждения, а не принуждения. Уверен, когда вы поймете, что цели наши благородны, а методы гуманны, вы с радостью к нам присоединитесь.
– Дайте мне телку средней паршивости на двадцать минут, налейте стакан пива, и я с вами! – заверил Гриша. – А если уговорите Ярославну не быть такой недотрогой, то я в пользу вашей конторы литр крови сдам. Могу не только кровь. Я уже давно подумываю о сотрудничестве с каким-нибудь надежным банком спермы. Вот только нигде не могу узнать, какой у них в банке процент по вкладам.
– И все же вам, я считаю, необходимо узнать о нас больше, – сказал старик. – Речь ведь идет не об удовлетворении сиюминутных потребностей и желаний, а о судьбе всего человечества.
– Знаете, – ворчливо заметил Гриша, – когда приходится пить лопуховый нектар и спать с фотографией Танечки, судьба человечества вообще престает волновать.
– Ну, хорошо, хорошо, – сдался старик. – Я согласен, что ваши естественные потребности нуждаются в удовлетворении….
– Блин! Еще как нуждаются! – простонал Гриша.
– И, будучи человеком гуманным, я прикажу выдавать вам в сутки по двести грамм пива….
– Пятьсот! – взмолился Гриша, падая на колени перед столом начальника.
– Хорошо, пятьсот. А так же, раз уж это стало для вас такой проблемой, что вы ни о чем больше думать не способны, я прикажу какой-нибудь из наших сотрудниц….
– Да! Да! – закричал Гриша. – Прикажите своим сотрудницам любить меня каждую ночь до изнеможения!
– Нет, такой приказ я отдать не могу, – возмутился старик. – У нас здесь нет проституток. Но я поговорю с сотрудницами, и если какая-нибудь из них вами заинтересуется, вы получите возможность за ней поухаживать.
Гриша выслушал старика, и пригорюнился. Шансы на безопасный секс таяли на глазах. Если заинтересуется, если поведется на ухаживания, если согласится дать….
– А нельзя их просто заставить? – попытался ухватиться за соломинку Гриша. – Припугните увольнением, понижением в должности. Сейчас все на кредитах сидят, а выплачивать-то их чем-то надо. На этом можно сыграть. Поройтесь в личных делах, найдите симпатичную девчонку с ипотекой, и выдайте ей весь расклад. Дескать: или доставляешь Грише неземное удовольствие, или попадаешь под сокращение.
– Вы с ума сошли? – возмутился старик.
– Тогда наоборот, пообещайте что-нибудь заманчивое. Повышение, или хорошую премию. За два коктейля и три комплимента они ведь ноги раздвигают, а уж за наличные деньги сам бог велел. Только сразу предупреждаю: не женюсь! Вы им этого, конечно, не говорите, но вам я скажу – не женюсь. Даже по залету. Особенно по залету. И факт отцовства не признаю даже под зверской пыткой. И никакие анализы сдавать не буду.
– Может быть, проще его в бордель свозить? – спросил старик у Ярославны. – На лицо все признаки острой формы озабоченности. Я опасаюсь, как бы его ухаживания за нашими сотрудницами изнасилованием не кончились.
– Обойдется, – мило улыбаясь, заверила старика Ярославна. – Завтра поеду в город, куплю ему журнал для взрослых, с картинками. Вместо утраченной во время побега фотографии Танечки. А что касается попыток изнасилования, – Ярославна посмотрела на Гришу и заговорила громче, чтобы до всех дошло, – кое-кому следует учесть, что все наши сотрудники, а равно и сотрудницы, владеют приемами рукопашного боя. Так что если кое-кому сломают руку или ногу, или еще что-нибудь, он сам в этом будет виноват.
Ярославна выразительно посмотрела на Гришу, тот, втянув голову в плечи, жалобно попросил:
– Когда будешь журнал для меня покупать, выбирай самый толстый. Люблю разнообразие.
– И все же давайте вернемся к теме нашего разговора, – предложил старик.
– К телкам? – оживился Гриша.
– Нет, к спасению мира.
– А… – тут же заскучал Григорий. – Ну, хорошо, давайте вернемся.
– Как я уже сказал, мы, стрельцы, преследуем высокую и благородную цель. Мир наш в огромной опасности, и наша задача состоит в том, чтобы приложить все силы для его спасения. Говоря о мире, я имею в виду человеческий род, а не все экосистему нашей планеты, поскольку ей гибель пока что не грозит. Наша планета гораздо сильнее, чем полагают многие, и кажущаяся хрупкость жизни на ней обманчива. Жизнь сумеет сохранить себя и восполнить былое разнообразие даже в очень тяжелых условиях, чего нельзя сказать о конкретно взятых видах. Для нашей планеты, как для единого живого организма, любой отдельный вид не имеет никакой принципиальной ценности, и потерю всей популяции каких-нибудь экзотических тараканов она переживет так же невозмутимо, как тотальное исчезновение венца творения. Не стоит ждать милосердия от природы, природа не знает такого слова. Природа подтолкнет падающего и добьет его без всякой жалости, потому что право на жизнь имеют только те, кто твердо стоит на ногах. Мы, люди, не исключение. Мы не что-то уникальное, мы не избранные создания, не образины и подобия божие, и в любимчиках у этого мира не состоим. И какой же из всего этого следует вывод?
Гриша подумал, что старик спрашивает у него, и сильно растерялся, поскольку понял, что не выучил этот урок, как и все остальные в своей жизни.
– Пифагоровы штаны во все стороны равны? – попытал счастье он, озвучив вплывшую из глубин памяти школьную мудрость.
Старик с некоторым удивлением вопросительно посмотрел на Ярославну. Та махнула рукой, дескать, не обращайте внимания. Гришу такое отношение к себе очень обидело. Он решил показать этим умникам, что тоже не зря протирал штаны за партой.
– Биссектриса, это такая сука, которая гадит по углам и делит что-то пополам, – отчеканил он. – И еще параллельные линии что-то не делают. Что-то такое…. Как его? Блин! Сейчас вспомню….
– Почему у тебя биссектриса сукой стала? – полюбопытствовала Ярославна.
– Потому что я за эту суку пять колов получил. Загнать бы все эти колы математичке прямо в….
– Благодарю, Григорий, что вы напомнили нам вечные геометрические истины, но давайте все же вернемся к нашему разговору, – перебил его старик. – Вы не возражаете?
– Да, согласный, – кивнул Гриша, продолжая дуться на школьную учительницу алгебры и геометрии.
– Так вот. Вывод из всего этого можно сделать только один: никто, ни бог, ни природа, ни инопланетяне, не станут спасать человечество. Никому до нас просто нет дела. Только мы сами в силах предотвратить катастрофу, ибо, в отличие от тварей бессловесных и безмозглых, наделены разумом – величайшим оружием во вселенной. Но, к сожалению, это оружие изрядно затупилось. Люди, в массе своей, глупы и беспечны. Ими движут чисто животные стремления, такие как поиск пищи и партнера для спаривания….
При этих словах Гриша лукаво заулыбался, как когда-то давно, в школе, когда молоденькая учительница биологии, краснея, рассказывала ученикам о тычинках, пестиках и прочей порнографии.
– Люди заняты повседневными заботами, – продолжал старик. – Они все подчинены ритму жизни, который гонит их по кругу, не давая остановиться и оглядеться по сторонам. Поэтому когда случается что-то, что выходит за грань привычного хода вещей, для людей это всегда оказывается огромным сюрпризом. Все это я сказал вам для того, чтобы вы поняли, почему мы, так сказать, решаем за всех. Почему мы спасаем человечество без его ведома. Да просто потому, что люди не видят опасности, не понимают ее, и для них надвигающаяся катастрофа гораздо менее важна, чем исправная работа их автомобиля или продвижение по карьерной лестнице. Уверяю вас, даже тогда, когда все начнет откровенно рушиться, они будут так же, как и теперь, суетиться, занимаясь своими ничтожными делишками. Мы приняли на себя ответственность по спасению человечества лишь потому, что самому человечеству на себя наплевать. Никто из людей не воспринимает себя частью целого, каждый думает только о том, как бы сделать хорошо себе, и плохо всем остальным. Эти эгоистичные и подлые существа давно утратили право что-то решать за себя, да они никогда и не умели им распорядиться. Стадо баранов, одним словом. И так, к сожалению, было всегда. Всегда были толпы баранов, всегда были пастухи. Мы тоже пастухи, но в отличие от своих предшественников, мы не собираемся использовать людей в своих корыстных целях. Цели наши благородны. И хотя мы планируем навязать человечеству свою волю, это будет сделано исключительно в интересах самого человечества. Мы не собираемся поработить всех и править миром. Наша задача состоит в том, чтобы вытащить человечество из того тупика, в который оно зашло, и отправить дальше, в будущее. Хорошо ли там будет, в будущем, плохо ли – вопрос третий. Но здесь и сейчас точно плохо, и с каждым днем все хуже. Вы меня понимаете?
Сказать по совести, Гриша вообще ничего не понял. Да и не пытался понять. Пока старик распинался, он пытался вспомнить, что не делают друг с другом параллельные линии. Ничего приличного на ум не пришло.
– Ладно, все я понял, – приврал он, заметив, что от него ждут какой-то реплики. – Благородные цели, спасение человечества…. Я, как бы, не против. Готов спасать. Но давайте сперва обсудим финансовый вопрос.
Едва разговор коснулся конкретных вещей, а не абстрактной белиберды, физиономия старика помрачнела. Гриша мгновенно просек – вожак стрельцов дикий жмот.
– Об этом я и хотел поговорить, – произнес старик.
Гришей овладели недобрые предчувствия. Еще до своего трудоустройства в супермаркет он два месяца отпахал разнорабочим на стройке. Так вот, когда пришло время получать первую зарплату, начальник заговорил с ним точно таким же грустно-безнадежным тоном. Уже по одному только этому тону Гриша все понял – денег не будет. И точно – начальник стал говорить о финансовых проблемах фирмы, о том, что кто-то не перевел куда-то средства, и вообще в мире сейчас ситуация тяжелая. Будь Гриша поглупее, он бы поверил начальнику и проглотил бы все его «завтраки», но Гриша был слишком ленив, чтобы работать на кого-то даром. Он сбежал с этой стройки, которая через полгода вовсе обанкротилась, и все наивные сотрудники, что продолжали пахать за обещания, получили зарплату в пустых конвертах. Кому досталось три конверта, кому пять – конверты оказались единственным имуществом, которое числилось на балансе фирмы. Хозяин предприятия давно растворился в израильском воздухе, главного бухгалтера посадили, а работяги, вместо честно заработанных денег, с причмоком ощутили справедливость современной России в действии, лишний раз подтвердив народную мудрость о невозможности обретения каменных палат праведным трудом.
В тот раз Гриша вовремя соскочил. Два месяца бесплатной работы нанесли ему сильную психологическую травму, но все же это было не восемь месяцев – такого удара Гриша бы вовсе не пережил. И вот, похоже, история повторялась. Опять тот же грустно-безнадежный тон, мутные разговоры о непонятно чем, и никакой конкретики, никаких дат и никаких сумм.
– Вы постоянно подчеркиваете, что единственным вашим стимулом является обещанное вам денежное вознаграждение, – произнес старик.
– Денежно-блондиночное, – поправил его Гриша.
– Да, верно. И это меня немного тревожит.
Гриша беспокойно заерзал в кресле. Он буквально чувствовал, что в комнате стало тесно – такая огромная и жирная жаба душила старика.
– Если вы очень бедные, – осторожно сказал он, тщательно взвешивая слова, чтобы не продешевить при компромиссе, – то…. Блин, ну я не знаю, как вам и быть. У вас тут столько народу левого шатается. Продайте несколько почек, задержите сотрудникам зарплату на три месяца, заставьте их кредиты в банке взять, как-нибудь, в общем, выкрутитесь, но три миллиона долларов мне соберите. А что касается блондинок, то тут можно сэкономить. Я согласен вот как: вместо двадцати восьми блондинок, даете мне десять блондинок, пять красивых брюнеток, двух рыженьких девочек повышенной аморальности и Ярославну. Только чтобы все было документами заверено. Пускай Ярославна все бумаги подпишет, что она отныне моя собственность, и согласна… нет, хочет… нет, мечтает удовлетворять все мои желания. Все-все!
– Дело не в том, что мы стеснены в средствах, – торопливо заверил старик, в тот момент, когда Гриша сделал паузу в своей речи. – Названная вами сумма для нас не проблема. К сожалению, ваше желание заполучить Ярославну в собственность при существующем законодательстве неосуществимо, поскольку рабство является противозаконным явлением….
– Да мы никому не скажем! – горячо заверил стрика Гриша. – Я ее буду все время в подвале держать, спускаться туда только по ночам. Чтобы не сбежала, прикую цепью за ногу. Все будет хорошо. Никто ничего не узнает.
– Нет, подождите! – схватился за голову старик. – Свои личные дела с Ярославной вы будете решать сами, и меня они не касаются.
– То есть, можно считать, что против подвала и цепей вы ничего не имеет? – хитро подмигнув старику, спросил Гриша.
– Да послушайте же! – вдруг заорал старик, и Гриша вжался в кресло, опасаясь акта рукоприкладства.
– Слушаю, – сказал он тихо. – Говорите. Только кричать не надо.
– Да вы же кого угодно доведете! Зачем вы все время говорите о миллионах, блондинках и Ярославне? Неужели вам ничего, кроме этого, не нужно в этой жизни? Неужели у вас нет никаких других желаний и стремлений? Неужели вы ни о чем больше не мечтаете?
Гриша почувствовал, что его опять пытаются унизить, намекая на узость мышления и общую ограниченность.
– Вообще-то я еще кое о чем мечтал, – проговорил он негромко, и глаза его заволокло дымкой ностальгии по давно ушедшим в прошлое счастливым временам золотого отрочества. – В десятом классе я мечтал сняться в порно. Помню, предки на все выходные к бабке смотались, камеру я у Скунса взял, но Катька, это одноклассница, уперлась, не захотела в кино сниматься. Жаль. А вдруг это был переломный момент моей судьбы, и не откажись эта дура перед камерой трусы снимать, я бы сейчас жил в Голливуде…. Эх, облом на обломе… – трагически вздохнул Гриша. – Надо было больше водки ей в коктейль налить. Или, как Скунс советовал, усыпить хлороформом.
– Вот, видите! – с энтузиазмом ухватился за эту соломинку старик. – Когда-то вы мечтали посвятить себя искусству кинематографа. Зачем же зарывать талант в землю? Почему вы не стремитесь к своей мечте?
– Я же сказал – Катька уперлась, – проворчал Гриша. – Если бы не это, я уже был бы звездой мирового уровня.
– Но ведь еще не все потеряно! – подбодрил его старик. – Не получилось раз, нужно пробовать снова и снова.
– Ага, пробовать, – безнадежно махнул рукой Гриша. – Где я теперь буду Катьку искать? Я слышал, она на выпускном залетела, аборт сделала, потом опять залетела, потом замуж вышла, ребенка родила, развелась, сдала сына в интернат и поехала покорять турецкие бордели. Мне что же, в Турцию за ней ехать? Хотя, если вы деньги на билет дадите, я в Турцию сгоняю. Никогда на море не был.
– Но ведь я вам говорю не о Катьке, а о том, что жизнь не ограничивается миллионами и блондинками.
– Еще как ограничивается, – сердито бросил Гриша. – Когда нет ни миллионов, ни блондинки, чувствуешь себя реально ограниченным. И вообще, что вы ко мне пристали? Я вас не пойму. Хотите что-то сказать, говорите без намеков, как есть, но учтите – бесплатно я работать не буду даже под угрозой анального зондирования и бритья яиц шлифовальной машинкой. Любые пытки стерплю, умру, если надо, но работать даром не буду.
– Я просто хочу сказать, что у вас должна возникнуть дополнительная мотивация. Вы не просто должны отрабатывать свои деньги… да, да, и блондинок, я помню. Вы должны понять, какое важное дело мы делаем, постигнуть высокие цели, к которым мы стремимся. Не нужно относиться к вашей деятельности, как к очередной работе, которую сделал поскорее, абы как, и гуляй смело. Любой из стрельцов готов отдать жизнь за наше дело. Вы готовы?
– Готов! – без колебаний ответил Гриша. – Скажите, чья вам жизнь нужна, и я ее отдам.
Заметив, что никто не смеется, Гриша тоже поубавил чувство юмора.
– Слушайте, вы от меня многого хотите, – проговорил он, стараясь не выдать очередную шуточку, а то ведь могут и побить. – Я простой парень с окраины, без суицидальных наклонностей, и жизнь свою я ни за что отдавать не хочу. Это вам легко говорить, что готовы жизнь отдать. Вам сколько лет? Глубоко за шестьдесят? Пожили уже, можно и помереть без истерики. Или взять Ярославну. Ее я тоже понимаю. Не пьет, не курит, к сексу относится резко негативно. Неудивительно, что ей жизнь не мила. Но я не такой. Я хочу жить, притом на полную катушку, чтобы были крутые тачки, классные телки, много-много денег. У меня ведь ничего этого никогда не было. Вместо тачек на трамваях езжу, телки все третьего сорта, и это в лучшем случае, про деньги вообще молчу – зачем говорить о том, чего нет? Вы дайте мне все это, дайте пожить в удовольствие, а потом приходите ко мне лет через двадцать, и я с удовольствием отдам жизнь за что угодно. А зачем жить, когда всех телок уже покрыл, пиво в горло не льется, а от вида черной икры тошнит? Вот такая вот у меня гражданская позиция. Уж не обессудьте.
Старик и Ярославна переглянулись.
– Я же вам говорила – бесполезно, – пожала плечами девушка. – Гриша одержим исключительно животными потребностями. Нет смысла пытаться пробудить в нем чувство долга перед человечеством. Он на это скажет, что никому ничего не должен, а кому был должен, всем простил.
– Хорошо сказала, – одобрительно кивнул Гриша. – Моя школа. Приходи ко мне как-нибудь вечерком, займемся углубленным обучением. И прихвати побольше учебников с ароматом свежей клубники. Слушайте, если совещание окончено, можно я пойду отдыхать. Надо хоть пару часиков вздремнуть, я же не железный. Это вы за идею бездельничаете, а я свои деньги отрабатываю в поте лица. Да только за то, что мне приходится обонять Тита, вы меня должны озолотить.
– Ступайте, – кивнул старик. – Мы с вами еще продолжим этот разговор. Я не теряю надежды, что однажды вы поймете, что оказались здесь не случайно, и что на вас, как и на всех стрельцах, лежит огромная ответственность. Не от каждого человека зависит судьба человечества, не каждому дано сыграть ключевую роль в великой битве света и тьмы. Уверен, что однажды вы осознаете, кто вы и какая судьба вас ждет.
Выходя из кабинета, Гриша повернулся к Ярославне и весело прошептал:
– Вроде бы старый, а такой наивный! Небось, до сих пор в деда Мороза верит.
– Дать бы тебе! – сквозь зубы процедила Ярославна.
– Так дай! – воскликнул Гриша. – Хочешь – у меня. Хочешь – у тебя. Хочешь – прямо здесь, в коридоре, у всех на глазах…. Слушай, а ты не против, если мы все это на камеру снимем? Помнишь, старый говорил о том, что нельзя зарывать талант в землю. Пойдем, отроем его вместе?
– Мне все больше нравится идея о твоей принудительной кастрации, – проворчала Ярославна. – Уверена, тебе это пойдет на пользу.
– Ладно! Ладно! – испугался Гриша. – Я все понял! Не хочешь в кино сниматься – не снимайся. Но учти: одна вот тоже отказалась, и кончила в турецком борделе. Есть о чем задуматься.
Глава 40
Гришин расчет оказался верен. Точно так же, как сельские жители не различают в лицо живущую на их подворьях скотину, вроде кур, гусей и иной живности, так же и надзиратели не отличали одного холопа от другого. Выделялись только особо колоритные персоны, но таких уникумов было мало. Вся колоритность холопов заключалась, главным образом, в каких-либо физических увечьях, приобретенных в процессе добросовестного труда на барина. Ну а увечных холопов на этом свете не задерживали. Если полученная травма позволяла крепостному пахать с прежней интенсивностью, ему позволяли жить и приносить пользу обществу. Если же он частично утрачивал работоспособность, с ним не церемонились, и с почетом отправляли на заслуженный отдых. Что касалось полной потери трудоспособности, когда холоп получал очень серьезные увечья, его могли заподозрить в намеренной порче барского имущества, то есть себя. А за такие проделки легкая смерть не полагалась. Так что провожали на заслуженный отдых со всеми почестями, отрабатывая на еще живом теле технологию пыток. Отсюда вытекал вывод, что главным признаком жизни холопа являлась его способность трудиться. Если он мог пахать, он считался живым. Если нет, его вычеркивали из списков на довольствие, невзирая на наличие сердцебиения, пульса и дыхания.
Труд есть священная обязанность всякого крепостного – так поучали святые старцы. А имперские ученые даже высчитали средний ресурс одного холопского организма в килоджоулях энергии. При этом не уточнялось, как именно будет потрачена эта энергия, главная задача заключалась в том, чтобы выдавить ее всю до капли прежде, чем холоп умрет. Тут же, очень кстати, пришелся закон сохранения энергии, согласно которому холоп обязан был за свою жизнь отдать всю энергию, и не унести с собой ни джоуля в могилу, дабы не нарушился баланс мироздания. Все это околонаучное обоснование жестокой и бессмысленной эксплуатации холопа человеком носило громкое название «Теория сохранения энергетического равновесия». В рамках этой теории возникло понятие КБД, то есть коэффициент бесполезного действия. Было доказано, что чем бессмысленнее и глупее работа, порученная холопам, тем больше энергии они затратят на ее совершение. При этом ненужность и неизбежность выполняемой работы благотворно сказывались на ускорении процесса атрофии определенных участков головного мозга. Так, например, у холопов, в течение года занимавшихся перевозкой навоза с одного места на другое и обратно, наблюдались отрадные признаки умственной деградации и постепенный переход на рефлекторное существование. Когда эксперимент продолжался слишком долго, холопы иногда возвращались к своей исконной сути: бегали на четвереньках, лаяли на людей, задирали ногу и метили деревья. Правило гласило: чем меньше труд человека имеет отношение к непосредственной добыче пропитания, тем больше нарушаются формировавшиеся тысячелетиями причинно-следственные связи. Если труд теряет свой истинный смысл, заключающийся в добыче пропитания, он приобретает черты религиозного обряда, где все основано не на понимании сути процесса, а на слепой вере. В случае холопов это правило доводилось до абсурда, так что никто из крепостных даже подумать не мог, что он сам, своим трудом, может обеспечить себя всем необходимым. Труд и кормежка никак не связывались друг с другом в холопском уме. Корм даровал барин, только в его власти было насытить холопов. В то же время труд являлся для крепостных чем-то вроде акта самопожертвования, религиозной мистерией, лишенной практического обоснования. По этой причине холопам было совершенно безразлично, на что тратить свою энергию – на созидание, или на никому не нужное рытье ям или перетаскивание навоза. Они даже не видели разницы между полезным и бесполезным трудом, да и не могли ее увидеть, потому что труд для них был актом мистическим, а не практическим. Гордились они не результатами своих усилий, а степенью усталости или полученными травмами. К тому же, холопы больше заботились о загробной жизни, чем о земном существовании. Каждый из них твердо верил, что после смерти попадет в рай, где его ждет вечное блаженство. На фоне грядущей вечности, полной радости и счастья, краткий миг земного ада мало что значил. В силу убожества внутреннего мира холопы редко пытались представить себе рай (это даже считалось кощунством, ибо не способно жалкое человеческое воображение нарисовать себе картину райских кущ), но все почему-то были убеждены, что там очень много турнепса и комбикорма. Иногда, впрочем, в головах у холопов рождались каверзные вопросы, полные детской наивности и прямоты, и потому особенно неудобные, но такие шибко любопытные после первой же исповеди куда-то исчезали, и больше их никто не видел.
Холопы верили в загробное блаженство и в нормальность своей скотской жизни. Надзиратели верили, что тоже поступают по законам божьим, калеча и убивая людей, поскольку так заведено всевышним. Все были очень верующими, и на их вере держался ад на земле. Гриша яростно корил себя за то, что так долго не мог понять этих простых вещей. А ведь Ярославна давно предупреждала его, что в этом мире у него будет ощутимое преимущество перед автохтонами. Дело было даже не в уме, а в его свободе от тех аксиом, что считались незыблемыми в этой ветви пространственно-временного континуума.
До самого вечера они с Титом успешно маскировались под образцовых холопов. Тит так качественно вжился в роль, что к заходу солнца сам поверил, что прожил в этом имении всю жизнь. Гришу немного беспокоил придурковатый напарник, но Тит держался молодцом. По крайней мере, он не кидался к надзирателям, с намерением сдать и себя и друга-грешника, и тем самым очистить душу. Гриша строго-настрого запретил Титу подобные вещи, и намекнул, что это личная просьба святого Игната. Отказать святому Тит не мог.
Когда закончился рабочий день (где-то в районе полуночи) холопы стали стекаться к спальному сараю. Дисциплина в этом имении была еще та. Походило на то, что кроме своей коллекции уникальных артефактов помещик больше вообще ничем не интересуется. У Орлова, по крайней мере, надзиратели не позволяли себе напиваться до отбоя холопской биомассы, и никогда не отлынивали от организации кормления подчиненных. Тут же все обстояло иначе. Надзиратели начали квасить еще засветло, вскоре к ним примкнули даже те, кто присматривал за работниками в поле. Оставшиеся без всякого контроля холопы вольны были делать все, что угодно. Могли запросто сбежать, могли, на худой конец, бросить кривые лопаты и просто отдохнуть. Но никто не бежал и не отлынивал от праведного труда. Бежать было некуда. Везде вокруг, на многие сотни верст, простиралась родимая сторонка, и в любой ее точке с холопами обращались одинаково хорошо. К тому же отсутствие у холопов информации об окружающем мире исключало всякую попытку побега. Ведь люди бегут не откуда-то, они бегут куда-то. Бегут к лучшей жизни, к сытой жизни, к жизни без каждодневных тумаков и зверских пыток за малейшую провинность. Чтобы бежать, нужно знать, куда и зачем ты бежишь. Нужно сопоставить то место, куда тебе так хочется, и то, в котором ты торчишь в данный момент, убедиться, что там, за лесами и горами, намного лучше, и только тогда на что-то решиться. Но у холопов не было таких «теплых рек», куда бы рвалась их душа, жаждая воли и счастья. Вместо этого у них был рай, но для того, чтобы попасть в рай, незачем было куда-то бежать. Напротив, беглые крепостные, смутьяны и нехристи, в рай как раз не попадали. Туда попадали смиренные и кроткие, услужливые и трудолюбивые, верные и не слишком прожорливые. Все убогие ресурсы холопского воображения уходили на то, чтобы дорисовывать картину счастливой загробной жизни мелкими подробностями. Иногда, правда, то тут, то там, какие-нибудь холопы, природой наделенные творческим умом, начинали сочинять сказки о таких далеких краях, где жить намного лучше. Так холоп Пантелей, крепостной помещика Ермолова рязанской губернии, стал смущать умы прочих холопов сказками об острове Буяне. Говорил он, между прочим, что на острове Буяне каждый холоп получает в день по большому тазику комбикорма. Более того, на острове Буяне холопов разрешено бить только плетью, а оглоблей, ломом и мешком с кирпичами нельзя. На острове Буяне холопы работают лишь от рассвета до заката, а ночью спят, никем не тревожимые, поскольку ночные порки там тоже под запретом. Завравшись окончательно, Пантелей стал уверять, что на острове Буяне мужики и бабы живут совместно, в одном бараке, который одновременно является брачным сараем, и греховными делами разрешается заниматься не только отобранным на племя производителям, но поголовно всем.
Вероятнее всего, что холоп Пантелей насочинял бы еще много всякого о своем чудном острове, если бы его слушатели вскоре не сдали фантазера надзирателям. Доносительство среди холопов было делом столь обычным, что никого не удивляло. Притом доносили друг на друга не ради выгоды (награда за это, как правило, не полагалась), а просто из банального страха. На Пантелея тоже донесли, сообщили, что он смущает православный люд речами коварными и безбожными, подбивает на бунт против бога и барина, еще кучу грехов ему приписали, и сказочник Пантелей жестоко поплатился за свое сочинительство. Пытали его три дня и три ночи. Планировали пытать месяц, но Пантелей и тут продемонстрировал свою испорченную натуру – взял и умер на четвертый день веселья.
Бежать было некуда, отлынивать от работы страшно (свои же сдадут), так что холопы пахали даже без надзора, притом без надзирателей они трудились усерднее, чем под их строгими очами. О том, что рабочий день окончен, узнали по Луне. Как только та очутилась точно у них над головами, холопы собрали инвентарь и пошлепали в свой барак.
Из казарм неслись пьяные крики, женский визг, звон бьющейся посуды. Тит, образцовый холоп, послушно поплелся вместе со всеми к бараку, но Гриша ухватил его руку и потащил за собой. Они спрятались у забора, отделяющего особняк барина от холопской вселенной, скрывшись за ржавым остовом автомобиля неизвестной марки.
– Выждем немного, – шепотом сообщил Гриша. – Засветло начали гудеть, долго не протянут. Четверых уже на руках вынесли и в сарае отсыпаться бросили.
Вдруг в казарме прогремел выстрел – его трудно было спутать с иными звуками. Затем раздался истошный женский крик, и из казармы выбежала голая, залита кровью, девчонка лет пятнадцати. Оступаясь, она помчалась мимо хозяйственных построек в сторону чистого поля, но тут на крыльце появились пьяные надзиратели, один из них поднял руку с пистолетом, долго боролся с внутренней качкой, и, наконец, выстрелил. Убитая наповал девчонка рухнула на землю.
– В другой раз будет знать, как водку по столу разливать, – громко крикнул снайпер, удостоившийся похвалы от своих коллег. Похлопывая стрелка по спине и поздравляя с удачным попаданием, надзиратели вернулись в казарму.
– Почто глупая девка бежала? – тихо недоумевал Тит. – Коль есть за тобой вина, то встань на колени, перекрестись, да покайся от всего сердца. Все ж мы православные, все человеколюбивы. Ужель не простили бы ее, коли повинилась бы? А она, глупая, бежать! Видать много на ней грехов было, раз каяться побоялась. Грешница она, и весь сказ. Нет, не будет ей царствия небесного.
– Тебя послушать, ты в этом царстве небесном один будешь сидеть, как дурак, – буркнул Гриша.
– А ангелы небесные? А святые угодники? А страстотерпцы и великомученики? А непорочные девы?
– Они от твоей вони разбегутся.
Прикончив грешницу, надзиратели опять удалились в казармы. Труп остался валяться в луже.
– Давай за мной! – скомандовал Гриша. – Тут сидеть опасно, могут заметить. Надо найти убежище.
Они ползком просочились на господский двор, но тот, зараза, был будто граблями выскоблен – ни кустика, ни травинки. Только в углу высилась непомерно огромная собачья конура, внутрь которой тянулась толстая цепь. Судя по размерам конуры и цепи, там обитал некрупный тираннозавр. В иной ситуации Гриша к этой мегалитической конуре и близко бы не подошел, поскольку собак недолюбливал, и они отвечали ему взаимностью. Но сейчас альтернатива была небогатая: или рискнуть наведаться в гости к чудовищу, или остаться на голой земле, где их неизбежно заметят из окон барского особняка.
– Тит, ты первый, – вежливо уступил Гриша. – Лезь в ящик.
– А коли там псина кусачая? – забеспокоился холоп.
– Если бы ее там не было, первый полез бы я. Лезь, скотина, иначе я тебя сам загрызу!
Тит не стал спорить: что так, что этак – все одно, лишь бы быстрее в рай попасть. А от зубов ли собачьих, или от оглобли деревянной – есть ли разница? Он, кряхтя, влез в конуру, Гриша секунду выждал, прислушиваясь, но Тит не орал, из дырки не летели кровавые брызги и куски мяса, и он в итоге последовал за первопроходцем.
В конуре оказалось просторно и зловонно. Сквозь дыру в крыше внутрь, в достаточном объеме, проникал свет фонаря. Так что Гриша без проблем разглядел Тита, сидящего у стены, а напротив него, вопреки ожиданиям, не огромного пса, но человека. Человек был голый, тощий, обильно покрытый грязью. Шею его обвивал толстый кожаный ошейник со стальными шипами внутрь. От этих шипов вся тощая желтая шея бедолаги была испещрена гноящимися ранами. На ошейнике имелось кольцо, к которому крепилась цепь. Второй конец длинной цепи был намертво прикреплен к огромной конуре.
– Ничего себе собака! – удивился Гриша, усаживаясь рядом с Титом. Под ним хлюпнула мокрая от испражнений солома, но за то время, что Гриша провел в этом прекрасном мире, он разучился обращать внимание на подобные мелочи.
– Это вот Капитон, – представил Тит хозяина дома.
– Сам вижу, – кивнул Гриша.
– А вы кто будете? – хриплым голосом спросил Капитон, после чего, самым натуральным образом, гавкнул. Гавкнул настолько правдоподобно, что Гриша схватил в руку большую железную миску, что валялась рядом, дабы было чем оборонить себя от неадекватного существа.
– Православные мы, – представился Тит. – Помещика Орлова холопы верные. Вот это Гришка лакей, а я помощник его смиренный. Прежде на высокой должности состоял – имел привилегию барский унитаз языком ублажать. Нынче же горе мыкаем.
– А в наше имение как попали? – спросил Капитон. – Купили вас, аль как?
Тит не стал скрывать горькой правды, он вообще был честен со всеми.
– Беглые мы, – признался он, и всхлипнул от жалости к себе. – Грешники и безбожники, смутьяны и нехристи.
– Беглые? – переспросил Капитон, и в его давно потухших глазах вспыхнул какой-то огонек заинтересованности. – Уж не к острову ли Буяну путь держите?
– Нет, мы… – попытался выложить всю правду Тит, но тут слово взял Гриша.
– К нему самому, – заверил он, сильно двинув болтуна кулаком в бок.
– Эх, счастливцы, – с грустью протянул Капитон. – Когда-то и я жаждал на остров Буян убежать.
– Почто ж не убег? – спросил Тит участливо.
– Бог не попустил.
– Это как же?
– Уж я и из имения сбежал, – стал рассказывать Капитон, – и в лесу схоронился. Дорогу-то я хорошо знал, примета верная есть. Надо все время прямо идти, и так до острова Буяна дойдешь. Думал, переночую в лесу, а спозаранку, господу помолившись, в путь-дорожку и отправлюсь. А как лег-то я спать, касатики, как очи притворил, что тут оно и началось!
– Что? – сквозь зевок спросил Гриша.
– Кара божья настигла! – выпалил Капитон, и опять гавкнул. – Лежу на траве, а сон нейдет. И такая тяжесть на душу мою грешную навалилась. И мысли все такие страшные: о дьяволе, о пекле адском, о страшном суде. К утру вовсе измаялся, жизнь не мила стала. Уж и сам понять не мог, как лукавый меня надоумил любимого барина бросить и от него сбежать. Поднялся я, перекрестился, да и пошел обратно в имение. Меня к тому времени еще и не хватились, надзиратели все пьяные лежали, и я, как был, так прямо к дому господскому и пошел. А там, смотрю, барин на крылечке стоит. Встал, кормилец, спозаранку, стоит грустный. У меня в тот миг сердце так и сжалось. Что же это я наделал? – думаю. Ведь из-за меня, грешника, барин и сон, и радость утратил. Подбежал я к нему, бросился в ноги, рыдаю, стопы его лобзаю, каюсь. Осознал я грех свой, да то ли уж говорил нескладно, то ли господь мне разум смутил, но барин меня совсем не понял. Испугался он, крик поднял, стал надзирателей кликать. Те набежали, схватили меня, свели в воспитательный сарай.
– Не верю сему! – решительно мотнул головой Тит. – Чтобы барин холопа кающегося не простил и не приласкал…. Не верю! Да добрее и милосерднее барина нет на свете человека.
– Сам бы не поверил, коли кто рассказал, – согласился Капитон, – да только вот те крест, не вру. Уж верно на то божья воля была, чтобы барин меня не понял.
– Это так, – кивнул Тит. – Токмо происками божьим не снискал ты сиюминутного прощения, ибо грех твой тяжек. Каждому холопу за всякий грех воздастся сторицей – так молвил святой старец Маврикий. Господа же безгрешны вовсе, и божьему суду не подлежат.
– Тяжек, тяжек мой грех, – согласно кивал Капитон. – То осознаю и искупление принимаю с величайшим смирением. Искупление же греха своего начал я в воспитательном сарае, где много претерпел. Самой же тяжкой карой было помещение в зад восемнадцати веников….
В этот момент проникновенную исповедь холопа нарушил истерический смех Гриши.
– Почто смеешься? – укоризненно спросил Тит.
– Представил себе эту икебану, торчащую из задницы, – признался Гриша, всхлипывая от восторга. – Капитон, не обижайся. Продолжай.
– Далее же, за грехи мои тяжкие, возжелали меня надзиратели смертным боем бить, но тут у барина любимый песий холоп опочил. Меня вместо него на цепь посадили, за что весьма благодарен, ибо имею возможность и далее верой и правдой барину служить, свой грех тяжкий искупая.
– Что такое песий холоп? – спросил Гриша. – У нас в имении таких не было.
– Это холоп, который песью службу несет.
– В каком смысле?
– Бывает человек, бывает пес, – стал сбивчиво объяснять Капитон, – а бывает что человек, но как пес. Гав! Песий холоп живет в конуре, ходит на четвереньках, говорить ему нельзя, только гавкать. Полагается на чужих людей лаять сердито, а коли барин подойдет, падать на спину и хвостом вилять.
Гриша хотел спросить, чем Капитон виляет вместо хвоста, но затем решил поберечь себя – у него и после первого приступа смеха заболел живот.
– И давно ты собакой работаешь? – спросил Гриша.
– Третий год пошел. Гав! Даст бог, еще столько же отслужу.
– Это типа пожизненно?
– До той поры, пока не околею, – согласился Капитон. – Тогда нового сыщут, а меня на заслуженный отдых.
– Да уж! И как она, жизнь собачья?
– Сперва тяжко было. Иной раз, по привычке, на ноги вставал, речи молвил…. Восемь раз в воспитательный сарай водили, разъясняли. А теперь ничего, слава богу. На ногах уже ходить разучился, до вас больше года ни с кем не молвил, а все ж еще горазд. Худо это. Надобно совсем отучаться. Вот только кости грызть мука – уж зубы не те.
Капитон продемонстрировал редкий гнилой оскал, на котором любой стоматолог смог бы сделать себе целое состояние, затем вдруг задрал ногу и стал деловито чесать себе пяткой за ухом.
– Но вообще грех жаловаться, – сказал он. – Доля завидная. Гав! Вот только барский сынок, шалунишка, балует. Прошлого дня из пищали духовой по мне стрелял. А на той неделе заставлял за палочкой бегать.
– Да, не жизнь, а сказка, – подытожил Гриша. – Только и остается, что позавидовать. Слушай, Капитон, ты не возражаешь, если мы тут у тебя немного посидим? До ночи.
– Гостюйте, – позволил холоп. – Мне не судьба остров Буян узреть, так, может быть, хоть вы дойдете. Вы не голодные? У меня за будкой кость зарыта.
– Спасибо, сыты, – вежливо отказался Гриша.
– И слава богу. Гав! Тогда расскажите, чем в вашем имении секут?
– Сейчас поведаю, – оживился Тит. – Во-первых, секут у нас плетью кожаной, иногда насухо, иногда в соленой воде вымачивают. Во-вторых, важно секут черенком от лопаты. В-третьих, секут иной раз оглоблей….
– Ну, оглоблей и у нас секут, – сказал Капитон. – Меня трижды оглоблей секли.
– А секли ли тебя мешком с кирпичами? – спросил Тит.
– Нет, не было такого.
– Вот она где порка-то! – с чувством собственного превосходства произнес Тит. – Оглобля-то что, ее и десять ударов стерпишь. А уж как мешок с кирпичами тебя приголубит, с единого раза света белого невзвидишь.
– Меня однажды били поленом по голове, – похвастался Капитон. – Важно били. Гав! Ум на месяц помешался.
– А бревном по голове били?
– Гав! То есть – нет.
Тит безнадежно махнул рукой.
– Что с тобой о порке молвить. Полено, говоришь. Вот как бревном-то по голове важно приложат, тут тебе не полено!
Гриша слушал увлеченно беседующих холопов, и их разговор мучительно напоминал ему что-то. Что-то очень знакомое, что он слышал в своей жизни много раз. Но что именно, Гриша так и не понял.
Глава 41
В гостях у песьего холопа беглецы просидели до полуночи. Радушный хозяин все же настоял на угощении, и отрыл свою заначку – сахарную косточку. Гриша бросил один только взгляд на покрытый грязью и сильно воняющий тленом мосол, и отрицательно мотнул головой. Тит, как и следовало ожидать, не отказался от позднего ужина.
– Важная снедь, – похвалил он, с треском разгрызая кость своими редкими гнилыми зубами. Что-то громко хрустнуло во рту, Тит запихнул туда руку и вытащил собственный зуб, обломившийся под самое корневище.
– Чума с ним! – буркнул он, равнодушно отшвырнув зуб на солому.
– По комбикорму шибко скучаю, – признался Капитон. – По холопскому оливье. Прежде за будкой лопух рос знатный, так я его как объел весь, он больше не урождается.
Слушая песьего холопа, Гриша впал в тягостное уныние. Всякого он насмотрелся в этом мире, но так глубоко, как Капитон, в бездну отстоя не опускался еще никто. Точнее, не опускали, поскольку Капитона никто не спрашивал, чего он хочет. Гриша, впрочем, подозревал, что даже если бы и спросили, Капитон все равно ничего умного не сказал бы. Попросил бы вместо костей комбикорм, да крышку от бочки – дверь в будку зимой прикрывать, чтобы снегом не заметало.
Прежде Гриша считал несправедливым свой родной мир, поскольку с другими мирами не был знаком. Ему всегда казалось, что он живет плохо и лишен многих радостей, доступных смертным. Видя по телевизору красивых девушек и крутые тачки, Гриша всякий раз задавался одним и тем же вопросом: почему он не входит в число тех счастливцев, кому доступны и шикарные девушки и шикарные автомобили? Ему чрезвычайно хотелось выяснить имя того негодяя, который распределяет роли между людьми, и одним дает все и сразу, а другим демонстрирует шиш без масла. Гриша нутром чуял, что живет не своей жизнью, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Его жизнь должна протекать там, среди роскошных вилл, прекрасных девушек и крутых тачек, в том подобном раю мире, где нет ни забот, ни хлопот, где все желания сиюминутно исполняются, и где не нужно думать ни о чем, лишь наслаждаться сплошным и бесконечным счастьем. Там не надо работать, там не надо считать каждую копейку и во всем себе отказывать. Гриша был уверен, что ему было предначертано родиться именно в таком мире. Возможно, произошел какой-то сбой судьбы, и сын олигарха явился на свет в семье пролетариев. Еще была версия, что его перепутали в роддоме, но против этого говорило два обстоятельства: во-первых, едва ли жена олигарха стала бы рожать в том курятнике, в котором Гриша впервые увидел свет, а во-вторых, Гриша был внешне почти точной копией своего отца в его годы. Это последнее обстоятельство исключало и еще одну возможность, а именно, что мать нагуляла его от олигарха, который вот-вот отыщет горячо любимого утраченного потомка и осыплет всеми возможными благами.
Гриша жил бедно, хотел много, а получал мало. В соседнем подъезде обитала очень красивая девушка, и Гриша еще с седьмого класса школы пускал на нее слюни. Но каждый вечер эта девушка садилась в приезжающую за ней дорогую машину и уезжала в красивую жизнь. Гриша даже не пытался подойти к ней, поскольку понимал – к таким девушкам не подходят. К ним именно что подъезжают. И не абы на чем. Чтобы заполучить ее, он должен был подъехать на автомобиле на порядок круче, чем тачка ее нынешнего самца. Но о какой крутой тачке можно говорить при зарплате в пятнадцать тысяч рублей?
Гриша страдал, не будучи в состоянии удовлетворить все свои желания, а желал он много чего. Но познакомившись с иной реальностью, Гриша коренным образом пересмотрел свои взгляды на жизнь. По сравнению с той жизнью, какую вели холопы, он был не просто счастливцем, он был в раю. Только здесь Гриша понял, как сильно ему повезло и как прекрасен его родной мир. Да, жил он в крошечной квартирке на окраине, но все же не в сарае и не в собачьей конуре. Приходилось ходить на плохо оплачиваемую и ненавистную работу, но все же он не пахал, как проклятый, по двадцать часов в сутки без выходных и отпусков за миску помоев. Да, шикарная соседка и прочие подстилки элитного сорта были ему не по средствам, но и бывшая подруга Машка отнюдь не являлась уродиной. К тому же та часть ее тела, которая больше всего интересовала Гришу, была одинаковой у всех женщин, во сколько бы они себя ни оценивали. А если прибавить к этому, что его не секли вымоченными в соленой воде плетками четыре раза в сутки, не били черенком, оглоблей и мешком с кирпичами, и, наконец, не пытались кастрировать по любому поводу или просто смеха ради, то Гриша мог смело считать себя счастливчиком. Ему достаточно было глянуть на Тита, и Гриша сразу понимал, что он является любимцем богов и баловнем судьбы. Вот Титу действительно не повезло. Если бы в океане потерпел крушение корабль, с которого на необитаемый остров спаслось бы три десятка нимфоманок, то даже единственный на них всех вибратор трудился бы меньше, чем пахал Тит. За свои труды Тит получал тумаки и был кормим помоями. Тит мечтал о турнепсе и комбикорме, как Гриша мечтал о спортивной тачке и шикарной блондинке. Тит был не только отлучен от секса, но еще и верил, что данный процесс является страшным грехом, и о нем не следует даже думать, дабы не угодить после смерти в ад. Плюс ко всему у Тита не было никакой надежды на улучшение своих жизненных реалий, поскольку один из пунктов холопского кредо гласил: кто холопом родился, тот холопом и помрет. Гриша же, в отличие от него, мог, к примеру, выиграть крупную сумму в лотерею, найти на улице очень толстый кошелек с баксами, еще каким-нибудь маловероятным путем осуществить свои мечты, а Тит ничего не мог. Да и не хотел.
Это вот «не хотел» Гришу особенно ужасало. Тит ни о чем не мечтал, ничего в этой жизни не жаждал. Все его помыслы были исключительно о загробной жизни в раю. Впрочем, тут же подумал Гриша, не видь он каждый день по телевизору ту самую «красивую жизнь», которая так его манила, и не садись соседка в дорогую тачку, и не происходи множество иных процессов, формирующих представление о счастье и успехе, он бы, вероятно, мечтал об иных вещах.
В этот момент Гришин головной мозг совершил такой прорыв, что стало немного страшно. Гриша вдруг понял, что и его «красивая жизнь», и загробный рай Тита, и остров Буян Капитона, это явления не просто одного порядка, а совершенно идентичные по своей сути. Тит выглядел глупо, мечтая о счастье после смерти, Капитон тоже не производил впечатления умного человека, когда болтал об острове Буяне, которого нет в природе. Ну а сам-то он чем отличался от них, до оргазма грезя о металлоломе на колесиках и о каких-то шикарных телках, разнящихся с вполне доступной Машкой только суммой на ценнике? Независимый наблюдатель не нашел бы между ними никакой разницы, поскольку все трое свято верили в фантомный образ точки концентрированного счастья, которая лежит вне досягаемости любой линии жизни.
Грише показалось, что он почти понял что-то очень важное, но тут он вспомнил о двадцати восьми блондинках и трех миллионах долларов, и мозг тут же заработал в привычном, то есть в холостом режиме.
– Да ну, – пробормотал Гриша, у которого от несвойственного прежде умственного напряжения заболела голова, – нечего и ровнять. Блондинки и тачка – это круто. А турнепс и остров Буян – отстой полный. Ежу ведь понятно.
Он выглянул наружу, и убедился, но насупила ночь. Пьяные крики надзирателей смолкли, ни в одном из окон господского особняка не горел свет. Имение в полном составе погрузилось в сон.
– У нас в имении мотыгой часто оскопляют, – рассказывал Капитон Титу.
– А у нас секатором, – похвастался Тит. – Секатором, оно ловчее.
– Да, ловчее, – согласился Капитон. – Хорошее у вас имение. Все у вас лучше.
– Это точно, – вмешался в разговор Гриша. – У нас все самое-самое. Особенно дураки. Таких дураков, как в нашем имении, нигде больше не найдешь. Их даже на международные выставки возят. Всегда первые места занимают. Так, Тит, ты закончил лясы точить? Нам пора. Остров Буян ждет. Капитон, дружище, всех благ! Сочных косточек и частых случек. Спасибо, что приютил.
– Не за что, – пожал плечами песий холоп. – Ужель один православный другому не поможет?
– Вот уж не знаю, – проговорил Гриша с сомнением. – У нас почти все население православное, если телевизор не врет, а что-то хрен кто друг другу помогает. Наоборот, стараются повалить и затоптать.
– Бог все видит, – философски изрек Капитон. – Кто истинно верующий и живет по завет Христовым, тому рай. Кто лжет и лицемерит, а сам грешит, тому ад. Бог справедлив. Каждому воздаст по деяниям и помыслам.
– Вот смеху-то будет, если в рай неграмотных не пускают, – сказал Гриша, когда они с Титом выбрались из конуры. – Кто его знает, как там устроено. Вы тут терпите, терпите, а надо было букварь зубрить.
Если у помещика Орлова двор барского особняка ночью патрулировали надзиратели, пусть и делали это чисто символически, то в этом имении распущенные надзиратели давно забили на свои служебные обязанности. Гриша приблизился к парадным дверям огромного дома, и, на удачу, потянул за бронзовую ручку на себя. Дверь послушно открылась.
– Что-то слишком везет, – проворчал он подозрительно. – Не к добру это.
– Господь помогает, – высказал предположение Тит.
– Помогает воровать? Тит, за такие наезды на бога тебя точно в рай не пустят. Базар фильтруй.
– Прости мя господи.
– Уже лучше. Что, входим?
– Знамо дело.
Они проникли в гостиную, погруженную в зловещий полумрак. Ступая осторожно, чтобы сослепу не налетать на мебель, Гриша добрался до двери под лестницей, ведущей на второй этаж. Приоткрыв ее, он потянул носом воздух. Воздух благоухал ароматами вкусной и здоровой пищи. Там, внизу, была кухня.
– Не сюда нам… а жаль!
Следующая дверь тоже оказалась не заперта, она вывела в короткий коридорчик, больше похожий на тамбур. Гриша приложил ухо к двери, и прислушался. Внутри царила тишина. Он тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь.
За дверью открылся огромный зал, заставленный книжными шкафами. Здесь имелось дежурное освещение, тусклые полусферы под потолком, так что Гриша был избавлен от удовольствия натыкаться в темноте на всевозможные предметы, благо болезнетворного хлама в этом доме было предостаточно.
– Похоже, это библиотека, – сделал вывод Гриша, змеей просачиваясь в помещение. Следом за ним внутрь юркнул Тит и прикрыл за собой дверь.
Книг на полках было не просто много, их было чудовищно много. Если бы Гриша когда-нибудь попытался вообразить себе свой персональный ад, он бы представил себе именно эту библиотеку, и злого черта, который бы целую вечность заставлял его перечитывать все эти книги. Книги были повсюду. Они заполоняли упирающиеся в потолок стеллажи, стопками лежали на паркетном полу, громоздились на массивном дубовом столе. Испытывая объяснимое чувство страха, Гриша приблизился к столу и изучил названия фолиантов. Первая книга, попавшаяся ему на глаза, называлась так: «Организация крестного хода в осенне-зимний период». Следующая за ней проясняла ситуацию, поскольку носила название: «Отупляющее действие массовых тематических шествий». Рядом валялась брошюрка в мягкой обложке «Человек ли холоп?». А под ней оказался массивный том страниц в семьсот, озаглавленный так: «Кредо холопа. Руководство по формированию правильного холопского менталитета». Холопское кредо Гриша частично помнил – с ним он познакомился в первый же день своего пребывания в этом прекрасном мире. Похоже, надзиратели не высосали его из пальца, или из другого места. Краткий, но емкий свод холопских аксиом являлся результатом кропотливого труда многих специалистов, и имел своей целью научить барина убеждать своих крепостных в том, что существующий порядок вещей есть естественная норма, и любой другой вариант будет намного хуже и страшнее. Тут же нашлось еще одно пособие, озаглавленное весьма красноречиво: «Как научить холопа бояться перемен». А рядом с ней руководство по проведению пыток, названное коротко и ясно: «Кнут». Гриша пошарил по столу, но продолжения под названием «Пряник» так и не нашел. Судя по всему, пряник холопам не полагался. Наличие пряника исключал следующий научный труд: «Роль несправедливости в воспитании идеального холопа». Поборов отвращение к печатному слову, Гриша открыл книгу посередине, и прочел первое, что попалось на глаза:
«Существует мнение, что хороший помещик тот, кто постоянно занят делами своего имения, постоянно вникает в дела и заботы своих крепостных, непосредственно решает возникающие проблемы, даже самолично наказывает холопов. Но данное мнение является в корне ошибочным. Хороший помещик тот, кто вообще не контактирует с холопами, и живет исключительно в свое удовольствие, посвящая все свое время своей семье и духовному развитию. Это вовсе не значит, что помещик должен запускать все дела и не интересоваться ими. Просто он раз и навсегда выстраивает в своем имении независимую социальную систему, которая замыкает в себе всех участников.
Нет нужды вникать в дела каждого холопа, оценивать его поступки и назначать сопоставимую меру наказания. Справедливость опасна, поскольку ведет к возникновению правильных представлений об окружающем мире, к выстраиванию здоровой системы морально-этических ценностей. Оценивая поступки холопов своими представлениями о справедливости, помещик неосознанно делится с ними верными представлениями о добре и зле. А поскольку уже доказано, что мозг некоторых холопов при определенных условиях способен выстраивать логические цепи, то даже при минимуме исходных данных особо выдающиеся крепостные могут самостоятельно додуматься до очень опасных вещей.
Кто-то может сказать, что нет ничего страшного в том, что холопы получат верное представление о справедливости. Но так может рассуждать лишь очень недальновидный человек. Справедливость, как оценочный трафарет восприятия окружающего мира, является главной угрозой порядка и стабильности. От верного понимания правильности или неправильности своих поступков, холопы могут прийти к осознанию несправедливости своего положения. История знает подобные случаи, и знает, чем все это заканчивается.
Так, например, в пятидесятых годах двадцатого столетия помещик Давыдов рязанской губернии решил заняться просвещением своих крепостных, с целью чего открыл в имении школу. При этом он обучал холопов по той же программе, по которой учатся дети дворян. Его крепостные были почти полностью освобождены от труда, и посвящали все время учебе. Ходят неподтвержденные слухи, что некоторые из холопов научились читать и даже писать, хотя поверить в это нелегко. А один крепостной даже самостоятельно написал небольшой рассказ. И в этом рассказе холоп сообщил, что мечтает быть свободным человеком, и жить так же красиво и весело, как об этом написано в книжках. Помещик Давыдов радовался своим успехам, даже не подозревая, какой опасный эксперимент он затеял. Не вняв предупреждениям, он позволил холопам вести половую жизнь, объединив мужскую и женскую территории. Он позволил холопам самим провести выборы и избрать из своей среды представителя, который бы стал чем-то вроде старосты.
Затем разразилась неизбежная катастрофа. В имении вспыхнул кровавый бунт, помещик Давыдов и вся его семья были зверски убиты, а женщины предварительно изнасилованы (есть сведения, что в число изнасилованных попал и сам Давыдов, пытавшийся сбежать, переодевшись в платье жены), погибли так же все надзиратели. Холопы захватили имение, объявили его своей собственностью, а себя новыми хозяевами. За первый день они провели восемь выборов, всякий раз избирая и смещая новых и новых предводителей. Вечером произошла революция, а ночью разразилась гражданская война. Добравшись до хранящегося в доме арсенала (помещик Давыдов был коллекционером огнестрельного оружия), две враждующие банды холопов всю ночь вели кровопролитный бой, кончившийся под утро победой одной из сторон. Представителей проигравшей стороны лишили привилегий свободных людей и назначили новыми холопами. Во всем подражая надзирателям, холопы-победители унижали побежденных холопов, систематически избивали их, заставляли выполнять тяжелую работу и морили голодом. Верховодил захватившей власть бандой холоп-изувер Потап. Это был тот самый холоп, что написал рассказ о своих мечтах о красивой жизни. Эти мечты он начал осуществлять сразу же. В качестве своей наложницы он удерживал четырнадцатилетнюю дочь помещика Давыдова, которую привязал к постели и насиловал только сам, не допуская к ней своих подельников. При этом вместе с подельниками он опустошил винный погреб помещика, развлекался тем, что гадил на столы и кровати, мочился на фамильные портреты. Вместе с тем холоп Потап проявлял феноменальную жестокость в отношении тех холопов, что оказались в оппозиции. Утром, в обед, вечером и в полночь вместо порок он устраивал показательные казни. Способы умерщвления тоже отличались исключительной бесчеловечностью. Холопов обливали керосином и поджигали, заживо закапывали в землю, разрывали на части автомобилями. Свою наложницу Потап, когда она ему надоела, заживо сварил в большой кастрюле.
Через неделю информация о произошедшем в имении бунте дошла до властей, и на место прибыл полицмейстер в сопровождении базирующегося неподалеку пехотного полка. Но ожидаемого вооруженного сопротивления со стороны смутьянов не последовало. Едва завидев приближающиеся войска, смутьяны побросали оружие, взяли иконы и хоругви, и пошли навстречу крестным ходом, крича, что их бес попутал, но теперь они все осознали и раскаялись. Все холопы были арестованы, над ними провели следственные мероприятия. На допросах холоп-изувер Потап божился, что не по своей воле поднял бунт, но по наущению дьявола. Якобы лукавый являлся ему во сне, и заставлял делать всякие греховные вещи. Например, он нашептывал ему заманчивые слова о красивой жизни, полной праздности и разгулья, расхваливал вино и женщин. А являться он начал сразу же после того, как Потап освоил грамоту и стал читать книжки.
После проведения следствия все холопы имения были казнены. Их даже не отправили на каторгу, опасаясь того, что зараза своеволия и смутьянства может распространиться на других холопов, которые вступят с ними в контакт. Опустевшее имение помещика Давыдова сожгли, а пепелище посыпали дустом.
История эта наглядно показывает, насколько вредны верные представления об окружающем мире для холопского ума. Чем больше холоп получает правильных знаний, тем больше он подвержен дьяволу, искушающему его соблазнами. А поскольку холоп тварь безвольная и слабая, то он охотно соблазняется, не в силах противостоять врагу рода человеческого. В силу же того, что никакой моралью холопы не отягощены, они, повинуясь своим желаниям, способны совершать невероятно жестокие и кошмарные поступки.
В связи с этим рекомендуется наказывать холопа не за дело, но просто так, по произволу, чем успешно могут заниматься надзиратели без вмешательства барина. Даже рекомендуется, чтобы наказание ни за что было суровее и болезненнее, чем кара за совершенный проступок. Таким образом, холоп никогда не сможет понять, что он делает правильно, а что нет, и утвердится в мысли, что никакими своими действиями не способен повлиять на обращение с собой. В этом-то и заключается смысл несправедливого наказания. Неспособность повлиять на ситуацию рождает в человеке не протест, но смиренную набожность. Религия тоже является своего рода протестом, но это протест отчаявшихся, протест смирившихся. Вместо борьбы за улучшение своей жизни здесь и сейчас, холопы рисуют себе красивую мечту о загробной жизни, где все будет гораздо лучше, чем в этом мире. Здесь очень полезны частые религиозные мероприятия, такие как крестные ходы, массовые богослужения и проповеди святых старцев…».
Гриша захлопнул книгу и нахмурился. Судя по циничной откровенности, этот текст явно предназначался не для холопских ушей. Для холопских ушей предназначались проповеди святых старцев. Гриша покосился на Тита, который в это самое время ел книгу, и помрачнел еще больше. Тит был живым результатом описанной в трактате технологии.
– Хватит макулатуру трепать, – проворчал Гриша, отходя от стола. Тит уронил на пол наполовину съеденную книгу, дожевал последнюю страницу, и с готовностью уставился на своего повелителя.
Внимательно осмотрев библиотеку, Гриша нашел то, что искал. Один узкий стеллаж был отведен не под книги, а под коллекцию помещика. Гриша осторожно открыл стеклянные двери и стал хватать один экспонат за другим, внимательно изучать, после чего, когда тот не оказывался жезлом, небрежно бросать на пол. Грише еще в детстве хотелось залезть ночью в музей и все потрогать руками, кое-что сломать, а кое-что унести на память. Вот представилась возможность. Однако экспонаты кончились быстрее, чем Гриша успел войти во вкус.
– Не понял! – проворчал он, вороша ногой кучу реликвий. – А жезл где?
Жезла не было. Не было вообще ничего, похожего на жезл.
– Неужели он набрехал? – простонал Гриша, который на миг предположил, что прыщавый сопляк в погонах просто сочинил всю эту историю, чтобы удивить телок, а на самом деле никакого жезла у его контуженного папаши нет и никогда не было. От этой мысли Гриша разом вспотел во всех труднодоступных местах. Весь его план строился на том, что жезл здесь, в этом имении. Ну а если его нет, тогда что?
И тут едва не впавшего в отчаяние Гришу осенило. Он вспомнил, что сам, когда покупал какую-то давно желанную вещь, вроде нового мобильника, первые дни носился с ней, как с ребенком: все время держал под рукой, постоянно доставал и подолгу рассматривал, даже ложась спать, брал его с собой в постель, чтобы и ночью осязать и получать чувственные наслаждения от факта обладания телефоном. Но проходило несколько дней, вспыхнувшие чувства остывали, и новый телефон получал такое же обращение, как и его предшественник: был небрежно швыряем на полку (и иногда мимо оной), частенько ночевал под кроватью, выскальзывал из неуклюжих рук и в итоге находил свою смерть в водах унитаза, в которых Гриша за свою жизнь утопил восемь электронных устройств, притом пять из них принадлежали третьим лицам. Начиналось обычно с того, что Гриша просил дать ему посмотреть чей-нибудь телефон. Люди, хорошо знавшие Гришу, ему в этой просьбе отказывали, но иногда попадался кто-нибудь малознакомый, кому честное и открытое лицо Гриши внушало безграничное доверие. И он вручал ему мобильник, думая про себя: ну что он может с ним сделать? Пускай посмотрит. Гриша благодарил, брал телефон и уходил в уборную. Минут через десять он возвращался без телефона, и начинал издалека жаловаться на страшную жару, из-за которой ладони потеют и становятся очень скользкими. Или врал, что его на унитазе током ударило. И вот в силу этих-то уважительных причин, он и не сумел удержать чужой мобильник над бездной.
Вспомнив все это, Гриша сразу смекнул, что коллекционер, похоже, еще не налюбовался на свой жезл, и держит его не в хранилище, вместе с прочим хламом, а у себя в комнате. Эта версия имела право на существование, и Гриша с радостью ухватился за эту соломинку, потому что кроме нее в ассортименте имелись только двухпудовые чугунные гири с идущей в комплекте веревкой.
– Надо на второй этаж, – сказал он. – Спальни наверху. Интересно, здешний барин хорошо спит? Если нет, придется замарать руки кровью.
Тит опустил взгляд на свои коричневые ладони с огромными черными когтями. Их он уже замарал, и кое-чем похуже, чем кровь. Замарал так же ноги, бороду, правую щеку и прядь свалявшихся волос.
– Ты человек-кизяк, – сказал Гриша. – Это такой герой в костюме коровьей лепешки. У человека-кизяка есть разные героические способности. Например, комбинация ударов «С головы до ног» и магический навык «Дерьмовый шар». С ростом уровня героя размер и густота шара увеличиваются. Еще человек-кизяк умеет поражать всех злодеев вокруг такими заклинаниями, как «Зловонный туман» и «Подмышечный смрад». Слушай, о тебе фильм можно снимать. В формате 3D. Этот такой формат, в котором дерьма в три раза больше, чем в обычном. А еще ты по стенам сможешь ползать, если удачно прилипнешь. Вот только в прорубь тебе лучше не нырять, для тебя это безвыходная ловушка. Будешь там болтаться до весны.
Они вернулись в гостиную и поднялись по изогнутой полукругом лестнице на второй этаж. Ступени скрипели не все подряд, а в какой-то хитрой не просчитываемой последовательности, которую невозможно было угадать даже случайно. К тому же не все и пытались. Это Гриша осторожничал, а Тит топал, как слон, да еще и сопеть начал к чему-то, и сопеть громко. На замечания он не реагировал, точнее не понимал, что от него хотят.
Второй этаж представлял собой длинный коридор с множеством дверей, напоминающий общежитие. Табличек на дверях, разумеется, не было, но Гриша безошибочно, с первого взгляда, понял, за которой из них укрывается барин. Имелась верная примета – перед дверью в господские покои лежал на полу личный лакей барина, и нежно похрапывал. Гриша сразу понял, что этому лакею осталось жить считанные секунды. Он неслышно подкрался к нему, набросился, сделал умелый захват шеи и спокойно удушил. Пригодились навыки умерщвления, полученные на арене. Слезая с трупа, Гриша вспомнил безжалостную Ярославну, готовую истребить любого, кто встанет на ее пути, и сравнил с девушкой себя. Он тоже стал действовать подобным образом, не особо задумываясь: душить или не душить? Но если бы человек иного воспитания всерьез обеспокоился таким личным равнодушием к чужой жизни, Гриша, напротив, загордился. У него еще с детства сложилось определенное представление о крутом перце – некоем недостижимом идеале, к которому следует стремиться. Не во всем Гриша мог соответствовать крутому перцу. Что-то не получалось чисто физически – ну не мог он всю ночь, до рассвета, любить девушку. Нереально крутой тачки у него тоже не было. Но зато он приобрел нечто столь же важное для крутого перца – готовность идти по трупам, притом изготовлять эти трупы без тени сомнения и последующего раскаяния. Да и какое еще раскаяние? Разве герои любимых Гришиных боевиков раскаивались в том, что истребляли врагов сотнями? Ничего подобного. Они в следующем фильме еще больше народу на тот свет переправляли.
И вот стал он на шаг ближе к своему идеалу. Когда получит деньги, купит себе крутую тачку. С вечной эрекцией труднее, но если заплатить нескольким телкам, чтобы они всем рассказывали, какой он половой гигант, народная молва быстро разнесет эту информацию по всему городу. И тогда он станет в людских глазах живым воплощением бога – крутого перца. Телки будут к нему в очередь выстраиваться, пацаны дико завидовать. Больше всех будет завидовать лучший друг Колька Скунс, потому что Гриша заплатит девушкам, чтобы они говорили, что тот является тотальным импотентом. Вроде бы мелочь на общем фоне, но лишь одна мысль об этом так нежно и приятно согревает. Стоит представить себе, как засмеянный всеми Скунс боится из дома выйти, и душа буквально поет.
– Тит, утащи труп в сортир, – приказал Гриша шепотом. – Брось там, пускай лежит. Утром найдут, подумают, что умер своей смертью, от старости.
Тит перекрестился, взял лакея за ноги и поволок по паркету в сторону приоткрытой двери уборной.
А Гриша, тем временем, действовал, не теряя более не минуты. Так поступают крутые перцы – они действуют. Всякие лохи и ботаники, весь этот человеческий отстой, без которого, однако же, жизнь крутого перца была бы плоха, только и делают, что думают разные думы, мучаются разными сомнениями и в итоге вся их энергия выходит в гудок словоблудия. Крутые перцы не такие. Они не думают, не сомневаются, они просто достают из кармана ствол и преобразуют умственную энергию в кинетическую, а всех, кто не спрятался, в клиентов морга. Так поступали герои боевиков, так хотел поступать и Гриша. Еще он очень хотел вечную эрекцию, но понимал – не все сразу. Вдруг вечная эрекция приходит позже, когда безжалостность уже полностью развита?
Дверь открылась без шума, Гриша на четвереньках вполз в освещенные ночником покои барина, и только после этого задрал голову. Задрал, и в тот же миг почувствовал, что вся его крутость вот-вот вырвется из организма с разрушающим всю конспирацию грохотом.
Барин не спал, и был не один. Развалившись на огромном ложе, он наслаждался не лишенной приятности оральной процедурой, которую организовывала ему юная мастерица из холопского сословия. Гриша на мгновение застыл в нерешительности, но затем паралич страха отпустил его, когда стало ясно – и сам барин и малолетняя сосулька слишком увлечены процессом, чтобы обращать на что-то внимание. Тут, повернув голову, Гриша увидел искомый предмет. Жезл Перуна лежал на журнальном столике, не скатившись на пол только потому, что его удержала большая и явно дорогая ваза. Внешне древний артефакт напоминал самую обычную палку длиной в метр и диаметром с ручку от швабры. Весь он был гладко отполированный, темный, почти черный, на обоих его концах шло по четыре золотых кольца, обвивающих древко. Вот и весь жезл. Ничего особенного. Даже сенсорного экрана, и того не было.
С трудом сдерживая с одной стороны радость, а с другой прорыв адреналина, Гриша осторожно потянул жезл, стараясь не производить никакого шума, и, разумеется, произвел – опрокинул на пол вазу.
– Что такое? Кто здесь? – заворчал помещик, спихивая с себя юную оральную труженицу. Сев на кровати, он тупо уставился на Гришу, что застыл на коленях с жезлом Перуна в руке.
– Ты еще кто? – удивленно спросил помещик. Впрочем, удивление его быстро сменилось гневом. – Вор… Воры! – вдруг заорал он звонким голоском. – Сюда! Эй, все!
Гриша среагировал мгновенно. Он юлой взвился на ноги, схватил жезл как привычную бейсбольную биту, и, сделав солидный замах, попытался отоварить барина по устам громогласным. Но вместо этого произошло нечто невероятное.
Гриша сам не понял, что случилось, но от взмаха жезлом часть несущей стены, кусок крыши и перегородка с соседней комнатой с грохотом вылетели наружу, усыпав обломками цветник у фасада. Ноги барина остались на кровати, а вот верхняя часть тела отправилась в полет вместе с изрядным куском недвижимости. Девчонку, еще до Гришиного удара скатившуюся с кровати, магическая ударная волна не задела, зато рухнувшая сверху потолочная балка расплющила в кровавую лепешку. Ошеломленный Гриша забился в угол, и тупо переводил взгляд с пролома в стене на самую обычную, с виду, палку, похожую на трость диковинной работы.
В комнату заглянул Тит, размашисто перекрестился и промолвил:
– Господь-вседержитель! Аль Илья пророк молнией грянул?
Эти слова вывели Гришу из оцепенения. С улицы уже слышались громкие голоса, полные удивления и тревоги. Наверняка грохот разрушаемого особняка разбудил всех надзирателей, и те уже спешат сюда со всех ног.
– Надо бежать, – прохрипел Гриша, вскакивая на ноги. – Тит, не стой как баран. Валим!
Они выскочили в коридор и, плюнув на конспирацию, со всех ног бросились к лестнице. Но тут одна из дверей распахнулась, и перед ними возник прыщавый сопляк, которого Гриша видел на пикнике. Он открыл рот, явно собираясь что-то сказать или спросить, но Гриша наступил на горло его песне, с разбега нанеся сокрушительный удар промеж офицерских ног. Молодой барин даже не успел толком попрощаться с половой жизнью, поскольку Гриша, закрепляя успех, душевно приложил его головой об стену.
До лестницы оставалось несколько шагов, когда Гриша услышал топот ног, бегущих по ступеням. Схватив Тита, он впихнул его в ближайшую комнату, юркнул следом сам и прикрыл за собой дверь. Надзиратели, вбежав на этаж, бросились к покоям барина. По пути они наткнулись на бесчувственное тело наследника, стали кричать, шуметь, и вообще растерялись. Гриша, внимательно прислушиваясь к голосам из коридора, вскоре выяснил, что надзиратели пришли к ошибочному мнению, решив, что вторгшиеся в имение враги ушли черным ходом. Тут же все бросились к черному ходу, дабы организовать погоню. Когда снаружи все стихло, Гриша выглянул в коридор. Там было пусто. Юный барин лежал там же, где упал. Вокруг его головы расплылось кровавое пятно, и Гриша понял, что взял на душу еще один мелкий грешок.
– Тит, давай за мной, пока эти ослы нас в другом месте ищут, – скомандовал Гриша. Тит повиновался. Он вообще вел себя как-то неестественно: не тупил, не падал на колени, не начинал не в тему молиться. Все это могло означать, что Тит поумнел. Гриша верил в это до тех пор, пока не увидел отвисшие под тяжестью груза штаны подельника. Увы, предположение о том, что головной мозг Тита пришел в активное состояние, оказалось ошибочным.
Лестница оказалась свободна от живых препятствий к побегу. Скатившись на первый этаж, подельники выскочили во двор, по которому с круглыми глазами метались надзиратели и холопы. Надзиратели со сна решили, что начался пожар, подняли всех крепостных, раздали, кому хватило, ведра, кому не хватило, тем налили воды во рты и ладони, и погнали всю ораву на тушение. Холоп – скотина тупая. Если ему приказывают тушить барский особняк, он будет его тушить, и не важно, горит он или нет. На территории имения находился большой бак с водой, наполовину врытый в землю. Пока надзиратели ловили предполагаемых террористов, холопы исправно исполняли полученный приказ – бегали к баку, зачерпывали воду, и поливали стены особняка. Два лакея барина, один ответственный за правую ягодицу повелителя, а второй за левую, опоздали к раздаче ведер. Но их служебное рвение было столь велико, что они раздобыли где-то огромное сито для просева песка, и пытались таскать воду в нем. Еще одному холопу досталось ведро без дна. Но его это не остановило. С потрясающим упорством он черпал им воду, бежал к дому, затем останавливался, тупо заглядывал в ведро и бежал обратно. И так снова и снова. Ели бы один из надзирателей не выдал ему разъяснительный подзатыльник, пожарник так и наполнял бы бездонное ведро до тех пор, пока смерть не разлучила бы их.
Надзиратели уже поняли, что пожара нет, и холопов надо загнать обратно в бараки, но им было не до того. Убили барина, убили меньшого барина. И злодеи, судя по всему, где-то поблизости. Только отловив их, можно было как-то оправдаться перед полицией, которая неизбежно нагрянет и начнет выяснять, почему не уследили, не уберегли, не пресекли. И если внятных объяснений не последует, то полетят головы. Хорошо, если удастся отделаться отправкой в армию, а то ведь могут на каторгу сослать, или в Сибирь, охранять хуторки счастья – так назывались трудовые колонии, где холопы вручную, как тысячи лет назад, добывали полезные ископаемые. Уголь ковыряли руками и зубами, а до нефтяного пласта вначале копали узкую скважину, а затем опускали туда на веревке мужика с ведром. Однако эта проверенная веками технология затрудняла добычу нефти на арктическом шельфе – у специалистов возникло сомнение, что черпальщики сумеют так надолго задержать дыхание. Пытались даже разработать специальный дыхательный шланг из резины для подачи ныряльщику воздуха, но ничего не вышло – во время испытаний холопы ели шланг. В связи с этим поступили два разных проекта решения проблемы: первый – сделать шланг из железа, второй – выбивать ныряльщикам зубы. Поскольку зубы выбить дешевле, чем отлить железный шланг, утвердили второй проект.
При всеобщей суете и неразберихе затеряться в толпе оказалось несложно. Гриша вырвал ведро у первого попавшегося холопа, и, размахивая им, побежал к баку с водой. Тит не отставал, подыгрывая напарнику. Но он, по всей видимости, слишком сильно вжился в роль, и когда Гриша, пробежав мимо бака, припустил в поле, Тит зачерпнул в ладони воду и бросился тушить особняк. Пришлось возвращаться за бараном, что, впрочем, обошлось без эксцессов. Тупые надзиратели, умом недалеко ушедшие от холопов, представляли себе разбойников так, как их описывали народные сказки: с саблями, пистолетами, с повязкой на глазу, покрытых шрамами и с золотой серьгой в ухе. Им и в голову не могло прийти, что разбойники могут выглядеть так же, как холопы, ведь в кастовом обществе форменная одежда сидит крепче, чем родная шкура. А стереотипы в мозгах и того крепче.
Гриша с Титом, вольные соколы, то есть один сокол и один баклан, бежали по полю сквозь звездную ночь. За их спинами, светясь электрическими огнями, гудело растревоженное имение. Слышались крики надзирателей и стук ведер о края бака: холопы продолжали тушение несуществующего пожара. Гриша счастливо улыбался, хотя колени еще подрагивали от пережитого шока. Но все прошло удачно, и легендарная реликвия древности, наследие канувшей в небытие Атлантиды, была у него в руках. Более того, он уже имел возможность убедиться, что все разговоры Ярославны и других подпольщиков о чудесных свойствах этой палки не просто пустая болтовня. Палочка определенно была волшебная. Грише не терпелось уединиться в укромном уголке, и поэкспериментировать с добытым артефактом. Он уже знал, что попросит у волшебной палочки. Сейчас, вот прямо сейчас и здесь, он хотел огромный тазик крабового салата, десять котлет по-киевски и большую баклажку холодного пива. Ну а после трапезы можно наколдовать бесплатную, на все согласную блондинку заманчивой наружности.
Когда оба злодея добежали до черной стены леса, то без сил повалились на землю. Имение осталось далеко позади, опасаться преследования не стоило. Да и стоило ли чего-то опасаться с жезлом Перуна?
– Пускай теперь кто-нибудь наедет, – хрипло дыша, пригрозил в ночь Гриша, – я ему такую палку кину! Вот эту. Волшебную. Мало не покажется. Надвое разрублю, как того педофила.
Рядом на земле хрипло дышал верхом и низом изнемогший Тит. Крепостные вообще-то отличались выносливостью (невыносливые не доживали до половой зрелости), но эта выносливость главным образом заключалась в умении сутками пахать на определенной скорости. Бегать крепостные не привыкли и не умели. От них этого и не требовалось. Главная их задача заключалась в том, чтобы как можно сильнее устать, выполняя разную бесполезную работу.
– Ничего, Тит, – утешил товарища Гриша, – скоро жизнь наладится. Скоро мы их всех порвем. Мне двадцать восемь блондинок и пять миллионов, тебе тазик отрубей и онанизма до отвала рук. Наши мечты вот-вот сбудутся. Сейчас, только отдышусь….
Глава 42
Под утро Гриша и Тит выбрались на большую дорогу. Волшебная палочка, к сожалению, не желала наколдовывать ни еду, ни блондинок, а жрать, меж тем, хотелось все сильнее. Гриша решил попробовать попрошайничество, как крайнюю меру. Он уже был наслышан о том, что вдоль дорог бродят калики переходные – увечные холопы, изгнанные хозяевами за полной бесполезностью. В голову пришла мысль сыграть инвалидов, и, давя на жалость, выпросить у хозяев жизни немного килокалорий. В крайнем случае, если хозяева жизни окажутся душимы жабою, можно пустить в ход жезл. Пусть он и не радовал хозяина салатами и блондинками, но вот разрушать и убивать умел хорошо.
Перед дебютом Гриша загримировался: оторванным у Тита рукавом перевязал себе щеку, и стал талантливо прихрамывать, опираясь на жезл. Сломать его Гриша не боялся – тот, как показали варварские эксперименты, был прочнее стали. Тита решено было не подвергать гримированию, поскольку по нему с первого взгляда было видно все тридцать три диагноза, с половиной из которых следовало ломиться в кабинет психиатра.
Машину пришлось ждать долго. Дабы не скучать, Гриша сообщил Титу, что святой Макар хочет от него зажигательный танец. Доверчивый холоп тут же пустился вприсядку на обочине. Пляска продолжалась до тех пор, пока Тит не рухнул без сил. Гриша уже хотел напомнить ему о воле небес, согласно которой нога Тита должна была оказаться в его заднем проходе, но тут издалека донесся шум мотора.
– Вставай! – приказал Гриша танцору диско. – Когда тачка тормознет, если, блин, тормознет, падай на колени и молись. Говорить я буду. Ты только молись или молчи.
На дороге появился шикарный драндулет, явно сошедший с конвейера где-то на враждебном западе. По недосмотру всевышнего, и явно с попустительства дьявола, европейские и американские злопыхатели делали прекрасные машины, а с конвейеров отечественного автомобильного гиганта Святоваз сходили изделия, за руль которых без трех икон, нательного креста, Библии и ведра святой воды даже садиться было страшно. Недавно патриарх Никон пытался изгнать с автозавода дьявола, три ночи отмаливал последнюю модель, но силы тьмы оказались могущественнее слова святого человека. Не помогло даже окропление святой водой рук сборщиков: те как росли из непотребного места, так и продолжали расти. Инженеров-проектировщиков отпевали в храме неделю, а главного специалиста по дизайну патриарх, проехав сто метров за рулем только что собранного недоразумения, предал анафеме, проклял и призвал на его голову гнев божий. Когда же патриарх, выбираясь из отечественного автомобиля, вывихнул себе лодыжку и сломал два пальца на руке, но стал проклинать не только самого дизайнера, но и всех его предков. Больше всего досталось маме, с которой, как признался патриарх, его связывали крайне близкие отношения. В общем, даже в стране победившего православия оставалась область, где дьявол царил единовластно – автомобильная промышленность.
Появившийся на трассе автомобиль явно был собран по воле божьей. На таких роскошных и комфортабельных авто вполне могли разъезжать по райским кущам святые угодники, великомученики, страстотерпцы и даже ангелы. Здесь же, на грешной земле, в них катались как раз те, кто грешил, мучил и заставлял других терпеть всякие страсти.
Гриша невольно попятился подальше от края дорожного полотна, опасаясь, как бы из машины на полном ходу по двум переходным каликам не бросили бутылкой вина или корзиной со снедью. В имении он однажды подслушал рассказ одного надзирателя о том, как хозяин жизни вот так облагодетельствовал целую группу попрошаек. Проносясь мимо них на огромной скорости, меценат проникся чувством сострадания и швырнул им железный поднос с яблочным пирогом. Каликов как ветром сдуло с обочины – трое сразу наелись пирогом насмерть, двое немного помучались. Помня эту историю, иллюстрирующую всепобеждающую силу человеческого сострадания, Гриша благоразумно спрятался за Тита, надеясь, что чугунная голова напарника выдержит прямое попадание чего угодно.
Однако, завидев на обочине двух хромых и болезных оборванцев, автомобиль сбросил скорость и начал притормаживать. Гриша уже достаточно много времени провел в этом мире, и хорошо изучил здешние порядки. Так что он заранее грохнулся на колени, смекалистый Тит тут же последовал его примеру.
Машина остановилась. Выскочил шофер из холопов, обежал автомобиль бегом и открыл заднюю дверцу. Оттуда весьма грациозно выбралась почтенная дама лет тридцати пяти, сохранившаяся к своим годам весьма неплохо. Гриша поднял взгляд, быстро пробежался голодными глазами по заманчивой фигуре, и крепче сжал жезл Перуна. С таким оружием он чувствовал себя почти богом, и мог запросто заполучить и тачку и бабу. Вот только не хотелось до поры до времени поднимать шум.
– Несчастные холопы, – пожалела каликов дама. – Какой у вас жуткий вид. Откуда вы сами, болезные?
Тит забубнил молитву, смекалистый Гриша ловко извернулся:
– Идем в Суздаль, поклониться мощам святого страстотерпца Потапа. Подайте на прокорм православным людям, мы за ваше здоровье богу помолимся.
Говоря все это, Гриша про себя думал:
«Эх, сейчас бы задрать тебе платье, да засадить своего Потапа промеж булок».
– Богомольцы, – кивнула дама. – Святые люди. За всех нас грехи отмаливают. Тишка, – обратилась она к шоферу, – а есть ли у нас, чем насытить сих божьих людей?
Тишка вылупил глаза и покрылся кипящим потом. Похоже, барыня являла доброту и милосердие только в отношении диких холопов, а своим спуску не давала.
– Только корм для вашей собачки, госпожа, – ответил он дрожащим от страха тонким голоском. Как и все водители из числа холопов этот тоже был кастрированный.
– Ну, так и отсыпь им корму, – повелела барыня. – Да смотри, не обидь.
Тишка бегом бросился к багажнику, открыл его, немного повозился, и вскоре поставил перед Гришей и Титом большой бумажный пакет, доверху наполненный крупными гранулами бурого цвета. От гранул пахло мясом. Гриша почувствовал, что у него изо рта течет голодная слюна.
– Кушайте на здоровье, святые люди, – напутствовала матрона, усаживаясь обратно в салон автомобиля. – А ты, Тишка, что-то медлительный стал, нерасторопный. Мало тебя вчера кочергой наказывали. Приедем в имение, велю посечь тебя розгами с солью.
Машина тронулась и унеслась вдаль, обдав двух попрошаек клубами выхлопных газов. Гриша тут же схватил пакет, зачерпнул горсть гранул и протянул Титу со словами:
– Ну-ка испробуй.
Тит испробовал, и сказал, что снедь знатная. После него, видя, что дегустатор жив, корма отведал и Гриша. Отведал, и с удивлением понял, что это не просто вкусно, а очень вкусно. После холопских кушаний собачий корм показался ему пищей богов.
– Объедение! – нахватывал Гриша, бросая в рот последнюю горсть гранул. – Важно закусили….
Тут он посмотрел на Тита, и понял, что слово «закусили» должно стоять в единственном числе. Если не считать пяти гранул, выданных на пробу, Титу больше ничего не досталось.
– Господь велел делиться, – усовестился Гриша. – Ужель не православные? На, Тит, жуй пакет. Весь твой.
Тит с аппетитом умял бумажный пакет, и сразу приободрился. Целлюлоза пошла в кровь, наполняя организм энергией жизни. А когда холоп на десерт сорвал на обочине пучок травы и употребил его, то у него даже щеки порозовели.
– Поели, и слава богу, – подытожил Гриша. – Сытому и помирать не страшно. Теперь пора в путь.
– Верно молвишь, – согласился Тит. – Путь до Суздаля не близкий.
– Нет, Тит, в Суздаль мы не пойдем, – терпеливо объяснил Гриша. – Пускай мощи страстотерпца Потапа без нас там поскучают, а мы обратно двинем, в родное имение. Соскучился небось, а? По Танькиной попке-то?
– Важная жопа! – счастливо расплылся Тит. – Токмо как же мы обратно в имение явимся? Мы же беглые. Неужто с покаянием явимся, господам в ноги упадем, повинимся во всем, прощение вымолим?
– Почти угадал, – недобро усмехнулся Гриша, поигрывая жезлом Перуна. – Вот только в ногах валяться будем не мы.
Определившись с направлением, благо на обочине обнаружился дорожный знак, сообщающий, что до владений помещика Орлова пятьдесят верст, товарищи тронулись в путь-дорогу. Гриша решил не рисковать, и добраться до имения пешочком, хотя был соблазн экспроприировать у господ автомобиль. Уж очень не хотелось выворачивать ноги. Впрочем, перетруждать ноги не пришлось, поскольку большую часть пути Гриша проделал верхом на Тите. Объявив, что это воля святого Игната, Гриша залез Титу на спину, и поехал себе с комфортом, подгоняя гнедого жезлом. Когда Тит начинал задыхаться и спотыкаться, Гриша великодушно позволял перейти ему с бега на шаг, и немного отдохнуть.
Изредка мимо проносились автомобили, и всякий раз беглецы изображали каликов переходных. Из одной машины на полном ходу бросили яблоко. Фрукт угодил Титу в лоб, и холоп, размахивая руками, слетел в кювет. Когда он выбрался обратно с огромным фонарем на лбу, Гриша уже дожевывал яблоко.
В большинстве случаев автомобили проносились мимо, не притормозив, но некоторые все же останавливались. Иногда одаривали едой, чаще ограничивались несъедобным добрым словом. А из одной машины выскочил сопляк лет пятнадцати, выдал обоим просителям по пинку, весело заржал, запрыгнул обратно и умчался.
К вечеру калики добрались до поста дорожной стражи. Тит хрипел и едва перебирал копытами, у Гриши уже рука устала бить его жезлом. Пост, показавшийся впереди, был обычным невзрачным строением окаянного вида, зато вокруг него наросла целая инфраструктура. Имелась придорожная забегаловка, выстроенная в виде старорусского терема. Рядом с ней высился еще один теремок, который, судя по заманчивым картинкам на окнах, являлся придорожной засадиловкой. У входа в храм Астарты топтались жрицы продажной любви, все грязные, в обносках, и страшные. Гриша, проскакав мимо них верхом на Тите, отсалютовал представительницам древнейшей профессии.
Когда они проходили мимо поста стражи, полицейские, ради смеха, спустили на них собак. Гриша тут же повалил Тита на землю, а сам побежал быстрее ветра. Собаки окружили Тита, понюхали, стали фыркать, чихать, воротить носы, и вскоре вернулись обратно к хозяевам, не рискнув попробовать бяку на вкус.
Ночевали паломники в лесу, отойдя подальше от дороги. На ужин у Гриши было три пирожка с ливером, полученных им от сердобольной старухи из шикарного лимузина. Дабы Тит не пускал слюни во время трапезы, Гриша сообщил ему, что сейчас строгий пост, и православному люду скоромное есть нельзя. Тит поверил, и ограничился тем, что обглодал кору с трех берез.
Спать легли сытыми и довольными, а проснулись среди ночи от того, что по ним с силой хлестал дождь. Проклиная все на свете, Гриша отыскал дерево с пышной кроной, почти не пропускающей воду. Тита, чтобы жизнь турнепсом не казалась, он под дерево не пустил. Наоборот, выгнал его на открытое пространство, и приказал молить Илью пророка о прекращении кратковременных осадков.
К утру, вымокшие и озябшие, вновь вышли на трассу. Жалуясь на усталость и бессонную ночь, Гриша, кряхтя, залез на Тита и пришпорил его. Скакун пошел сперва мелкой рысью, затем, разогревшись, перешел на галоп. Земля загремела под ногами холопа, ветер засвистел у Гриши в ушах. Всадник издал восторженный вопль, и подбодрил Тита жезлом по заднице.
Гриша не уставал восхищаться выносливостью и силой Тита. На первый взгляд мужик не производил впечатления богатыря: тощий, грязный, волосатый, с впалой грудью и сгорбленной спиной, со стиральной доской выпирающих из-под шкуры ребер. Казалось, дунет сильный ветерок, и свалится Тит. Казалось, плюнь в него, и погибнет Тит. Но, как выяснилось, могучий дух русского богатыря жил в этом, никогда не знавшем бани, теле. Даже с ношей на спине Тит скакал, как конь, до самого полудня. Гриша, переполняемый восхищением, расхваливал своего гнедого, превозносил его, говорил, что, верно, из таких вот чудо-богатырей состояла армия Суворова, совершившего переход через Альпы. В какой-то телевизионной передаче, где патриотическим образом доказывалось, что люди произошли от русских, Гриша слышал о том, что будто бы многие тысячи лет назад на территории Российской Федерации проживал великий и могучий народ. Это были предки тех, кто ныне валялся под забором в мокрых от расплескавшейся урины штанах, тех, кто с вежливой улыбкой впаривал соотечественникам китайскую электронику, тех, кто как дикарь, неистово скупал самые дорогие бусы, зеркала, яхты, особняки и моделей. Могуч и велик был древний народ. Это он изобрел колесо, второе колесо, передний мост, задний мост, рычаг переключения передач и ручной тормоз. Согласно легендам, представители древнего народа обладали невероятной силой и большим умом. Сила явно передалась Титу от далеких предков, ум не выдержал испытания временем, и за минувшие века весь выветрился. Мерно покачиваясь на костлявой спине Тита, Гриша разгадал тайну создания египетских пирамид и прочих мегалитических сооружений. Отнюдь не инопланетяне их построили, и не представители древней высокоразвитой цивилизации. Их строили Титы. Ибо что не сумеют сделать сто умных, легко сделает один Тит. Умные люди обступят каменный блок, весом в десять тонн, почешут там, где чешется, и мотнут головами. Дескать, этакую громадину ни за что нам не сдвинуть с места. И пробовать незачем. Подойдет к блоку Тит, поплюет на ладони мозолистые, осенит себя крестным знамением, впряжется в лямку, да как потащит камень в гору – любо-дорого смотреть. Протащит десять метров, надорвется, падет на землю, а ему на смену уже новый Тит готов. Так и строили. А чего не строить? Слава богу, на нашей планете камней и дураков на сто пирамид хватит: и Хеопсовых, и финансовых.
Во второй половине дня Тит начал хрипеть и спотыкаться. Чтобы морально укрепить его, и придать духовных сил, Гриша во все горло затянул последний блатной хит «А зоны здесь тихие».
К вечеру сошли с обочины и разместились на привал под сенью крон. Гришин ужин состоял из солидного куска пирога с голубятиной и десятка яблок – все это удалось выпросить у проезжающих. Тит с аппетитом жевал траву. Сперва Гриша хотел отдать Титу яблочные огрызки, но решил не баловать человека, боясь его тем самым испортить и развратить.
– Яблоки, это не еда, – постановил он, швыряя последний огрызок в кусты и порождая громкую отрыжку не лишенную благородства. – Блин, у Машки всегда в холодильнике столько всего было. Бывало, придешь голодный, как сука, разгромишь белый ящик: что сразу в топку, что по карманам. Пельмени замороженные у нее постоянно воровал. Дома же тоже надо чем-то питаться.
– Холопского оливье похлебать бы важно, – заметил Тит, запихивая в рот пучок ромашек.
– Фу блин! – передернуло Гришу. – У тебя даже разговоры все какие-то тошнотворные. Только о помоях и мечтаешь. Тебе дай волю, ты бы, наверное, целыми днями отруби жрал да лысого гонял. Давай лучше поговорим о чем-нибудь пиздатом.
– О любви к барину? – возрадовался Тит.
– Да нет, – досадливо отмахнулся Гриша, – о бабах. Помнишь Таньку?
– Барыню, – расплылся Тит в похотливой улыбке.
– Ага, – тоже заулыбался Гриша. – Вот это очень вкусное блюдо. Хотел бы его попробовать?
– Кого? – не понял Тит.
– Танечку.
– Съесть? – ахнул холоп. – Барыню съесть? Это же грех великий! Ужель не православные?
– Да нет, блин, – проворчал Гриша. – Не съесть. Отодрать.
– От чего?
– От большой любви, – буркнул Гриша. – Что с тобой, травоядным, о высоких материях толковать. Я у тебя спрашиваю, у пня дубового, хотел бы ты Танечке задуть.
– Куда задуть?
– Известно куда.
– Как задуть?
– Натурально.
– Зачем дуть-то? – все еще не понимал Тит. – Аль она обожглась?
– Ну тебя в жопу! – в сердцах бросил Гриша и повалился на траву. – Спокойной ночи, сладких снов. Я как с тобой начинаю говорить, мне жить не хочется.
На третий день пути случилось досадное происшествие. Гриша, убаюканный мерным ходом Тита, задремал на его спине, и холоп, лишившись управления, тут же сделал талантливую тупость. Трасса делала поворот, и довольно резко уходила вправо, а прямо тянулась убитая грунтовка с жалкими следами некогда бывшего здесь асфальта. Человек, в чьей голове хоть немного мозгов, сделал бы поворот вместе с трассой, и продолжил путь, но Тит как пер прямо, так и понесся по грунтовке, оставив трассу за спиной. К тому моменту как Гриша проснулся, Тит успел унести его далеко в дебри. Распахнув глаза, Гриша увидел, что Тит скачет по ухабистой грунтовке, с одной стороны которой простерлось невозделанное, поросшее дикими травами, поле, а с другой вставал жиденький лес. Остановив паровоз, Гриша спешился и тут же ударил Тита жезлом по голове.
Насколько они отдалились от трассы Тит сказать не мог, потому что он вообще ничего путного не мог сказать в принципе, но на обратный путь сил у него уже не было.
– Убил бы тебя! – в сердцах прикрикнул Гриша. – Вот взял бы, и убил.
Но не убил, потому что кроме Тита ехать было не на ком.
Впрочем, досадное недоразумение обернулось неожиданной удачей. За лесополосой они обнаружили брошенный яблоневый сад со старыми деревьями. Сад зарос, превратившись в непроходимые джунгли, многие деревья или засохли или не плодоносили, но кое-где на ветках покачивались зеленые яблочки. Гриша сорвал одно, дал Титу на пробу. Тит сожрал и не поморщился. Тогда Гриша рискнул отведать лакомство сам, и выяснил, что кушать это не слишком вкусно, но можно.
Остаток дня Тит провел, лазая по деревьям в поисках самых вкусных яблок. Гриша лежал на траве, и изредка поторапливал слугу. А ближе к ночи, когда на небо уже высыпали звездочки, откуда-то из глубины сада донесся непонятный загадочный шум. Тит, крестясь, забормотал о дьяволе и чертях, но Гриша, будучи атеистом, не убоялся мифологических сущностей. Крепко держа в руках жезл, он стал осторожно пробираться сквозь деревья, приближаясь к источнику шума. Тит, боясь остаться в одиночестве, пыхтя и портя воздух, следовал за ним.
Фруктовый сад неожиданно оборвался, впереди было поле, освещенное многочисленными кострами. Гриша и Тит залегли в высокой траве, наблюдая за непонятным.
По полю оживленно сновало множество людей в одинаковой форме. Форма была незнакомая, грязно-белого цвета, и состояла из гимнастерки, просторных штанов, обмоток и лаптей. Гриша, имевший счастье служить в армии, сразу сообразил, что это военные. Потому что кому еще придет в голову темной ночью, при свете костров, таскать на своих плечах сколоченные из фанеры макеты танков в натуральную величину?
Один такой макет служивые протащили прямо рядом с лежкой лазутчиков. Грише доводилось видеть настоящие танки на учениях, одну такую машину он даже пометил персональной струйкой, поэтому муляжи поразили его своей непохожестью. Принять их за настоящие танки даже с очень большого расстояния мог только человек, который вообще не знает, что такое танк и зачем он нужен. Это были грубо сколоченные и местами связанные проволокой коробки, одна побольше, вторая, изображающая башню, поменьше. Вместо орудий главного калибра использовались стволы молодых березок, на которых даже уцелели веточки с листиками. Танки таскали на своих плечах солдаты, и Гришу поразил их изможденный и истощенный вид. Даже холопы, проживающие в имении, выглядели лучше. Тот же Тит, хоть и был мохнатой нечистоплотной свиньей, все же не напоминал анатомическое пособие – какое-то мясцо на костях имелось. А у защитников отечества остались одни кости, шкура да уставные лапти. Кроме того эти бедолаги были в три слоя покрыты синяками, что говорило о регулярно получаемых ими побоях. У иных на лицах старые, темные синяки смешивались со свежими, ярко-красными, из-за чего возникал эффект естественного камуфляжа. Тут же обнаружились и те, кто отвечал за камуфляж. Сержантов можно было легко отличить от солдатни даже не по знакам отличия, а по телосложению. С первого взгляда было ясно, куда деваются все те килокалории, которые проходят мимо воинов. Они исчезают в бездонных утробах сержантского состава, отчего эти утробы весьма раздаются вширь, а сами младшие командиры очертаниями напоминают вставшие на дыбы дирижабли.
В руках у сержантов были дубинки, этими дубинками они беззлобно, но согласно уставу, лупили подчиненных. Всякий раз, когда какой-нибудь солдатик получал по голове дубинкой (били исключительно по головам, тем самым, очевидно, пытаясь повысить их крепость и свести к минимуму необходимость в бронированном шлеме), он взбадривался и зычно кричал:
– Служу императору!
– Тит, ты в армии служил? – шепотом спросил Гриша, с удивлением посматривая на ночные маневры. В рядах вооруженных сил он насмотрелся на всякий маразм, но ночное перетаскивание фанерной бронетехники выходило за рамки обычного армейского идиотизма.
– Нет, – шепотом ответил Тит. – В том году на меня очередь попала. Погнали с прочими рекрутами в город, да там двоих заворотили, меня и Кондрата.
– Что Кондрат для службы не годен, это с первого взгляда видно, – сказал Гриша. – Он, по-моему, вообще не человек. Но ты-то настоящий богатырь! Чего только твой волосяной покров стоит. Ты же можешь зимой без бушлата ходить, а еще из тебя разведчик хороший – враги тебя голого от зверя не отличат. Звери, правда, так не пахнут, разве что скунс. Интересно, у нас скунсы водятся?
– Зад меня подвел, – признался Тит.
– Ты что, перед приемной комиссией обделался?
– Ветры испустил.
– Сильно?
– Портрет государя-императора со стены упал, полковое знамя завяло, генерал сомлел, полковник успел в окно выскочить. Опосля, как проветрилось, вывели меня во двор. Генерал осерчал шибко, приказывал расстрелять. Да токмо ни одного патрона не нашли. Посекли Тита, сурово посекли, шомполами, да и вернули восвояси.
– Напрасно, – покачал головой Гриша. – Ты же живое химическое оружие. Да твоими извержениями кишечных зловоний можно целую дивизию уморить. Тебе в армии самое место. А ты, гад, откосил! – добавил Гриша со смешанным чувством зависти и обиды. У него самого откосить не получилось, только зря новые брюки промочил, когда недержание симулировал. Пришлось служить родине. Гриша по этому поводу немного комплексовал, поскольку точно знал, что крутые и реальные пацаны в армии не служат, а служат там одни лохи. Чтобы повысить свой уровень крутости, Гриша всем знакомым, и особенно девушкам, врал, что служил в секретном диверсионном подразделении особого назначения, и иногда, если девушка сильно нравилась, прибавлял, как бы между делом, что ему неоднократно приходилось участвовать в тайных военных операциях повышенной опасности за пределами страны. В подпитии Гриша пускался в подробности, и сообщал по секрету, что это именно он непосредственно ликвидировал террориста номер два Али Бабу и его сорок талибов.
– Тыловая крыса! – выплюнул он в адрес Тита. – Трус! Дезертир! Косарь! Пока нормальные пацаны родину защищают, всякие лохи трусливые, как ты, недержание симулируют. А вдруг война?
– Спаси господи от страсти такой! – выдохнул Тит. – Не бывать этому. Господь не допустит.
– Только на него и остается уповать с такими вояками, как ты, – презрительно сказал Гриша. – Мехом оброс, как снежный человек, а только и научился, что в штаны накладывать. Да я….
Тут Гриша резко прервал свою пламенную речь, заметив, что в их сторону направляется группа людей. Трое субъектов остановились буквально в двух шагах от затаившихся в траве наблюдателей. По тому, как сильно зачесались кулаки, и какое возникло неудержимое желание сделать этим людям больно, Гриша понял, что перед ним офицеры. Все трое телосложением напоминали свиноматок на позднем сроке беременности, ремнями, опоясывающими их экваторы, можно было связать три секвойи. Притом один из них был в пенсне, а Гриша с детства ненавидел очкариков.
– Разве так можно, в самый последний момент предупреждать? – сетовал один из них.
– Слава богу, что вообще предупредили, – ответил второй. – А представьте, господа, если бы без предупреждения завтра иностранная делегация нагрянула. К утру, даст бог, успеем подготовиться.
– Да где же тут успеть? – в отчаянии крикнул третий. – Еще десять машин надо вон по той линии поставить, а эти ироды даже капониры рыть не начали. Сержант! – закричал он визгливым голосом куда-то в ночь. – Почему у тебя солдаты не шевелятся? Секи мерзавцев! Повесь одного, чтобы остальным пример был. Честь отчизны под угрозой!
Послышались свистящие удары кнута, и Тит невольно втянул голову в плечи – на этот приятный звук у него уже выработался условный рефлекс.
– Надо бы хоть парочку настоящих танков, для виду, – заметил один из офицеров. – Вдруг басурмане попросят показать, как они ведут огонь в режиме движения.
– Где бы их взять, парочку? – горько простонал второй толстяк. – У нас на всю танковую дивизию один только танк на ходу, да и тот уже вторую неделю у генерала на даче навоз по участку развозит. А с басурманами мы вопрос решим. Если будут чего-то не по программе просить, скажем, что нельзя. Секретно.
– Боязно, господа, ой боязно, – бормотал первый. – Ведь с первого же взгляда видно, что они не настоящие. Как бы не пришлось стреляться.
– Ничего не видно, – утешил его третий. – В том году в соседней губернии на ракетные стрельбы сам государь император приезжал, и остался весьма доволен. Орденами осыпал, чинами, милостями всякими. А у них, меж тем, последний ракетный комплекс три года назад в болоте утоп. Ушел весь в трясину вместе с волами.
– С какими волами? – не понял первый офицер.
– Которые его таскали. Комплекс-то мобильный. Двигаться должен. А немецкий двигатель с него давно уже продали.
– Неужто так и лежит в болоте вместе с ракетой?
– Ракеты там нет. Пустой контейнер. Когда комплекс на вооружение ставили, еще в шестидесятых, то тягач приняли, а ракету забраковали. То она на старте взрывалась, то взлетит, каналья, невысоко так, метров на пятьдесят, развернется в воздухе, да и об землю – хрясть!
– Частичная приемка, – со знанием дела кивнул один из господ-командиров.
– Вот и решили комплекс без ракеты в войска поставлять. Какая, в сущности, разница – есть она там или нет? Все равно войны не будет – господь этого не допустит. А если будет, то с этого комплекса тем более никакого прока. Это басурмане думают, что у нас ядерное оружие есть, но мы с вами знаем правду.
– Тсс! Это государственная тайна! – зашикали на болтуна собеседники.
– Да молчу я, молчу. Я к тому это, господа, что раз уж ракетчики сумели без единой ракеты и без единого комплекса так отстреляться, что теперь все в орденах да в чинах новых, то уж нам сам бог велел отчизну не посрамить. Проведем показательные учения так, что стыдно не будет. Главное басурман на полигоне долго не держать. Так, провезти их на машинах вон по той дальней дороге, и сразу в баню к девкам. Эх, только бы поручик Семенов девок чистых подобрал. Аж душа болит. Не дай бог иностранцев венерическими дарами осыпать. Позор. Стреляться придется.
Офицеры, еще немного постояв, удалились, после чего Гриша шепотом скомандовал Титу отступление.
Ночевали в лесополосе, а утром, вернувшись на трассу, продолжили путь. Тит скакал бодрый, сильный, Гриша задом чувствовал, как под кожей холопа перекатываются могучие кости. Словно зачуяв воздух родины, Тит несся так, что даже подгонять не приходилось. Гришу убаюкивал плавный ход скакуна, клонило в сон, но задремать себе он не давал. Помнил, что Тит животное прямоходящее – если силой не повернуть, так и пойдет прямо, пока во что-нибудь лбом не упрется. Чтобы взбодриться, он затянул песню в жаре русского шансона, а Тит время от времени аккомпанировал ему своей музыкальной пятой точкой. Конечная цель путешествия была уже близка, и по Гришиным прикидкам они или нынче вечером или, самое позднее, завтра утром, должны были прибыть в имение помещика Орлова.
Глава 43
Со слезами умиления и радости Тит взирал на открывшуюся перед ним панораму родимой сторонки. Ностальгия одолела его. До сердечного защемления захотелось блудному отроку броситься в родимый хлев, упасть на грязную солому, еще сохранившую нежный смрад его тела, получить по горбу дубиной от родного и знакомого надзирателя, уработаться до потери пульса, а на ужин получить две затрещины и три поджопника.
Гриша стоял рядом со спутником, и любовался пейзажем. Залитое лучами падающего за горизонт солнца, имение производило впечатление райского уголка, сельской идиллии, где обитают счастливые люди, довольные жизнью. Вот только уголок этот был не райский, но рабский, а довольствоваться такой жизнью могли только конченые мазохисты. Как оказалось, ад необязательно должен сопровождаться мрачными готическими декорациями, утопающими в клубах серного дыма и освещенными рвущимися из недр языками пламени. Ад это не адрес, это состояние.
– Как приятно вернуться домой, – сказал Гриша, похлопав Тита по плечу. – Я скучал. Честно. А ты-то, наверное, вообще извелся.
– Вот моя деревня, вот мой дом родной, – жуя сентиментальные сопли, прорыдал Тит.
– Здесь твой зад порадуют ржавой кочергой, – досказал за Тита Гриша.
– Барин… кормилец… – бессвязно бормотал Тит, заливаясь горькими слезами. – Бросили на произвол судьбы…. Нехристи! Кто же ему, родненькому, носочки посушит, кто отхожее место языком отполирует? Душа вся изболелась….
Видя, что у товарища началось обострение холопской верности, Гриша отвесил Титу отрезвляющую оплеуху.
– Хватит пургу гнать! – прикрикнул он. – Носочки, отхожее место…. Понравилось господский унитаз вылизывать?
– Тем самым выражаю горячую любовь к барину, – признался Тит. – И к барыне Татьяне, – добавил он, смущенно опустив глазки.
– А нет желания выразить любовь к барыне Танечке более естественным способом? Тит, когда же до тебя уже дойдет, что ты человек…. Ну, почти человек. Воняешь ты, как скотина немытая, и тупой, как осел, но на все эти мелкие недостатки можно закрыть глаза. У меня одноклассник был, так он даже говорить толком не умел, и все равно его аттестовали. Ты чем хуже? И откуда в тебе эта дикая тяга пресмыкаться и унижаться перед барином?
– На то божья воля, – признался Тит. – Святой старец Маврикий учил, что холопы со своим барином связаны неразрывной цепью, и барин в полной власти над всеми холопами.
– Значит, все, что делается, это божья воля? – уточнил Гриша.
– Она, родимая, она и есть.
– Ну, хорошо. Тогда то, что будет сегодня ночью, тоже по воле божьей произойдет.
– А что будет? – не понял Тит.
– А будет кое-что очень интересное. Это будет фильм ужасов «Месть Гриши». Я сейчас пойду в имение, и начну там всех иметь. Увидишь тогда, по воле божьей барин вами правит, или потому, что вы лохи бесхребетные.
Много всякого накипело в Гришиной душе. Там смешались воедино и обиды, нанесенные ему родным миром, и все то, что пришлось вытерпеть в этой ветви пространственно-временного маразма. В одну кучу свалились несбыточные мечтания о красивой и беззаботной жизни, о дорогих проститутках, о крутых тачках, о том, чтобы не заботиться о добыче хлеба насущного, не думать о нужде, а только наслаждаться и отрываться. Туда же упали все тумаки и унижения, пережитые им в условиях крепостного права. Гришу давно переполняло желание отплатить окружающей действительности за все хорошее. Ему было все равно, кто именно попадет под горячую руку: тот, кто сделал ему что-то плохое, или тот, кто еще не успел. Душа требовала возмездия. Надоело получать тумаки и терпеть унижения. Хотелось самому начать бить и унижать. И если раньше расправы над окружающим миром он мог учинять только в своих фантазиях (например, представлял себе, как с радостным хохотом сбрасывает на родной город атомную бомбу), то теперь в его руки попало средство, способное сказку сделать былью. Жезл Перуна был не просто древним магическим артефактом, он был палочкой-выручалочкой. И Гриша был решительно настроен кинуть эту палочку очень-очень многими.
С жезлом на плече он нагло шел прямо по господской дороге, пронзая сгущающиеся сумерки своим целеустремленным телом. За ним семенил Тит. Холоп ничего не понимал, и тупо повиновался приказам. Вначале Гриша хотел не брать с собой Тита, дабы в пылу расправы не зашибить и его, но потом решил, что если вдруг и зашибет – не велика утрата для русского генофонда.
Несмотря на поздний вечер, холопы продолжали трудиться, ибо рабочий день имели ненормированный, то есть двадцатичасовой. Группа холопов маячила в поле, перекапывая никому не нужный участок земли. Еще четверо сизифов таскали по кругу огромное бревно. Надзирателей видно не было, те в это время обычно пили чай на веранде, перед казармой.
– Тит, слушай, – по-деловому бросил Гриша. – Когда все начнется, ты выбери самую глубокую и грязную лужу, ныряй в нее и не шевелись.
– Молиться можно? – спросил Тит.
– Можно. Молись, гнида! В смысле, молись, Тит.
А в имении, меж тем, ничто не предвещало надвигающейся катастрофы. Это был самый обычный летний вечер, теплый, но без духоты. Дул легкий освежающий ветерок, солнце уже скрылась за горизонтом, и повсюду зажглись электрические фонари. Большая часть надзирателей разместилась на веранде, за старым дубовым столом, знававшим лучшие времена. Прежде этот стол, стоя в барском особняке, верой и правдой послужил не одному поколению Орловых, но затем, выйдя вначале из моды, а затем и из подобающего вида, был отдан в пользование надзирателям. Тем он пришелся по вкусу. Стол был круглой формы, огромный и прочный, сделанный руками крепостных еще в те былинные времена, когда холопы не просто тупо изнурялись, но делали действительно что-то нужное. За этим столом могли сразу разместиться все надзиратели. За ним они обычно проводили время, рубясь в «козла» или «холопа» – как они называли игру в «дурака», пили засветло чай, а когда господа отходили ко сну, то более благородные напитки. Стол этот был как исторический памятник. На его столешнице можно было прочесть и пронаблюдать великое множество автографов, оставленных в разное время разными людьми. Тут было даже выцарапанное перочинным ножиком любовное признание, оставленное дедом нынешнего барина, когда тот находился в нежном возрасте и воспылал страстью к своей гувернантке. Но большую часть культурного наследия составляли все же плоды творчества надзирателей. Поскольку писать умели лишь немногие из них, чаще можно было встретить картинки, иные сотворенные очень высокохудожественно, с большим старанием и любовью. Главным образом надзиратели изображали на столешнице половые органы, чаще мужские, но иногда и женские. Члены на картинках были колоссальных размеров, а в изображении женских половых органонов иногда доходили до такого натурализма, что проковыривали в столешнице сквозную дырку. Иногда в дополнении к дырке пририсовывались груди, очень огромные, с коровьими сосками. Помимо этого весь стол был испещрен персональными зарубками – так каждый надзиратель вел учет холопам, забитым им до смерти. И зарубок этих было не счесть.
Вот за этим замечательным столом надзиратели и сидели, попивая чаек, покуривая папиросы и перекидываясь в «козла». В связи с тем, что к барину вновь понаехали гости, ночная оргия отменялась, так что надзиратели уже настроились на культурное времяпрепровождение. Они даже вернули на детскую территорию десятилетнюю девочку, которую тайно привели в казарму три дня назад и все эти три дня пользовались ею в массовом порядке. Когда девчушку уводили, она упиралась и плакала, желая остаться. После голодной диеты из помоев, такие лакомства, как черствый хлеб и прокисшие щи показались ей верхом блаженства, даже в комплекте с групповым изнасилованием. Пришлось даже вырубить ее дубинкой, чтобы разжала пальцы, мертвой хваткой впившиеся в дверную раму.
Тем временем в особняке, в большой обеденной зале, происходил торжественный ужин. К помещику Орлову опять наехали старые гости. Был весь свет губернского общества. На почетном месте восседал мудрый старец граф Пустой, рядом с ним разместился Пургенев, а напротив Белошевский и Килогерцен. Святой старец Гапон, известный православный авторитет, сидел подле помещика Орлова и одним глазом слушал Некрасного, читающего свои новые стихи о тяжелой доле русской бабы, а вторым жадно пожирал Танечку, порадовавшую всех гостей весьма смелым декольте. Фаворитка Акулина сияла украшениями, как новогодняя елка, но даже в такой блестящей обертке потасканная карьеристка уступала свежей и юной Танечке по всем параметрам, кроме опытности. Официанты сновали безостановочно, поднося новые блюда и убирая опустевшие тарелки и графины. У стены, за стулом Танечки, тихо и робко приютилась ее служанка, терпеливо ожидая подачки с господского стола. Матрена была грустна, и не прислушивалась к умным разговорам господ. Хотя холопам не свойственна была привязанность, а любовь у них бывала по приказу и исключительно в целях пополнения популяции, Матрена прониклась к Грише какими-то чувствами, потому что с момента его бегства все время тосковала и иногда даже плакала. Она была уверена, что беглого Гришу давно поймали и досрочно отправили на заслуженный отдых, поскольку верила в неизбежность божьей кары за предательство барина, и от этого ей хотелось разрыдаться. Но рыдать холопам не полагалось, рыдать в их доме могла только Танечка, когда капризничала и что-то требовала, или Акулина по тем же причинам. Холопы же из числа дворовых обязаны были излучать жизнерадостность и оптимизм, ибо служить господам для них есть великая честь и единственная отрада в жизни.
– Приподнимая лопату тяжелую, баба порезала рученьку голую… – гневно зачитывал Некрасный свой очередной шедевр о страданиях простого народа.
– На днях я провел в своем имении очередную либеральную реформу, – сообщал собеседникам граф Пустой. – Заменил смертную казнь за хищение помоев из свинячьих кормушек трехчасовой поркой оглоблей.
– Ох, не доведет ваш либерализм до добра, – качал головой Пургенев. – Одно дело христианская доброта, совсем другое – чрезмерное попустительство порокам. Воровство есть смертный грех, и караться должен смертью. К тому же вдвойне грешно воровать у бессловесных и беспомощных животных, и в особенности у свиней. Ведь по библии свинья есть священное животное, первое принявшее муки за людские грехи. Когда Иисус изгнал из бесноватого всех демонов, они вселились в стадо свиней, и стадо бросилось с обрыва в пропасть. Так безвинные свиньи искупили грехи человеческие.
– Весьма глубокая мысль, – похвалил граф Пустой. – Но все же я не считаю свои реформы опасными и неправильными. Ведь не всегда преступление является следствием одержимости греховными мыслями и порочными желаниями. Преступление только тогда можно назвать преступлением, когда имеется заведомый умысел, порожденный завистью к ближнему своему. Зависть же внушает нам дьявол, тем самым искушая слабые души. Но ежели человек осознает греховность своего поступка, и ощущает готовность раскаяния, то его никак нельзя назвать преступником и грешником. Напротив, такой человек даже более праведный, чем тот, кого ни разу не искушали бесы. Взять вот меня. Дважды в месяц я езжу в город, в публичный дом мадам Бубликовой, где предаюсь разврату. Но сразу же оттуда иду в храм божий, и исповедуюсь, получая после этого отпущение грехов. Можно ли сказать, что я грешу прелюбодеянием?
– Вы святой человек! – с жаром ответил Пургенев. – Никто не посмеет обвинить вас в каком-либо грехе.
– Это правда, – не стал оспаривать комплимент граф Пустой. – Ведь я посещаю публичный дом не с целью получения греховного удовольствия, а только лишь для удовлетворения естественных потребностей. Мог бы, в принципе, и дома, – задумчиво добавил граф, – да что-то в последние годы девки не урождаются. Одни страшилищи. А у мадам Бубликовой есть одна девочка… чистый мед! Даже подумываю, не выкупить ли ее вовсе. Уж такая искусница! Очень советую посетить. Вы даже не представляете себе, друг мой, что она вытворяет своими умелыми губками. Настоящая кудесница. А до чего набожна! Всякий раз икону тряпочкой завешивает, дабы святые непотребства не наблюдали.
– Весьма похвальное воспитание, – кивнул Пургенев.
– А что касается холопов и случаев воровства, – продолжил граф, – то это никак нельзя рассматривать в качестве полноценного осознанного греха. Мы ведь все знаем, что холопская душа устроена более примитивно, и менее защищена от нападок нечистого. Многие холопы даже не отличают, где грех, а где праведность, особенно у тех господ, которые уделяют мало внимания религиозному воспитанию своих крепостных. Вот у меня трижды в неделю святые старцы проповеди устраивают, по воскресеньям всех холопов гоняют на службу в церковь, опосля чего они всю ночь вершат крестный ход с самобичеванием. Дважды в месяц устраиваю публичное покаяние, в ходе которого холопы рассказывают обо всех совершенных грехах. Иные же господа пускают религиозное воспитание на самотек, и вот тогда-то холоп оказывается незащищенным от дьявольских сил. И начинает тогда процветать воровство. У одного моего знакомого холопы до того распустились, что ночью подрыли под склад подкоп и съели двадцать ведер сырого картофеля. Съесть-то съели, да тут же спасть и легли. Так их утром на складе и обнаружили, всех троих. Конечно, наказали их, сурово наказали, с пытками, с ломанием костей и сдиранием кожи, но ведь это уже запоздалые действия. Нужно было сразу вести работу с электоратом, чтобы до такого не доводить.
– Совершенно с вами согласен, – закивал головой Пургенев. – Наказывать надо заранее, впрок. К тому же кто бьет, тот любит, а ужель мы не испытываем отеческой любви к неразумным холопам? Они ведь как дети нам. И чем больше любовь, тем больше бить должны, потому как все это им исключительно на пользу идет. К тому же, я думаю, холопам и самим в радость телесные наказания, потому что ни разу не помню случая, чтобы хоть один из них, которого при мне секли, выразил бы недовольство. Охают, конечно, ахают, но ведь и женщины в иные моменты жизни охают и ахают, но ведь это же не значит, что они страдают. От удовольствия тоже охать можно.
– Я тоже много об этом думал, – важно заговорил граф Пустой, – и пришел к выводу, что холопы не только получают удовольствие от наказаний, но и вовсе не смогли бы без них жить. Посудите сами: ведь давно известно, что только каждодневная жестокая порка придает холопу человеческий облик. Без телесных воздействий всякий холоп в считанные дни превратится в животное. Но что гораздо важнее, холопы, как существа морально слабые и неразвитые, гораздо больше нормальных людей подвержены порокам и греховным устремлениям, точно так же как женщины по сути своей более порочны, нежели мужчины. Но если женщину удерживают в рамках морально-этических норм устои и обычаи цивилизованного общества, то о цивилизованности холопов нечего и говорить. У холопов нет морали, лишь инстинкты, а потому ничто не мешает пороку рассветать в их душах. Посудите сами – даже не смотря на угрозу жестокого наказания, они, тем не менее, все же совершают преступления. В моем имении каждый холоп получает в достатке помоев, и все же случаи воровства корма у свиней и кур происходят регулярно. Это не преступления от безысходности, потому что сыты они. Еще бы не сыты! – по литру помоев на брата в сутки уходит. Я даже подумываю норму урезать, потому что у кого ни спрашиваю, у всех холопы меньше получают, и ничего, живы, здоровы, работают как надо. Но, даже получая усиленное питание, все же воруют. Почему? Потому что порочны и греховны по сути своей. Осознают ли они свою порочность? Думаю, отчасти осознают. И даже когда им не хватает христианского смирения признаться в своих грехах на исповеди, они, как бы в искупление оных, принимают телесные наказания. Для них это все равно, что для нас отпущение грехов, то есть процедура необходимая. Перестаньте бить холопов, и через несколько дней они сами придут к вам, упадут на колени и взмолятся о порке, потому что замучит их отягощенная грехами совесть. Вот почему наказания холопов дело не только социально значимое, но и святое.
– Вы гений! – горячо заверил старика Пургенев. – Завтра же введу в своем имении еще две поголовные порки к тем четырем, что уже есть.
Господа хорошо проводили время за умными и интересными беседами, вкусно кушали, выпивали. Некрасный стал зачитывать первые главы своей эпической поэмы «Под кем на Руси жить хорошо», помещик Орлов завел с дочуркой полушутливый разговор о том, что пора бы уже замуж, и даже предложил как-нибудь на днях созвать в гости всех окрестных женихов. Танечка талантливо смущалась и застенчиво улыбалась. Святой старец Гапон высказал свое мнение в том духе, что господь завещал всем людям плодиться и размножаться, а затем добавил, что такая красавица без женихов не останется.
В общем, разговаривали люди разговоры, строили планы, наслаждались жизнью, а вот для надзирателей, в этот самый момент, наслаждение жизнью резко прервалось.
Сказать, что Гриша с жезлом Перуна свалился на них, как снег на голову, значит, ничего не сказать. Он свалился на них, как большая сосулька на причинное место. Вывернул из-за сарая, и, поигрывая жезлом, пошел прямо к веранде. Один из надзирателей заметил его, и обратил внимание остальных.
– А это что еще за потерявшие страх холопы? – заревел кто-то гневным голосом.
Тит, крадущийся за спиной Гриши, при первых же звуках этого рева, напрудил в штаны, предчувствуя, что скоро ему предстоит очень много ахать и охать. Но Гриша даже в лице не поменялся. Он остановился перед верандой, забросил жезл на плечо и нагло плюнул на первую ступеньку.
– Ну что, девчонки, кому жить наскучило? – спросил он с вызовом.
Надзиратели в первое мгновение буквально опешили. Их растерянность была понятна. Каждый человек – пленник своих убеждений, постепенно превращающихся в незыблемые аксиомы, которые потом и кувалдой не расшибешь, разве что вместе с головой. Надзиратели знали твердо, знали наверняка, знали, как свои три и два пальца (до пяти считать умели не все), что холоп есть скотина покорная, трусливая и что с ним ни делай, он и пикнуть не посмеет в качестве протеста. Так что сольное выступление Гриши повергло надзирателей в шок. Произошло невозможное, немыслимое, нечто такое, что опровергало все законы вселенной. На глазах надзирателей рушился тот мир, в котором они жили. Они не удивились бы больше, даже если бы Солнце остановило свое движение вокруг Земли. Именно вокруг Земли, поскольку в Российской империи безбожная гелиоцентрическая система считалась грязной сатанинской ложью. Коперник, Джордано Бруно и Галилей в новейшей трактовке православия числились бесами, и иногда святые старцы, желая припугнуть холопов, грозились им, что в случае греховного поведения к ним явится Коперник – богу соперник, и больно накажет адовым оружием – телескопом. Холопы не знали, что такое телескоп, и в отсутствие разъяснений со стороны духовенства, решили, что это нечто вроде оглобли, только с гвоздями.
Больше Коперника досталось Дарвину. В то время как все человечество произошло от Адама и Евы, которые, в свою очередь, были сотворены богом из подручных материалов, племя Дарвинов ведет свою родословную от богопротивной обезьяны, которую сатана сотворил, пытаясь подражать господу. На масленицу, старинный исконно православный праздник, из соломы и старых тряпок делали чучело Дарвина, после чего происходил обряд воздаяния по заслугам: холопы плевались в чучело, бросались в него грязью и испражнениями, обвиняли во всех своих бедах и несчастьях. После воздаяния чучело Дарвина торжественно сжигалось в знак того, что род человеческий – творение божье, воцарился на земле, а богопротивные обезьяны, сотворенные сатаной, утратили искру разума, одичали и поселились в лесах, как звери.
Святые старцы рассказывали, что потомки Дарвина живы до сих пор, и иногда путешественники видят их в дремучих лесах или в диких горных местностях. Видом своим схожи они с огромной обезьяной, но ходят, как люди, на двух ногах. Лик их страшен и уродлив, чему не стоит удивляться, помня о том, кто их создатель. При виде людей эти богомерзкие существа поспешно убегают, ибо признают силу господа и творений его. А не далее как три года назад в горах Кавказа охотниками был пойман крупный Дарвин самец. Его посадили в клетку, отвезли в Ростов и там какое-то время показывали благородной публике за небольшую плату. Дарвин имел успех. Всем хотелось увидеть это весьма удивительное существо. Однако через два месяца Дравин по неизвестным причинам скончался. Когда таксидермисты взялись делать из него чучело, то обнаружили на правой пятке выжженное клеймо, согласно которому Дарвин являлся крепостным холопом. Удалось даже установить имение, откуда он происходил, и даже личность самого Дарвина. Им оказался некий Кузьма. Двадцать лет назад, будучи еще юношей, он проезжал по горам вместе со своим барином и ночью случайно выпал из прицепа, в котором его везли. Местность там была дикая, машин на дороге долго не было, и Кузьма пошел через горы, надеясь отыскать дорогу к потерянному барину. Вместо этого он заблудился окончательно, после чего пытался приспособиться к новой жизни. Вскоре он одичал настолько, что умом и воспитанием сравнялся с животным. Иногда его видели горцы, но боялись подходить близко, считая Кузьму шайтаном.
Так вот, даже если бы надзиратели увидели перед собой мохнатого и страшного Дарвина, они и то не удивились бы сильнее, чем удивили их наглость и бесстрашие холопа.
– Что вылупились? – насмешливо спросил Гриша. – Давайте, выходите, кто тут смелый!
Это уже был не просто акт непослушания, это был русский бунт. Тот самый, бессмысленный и беспощадный, о котором надзиратели слышали от старших коллег как о чем-то очень древнем, почти мифическом, но, тем не менее, действительно когда-то случавшемся.
Надзиратели вышли из оцепенения все разом, и бросились на Гришу скопом, опрокинув при этом даже дубовый стол. Гриша ждал их со спокойной и уверенной улыбкой. За своей спиной он услышал хлюпающий звук, и понял, что Тита пронесло от страха. Улыбка Гриши стала шире. Он уже предвидел, что сегодня пронесет не одного Тита.
Гриша взмахнул жезлом, когда его и толпу надзирателей разделяло шагов пять. Эффект был великолепен. Троих мордоворотов, вырвавшихся в лидеры, буквально разбрызгало во все стороны, четвертому, слегка отставшему, оторвало голову, остальных ударной волной повалило с ног.
– Всех порву! На куски растерзаю! – заорал Гриша страшным голосом.
Обезумевшие от ужаса надзиратели вскочили на ноги и бросились бежать, но уже не на взбунтовавшегося холопа, а от него.
– Стоять! – властно крикнул Гриша.
Надзиратели замерли, парализованные страхом.
– Ко мне!
Те покорно повиновались: подбежали и выстроились в одну шеренгу, скованные первобытным ужасом. Как и все невежественные люди, надзиратели были жутко суеверны, верили в леших, водяных, кикимор, упырей. То, что проделало это существо в обличии человеческом и в одеждах холопа явно указывало на его принадлежность к миру сверхъестественного. Надзиратели не знали, с чем они столкнулись, но зато они прекрасно понимали язык силы – свой родной язык. Неведомый демон тоже хорошо владел этим языком. Слишком хорошо. И надзиратели тут же признали его главенство.
– Упор лежа принять! – скомандовал Гриша.
Надзиратели исполнили приказ.
– Раз, два, раз, два, – задал счет Гриша. – Ниже отжимается, чтобы нос до земли доставал. Все, хватит. Встать! Бегом вон до того сарая.
Надзиратели, что есть мочи, бросились к сараю, но Гриша тут же заорал:
– Отставить! Команда «отставить» выполняется в два раза быстрее. Кому-то что-то непонятно? Еще раз!
Погоняв надзирателей полчаса, Гриша выстроил их перед собой и задал самый главный в их жизни вопрос.
– Кто ваш хозяин? – спросил он.
Надзиратели испуганно безмолвствовали. Наконец, один из них отважился попытать счастье.
– Помещик Орлов, – робко прозвучал он.
Гриша взмахнул жезлом, смельчак разлетелся на кровавые ошметки, забрызгав кровью своих коллег.
– Повторяю вопрос, – произнес Гриша. – Кто ваш хозяин?
Как ни велика была тупость громил, но некоторые педагогические методы очень хорошо действуют даже на низшие формы жизни. Поэтому надзиратели дружно гаркнули в ответ:
– Ты наш хозяин!
Репрессивных мер не последовало, что говорило однозначно – они сдали ЕГЭ.
– Хорошо, – поощрил новых подчиненных Гриша. – Очень хорошо. А как меня надо называть?
– Господин холоп? – рискнул кто-то, и тут же провалился на экзаменах. Забрызганные его кровью надзиратели вновь совершили интеллектуальный прорыв.
– Барин! – хором гаркнули они. – Кормилец! Отец родной!
– Барин – да. Кормилец – возможно. Отца родного вычеркиваем, я ваших матерей даже в глаза не видел. Теперь вот что, сынки, слушайте новый расклад. Я отныне барин в этом имении, оно отныне мое. Если кто-то так не считает, тот пускай встанет влево.
Несмотря на тупость, оппозиционеров среди надзирателей не нашлось. Наоборот, вся толпа резко метнулась вправо, даже затоптала двух нерасторопных куриц.
– Теперь вторая директива, – продолжил программировать персонал Гриша. – Поскольку я новый барин, а в особняке сидит и жрет половником черную икру старый барин, что у нас из этого проистекает?
Ответа не последовало – вопрос оказался за гранью понимания. Гриша, впрочем, не стал никого убивать, напротив, даже с охотой излил на подчиненных поток своей мудрости:
– Проистекает у нас вот что: два барина в одном имении быть никак не может, верно?
Все дружно кивнули.
– Следовательно, одного барина нужно разжаловать в холопы.
– Которого? – вякнул один из надзирателей. Гриша даже жезл не успел поднять – дурака забили насмерть его же собственные товарищи. Чувствовалось, что партия власти обретает единство и сплоченность, консолидируясь вокруг нового лидера. Всякое инакомыслие теперь подавлялось не репрессивными мерами сверху, но самой системой.
– Поскольку все уже поняли, что разжаловать нужно помещика Орлова и его дочь Танечку, предлагаю приступить к изгнанию новоявленных холопов из моего особняка. За дело, братцы!
Наверное, никогда и нигде свержение политического режима не происходило столь оперативно и гуманно, как в имении помещика Орлова. В арсенале – крохотном чуланчике в казарме, находилась дюжина карабинов и патроны к ним, но Гриша запретил использовать огнестрельное оружие. Ему совсем не хотелось, чтобы помещик Орлов или кто-то из его гостей отделался легкой смертью. Так что надзиратели, вооруженные дубинками и кнутами, свиньей двинулись вслед за Гришей к барскому особняку.
Штурм прошел быстро и без человеческих жертв. Господ застали за ужином. Те кушали, выпивали, вели благородные беседы на возвышенные темы, и вообще думали, что жизнь прекрасна. Но ворвавшаяся в особняк толпа надзирателей вернула их с небес на землю.
– Всех связать и запереть! – кричал Гриша, размахивая жезлом, как скипетром полководца.
– Что это такое? – возмущенно прозвучал помещик Орлов. – Вы что, с ума сошли?
– Ты как с барином разговариваешь, холопская рожа? – заревел надзиратель, и перетянул благородного господина кнутом.
Танечка визжала, Акулина вопила, помещики возмущались, граф Пустой попытался призвать бунтарей к покорности, но ему заткнули рот грязными портянками. Изнеженных и хилых господ повязали за минуту, и волоком потащили в сарай, где Гриша приказал содержать их до завтрашнего судилища.
Смолкли крики, стих топот ног по мраморному полу гостиной. Гриша прислушался к воцарившейся в особняке тишине, затем перевел взгляд на пиршественный стол, и едва не захлебнулся под напором слюнного цунами. После стольких дней питания всякой гадостью, наконец-то его ждал долгожданный праздник живота.
Он бросился к столу, запихнул в рот котлету, раскусил ее, сочную, вкусную, еще горячую, и застонал от наслаждения. А руки сами уже подгребали к хозяину все самое вкусное. В рот полетели бутерброды с черной икрой, куропатку Гриша так укусил за спину, что отъел часть позвоночника. Птичьи кости захрустели на зубах, а Гриша уже зачерпывал ладонью какой-то паштет, оказавшийся недурным на вкус. Налив в чистую суповую тарелку вина, Гриша размочил встававшую в горле сухомятку, затем, не глядя, схватил что-то, откусил, стал жевать, и только потом понял, что сожрал половину восковой свечки.
– Спокойно! – сказал он себе. – Без паники. Так и до заворота кишок недалеко.
Но взять себя в руки не удавалось – стол манил к себе с неодолимой силой. В этот момент Гриша пожалел, что у него нет клона, потому что понял – одному сожрать все это не удастся, а оставлять что-то на произвол судьбы, до утра, было страшновато. Вдруг проберутся недруги, объедят под покровом ночи?
– Я смогу! – твердо сказал себе Гриша, усаживаясь за стол. – Я сильный, вместительный. Я должен! Пусть меня разорвет, но я это сделаю.
Вдруг что-то тихонько заскреблось в углу. Гриша стремительно вскочил со стула и схватил со стола тяжелый графин, готовясь метнуть его в цель. Но как только он увидел забившуюся в угол Матрену, руки его опустились.
– Привет, – сказал он, ставя графин на место.
Матрена смотрела на него круглыми глазами, будто не верила тому, что видит.
– Эй, это я, – на всякий случай уточнил Гриша. – Ты что? Матрена? Ты как?
Он подошел к горничной и присел рядом с ней на корточки.
– Ты живой? – спросила она с безграничным удивлением.
– Да.
– Святые старцы сказывали, что ежели холоп от барина убежит, то тотчас же и помрет.
– Это они пошутили, – заверил Гриша, помогая Матрене подняться на ноги. – Ты вот что, Матрена. Иди сейчас в барскую спальню, раздевайся, ложись в постельку, и жди меня. А я грязь с себя смою, и сразу к тебе.
– В барскую спальню? – непонимающе бормотала Матрена. – В постель? Да разве можно на барскую постель ложиться! Ужель не слышал истории о трех господах и холопке Аленке? Помнишь, как там: кто ел из моей тарелки? Кто спал на моей постели? Аленку за это в погреб посадили и голодом уморили.
– Тебе можно, я разрешаю, – торопливо сказал Гриша, едва удерживаясь, чтобы не наброситься на Матрену прямо здесь. Видя, что девушка все еще колеблется, он со вздохом добавил: – Это воля святого Потапа. Мне видение было. Потап хочет, чтобы ты пошла в господскую спальню, разделась догола, легла в постель и ждала меня. Да, кстати, насчет того, что будет дальше…. В общем, это тоже все воля святого Потапа. Мы же не будем его разочаровывать, правда?
Глава 44
Месть сладка. Месть прекрасна. Месть восхитительна. Гриша не был злопамятным, но считал, что если кто-то ударил тебя по левой щеке, догони мерзавца, и врежь ему по затылку арматурой.
Новая жизнь в имении началась с раннего утра. Те надзиратели, что чудом уцелели после ночного акта возмездия, быстро поняли, что власть переменилась, и поспешили присягнуть на верность новому господину. Гриша немного покапризничал, но вскоре согласился принять их на службу. Понимал – одними своими руками с имением не управиться. А у надзирателей руки были опытные, набитые, и дело свое они знали четко. В частности, это твердолобые личности не имели глупой привычки задавать вопросов и проявлять инициативы. Если начальник говорил им что-то сделать, они это делали в точности, как было приказано. Предательства с их стороны Гриша не опасался – надзиратели, по сути, были такими же рабами, лишенными собственной воли. Их жестокость являлась таким же продуктом воспитания, как и бесхребетность холопов. Надзиратели верой и правдой служили хозяину, и не видели для себя иной возможности самореализации. К тому же в этом мире, как и в любом другом, люди делились на две категории: те, кто бьет, и те, кого бьют. Надзиратели честно делали свое дело, поскольку понимали – в противном случае их социальное положение резко изменится, и они присоединятся к тем, кого совсем недавно секли кнутами.
Рано поутру Гриша, чистый, бритый, благоухающий одеколоном, в новеньком костюме помещика Орлова и с жезлом Перуна в руке, вышел на крыльцо своей новой резиденции. Рядом с ним шла Матрена в лучшем платье Танечки и в той самой модной шляпке, которой молодая барыня очень гордилась. На каждом пальчике Матрены сверкало по колечку с камушком, шейку украшало бриллиантовое колье. Бывшая горничная все еще очень робела, поскольку не успела свыкнуться с новой ролью, но присутствие рядом всесильного Гриши ободряло ее.
Выйдя на крыльцо, Гриша, первым делом, обратил внимание на Тита. Верный товарищ в тяжких скитаниях наконец-то осуществил свою заветную мечту – за минувшую ночь сожрал отрубей больше собственного веса. Обессилевший Тит лежал на земле возле огромного тазика с отрубями. Живот его раздулся так сильно, будто Тит собирался вот-вот разродиться обильным приплодом. Из набитого рта вываливались уже не помещающиеся внутрь отруби, но Тит, давясь, руками запихивал их обратно. На лице его застыло выражение невыразимого счастья, так что даже Грише стало завидно. Иным требовалось так мало, чтобы вознестись на вершину блаженства, а тут и не знаешь, о чем сильнее мечтать – всего сразу хочется.
К Грише подошел надзиратель, почтительно поклонился, и спросил, не пора ли начинать перевоспитание эксплуататоров. Гриша важно кивнул, давая свое высочайшее разрешение.
– Ну-ка приведите их сюда! – потребовал он. – Хочу на них, живых и здоровых, в последний раз посмотреть.
Под конвоем надзирателей к крыльцу подвели помещика Орлова, Танечку и всех гостей, очень кстати оказавшихся в имении. Почтенные хозяева жизни были не столько напуганы, сколько растеряны. Они не понимали, что происходит, но тешили себя надеждой, что все это не более чем досадное недоразумение, которое вот-вот разрешится. Глядя на бывших господ, Гриша плотоядно улыбнулся. Какое же жестокое и бесчеловечное разочарование ожидало их в ближайшем будущем.
Заметив холопа на крыльце своего особняка да еще в своем костюме, помещик Орлов переполнился гневом и попытался качать права, но надзиратели следили зорко, и не позволили ему разразиться пламенной речью. Удар дубины был не сильный, но меткий. Надзиратели всегда целились в такие места, где побольнее, а в этот раз выбрали самое больное место. Так что помещик, вместо гневных слов, издал пронзительный визг и повалился на землю. Танечка кинулась к подбитому папаше, надзиратель уже занес руку, чтобы отоварить и ее, но Гриша предупреждающе крикнул:
– Эту не бить!
Человек, плохо знавший Гришу, мог бы подумать, что он пожалел Танечку, что, как истинный джентльмен, не мог допустить насилия над девушкой. Но этот наивный чукотский юноша, подумавший так, сильно бы ошибся. Просто Гриша не хотел, чтобы Танечка легко отделалась, померев от первого же удара по голове. У Гриши на Танечку были большие планы. Нет, делать ее своей наложницей он не собирался, это было бы, в его представлении, не наказание, а почти награда. Гриша припас для бывшей хозяйки нечто более изощренное и ужасное. Нечто такое, что стоило Грише об этом подумать, как ему самому делалось дурно.
Прочие помещики, пронаблюдав судьбу своего товарища, резко передумали протестовать и качать права. Теперь они взирали на Гришу со страхом, прекрасно понимая, что от этого человека зависит их дальнейшая судьба. Прежде всего, Гриша высмотрел в толпе неохватного святого старца Гапона, и велел ему подойти. Священнослужитель приблизился, размашисто перекрестился, и вдруг могучим басом запел хвалебный молебен в честь нового владыки имения. Гриша невольно заслушался.
– Молодец, – похвалил он святого старца, когда тот кончил выступление. – Ты мне еще пригодишься. Можешь провести обряд венчания?
Гапон вопросительно посмотрел на Матрену, Гриша, отследив его взгляд, быстро сказал:
– Ты не каркай! Не нас с ней венчать, а другую пару влюбленных. Сможешь?
– Разумеемся, – ответил Гапон.
– Хорошо. Иди, готовься. Если что нужно – скажи. У нас скоро свадьба. То есть не у нас с ней, – уточнил он, кивнув в сторону Матрены, – а у других. У очень важных персон. У бывшей барыни Танечки, и у ее жениха.
Танечка, до того сердобольно хлопотавшая над подбитым папашей, подняла голову и удивленно спросила:
– Это ты про меня?
Гриша посмотрел на ближайшего надзирателя и ласково попросил его:
– Будь другом, объясни этой холопке, как надо с господами разговаривать. Только не калечить.
Надзиратель кивнул, подошел к Танечке, и влепил ей такой пинок под зад, что вчерашняя кисейная барышня сделала тройное сальто, не коснувшись при этом земли. Не успела она приземлиться, как по ее изнеженной спинке прошлась плеть, а властный голос надзирателя прогремел следующее:
– К господам обращаться стоя на коленях и рылом в землю ткнувшись. Говорить: ваше высокоблагородие, правящее холопским племенем милостью божьей, дозволь слово молвить ничтожной и жалкой рабыне твоей.
Танечка, вместо того, чтобы кивнуть, попыталась закатить истерику. В прежние времена, стоило ей только нахмуриться, как все ее желания вмиг исполнялись, а теперь даже талантливо продемонстрированные рыдания не привели ни к чему хорошему. Никто не прибежал, не пожалел, не пообещал купить ей, при следующей поездке в город, все, что душа пожелает. Вместо этого на Танечку посыпались новые удары плети. Гриша наблюдал за перевоспитанием Танечки, и счастливо улыбался. Матрена стояла рядом с ним, не верила своим глазам, но при каждом попадании плетки по телу бывшей хозяйки, тихо повторяла – так ее!
Долго пришлось выколачивать из капризной барыни ее барские замашки. Видя, что надзиратель бьет куда попало, и может ненароком повредить Танечке мордашку, Гриша приказал установить барыню в воспитательную позу, задрать платье и лупить исключительно по голой попе. Так и сделали. Порол Танечку один надзиратель. Порол, порол – выдохся. Его сменил второй надзиратель. Порол, порол – выдохся. Танечка визжала, попа ее сияла, как солнечный диск в полдень, но все равно не чувствовалось, что барыня перевоспиталась. Гриша вошел в азарт – ему стало интересно, что случится раньше: перевоспитается Танечка, или воспламенится ее попа. Третий надзиратель выстоял свою вахту, но вот и у него рука пороть устала. Гриша, обняв Матрену за стройную талию, спросил у нее:
– Хочешь барыню побить?
Предложение Матрену испугало – для нее Танечка по-прежнему оставалась богиней, покушение на которую просто немыслимо. Но в глубине души Матрена была большой смутьянкой и грешницей. Ее греховную сущность Гриша раскусил минувшей ночью, в ходе которой горничная приятно удивила его не только старанием, но и богатой фантазией. Смутьянство тоже в ней иногда проступало. Прежде оно выражалось в хищении конфет, то есть в сущих мелочах, но это не беда: было бы смутьянство, а там и от конфет до порки один шаг.
Матрена сделала этот шаг не без колебания. Она все еще боялась, что стоит ей поднять на Танечку руку, как бог тут же поразит ее молнией. Но вот на ее глазах били помещика – ставленника божьего на земле, секли Танечку как последнюю холопку, и ни одна карающая молния с небес не упала.
Робеющей Матрене вручили плеть, которую она отродясь в руках не держала. Гриша стоял рядом и подбадривал:
– Ну-ка выдай ей по булкам за все хорошее!
Сжавшись от страха (а ну, как и впрямь господь молнией поразит?) Матрена легонько шлепнула Танечку по попе, и тут же взвизгнула сама, испуганно глядя в небо. Но небо оставалось чистым и безоблачным. Там никого не было, только в вышине парил какой-то пернатый хищник, высматривая себе завтрак.
– Это слабо, – покачал головой Гриша. – Она тебя подсвечником по голове била. Да за такое убить мало.
Повернув заплаканное лицо, Танечка, глотая слезы, прокричала:
– Матрена, я тебя всегда баловала, всегда к тебе хорошо относилась. Как же ты можешь, после всей моей доброты, так поступать? Как тебе не стыдно? Тебя бог накажет.
– Вот девка дает! – искренне удивился Гриша. – У нее уже жопа дымится, а она все прикалывается. Матрена, солнышко, бей ее изо всех сил. Насчет бога не волнуйся – не накажет. Он, похоже, вообще ни во что не вмешивается.
Судя по всему, Матрена и сама начала понимать, что бог не собирается разить ее молнией за смутьянство, и дала себе волю. В следующую минуту на благородный зад обрушился целый шквал ударов такой силы, что позавидовали бы и могучие надзиратели. Матрена даже отходила подальше, чтобы бить с разбега. Она визжала от восторга, глазки у нее сверкали, чувствовалось, что с каждым ударом по господской попе она сбрасывает с себя оковы рабства. Но когда Матрена бросила плеть и впилась в барскую попу зубами, да так глубоко, что брызнула кровь, Гриша силой оттащил подругу, похвалил за работу, но пояснил, что Танечка еще нужна живой, потому что у нее сегодня свадьба. Бывшая барыня визжала и билась в крепких руках надзирателей. Те весело ржали, Гриша ржал, Матрена рвалась из его объятий, желая еще как-нибудь отблагодарить бывшую хозяйку за всю ее доброту. Святой старец Гапон одобрительно улыбался. В общем, всем было очень весело. Но тут хорошее настроение испортил помещик Орлов. Он немного отошел от прямого попадания, и со слезами на глазах закричал:
– Что вы делаете, скоты? Как вы можете так обращаться с людьми? Это чудовищно! Немедленно отпустите мою дочь. Не смейте ее бить!
Гриша с омерзением посмотрел на помещика, и бросил надзирателям:
– Этого и остальных на навоз. Пускай в ладошках его перетаскивают. Приду позже, проверю. Танечку сечь еще полчаса, потом приведете в обеденный зал. И вот еще что. Тита отмойте, оденьте как человека, и туда же доставьте.
Гриша посмотрел на своего товарища. Раздувшийся от отрубей, неоднократно обделавшийся не отходя от кормушки, Тит лежал возле тазика со своей мечтой и тяжело дышал.
– Да, и пробку ему в зад вставьте, прежде чем ко мне вести, – проворчал Гриша. – А то ведь он, как животное, не понимает где можно гадить, а где нет.
Господа, в сопровождении надзирателей, отправились перетаскивать навоз. Гриша дал ясный приказ – если кто откажется трудиться, того смутьяна и богохульника премировать раскаленной кочергой в задний проход. Четыре надзирателя остались с Танечкой – им предстояло нелегкое дело: за тридцать минут внушить смутьянке покорность, любовь к новым хозяевам и прочие православные добродетели. Закатав рукава, воспитатели взялись за работу. Дабы дело шло быстрее, сечь решили попарно, сразу в две руки. Пока двое секли, двое держали Танечку, затем звенья менялись. Танечка, сквозь слезы, кричала что-то о том, что она, дескать, уже все поняла, но Гриша ей не поверил, и вместо тридцати минут порки, назначил час. За это Матрена так страстно поцеловала его, что Гриша, предвкушая дальнейшие ласки, накинул Танечке еще двадцать минут воспитательных процедур.
– Только до смерти не забейте, – попросил он. – Ей еще сегодня замуж идти.
– Обижаете, ваша светлость, – покачал головой надзиратель, замахиваясь плеткой. – Уж мы свое дело знаем.
За всеми этими чудесами издали наблюдал простой православный люд. Холопы обоих полов сбились в кучу, и не понимали, что происходит. Еще ночью у Гриши были благородные планы по освобождению рабов, по приобщению их к радостям свободной жизни, но теперь, рассудив здраво, новый хозяин имения решил не пороть горячку. Свобода для всех, это, разумеется, хорошо, но ведь запасы вкусной еды и хмельного вина в имении не безграничны, и если все холопы к ним приобщатся, то за раз все подметут. Да и в особняк их пускать не хотелось. Там чисто, красиво, а эти все грязные и вонючие. В общем, подумал Гриша, подумал, и решил, что с отменой крепостного права можно и повременить.
– И чем мне вас занять? – помыслил он вслух.
Тут же рядом возник верный Гапон, и предложил организовать крестный ход в честь нового барина, ниспосланного богом. Грише эта идея понравилась.
– Давай, займи их, – кивнул он. – Раздай им хоругви, я там, в сарае их видел, пускай до вечера вокруг имения ходят и молятся. Приставь к ним парочку надзирателей, чтобы все точно молились. А сам возвращайся, нам еще свадьбу надо готовить.
Не прошло и десяти минут, как с окраины зазвучал нестройный хор холопских голосов, тянущий:
– Восславим господа за ниспослание нам, грешным, благодетеля, заступника, кормильца и отца родного барина Григория….
– Благодетеля, заступника… – кивал довольный Гриша. – Кормильца…. Хм. Их же ведь еще и кормить надо. А, ладно, денек потерпят.
Господа отправились таскать навоз в холеных ладошках, Танечка перевоспитывалась, холопы были озадачены. Покончив с делами, Гриша с Матреной прошли в обеденную залу, где уже был накрыт стол. Матрена, по выработанной годами привычке, попыталась усесться на свое место, на пол, возле стула Танечки, но Гриша удержал ее, и объяснил, что отныне ее место за столом.
– За столом? – испугалась Матрена, опять страшась гнева божьего.
– Да, садись. А с пола теперь другие кушать будут. Так, кстати, а где другие?
В обеденный зал вошла Акулина, пережившая, судя по ее виду, нелегкую ночь. В бытность свою фавориткой она очень жестоко обращалась с домашней прислугой, как это обычно и бывает у тех, кто выполз из грязи в князи. И вот расплата настигла ее. Акулину нынче ночью колотила вся дворня. Прачки, которых она постоянно наказывала за якобы плохо постиранное белье, повара, к чьим блюдам она вечно придиралась, уборщицы, всегда получавшие от Акулины затрещины и оплеухи за свою работу – все они минувшей ночью отвели душу. Недавнюю фаворитку вернули с небес на землю. Вернули жестоко. Вся физиономия Акулины была расписана синяками и украшена царапинами, правый глаз заплыл, нос смотрел в сторону, во рту ощутимо поубавилось зубов. Одета свергнутая с престола королева была в мешок из-под картошки, в котором чья-то заботливая рука продела дыры для головы и верхних конечностей. Акулина прихрамывала сразу на обе ноги, а от ее прически осталось всего десятка три волосинок – остальное повыдрали прачки, на сувениры.
– Вот Акулина теперь с пола кушать будет, – сообщил Гриша. – И еще кое-кто. А мы с тобой за столом, как нормальные люди. Акулина, ну-ка место!
Акулина уселась на пол, туда, где прежде сидела Матрена. Бывшую горничную Гриша чуть ли не силой усадил за стол, сам сел напротив, и, не стесняясь, стал наваливать себе на тарелку прекрасную человеческую еду.
– Нам такое нельзя, – прошептала Матрена, с опаской косясь на чуть живую фаворитку. – Это господская еда. Она для нас ядовита.
– Правда? – спросил Гриша, впиваясь зубами в куриную ножку. – Конфеты тоже господская еда, только что-то твои подруги из прачечной от них не вымерли. Ешь, это все брехня.
Матрене было страшновато, но она справилась с собой, и, для начала, робко скушала кусочек сервелата. Разжевав и проглотив, Матрена зажмурилась, ожидая то ли гнева божьего, то ли предсмертных судорог, но ни того ни другого не произошло. Так как кара не последовала, Матрена осмелела и подналегла на кушанья.
– Как же это вкусно! – восклицала она с громадным удивлением. – А нам святой старец говорил, что господская еда на вкус горька, яко полынь.
Гриша разрезал надвое большую мягкую булку, намазал все это маслом, накидал сверху колбасы и сыра, соединил бутерброд и выяснил, что в рот он не помещается. Пришлось положить его на стул и сесть сверху – чтобы немного примять.
Увлекшись, Матрена так подналегла на господскую еду, что ей, в итоге, стало нехорошо. Гриша налил подруге вина, та выпила и тут же, с непривычки, опьянела. Раскрасневшись, она наклонилась к Грише и спросила:
– А мы Акулине что-нибудь дадим?
– Сама решай, – предложил Гриша. – Как обычно холопов жалуют: если хорошо себя вел – даруют объедки, если плохо – даруют побои.
Матрена посмотрела на Акулину, затем вдруг вскочила на ноги, схватила стул и отоварила им бывшую фаворитку по голове. Та закричала, Матрена повторила удар. Гриша прихлебывал винцо и благодушно улыбался. На Акулину у него не было никаких планов, и он не собирался удерживать Матрену от праведной мести. Но когда стул возмездия разбился о голову Акулины, и во все стороны полетели брызги крови, Гриша нехотя поднялся из-за стола и оттащил Матрену от жертвы. Кликнув надзирателя, он указал ему на распростертую на полу Акулину, и сказал:
– Если издохла, оттащите ее в яму. Если живая – дарю вам в казарму. Пользуйтесь. И скажи Петрухе, чтобы выдал вам пять бутылок вина из моего погреба.
Надзиратель пощупал Акулину, и выяснил, что та еще на этом свете. Взвалив добычу на плечо, он сердечно поблагодарил барина за щедрость, и потащил трофей в казарму.
– Пойдем в спальню? – щупая Матрену, предложил Гриша. – На господской кровати это не то, что в брачном сарае.
– А можно мне еще вина господского? – спросила Матрена.
– С собой пузырь возьмем. Ты, я вижу, выпить не дура. Я таких девчонок люблю. А курить не пробовала? Нет? Сейчас научу. Я там, у барина, сигареты видел.
Тут в обеденный зал вошел надзиратель, и доложил, что возникли проблемы с Титом.
– Что такое? – заволновался Гриша. – Он думать начал?
– Нет, другое, – печально покачал головой надзиратель. – Уж и не знаю, как сказать. Совестно, право.
– Говори все, как есть. Я за свою жизнь такого наслушался, что меня ничем не удивишь.
– Да уже дюжину штанов изгадил, шельмец, – пожаловался надзиратель. – Не успеваем на него надеть, как он в них тотчас же и накладывает. Да ладно бы чуточку, так ведь он с головы до пят умудряется заляпаться. И всякий раз его по новой мыть, да и штаны на исходе.
– Я же вам говорил – кляп вставьте, – проворчал Гриша, которому такие разговоры, после вкусного завтрака и ожидающего его в спальне десерта, сильно испортили настроение.
– Вставляли, а то как же, – безнадежно махнул рукой надзиратель. – Четыре раза вставляли. Вышибает, паразит. Да как вышибает! Они из него, как ядра из пушки вылетают. Последний раз штаны пробил, и поросенка насмерть зашиб.
– Поросенка к поварам, Титу промывать кишечник клизмой, пока дерьмом не перестанет исходить. Что там с Танечкой?
– Секут голубушку.
– Секите дальше. Я пойду, отдохну у себя, а вы пока во дворе стол ставьте – свадьбу играть будем. Можно было бы и здесь, но не хочется Тита в дом пускать. Да и на свежем воздухе лучше. Сейчас погода хорошая, теплая. Поварам скажи, пускай готовят праздничные блюда, и ведро турнепса сварят, для Тита. Он его любит, я знаю.
Не успел удалиться один надзиратель, как возник второй.
– Тебе чего? – разозлился Гриша.
– Не вели казнить, барин. Танька смутьянка слово тебе молвить хочет.
– По поводу?
– Не знаю, барин. Лично говорить хочет.
Грише меньше всего хотелось идти во двор и слушать Танечку, но игнорировать просьбу он не стал. Мало ли что барская дочка расскажет.
Но Танечка ничем Гришу не удивила. Вместо того чтобы поведать, где папаша прячет пятизвездочный коньяк, она, заливаясь слезами, стала убеждать нового господина, что уже перевоспиталась, и отныне готова служить ему верой и правдой. Гриша нахмурился и бросил надзирателям:
– Не верю я ей! Неискренне говорит. Врет. Все еще смутьянка. Секите дальше.
Рыдающую Танечку схватили, установили в воспитательную позу, и продолжили перевоспитывать.
Гриша с Матреной поднялись в покои помещика Орлова, дабы отдохнуть после сытного завтрака. Едва вошли, Матрена сразу полезла целоваться, но Гриша мягко отстранил ее и подошел к окну. Откуда-то с невозделанных полей несся многоголосый людской хор:
– Восславим господа за ниспослание нам, рабам ничтожным, барина мудрого, доброго и заботливого….
– Слышишь? – спросил Гриша у Матрены.
– Крестный ход, – ответила Матрена, пытаясь оттащить Гришу от окна.
– Это они про меня. – Гриша всхлипнул. – Обо мне сроду так хорошо люди не отзывались. Все больше другими словами.
Матрена уселась на кровать и нетерпеливо спросила:
– Мы грешить будем, или нет?
– Да подожди ты, – отмахнулся Гриша. – Ты иди сюда, послушай. Как же они меня все любят! Я у них и умный, и добрый, и щедрый…. Так, ну вот про щедрость они соврали. Благодетелем называют. Отцом родным. Нет, отцом я быть не хочу. Надо сказать Гапону, чтобы обновил им репертуар. Ведь накаркают еще.
Гриша повернулся к подруге. Матрена, обнаженная и готовая ко всему, лежала на просторном ложе барина, и откровенно скучала. Гриша улыбнулся и прикрыл окно. Слушать хвалебные песни в свою честь было крайне приятно, но разве это повод заставлять девушку скучать?
Глава 45
До самого последнего момента никто в имении, включая даже фаворитку нового барина Матрену, не знал, чья именно намечается свадьба. То есть, кто невеста – знали все. Невестой была Танечка, в прошлом дочь барина, а ныне холопка, дочь переносчика навоза. Но вот кто жених, это оставалось для всех загадкой.
Гриша спустился вниз к обеду. Матрена осталась в спальне, отдыхать после скачек на приз Буденного. Гриша с удовольствием составил бы ей компанию, но у него имелись неотложные дела. Теперь он был владельцем огромного имения, в его подчинении находились люди, и нужно было все контролировать. Да и свадьба, между прочим, дело важное и ответственное. Раз уж взялся все организовать, нужно идти до конца.
Выйдя на крыльцо, Гриша обнаружил, что Танечку до сих пор секут. Попа бывшей барыни превратилась в кровавое месиво, сама Танечка давно потеряла сознание, и висела на крепких руках надзирателей, как мешок с добром.
– Э, кончайте! – крикнул Гриша, сладко потягиваясь и зевая. – Что, до смерти забили? Я же вам говорил….
– Живая, барин, – заверил надзиратель. – Токмо сомлела с непривычки.
– Ладно. Бросьте ее вон там, у сарая, пускай отдыхает. Ей еще сегодня замуж идти.
Во дворе уже поставили стол, расставили стулья. Гриша оглядел все, и остался доволен.
– Вина не жалейте! – прикрикнул он прислуги. – Гулять, так гулять. К тому же у нас ожидаются гости.
Вернувшись в дом, Гриша нашел мобильный телефон Танечки, взял его, и пошел к смутьянке. Выпоротую барыню не сразу привели в чувства, а когда она очнулась, и увидела перед собой Гришу, тут же грохнулась на колени и принялась бить поклоны. Гриша протянул ей трубу, и приказал:
– Звони своим подругам, тем двум, черненькой и светленькой, и пригласи их в гости. Скажи, пускай прямо сейчас выезжают. Дескать, у тебя для них сюрприз.
Танечка все сделала в лучшем виде, после чего доложила, что подруги скоро будут.
– Как появятся, хватайте их и заприте в сарае, – приказал Гриша надзирателям. – Шоферов и охранников в расход. Мне лишние гости на свадьбе не нужны. А я пойду, проверю своих навозников.
На навозе царила трудовая идиллия. Вчерашние господа со счастливыми улыбками на лицах бегом переносили испражнения животных в своих холеных ладонях. Не заметив на лицах благородного сословия следов воспитательных процедур, Гриша удивленно спросил у надзирателя:
– Неужели одними словами удалось убедить?
– Да как вам сказать, – загадочно ответил надзиратель. – Доброе слово – великая сила. Ласка и доброта – наши методы. Почто же человека бить? Ты поговори с ним, объясни все, его выслушай, и все славно будет. К тому же народ-то не то, что наши темные мужики, которых пока оглоблей промеж ушей не перетянешь, ничего не понимают. Все образованные, ученые, книжки умные читали. Вот граф Пустой азбуку придумал. Ученый человек.
– А почему у него щеки так раздуты? – спросил Гриша.
– Да это мы ему в рот навоза напихали, – ответил надзиратель.
– Зачем?
– Говорю же – ученый шибко. Замучил нас своей мудростью. То гневом божьим пугал, то какими-то правами человека…. Нам-то что, мы люди простые. Куда уж понять такие мудрости? Да и не к чему они. Только умы смущать. Ну и поместили ему в рот навоза, чтобы помалкивал.
Гриша одобрил идею, и поинтересовался, почему отсутствует Пургенев.
– Уж надеялся, что не спросите, – покачал головой надзиратель. – Вот скажу вам, барин, как на духу – не добытчик Пургенев. И сам абы как трудится, и других холопов смущает. Смутьян он, да и только. Про какую-то свободу все время твердил… интересно, что это такое? Призывал голодовку объявить, на митинг выйти. Нас сатрапами обзывал. А нам ведь обидно. Это ведь мы только с виду все черствые да грубые, но ведь это телесная оболочка такова. А в душе мы все нежные и ранимые. Нас такие слова в свой адрес очень задевают.
– Прибили вы его? – спросил Гриша.
– Зачем прибили? – удивился надзиратель. – Почто же господское добро портить? Живой. Да и нельзя так вот сразу на человеке крест ставить. Убить проще всего. Но нужно бороться за человека. Нужно верить в человека. Нужно с ним работать. Рано или поздно он все поймет. Главное верный подход к нему найти.
Тут дверь ближайшего сарая распахнулась, наружу вывалился дюжий надзиратель, на ходу подтягивающий штаны.
– Кто следующий Пургенева топтать? – зычно крикнул он. – Он уже ласковый стал, не обзывается. Только постанывает и бормочет: и чего я в Париж не поехал?
Тут не выдержал Килогерцен. Бросив навоз на землю, он воздел грязные руки к небу и трагическим голосом вскричал:
– Доколе еще терпеть нам унижения? Мы же люди! Мы венец творения божьего! Никто не вправе обращаться с нами подобным образом. Всякий человек рождается свободным, и никто не вправе его угнетать. А вы, – закричал он, обращаясь к весело ухмыляющимся надзирателям, – подумайте о том, что вы делаете. Неужели не боитесь вы гнева божьего?
– Ну, заговорился нехристь, бога еще приплел, – засмеялся один из надзирателей. – Али не знаешь, что господом так заведено, что холопы должны пахать и помалкивать, и за это разным телесным наказаниям подвергаться? Им за это после смерти воздаяние полагается, в раю.
– Но мы не холопы! – зашелся Килогерцен. – Мы свободные люди. Меня лично всегда возмущало практикующееся в нашей стране угнетение человека человеком. Вот на цивилизованном западе такого нет, и нам надлежит к этому же стремиться.
Надзиратели посмотрели на Гришу, тот проворчал:
– Отрежьте-ка яйца этому прозападному горлопану. И еще вон тому, Белошевскому. Он мой навоз с хмурым лицом таскает. А мне на навозе депрессивный персонал не нужен.
Едва заслышав это, Белошевский буквально расцвел. Он так широко и оптимистично заулыбался, что рот треснул.
– Ладно, ему не надо, исправляется, – махнул рукой Гриша. – А Килогерцена оскопите. Мне кажется, ему враги из Европы деньги платят, чтобы он моих холопов речами коварными смущал.
Килогерцена схватили, один из надзирателей побежал за секатором. Тут из сарая в раскорячку выполз Пургенев, и срывающимся голосом закричал:
– Друзья, я пострадал за правду!
– Я тоже хочу, как он, пострадать! – визжал Килогерцен, дергаясь в крепких руках надзирателей. – Не надо меня кастрировать. Я тоже за правду!
– Уговорил, – кивнул Гриша, и обратился к надзирателям. – После того, как кастрируете, то накажите так же, как и Пургенева.
Вернулся надзиратель с секатором. Килогерцен орал и рвался на свободу, умолял друзей помочь ему. Он призывал их к бунту, призывал сбросить оковы рабства, предрекал, что Россия вот-вот воспрянет ото сна, но его призывы не нашли отклика в сердцах бывших господ. Все они с радостными улыбками таскали в ладошках навоз, а граф Пустой с раздутыми щеками так прямо сиял от восторга. Чувствовалось, что социальные перемены он встретил с ликованием.
Оставив господ перевоспитываться, Гриша отправился на поиски Тита. Его он отыскал по специфическому запаху. Тит благоухал как нужник, но гораздо интенсивнее. Он сидел голый и грязный возле огромной кучи обгаженных штанов, а два надзирателя с ненавистью смотрели на него, не зная, что делать.
– Это были последние штаны! – закричал один из них, указывая на какую-то выпачканную фекалиями тряпку. – Сорок штанов подряд обосрал, ирод! Ты в чем на свадьбу пойдешь?
Второй надзиратель окатил Тита водой из ведра, и предложил:
– Давай попробуем ему задницу забетонировать.
– Нет уж, – отказался напарник. – Представь, он бетонную пробку вышибет, а он ведь, сука, вышибет. Не дай бог убьет кого-нибудь.
– А если заштопать?
– Куда там! Один раз ветры пустит, все нитки порвет. Ты же слышал, как он задом гремит. Как царь-пушка.
– Проблемы, пацаны? – спросил подошедший Гриша.
Пацаны объяснили барину суть трудностей, с которыми они столкнулись. Гриша оглядел кучу обгаженных штанов, и принял решение.
– Черт с ними, со штанами, – сказал он. – За столом можно и без штанов сидеть, главное, чтобы верх был прикрыт. А чего вы его не побрили?
Надзиратель показал Грише ножницы, которыми пытались подстричь Тита. Ножницы были все в зазубринах, будто ими резали стальную проволоку.
– А если… – попытался предложить Гриша, но тут ему показали бензопилу с лысым полотном.
– Все зубья в раз отлетели, – пожаловался надзиратель. – Мы вот думаем, может попробовать его бороду огнем попалить.
– Не надо, – махнул рукой Гриша. – Тит и так красивый. Подмойте его, подберите ему пиджак с бабочкой. Скоро свадьба.
– А штаны как же?
– У него ноги мохнатые, он и без штанов не замерзнет.
Тут явился надзиратель, и доложил, что прибыли подружки Танечки. Как и было велено, их водителей и охранников поубивали, а самих барышень заперли в сарай.
– Все, считай, на мази, – обрадовался Гриша. – Пойду к прачкам, спрошу, готово ли платье для невесты.
Гриша направился к особнячку, но на подступах столкнулся с Герасимом. Садовник подбежал к нему, и стал дико мычать, размахивая своими огромными руками. Гриша стоял и смотрел на глухонемого, но никак не мог понять, что тот пытается сказать.
– Му! Му! – распинался Герасим, делая руками бессмысленные жесты.
– Коровы не доены? – попытался угадать Гриша.
– Му! Му!
– Вот же заладил! Подожди, кажется, я тебя понял. Хочешь сказать – раньше в штанах было густо, а теперь пусто?
– Му! Му! – гнул свое Герасим.
– Запарил! Мне сейчас не до тебя, – проворчал Гриша.
Он попытался обойти садовника, но тот преградил ему путь и опять начал мычать и махать руками. Тут Гриша не сдержался.
– Знаешь что, – рявкнул он. – Иди ты в жопу!
– Му? – вопросительно спросил Герасим.
– Я говорю: иди… – Гриша на пальцах изобразил походку, – в жопу, – повернувшись к Герасиму задом, он пальцем указал направление. Затем махнул рукой невесть куда, и прибавил:
– Ступай с богом.
После чего Гриша пошел по своим делам, а Герасим постоял немного, пожал плечами, и, развернувшись, побрел в том направлении, которое указал ему Гриша. Все были заняты подготовкой к свадьбе, так что никто не заметил, как Герасим покинул пределы имения и побрел через поле в неведомом направлении.
Разобравшись с инвалидом, Гриша посетил прачек. Те уже сшили Танечке подвенечное платье, притом модельером в данном процессе выступал Гриша. То, что природа одарила его бездной всяких талантов, Гриша подозревал давно, а в том, что эти таланты до сих пор не раскрылись во всем цвете и блеске, винил окружающих людей – черствых, грубых и тупых. Больше всех винил школьных учителей за их намеки на бесполезность тесания кола на голове. Гриша всегда знал, что он необычайно силен задним умом. Неудивительно, что в школе задний ум не раскрылся – на нем все время заставляли сидеть, сдавливать его, мешать развитию.
Прачки, хихикая, продемонстрировали Грише свадебный наряд бывшей барыни. Гриша долго ходил вокруг него, задумчиво тер подбородок, раздумывал, не украсить ли кружевами. Перед ним на швабре был надет старый пыльный мешок из-под картофеля, в котором прачки ножницами прорезали три дырки – большую, для головы и две малые, для рук.
– Талант не спрячешь – откуда-нибудь да вылезет, – с гордостью за себя сказал Гриша прачкам. – С моими способностями мне дорога на лучшие европейские подиумы открыта. Нет, не могу. Я слышал, все модельеры того…. Если в их компании побываю, пацаны на районе не поймут. Скажут: иди отсюда, модельер гнойный, не будем с тобой дружить.
– А что, ежели бахрому снизу нашить? – предложила она из прачек.
– Бахрому, говоришь… – Гриша еще раз придирчиво осмотрел творение своего дизайнерского гения. – Нет, бахрома лишняя. По стилю не подходит.
– А ежели на спине «дура» написать угольком? – предложила другая.
– Хм! А вот это мысль! – похвалил Гриша. – Напишите. Жаль, что стекловаты нет, вот из чего бы платье Танечке сшить.
После прачек Гриша отправился инструктировать поваров. В кухне царила веселя суета, в многочисленных кастрюлях что-то таинственно булькало, на сковородах жарились ломти мяса. Повара загружали в печь огромный пирог, кондитер поливал масляным кремом красивый торт. Гриша терпеливо дождался, когда кулинар закончит последнюю кремовую розочку, после чего провел пальцем поперек торта и сунул перст в рот. На торте осталась варварски прочерченная полоса.
– И ничего мне за это не будет! – счастливо проговорил Гриша, вспоминая свое развеселое детство. Раз как-то пошел на день рождения к однокласснику. Одноклассник был так себе, Гриша с ним не дружил, но зато он имел состоятельных родителей, и те могли позволить закатить шикарный сладкий стол. Пока прочие малолетние гости играли в игрушки, Гриша – зоркий глаз, отследил прибытие торта. Торт был огромен и прекрасен, маленький Гриша не видел такой красоты даже на картинках – родители нарочно таких картинок не показывали, вместо них подсовывали картинки с изображением сухарей, лука, вялых сырых макарон, после которых любая карамелька была за счастье. И вдруг такое искушение библейского масштаба – торт! Немыслимых размеров, покрытый толстым слоем белого масляного крема, поверх которого чего только не было – и розы, и изюм, и орешки, и узоры из шоколада. А в центре торта высилась вафельная башенка, тоже вся в креме и шоколаде, а на вершине башенки торчала свеча, которую в кульминационный момент собирались зажечь.
Маленький Гриша еще как-то мог бы пережить торт, но эта башенка была сильнее него. И вот, уличив момент, Гриша просочился на кухню, когда никого из людей там не было.
После этого дня рождения опять стали звучать разговоры о том, что ребенок неадекватен и опасен для окружающих, упоминали какое-то учебное учреждение закрытого типа, вроде как санаторий, только с решетками на окнах, вновь пророчили мрачную судьбу. Бабка именинника прямо заявила, что этого малолетнего уголовника ждет тюрьма. Родители юбиляра ничего не говорили, потому что пытались успокоить впавшее в истерику чадо. А маленький Гриша стоял и ничего не понимал. Ну и что он такого сделал? Да, не удержался, оторвал от торта башенку и съел ее. Но следом за этим его замучило раскаяние, и он, чтобы скрыть свое преступление, просто взял и уронил торт на пол. И все бы сошло с рук, вот только когда он сталкивал торт со стола, в кухню вошел именинник, и все видел. Даже бросился спасать свой торт, но Гриша сердито оттолкнул его, а когда пацан полез повторно, отоварил по голове разделочной доской. На крики осыпанного подарками мальца сбежались все гости, и уже у них на глазах Гриша опрокинул торт, после чего принял самый невинный вид, и стал всех уверять, что он тут вообще не при делах.
С тех пор Гришу на подобные мероприятия не приглашали, пока не вырос. Когда вырос, научился приходить без приглашения.
Осквернив торт, Гриша пошел шарить по всем кастрюлям, вроде как снимая пробу. Было вкусно, но поваров не хвалил. Уже усвоил, что с крепостными нужно пожестче, если обращаться как с людьми, мигом обратятся в скотов. Поэтому, сожрав огромный кусок жареного мяса со специями, Гриша, вместо похвал, обругал повара, так что тот упал на колени и стал умолять не губить его.
– Ладно, на первый раз прощаю, – великодушно бросил ему Гриша. – Но смотри – во второй раз не помилую. Велю кастрировать.
– Ваше преподобие, уже кастрированный, – путаясь в титулах, промямлил утопающий в соплях повар.
– Да? И ты думаешь, что теперь все, больше ничего не будет? А двадцать восемь веников в задний проход? А сдирание шкуры от пяток до ушей? У меня фантазия богатая. Распустились тут! Вот я наведу порядок.
Гриша разразился гневной речью, в которой объявил, что лихие годы под властью товарища Орлова прошли, и теперь настало время стабильности.
– Буду править сильной рукой! – грозился Гриша. – Смутьянства не потерплю! Что это? – вдруг закричал он, указывая на горку лимонов, лежащую на столе. – Кто принес?
– Ба… барин чай по утрам изволил пить с лимоном… – проблеял, заикаясь, один из поваров.
– Какой еще барин? – взорвался Гриша. – Я барин! Я! И я лимоны терпеть не могу! Ага! Я вас раскусил. Вы все ждете, что старая власть вернется. Думаете, Гриша тут на три дня, не дольше. А вот хрен вам! Я еще Кольку Скунса подтяну, мы с ним по очереди будем рулить. Мы тут надолго! И он тоже лимоны не любит.
Повара попытались выбросить лимоны, но Гриша их остановил. Он повелел выжать из них сок, и подать его Танечке во время свадебного банкета.
– Это чтобы ей было чем поцелуй жениха запить, – пояснил новый барин. – Там такой жених, скажу я вам. Когда на свадьбах новобрачные целуются, им кричат – горько. А мы, похоже, будем кричать – мерзко. И как она, бедняжка, с ним целоваться будет? У него ведь что изо рта, что из… другого места запах одинаковый.
– А ежели мяты ему туда? – предложил повар.
– Куда? В другое место? Вот еще мяты там не хватало.
– Да нет, ваше благородие, в рот.
Гриша безнадежно махнул рукой.
– Какая уж там мята. Ему туда хлорки, для начала, засыпать надо три ведра. Нечего продукт переводить. К тому же Танечка своего жениха любит таким, какой есть, со всеми его ароматическими недостатками.
Глава 46
Свадебный банкет был организован в лучшем виде. Гриша дважды бывал на чужих свадьбах, и точно знал, что главный свадебный атрибут, это заваленный жратвой и выпивкой стол. Впрочем, это же касалось и любого другого национального праздника. Судя по тому, как славяне одержимы едой, до того, что возводят ее в культ и делают центральным объектом любого торжества, можно было заключить, что в старину предки питались плохо и нерегулярно. По всей видимости, единственной возможностью набить брюхо являлись праздники, притом праздники чужие. С давних времен сохранился прекрасный обычай голодать три дня перед тем, как идти в гости. Отсюда же проистекает представление славян о рае, где молочные реки плещутся о кисельные берега, на берегу бык печеный, в боку нож точеный. Рай, это место, где все вокруг еда. Никаких тебе небес с ангелами, гурий с аппетитными попами, соблазнительных и грозных валькирий – только одна жратва! Отсюда и национальные поговорки. К примеру: хлеб всему голова. То есть не голова всему голова, не мозги, а хлеб, все та же еда. Еда главнее всего, она альфа и омега, начало и конец. Она все. Или вот еще: семь раз отмерь, один отрежь. Это поговорка на тот случай, если гостю колбасу нарезаешь. Дескать, лучше семь раз перемерить, чем лишний миллиграмм мимо кассы пустить.
С последней пословицей Гриша был согласен на все сто. Гришины приоритеты располагались в следующей последовательности: Гришин желудок, Гришин член, Гришин кошелек, вся остальная вселенная, провались она в черную дыру. Гриша был скуп. Всякий раз, когда он покупал какой-нибудь отвратительно дешевый подарок своей девушке Машке, у него от жадности в зобу дыхание спиралось. Расплачиваясь в магазине с продавцом, Гриша в эту минуту ненавидел его лютой ненавистью, и будь его воля, заставил бы его страдать и вымаливать скорую смерть. Но сегодня Гриша решил поступиться принципами, и гульнуть не скупясь. Гриша понимал – в этом мире ему зацепиться не удастся, но и оставлять кому-то хоть одну бутылку вина, хоть одну ложку черной икры он не собирался. Если нельзя владеть всеми этими богатствами, нужно забрать с собой хоть какую-то часть. В желудке.
– Гулять, так гулять, – бормотал он, прохаживаясь вдоль бесконечно длинного накрытого стола под открытым небом.
Идею о том, чтобы провести мероприятие в столовой особняка Гриша отмел по вполне уважительной причине, имя которой было Тит. На открытой местности его ароматические качества характера были не так невыносимы, но в ограниченном помещении он быстро отравил бы весь воздух. К тому же Тит имел свойство производить выхлопы, и случись такое в переполненном банкетном зале, едва ли удалось бы избежать человеческих жертв.
– Оно и лучше на природе, – рассуждал Гриша, невзначай ущипнув пробегавшую мимо кухарку за попу. – Птички поют, солнышко светит. Да и подобраться никто незаметно не сможет.
Не то чтобы Гриша опасался незваных гостей – с жезлом Перуна он был готов отбить любое нападение, но все же желал бы узнать о приближении неприятеля заранее, чтобы успеть подготовиться.
Стол накрыли такой, что перед людьми не стыдно. Соорудили алтарь из тумбочки, принесли огромную старинную Библию. Прачки, уборщицы, кухарки, все приоделись в шикарные наряды, (Гриша отдал им на разграбление гардероб Акулины), надзиратели почистили от навоза сапоги и причесали щетину на лицах. Появилась Матрена в лучшем платье бывшей хозяйке, с модной шляпкой на голове. Гриша, глянув на бывшую горничную, не узнал ее. Дело было даже не в нарядах, а в том, как Матрена себя держала. Прежде робкая и запуганная, теперь она стояла прямо, с вздернутым подбородком, и на всех посматривала свысока. Надзиратели и дворня величали ее барыней, и Матрена отнюдь не протестовала против этого, напротив, принимала, как должное. Гриша подвел ее к столу и усадил на почетном месте, по правую руку от себя. По левую руку сел святой старец Гапон, чью полезность Гриша уже успел признать.
Когда все гости расселись, Гриша властно скомандовал:
– Подать сюда невесту!
Два надзирателя удалились, и вскоре воротились со счастливой Танечкой. Невеста всех краше была – покраснела, пока ревела от счастья. Теперь уже она не ругалась, не приказывала и не возмущалась – воспитательная порка пошла ей на пользу.
Гриша медленно поднялся со своего места, и сказал речь:
– Типа это самое, как бы. Сегодня мы тут чисто конкретно собрались, чтобы, значит, сочетать узами брака вот эту телку и ее типа жениха. Типа ура.
– Ура! – грянули гости.
– Сейчас жениха приведут, и начнем, – сказал Гриша Гапону.
– Кто поведет невесту к алтарю? – спросил святой старец.
– Кто поведет? – проворчал Гриша. – Она что, одна заблудится?
– Обычай таков.
– А-а…. Ну, если обычай, тогда ладно. Эй, кто-нибудь, притащите сюда отца невесты.
Надзиратель ушел, и вскоре явился обратно вместе с помещиком Орловым.
– Папа, меня насильно замуж выдают! – закричала Танечка, и бросилась к папеньке на шею.
Ничего не ответил ей родитель, да и не мог ответить. За словесное выражение недовольства прекрасной жизнью простого русского холопа, ему в воспитательных целях набили рот навозом. Но, услыхав слова дочери, переполнился помещик возмущением, выплюнул навоз, и закричал на Гришу:
– Да как ты смеешь? Ты холоп, а моя дочь дворянка. Не бывать этому! Не дам своего родительского благословения.
– Да не я жених, – в который уже раз пояснил Гриша.
– А кто? – удивился помещик.
– Человек благородных кровей и благородных манер. Похоже, он вообще царского рода. Или императорского. Красавец, каких поискать. Да вам меня благодарить надо, что все устроил, а вы ругаетесь. Такие женихи на дороге не валяются.
Барин был заинтригован, даже Танечка, прекратив лить слезы, как будто заинтересовалась, раскатав губу на красавца царских кровей.
В этот момент к столу подошел Тит во фраке, в цилиндре, и без штанов. Лохматый, бородатый, с черными от густой шерсти ногами, он напоминал цирковую обезьяну, которую ради смеха нарядили в пиджак. Благоухал Тит так, что никакой обезьяне не снилось. Подойдя к столу, он вытащил палец из правой ноздри, облизал его с причмоком, и застыл на месте, ожидая дальнейших указаний.
– А вот, собственно, и жених, – сказал Гриша, указав на Тита. – Принц зловонных ветров и король фекальных куч.
Танечка истошно завизжала и без чувств упала на руки отца. Впрочем, она почти сразу же очнулась, и, побледнев, крикнула:
– Я себя убью, но за этого грязного скота замуж не пойду!
– Как знаешь, – пожал плечами Гриша. – Тит не брезгливый, он и с тобой мертвой первую брачную ночь проведет. И вторую, пожалуй, тоже. Тит, – позвал мужика Гриша, – у меня для тебя подарок. Танечка теперь твоя.
Тит уставился на Танечку такими глазами, что барыня опять лишилась чувств. Помещик Орлов срывающимся голосом закричал:
– Чудовища! Нехристи! Я вас проклинаю! Когда сюда явится полиция, и вас всех схватят, вы у меня на коленях будете смерть вымаливать. Я с вас кусками заставлю мясо срезать, и вам же его скармливать.
Тут поднялся отец Гапон, и гневным голосом объявил, что за богопротивные речи и неуважение к наместнику божьему помещику Григорию предает холопа Орлова анафеме.
Тит бросился к Орлову, и стал вырывать бесчувственную Танечку из его рук. При этом он кричал:
– Мое! Отдай! Мне барин пожаловал девку сочную! Почто поперек барской воли идешь? Моя она, и точка! Желаю с ней в брачный сарай идти.
– Не трогай мою девочку! – вопил помещик, отбиваясь от будущего зятя.
Гриша обнял за плечи Матрену, и ехидно посмеиваясь, заметил:
– Ой, недолго ей девочкой быть осталось.
Тут со стороны барков послышался какой-то многоголосый шум. Как выяснилось, вернулись холопы, полдня совершавшие крестный ход, дабы прославить нового владыку. Пыльные, грязные, изнемогающие от усталости, сосчитавшие все ямы и бугры русского бездорожья, холопы сгрудились толпой, ожидая дальнейших указаний. От их скопления ветерок донес аромат потных подмышек, грязных задов и годами немытых гениталий. Гришу покоробило. Сидеть за шикарно накрытым столом в компании симпатичной Матрены и милых прачек, и нюхать при этом простой русский народ, было невозможно.
– Так, чего пришли? – сердито крикнул Гриша, обращаясь к сопровождавшим крестный ход надзирателям.
– Исполнили твое повеление, барин, – доложился надзиратель. – Совершили торжественный крестный ход, восславили господа за ниспослание нам тебя.
– Так идите, и еще раз его совершите, – приказал Гриша. – Идите, идите. И чтобы до вечера здесь не появлялись. До завтрашнего! Можете крестным ходом до пруда пройтись, и там помыться заодно.
– Это можно провести как акт массового крещения, – шепотом сообщил на ухо святой старец Гапон. – В истории уже был прецедент.
– Они ведь, вроде бы, и так все крещеные, – заметил Гриша.
– Ну, так второй раз-то не повредит, – резонно заявил Гапон.
– Точно, – похвалил святого старца Гриша. – Голова!
– Холопов кормить? – меж тем спросил надзиратель.
– Ясное дело! Кормить! – возмутился Гриша. – Но после, – тут же добавил он. – В кормлении ведь что главное? Главное знать меру. Если много и часто кушать, – с этими словами Гриша скатал в рулон пять блинов, окунул их в сметану и проглотил, не жуя, – можно серьезно подорвать здоровье. Возникает дополнительная нагрузка на сердце, – Гриша зачерпнул половником черную икру, и сожрал ее столько, сколько и из племенного осетра не вытрясешь, – и на прочие органы. Самый вредный из продуктов – мясо. От него все беды. Если мясо кушать, можно холестерином сильно заболеть. Лишний вес, опять же. Какой из холопа работник, если он толстый, как бочка? А ежели он работать на благо меня, то есть барина, не может, то он, выходит, нехристь, потому что я же наместник бога и все дела, и на меня надо работать и молиться. Нет, с кормлением холопов нужно быть поосторожнее. В этом деле лучше недокормить, чем перекормить. Объедание очень вредно. Есть у меня один кореш, Колька Скунс… ну, да вы его все равно не знаете. Так вот он однажды пришел к подруге в гости, а у той на столе стоит огромное блюдо с пирожными. Подруга, значит, в душ метнулась, чисто подмыть себе все, что полагается, а Колька голодный был, как скотина, к тому же он к пирожным с детства неравнодушен. Увидел он тазик с пирожными, как накинулся. Думает – штуки две-три сожру, никто и не заметит. А сам жрет и жрет. Уже чувствует, что пирожные через нос обратно лезут, а он пальцами ноздри заткнул, и дальше жрет. И сам же, главное, понимает, что завязывать пора, а остановиться не может. Так все пирожные и сожрал, паразит. Даже пустую тарелку в трех местах надкусил, когда крошки слизывал. А тут телка подмытая из душа выходит. Идут они в спальню, чтобы все культурно было, как в кино. А Колька чувствует, что его сейчас разорвет. Живот раздулся, тошнит жутко, на клапан давление в пятьсот атмосфер. Ему бы на парашу рвануть, да он постеснялся. Хотел уйти, да тоже нельзя. Потом ведь все друзья засмеют, будут импотентом обзывать. Его раньше вялой колбасой называли, когда я всем рассказал, как он на спор ртутный градусник об свой член разбить не смог. Я-то смог! А он нет. Бил, бил, не разбил. Три банки пива мне проиграл. Так что вялая колбаса, это неприятно, но импотент еще хуже. К тому же я эту телку знал, она бы мне все рассказала, а я бы вообще всем рассказал, что у Кольки Скунса колбаса не вялая, а вообще увядшая, и еще бы про размер что-нибудь придумал, типа она не только увядшая, но и усохшая. И Колька, короче, боясь огласки, полез на телку. Ну а когда у тебя глаза на лоб лезут от большой нужды, тут не до секса, да и вообще не до чего. Короче, корячился он, корячился, телке это надоело. Решила она дело в свои руки взять. Уложила Кольку на кровать, а сама на него сверху залезла. Как прыгнула на нем разок-другой, так весь крем из Кольки и выдавила. С тех пор мы его не вялой колбасой обзывали, а большой жопой.
Все свадебные гости, и холопы, и надзиратели, внимали в благоговейном молчании. Гришу слушали, как пророка, изрекающего слова божественного откровения. Чувствуя себя Моисеем, только что озвучившим народу полученные от высшего руководства правила поведения, Гриша громко кашлянул в кулак, и официальным тоном добавил:
– Всем холопам в честь свадьбы Тита и Танечки назначаю внеочередной бессрочный курс лечебного голодания. Так что продолжайте крестный ход, пока раком на горе не свиснут. Все, свободны. Не смею задерживать.
Подгоняемые надзирателями, холопы, покачивая хоругвями и знаменами, вновь пошли на окраины крестным ходом, затянув хвалебную песню. Гриша, слушая их завывания, пробормотал:
– Надо им репертуар обновить. Интересно, они что-нибудь из шансона могут?
Холопы удалились, свадьба продолжилась. Низложенный помещик Орлов пытался препятствовать церемонии, Танечка тоже отказывалась идти замуж, тогда Гриша, потеряв терпение, гневно заявил, что или все будут делать то, что он скажет, либо невеста и ее отец получат приз в виде сорока веников в зад каждый. После этого помещик Орлов резко пересмотрел свою позицию, и стал горячо уговаривать Танечку быть хорошей девочкой.
– Даю тебе свое благословение, дочка, – торжественно произнес он. – Совет да любовь и детишек побольше.
– Папа, ты что? – зарыдала Танечка. – Ты погляди на эту образину!
Образина, он же Тит, стоял в сторонке и с нетерпением ожидал, когда можно будет вести Танечку в брачный сарай. Сперва Гриша хотел позволить новобрачным провести первую брачную ночь в одной из комнат особняка, но затем передумал. Пускать Тита в человеческое жилище было так же неразумно, как привести в дом хорошо накормленную корову, и оставить на ночь. К тому же Танечка по своему социальному положению теперь являлась крепостной, и как всем крепостным ей полагалось заниматься сексом в брачном сарае. Гриша специально приказал поставить там кровать (обычно холопы спаривались на голой земле), а чтобы создать романтическую атмосферу, украсил внутренность сарая цветами с клумбы. Заодно надзиратели показали ему две дырочки в задней стене сарая, через которые можно было наблюдать за происходящим внутри. Гриша, понимающе улыбаясь, погрозил надзирателям пальчиком. Те даже обиделись на подобный намек. Они пояснили барину, что никакого возбуждения подглядывание не вызывает, один только смех, потому что тупые холопы даже сексом занимаются тупо и потешно.
– Дочка, ты меня послушай, я тебе только добра желаю, – уговаривал Танечку отец. – Да, с виду он не красавец, но мужчину ведь не по внешности оценивают.
Тит грянул задом, помещик Орлов, едва не разрыдавшись от накатившего смрада, добавил:
– И не по запаху. Я уверен, что у него много достоинств.
Насчет многих достоинств Гриша был не уверен, но одно очевидное достоинство Тита давно уже нетерпеливо выглядывало из-под фрака.
– Я не могу! – зарыдала Танечка. – Он на обезьяну похож.
– Надо, дочка, надо, – уговаривал Орлов. – Это он сейчас как обезьяна. Но если его побрить и помыть, он совсем как человек будет.
– Он пукает, – привела довод Танечка.
– Ну и что, дочка? Все пукают. И я пукаю, и ты пукаешь, и бабушка, которая в Крыжополе живет, тоже пукает. Славный предок наш, Николай Орлов, который еще при Бородине сражался, тоже пукал. Основатель рода нашего, варяг Чмурик, ближайший сподвижник Рюрика, тот тоже пукал, и громко, шельмец, пукал. Даже на пирах княжеских, бывало, выдавал задом гром зловонный.
– Мы что, потомственные пердуны? – в ужасе простонала Танечка.
– Да, дочка, – кивнул Орлов, признавая страшную правду. – Все наши предки до двадцатого колена пукали. Тебе на роду написано связать свою судьбу с этим человеком. Он пукает, ты пукаешь…. У вас так много общего. Анальная музыка вас связала.
– Долго еще будете свадьбу затягивать? – сердито закричал Гриша. – Гости скучают, Тит весь на гормоны изошел. А у меня еще культурная программа запланирована. Стриптиз в исполнении твоих подружек. Так, Гапон, венчай их.
Тит подскочил к рыдающей Танечке, схватил ее за попу и потащил к алтарю. Святой старец Гапон молитвенно сложил руки, и спросил, является ли желание жениха и невесты вступить в брак обоюдным и добровольным. Тит закричал, что хочет идти в брачный сарай, Танечка сказала, что замуж идти не желает, но ее мнением никто не интересовался.
– Объявляю вас мужем и женой, – торжественно провозгласил Гапон. – Можете поцеловаться.
Тит сорвал с Танечки фату, распахнул пасть, и навис над ней, дыхнув в лицо благородной особе своим убойным выхлопом. Танечка позеленела и ее вырвало. Схватив супругу в охапку, Тит потащил ее к брачному сараю.
– Давай, Тит! – подбадривал Гриша. – Сломай ей все, в том числе и кровать.
Тит с Танечкой скрылся в сарае, дверь за ними захлопнулась. Бывший помещик Орлов, бледный и вспотевший, с ненавистью поглядел на Гришу. Грише это не понравилось. У него возникло подозрение, что холоп Орлов его не любит.
Брачная ночь, начавшаяся засветло, была шумной и бурной. Танечка визжала непрерывно, Тит ревел, как животное, из сарая слышался грохот, скрип кровати, какие-то жуткие ритмичные удары. Танечка вначале звала на помощь, затем взывала к высшим силам, в итоге, поняв, что никто ее не спасет, просто вопила и рыдала. Слушая все это, Гриша ощутил укол зависти. Ни одна девушка под ним не шумела и вполовину так же громко и долго, как Танечка под Титом. А тут еще Матрена, внимательно прислушивающаяся к шуму из брачного сарая, взяла и спросила:
– А почему у нас с тобой бывает не так громко?
Гриша заскрипел зубами от злости, и нехотя оправдался:
– Потому что я тебя жалею. Если бы я дал себе волю на сто процентов, ты бы вообще могла этого не пережить.
Матрена нежно погладила его по плечу, а затем взмолилась:
– Любимый, ты меня больше не жалей. Я выносливая, сильная, я все переживу. Дай себе волю!
Слушая эти просьбы, Гриша с ненавистью ворчал:
– Ну, Тит! Вот и делай людям добро. Знал бы я, что он такой половой гигант, приказал бы его кастрировать перед свадьбой.
Вдруг из сарая раздался крик Танечки, полный неподдельного ужаса:
– Нет! Нет! Только не сюда!
Затем он оборвался, сменившись истошным воем.
Святой старец Гапон размашисто перекрестился, и произнес:
– Господь велел: плодитесь и размножайтесь. Слава тебе господи! Благое дело вершится.
Матрена прижалась к Грише и предложила:
– А пойдем в спальню, и ты меня совсем не пожалеешь?
– Нельзя же просто так встать и со свадьбы уйти, – проворчал Гриша, проклиная полового гиганта Тита. – Что люди скажут?
Пока Тит лишал Танечку невинности (а судя по звукам, и жизни тоже), Гриша, дабы отвлечь возбудившуюся Матрену, приказал привести подружек невесты. Надзиратели все исполнили, и вскоре притащили черненькую и беленькую. Барышни держались тихо, права не качали, и, судя по тому, как они морщились при каждом шаге, каждая уже успела получить свою порцию воспитательного террора.
– Ну, привет, – плотоядно скалясь, поздоровался Гриша. – Помните меня?
Судя по кислым лицам барышень, они помнили. Правда при их последней встрече, Гриша был бесправным холопом, с которым что хочешь, то и делай. И вдруг такая разительная перемена.
– Слышите? – спросил Гриша, обращая внимание подружек невесты на дикие крики, несущиеся из сарая.
Барышни все слышали. Более того, они узнали голос своей подруги. Поскольку истошные вопли Танечки никак не вязались с половым актом, черненькая и беленькая решили, что их подругу как минимум разделывают заживо.
– Вы следующие, – обрадовал Гриша.
Беленькая ойкнула, и лишилась чувств. Черненькая оказалась более стойкая, только сильно побледнела и испачкала трусики.
– Правда, есть альтернатива, – намекнул Гриша. При этих словах блондинка сразу очнулась. – Сейчас забираетесь на стол, и танцуете красивый стриптиз. Так, чтобы мне понравилось. И учтите, мочалки, меня на стриптизе не провести! Я раз в клубе был, видел, как профессионалки вокруг шеста вертятся. Одну даже по попе ладошкой погладил, когда она ее оттопырила. А когда гладил, из трусиков незаметно две тысячные купюры вытащил. Так что учтите – халтура не прокатит. Танцуем со всей страстью, зажигательно и эротично, чтобы я возбудился. Какая будет танцевать плохо, пойдет следом за Танечкой. А вот если мне понравится, я, так и быть, пощажу вас. Пальцем не трону. И ничем другим тоже. Ну, что встали? Живо на стол!
Гриша ждал, что благовоспитанные барышни начнут кривляться и корчить из себя особ повышенной культурности, но страх перед неизвестностью резко понизил градус их благовоспитанности. Обе, едва не толкаясь, залезли на стол. Один из надзирателей включил музыкальный центр. В имении у помещика Орлова были только диски с церковными службами и старинными романсами, зато под подушкой у Танечки нашелся довольно зажигательный альбом. Музыка на Гришин вкус была хуже некуда – ни тебе уголовной романтики, ни зоны, ни проституток, ни воров, но девчонки быстро поймали ритм и задвигали телами. Вначале вяло и робко, затем, все более оживляясь, они вошли во вкус. Гриша возбужденно засопел и подался вперед. Теперь он понял, каким танцам от печки учили в Смольном институте.
Вскоре уже никто не слышал криков Танечки из брачного сарая. Внимание публики было всецело приковано к двум барышням, в которых пробудился весьма прибыльный талант. Черненькая не гнала лошадей, зато беленькая заголилась до нижнего белья. Фигурка у нее оказалась дай бог каждой. Правильное здоровое питание, регулярные занятия спортом, хорошие гены и полное отсутствие тяжелого физического труда – вот что делает женщину богиней. В любом борделе беленькая была бы нарасхват. Гриша решил, что когда с ним будут расплачиваться, он потребует себе именно таких блондинок, и ни чуточку не хуже. Такими хоть сам пользуйся, хоть в аренду сдавай.
Расчехлив бумажник, Гриша вытащил оттуда всю наличность, и, держа купюры в зубах, полез на четвереньках прямо по столу, дабы поощрить юное дарование. Но далеко уйти ему не удалось. Матрена поймала за ногу пустившегося в бегство кавалера и притащила обратно.
– Мне одной скучно! – капризно заявила Матрена. – Будь рядом.
Гриша сурово нахмурился, прекрасно понимая, что упустил девку. Знал же – стоит пару дней обращаться с телкой, как с человеком, как она сразу же на шею сядет и начнет оттуда диктовать всю внешнюю политику. Следовало незамедлительно проинформировать Матрену о том, кто в доме хозяин.
– А ты знаешь, кто в этом доме хозяин? – сердито спросил у нее Гриша.
– А кто? – с вызовом поинтересовалась Матрена, всем видом демонстрируя, что не против драки.
– А вот он, – резко отступил Гриша, указав на помещика Орлова, после чего отвернулся от подруги и пригорюнился. Случилось то, чего он опасался всю жизнь – прямое попадание под каблук. А отсюда уже недалеко было до свадьбы, а там и до детей, а потом алименты, а потом, наверное, только веревка и мыло.
– Угораздило же, – пробормотал Гриша. – А ведь как все хорошо начиналось.
На столе уже шла откровенная обнаженка. Барышни, повизгивая, трясли прелестями, вертели попами, терлись друг о дружку, так что помещик Орлов, глядя на подружек своей дочери, истек слюной до самых лаптей. Грише ужасно хотелось присоединиться к девочкам, потереться об них и все такое, но Матрена внимательно следила, чтобы он не то что не уполз в направлении разврата, но даже смотрел туда не слишком долго и пристально.
А веселье, меж тем, оказалось заразительным. Уже две прачки залезли на стол, остальные, повставав со своих мест, танцевали с надзирателями. Два надзирателя, не поделив прачку, дрались в стороне, святой старец Гапон, стащив рясу через голову, скакал по газону в одних семейных трусах в розовый крестик, тряс огромным волосатым животом, и хватал прачек за попы. Подчиняясь общему настроению, Гриша пригласил Матрену на танец. Матрена танцевать не умела, Гриша же из всех танцевальных правил знал только одно – танцуя с девушкой, нужно ловить момент и хорошенько ее ощупать. Щупать Матрену было уже как-то скучно, но в то же время по-прежнему приятно. Гриша прижал к себе партнершу, положил свою правую ладонь на ее левую ягодицу, левую ладонь на правую ягодицу, и стал топтаться на месте, наслаждаясь ощущениями. Мимо на четвереньках проскакал святой старец Гапон, верхом на котором сидела голая прачка, и подгоняла скакуна пучком крапивы. Надзиратели дрались уже вшестером – то ли делили прачек, то ли отдавали дань уважения традиции, согласно которой свадьба без драки – не свадьба. На столе извивались восемь голых девок, среди которых барыни выделялись только идеально сложенными фигурами. Один из надзирателей уже повел прачку за сарай, второй даже за сарай не довел, и делал дело там, где его окатил с головой порыв страсти, то есть в двух шагах от стола. Глядя вокруг, Гриша с радостным сердцем понял, что является прекрасным организатором свадеб, и может в будущей жизни даже открыть собственный бизнес. Но тут же напомнил себе, что у него будет пять миллионов долларов и двадцать восемь блондинок, сданных в аренду, и решил, что работать не нужно. Спустя минуту он вспомнил, что у него помимо всех радостей будет Матрена и будет Ярославна (ее он решил завоевать из принципа, не считаясь с расходами), а эти две содержанки в один поход по магазинам спустят все его состояние. Все-таки придется работать. Но через минуту Гриша вновь утешился, ведь у него был жезл Перуна – волшебная палочка, с помощью которой можно разрушать здания, убивать людей и наверняка еще много чего. В крайнем случае, он ограбит банк. В самом крайнем случае – убьет любовниц и насладится под старость лет тишиной и покоем.
Все шло хорошо, но вдруг дверь в брачный сарай распахнулась, и из него, спотыкаясь, выскочила Танечка в чем мать родила. Заливаясь слезами, она бросилась к папеньке, который в это время страстно ласкал ее черненькую подружку. Увидев дочь, помещик Орлов очнулся от праздничного настроения, и бросился к ней.
Музыка смолкла, веселье прервалось. Недовольный Гриша, расталкивая гостей, направился узнать, почему Танечка прервала свою первую брачную ночь.
Голая и грязная Танечка сидела на земле и плакала. Все ее красивое тело было густо покрыто синяками одинаковой формы и размера – круглыми, диаметром со старый советский юбилейный рубль с головой Ленина. Гриша уже собрался отругать ее, но заметив синяки, осекся. Сам он, случалось, бивал девушек, но когда это делал кто-то другой, в Грише просыпался доблестный рыцарь.
– Он что, бил тебя? – спросил Гриша. От Тита он такого не ожидал. Он ведь, как другу, преподнес ему такую шикарную телку, а этот снежный человек даже распорядиться ею толком не сумел. Вместо того чтобы наслаждаться, взял и синяков наставил.
– Нет, – прорыдала Танечка, пряча лицо в ладонях.
– А откуда же синяки?
– Это он промахивался.
– Ничего себе! Да он каждый квадратный сантиметр твоего тела перепробовал. Ты бы сразу подсказала этому идиоту, куда он вставляется, а то ведь он и глаза выколоть мог.
– Я пыталась, – рыдая, призналась Танечка. – Он нет слушал.
– А в яблочко-то он попал?
– Нет.
– Нет? – ужаснулся Гриша. – Что, ни в переднее, ни в заднее?
– Никуда не попал, – прорыдала Танечка, поднимая лицо. Под правым глазом у нее расплылся огромный синяк. – Все тыкал и тыкал, чуть голову не продолбил.
Гриша был озадачен.
– Но я же сам слышал, как ты кричала – только не сюда.
– Я так кричала, когда он прямо на кровать срать начал, – пояснила Танечка.
Тут из брачного сарая вывалился потный и грязный Тит, чей мех на ногах слипся от свежих испражнений.
– Вертайся в брачный сарай! – сердито закричал он Танечке. – Вертайся, кому говорю!
– Не пойду я к нему, – зарыдала Танечка, обхватив ноги отца. – Лучше убейте.
– Обожди, я сейчас с ним поговорю и все объясню, – пообещал Гриша и направился к Титу.
Краткий курс полового воспитания Гриша начал с того, что сразу перешел к сути вопроса, опустив долгое вступление о тычинках, пестиках, пчелках, кошечках и собачках. Поскольку ученик отличался феноменальной тупостью, пришлось отбросить научные термины и иносказания, и говорить все прямым текстом, иногда помогая себе доходчивыми жестами. Самый доходчивый до Тита жест назывался оплеуха – он помогал сконцентрировать внимание ученика и лучше усвоить пройденный материал.
За десять минут Гриша вполне ясно обрисовал Титу масштаб несчастья. Он объяснил ему, что и куда нужно вставлять, что делать после, строго запретил испражняться и пускать ветры во время полового акта, а в конце учебного курса спросил:
– Ну, ты все понял?
Ничего не ответил Тит, в пространство задумчиво глядя. И понял тогда Гриша, что Тит дрессировке не поддается.
– Дай ты мне ее снова, – взмолился жених, разумея Танечку. – Авось соображу, с божьей помощью, что и куда.
– Нет уж, – отказался Гриша. – Тебе дай, ты ее вовсе угробишь. На тебя невест не напасешься. Давайте прямо тут, на столе. Я рядом буду, если что, подскажу и посоветую.
Танечку разместили на столе в надлежащей позе, Гриша, обняв Тита за плечи, уже на месте объяснял ему, что и куда. Тит вроде бы все понял, размашисто перекрестился, но даже после детальных инструкций умудрился промазать, попав в соседнюю мишень. Танечка завизжала, Гриша, махнув рукой, поплелся на свое место со словами:
– Все у вас через задницу, и любовь не исключение.
Глава 47
Гриша гулял на свадьбе до тех пор, пока не упился до потери сознания. Но если у нормального человека сознание просто теряется и не находится, то его отправилось в родной мир, в родное тело.
– Вот хорошо, – поделился он с Ярославной, слезая с ложемента. – Пьешь, пьешь, а потом раз – и как огурец. Я, наверное, завтра не смогу работать, у моего двойника ожидается конкретное похмелье. Пускай он мучается, а я выходной заслужил.
– Теперь ты там пьянствовать начал? – сердито спросила Ярославна.
– У меня была уважительная причина. Свадьба.
– Ты женился? – ужаснулась девушка.
– Что? – подпрыгнул Гриша. – Что ты сказала? Ну-ка сплюнь! Сплюнь! Сплюнь быстро! Ага, хорошо. Еще раз сплюнь! Три раза сплюнь! И никогда больше такое не говори. Я женился…. Блин! Скажешь тоже. Почему сразу я? Это Тит женился, а я у него на свадьбе тамадой был.
– Ты же говорил, что холопы не женятся, что у них просто случки, как у животных.
– Обычно так и есть, но Тит не на холопке женился, а на барыне. Помнишь Танечку? Вот на ней.
– На дочери помещика Орлова? – с сомнением произнесла Ярославна. – Ты ничего не пугаешь?
– Я что, тормоз что ли? – обиделся Гриша. – Уж хрен-то с пальцем не спутаю. И вообще, что ты удивляешься? Да, Танечка дворянка, а Тит холоп, ну и что? Любви не ведомы границы, ни политические, ни религиозные, ни социальные. Если бы ты знала, как они друг друга любят! Гляжу на них, и даже немножко завидую их совместному счастью.
– Все равно странно, – продолжала недоумевать Ярославна. – Насколько я знаю историю, подобных прецедентов или вообще не было, или их было крайне мало, и они тщательно замалчивались.
Гриша приблизился к Ярославне и снизил голос до конспиративного шепота:
– Я тебе скажу, в чем там дело, но только по секрету. Ты смотри, никому не разболтай. На самом деле Танечка пошла замуж за Тита, потому что у него….
Тут Гриша проделал жест, каким обычно пользуются заядлые рыбаки, похваляясь знатным уловом. Ярославна некоторое время потрясенно смотрела на невероятное расстояние между Гришиными ладонями, после чего осторожно уточнила:
– А Тит, он точно человек?
– В этом есть некоторые сомнения, – кивнул Гриша. – Похоже, он не человек, а зверь зловонный, но при таком размере это уже неважно. Танечка как увидела, так сразу влюбилась.
– Надо же, – продолжила удивляться Ярославна. – Просто чудеса. Ну а что насчет жезла? Узнал что-нибудь?
– Нет, ничего нового, – соврал Гриша. Заметив, что выражение лица Ярославны сделалось разочарованным, он поспешил добавить: – Но скоро узнаю. Есть у меня один надежный информатор, Кондрат. Сейчас с ним работаю. Он точно что-то про жезл знает.
Обнадежив Ярославну, Гриша отправился в свою комнату. Перекусив салатом из картофельной ботвы и запив его соком полыни, он завалился на кровать и тут же заснул.
Спал Гриша крепко и без снов, а проснулся раньше, чем планировал, разбуженный не появлением Ярославны, а каким-то страшным грохотом. Перепуганный Гриша скатился с постели и выглянул в коридор. Вдруг что-то просвистело рядом с его головой, и врезалось в стену, проделав в ней круглую дырку. Мимо промчался один из стрельцов с автоматом в руках. Увидев Гришу, он крикнул:
– Эй, ты! Бегом в операторскую!
– В чем дело? – закричал ему вслед Гриша. – Учения?
– На нас напали, – остановившись, ответил стрелец. – Это опричники. Они обнаружили наше убежище.
– Блин! – выдохнул Гриша. – А чего они хотят?
– Хотят всех убить, а кого не убьют, тех зверски пытать. Беги в операторскую, и спрячься там. Здесь опасно.
После этих слов автоматчик бросился в бой. Загремели выстрелы, зазвучала экспрессивная родная речь.
– Блин, чего делать-то? – все еще телился Гриша, когда из-за угла вдруг выбежала Ярославна с пистолетом в руке.
– Ты! – закричала она, увидев Гришу. – Опять тупишь! В операторскую, живо!
Ничего не соображая со сна, Гриша, напуганный грохотом выстрелов, помчался по коридору в сторону операторской. Ярославна бежала чуть позади, постоянно оглядываясь назад. Вдруг она вскинула пистолет, и загремели выстрелы. Гриша взвыл, больше всего на свете боясь получить шальную пулю в область жизненно-важного органа (не дай бог отстрелят – зачем дальше жить?), сзади кто-то закричал от боли. Ярославна, расстреляв обойму, вытащила магазин, чтобы заменить его новым. В этот момент из-за угла выскочил вражеский боец в черной маске. Гриша обернулся, увидел злодея, и кровь его застыла в жилах. Именно так он и представлял себе судебного пристава, пришедшего трясти с него алименты. Чужак был страшен – в черной маске, в легком бронежилете, и с автоматом незнакомой Грише конструкции. Ярославна пихала обойму в пистолет, и не видела врага. Гриша открыл рот, чтобы закричать, но тут загремели выстрелы и засвистели пули. Ярославна вскрикнула и упала, уже заряженный пистолет выпал из ее рук. Гриша вскочил с пола, на котором он распластался, едва началась стрельба, подхватил пистолет и стал палить во врага, даже не пытаясь при этом прицелиться.
Пять пуль поразили стену вокруг вражеского бойца, занятого перезарядкой, зато шестая и седьмая нашли его голову. Человек свалился на пол, на стене позади него осталось обширное кровавое пятно с розовыми кусочками выбитых из башки мозгов. Гришу от этого натюрморта замутило, он бросил пистолет, схватил растянувшуюся на полу Ярославну, и волоком потащил ее к операторской. Одежда Ярославны вся была в крови, так что невозможно было понять, куда именно она ранена, но она, во всяком случае, все еще находилась на этом свете. Тем временем из-за угла выскочили еще двое, тоже в масках и с оружием, но было поздно. Гриша успел втащить Ярославну в помещение с ретранслятором и захлопнул прочную бронированную дверь. Одно только огорчало – дверь не запиралась изнутри, и подпереть ее было нечем. Гриша навалился на нее всем телом, прекрасно понимая, что для ворвавшихся бугаев это не станет большой проблемой, но тут Ярославна слабым голосом сказала:
– Кнопка… на стене….
Гриша осмотрел стену, но увидел только кнопку пожарной тревоги под пластиковым колпаком.
– Нажми! – потребовала Ярославна.
Разбив кулаком пластик, Гриша нажал на кнопку. В тот же миг в недрах двери что-то лязгнуло, послышался металлический скрежет. Затем дверь начали тарань снаружи, но она не поддавалась. Гриша сообразил, что кнопка активировала какой-то замок, так что теперь они были изолированы от сил вторжения в операторской комнате. По крайней мере до тех пор, пока враги не найдут способ взломать дверь.
Покончив с текущими делами, Гриша опустился на колени рядом с Ярославной. Девушка оставалась в сознании, хотя и потеряла очень много крови. Поймав Гришин взгляд, она слабо улыбнулась.
– Если бы я знала, что все так закончится, я бы ответила на твои ухаживания, – прошептала она.
– Если бы я знал, что все так закончится, – проворчал Гриша, – я бы и разрешения у тебя не спрашивал: оглушил бы палкой по затылку и сделал дело. Блин! Слышь, ты прекращай умирать! Надо выбираться отсюда.
– Из операторской нет выхода, – сказала Ярославна.
– Ну а какой-нибудь подземный ход, тоннель, что-нибудь? Вообще ничего? И о чем вы думали? Блин! Тебя вообще сильно зацепило? Может быть, ничего страшного, просто царапина?
Гриша, борясь с дурнотой, расстегнул пропитавшуюся кровью блузку Ярославны, и увидел эту самую царапину. Оба царапины. Две пули попали девушке в живот, на местах их входа зияли безобразные дыры с рваными краями. Гриша до крови прикусил нижнюю губу, стараясь не разрыдаться. Его не утешил даже тот факт, что раненая Ярославна была без лифчика.
– Делай что хочешь, но не дайся им в руки живым, – произнесла Ярославна слабым голосом. – Если у тебя еще осталась карамелька с ядом, самое время ею полакомиться. По крайней мере, умрешь без мучений.
– Вообще умирать не хочу! – закричал Гриша. Фатализм Ярославны взбесил его. Девушка так спокойно говорила о смерти, будто точно знала, что рай существует, и она там уже заранее прописана. – Эх, блин, если бы у меня был мой жезл! Я бы им показал!
– Какой жезл?
– Да этот… блин! Жезл Перуна. Я вам не рассказывал, но я его, вроде как, добыл. Полезная штука.
– Жезл Перуна у тебя? – глаза умирающей Ярославны полезли на лоб.
– У моего зеркального двойника. А что?
– Это меняет дело. Тогда не все потеряно… для тебя. Но действовать нужно быстро.
– Ага, давай, я готов, – заверил Ярославну Гриша. – Что делать?
– Запускай ретранслятор.
– Я не умею.
– Иди к пульту, я скажу, что нужно делать.
Подчиняясь командам Ярославны, Гриша с третьего раза сумел запустить машину. В дверь, за это время, несколько раз стреляли, но затем все смолкло, и воцарилась подозрительная тишина. Гриша понимал – это не к добру. Опричники явно что-то затевали. Следовало спешить.
– Теперь укладывайся на ложемент, – сказал Ярославна. – Процесс запустится, как только ты замкнешь контакты своим телом. Когда твое сознание перенесется в параллельную реальность, ты должен схватить жезл Перуна, и крепко держать его в руках. Не выпускай его из рук ни в коем случае. Возможно, он не даст твоему сознанию погибнуть, и сохранит его в теле зеркального двойника навсегда. Возможно…. Это шанс, и его нужно использовать.
– Ага, ясно, – кивнул Гриша. – А как же ты?
Ярославна прикрыла глаза и улыбнулась:
– Ну, у меня нет жезла Перуна.
– А если ты за мой жезл будешь держаться, – нашелся Гриша. – В смысле, не за мой жезл, хотя это тоже было бы неплохо, а за жезл Перуна, который у меня. Ты тоже спасешься, и мы….
– Да я даже не знаю, есть ли у меня зеркальный двойник, и если есть, то где он в том мире, – оборвала его Ярославна. – Даже если двойник есть, и даже если я смогу с ним слиться, я просто не успею тебя разыскать, ведь мы можем оказаться даже на разных континентах.
– Все равно я тебя тут не оставлю! – проворчал Гриша, и, подняв Ярославну на руки, уложил ее на ложемент, после чего прилег рядом. В тот же миг замкнутая цепь активировала функцию автозапуска, и Гриша почувствовал, что вновь, как и много раз до этого, его сознание проваливается в бездну, отделяющую один мир от другого….
Тяжко на утро после вчерашнего.
Гриша был опытным поклонником культа огненной воды, но вот его зеркальный двойник нализался до поросячьего визга впервые в жизни. Похмелье, соответственно, было чудовищным. Едва обретя контроль над телом, Гриша пожалел, что его не убили опричники. Голова болела и кружилась, во рту, судя по ощущениям, кошка вначале нагадила, а затем сдохла, тело было непослушным и как будто чужим. К тому же Гриша отчетливо ощущал сильный запах дыма и гари, будто лежал возле большого костра.
– Чтоб я еще когда-нибудь шампанское с коньяком мешал… – простонал он, давая себе заведомо ложный зарок.
Стряхнув с себя сопящую Матрену, Гриша с трудом сел. Он изволил провести ночь на газоне. Рядом оказался жезл Перуна, который Гриша поспешно схватил в руку. Затем он совершил титаническое усилие, встал на ноги и огляделся.
На первый взгляд можно было предположить, что вчера на этом месте произошла небольшая ядерная война. Весь двор был завален телами и бутылками, на праздничном столе лежала Танечка с широко разведенными в стороны ногами. Гриша смутно припомнил, что вчера, после того, как Тит с девяносто третьей попытки попал по адресу, на невесту полезли все желающие в порядке живой очереди. В числе желающих поздравить невесту оказался даже пьяный помещик Орлов. Гриша помнил, что он тоже рвался к Танечке, но кто-то держал его за одежду и не пускал. Он сразу понял, кем был этот преступник, и сердито посмотрел на спящую рядом Матрену, которая морщилась во сне и даже пыталась что-то бормотать. Подруга вновь кого-то ему напомнила, но Гриша не стал заострять на этом внимание, поскольку пытался вспомнить, какому уроду пришла в голову мысль украсить свадебное торжество масштабными спецэффектами.
На месте особняка помещика Орлова, в котором его предки проживали последние сто пятьдесят лет, громоздилась груда дымящихся обломков. Дом сгорел. Гриша одновременно ощутил горечь и гордость. Горечь происходила из-за того, что он планировал провести в имении еще какое-то время, и жить, соответственно, в особняке. Но присутствовала и гордость. Ведь еще никогда пьянка с его участием не сопровождалась такими масштабными разрушениями, и даже, что не исключено, человеческими жертвами. Этим не стыдно было похвастать перед корешами. Теперь-то утрется Колька Скунс, любивший рассказывать о том, как он, в приступе белой горячки, выбросил в окно телевизор.
Гриша огляделся по сторонам, отыскивая непочатую бутылку, чтобы немного поправить здоровье. Ему срочно требовалось привести мозги в рабочее состояние, и подумать о том, что делать дальше. Теперь, когда опричники разнесли базу стрельцов и порешили их всех, ему не стоило рассчитывать на получение пять миллионов и двадцати восьми блондинок. Утрату блондинок Гриша переживал больнее всего. Он уже успел построить на их счет грандиозные планы, даже разработал прейскурант, даже придумал звучное название для борделя, даже решил взять Ярославну на должность администратора, и вот все мечты рухнули. Стрельцы разгромлены, его настоящее тело вот-вот будет убито, а Ярославна…. Гриша всхлипнул, понимая, что девушка его несбывшейся мечты уже, быть может, мертва.
Тут зашевелилась Матрена, открыла глаза, некоторое время тупо смотрела на Гришу, а потом удивленно спросила:
– Это ты?
Подобный вопрос Гришу возмутил.
– Я, блин! – сердито ответил он. – Кто же еще? Хватит уже валяться. Вставай, и найди мне лекарство. Живо! Не найдешь, отлуплю ремнем. А то, блин, обнаглела совсем. Хозяйкой себя почувствовала. Я тут хозяин! Ясно? И если я хочу голую девушку потрогать, или Танечку со свадьбой поздравить, не смей мне мешать. Что хочу, то и делаю. Еще раз будешь жену изображать, точно ремнем отхожу.
Матрена быстро вскочила на ноги и вдруг вцепилась руками в жезл Перуна.
– Это он? Он? – стала выпытывать она, борясь с похмельным синдромом.
– Чего? – испугался Гриша. – Отпусти волшебную палку. Ты чего, а?
Гриша попытался отобрать у Матрены жезл, но та держала крепко. Вдруг что-то случилось, по Гришиному телу словно пропустили электрический ток, и он, вскрикнув, едва не упал на землю. Однако все закончилось быстро. Странно, но с Матреной произошло то же самое – она сильно вздрогнула, даже вскрикнула, и из глаз у нее брызнули слезы.
– Блин, что это было? – проворчал Гриша.
Выпустив жезл из рук, Матрена пояснила:
– Нас только что убили.
Она с интересом посмотрела на жезл, и задумчиво произнесла:
– Значит, древние тексты не врали. Этот артефакт действительно обладает божественной силой. Тот, кто владеет им, своим могуществом равен богу.
Гриша уставился на Матрену как на новые ворота. Девушка его не просто удивила, а даже напугала. До того изъяснявшаяся, как обычная деревенская дурочка, Матрена вдруг заговорила, как профессор.
– Неужели это все от коньяка? – выдвинул предположение Гриша. – Матрен, с тобой все хорошо? Ты головой ни обо что не билась?
– Какая я тебе Матрена? – проворчала Матрена.
– Обыкновенная.
– Больше меня так не называй. Мне безразлично, как звали моего зеркального двойника, но теперь он формально мертв, потому что человек, это, прежде всего, сознание, а не кусок мяса. Сознание твоей Матрены мертво. Прими мои соболезнования.
Гриша в страхе попятился от странной Матрены, утверждающей, что она теперь не Матрена. В голову тут же полезли сюжеты любимых фильмов ужасов, где некие злобные сущности вселялись в тела людей, подчиняли их своей воле и начинали творить кошмарное.
– Ты кто? – простонал он, держа перед собой всемогущий жезл.
Матрена странно посмотрела на Гришу, затем спросила:
– Ты меня не узнаешь?
– Узнаю Матрену. Но ты говоришь, что ты не Матрена. Если ты злобный пришелец из космоса, который сожрал мозги Матрены и поселился в ее голове, то лучше скажи об этом сразу, пока не проголодался.
– Странно, – пробормотала Матрена, зачем-то ощупывая свое лицо. – Твой зеркальный двойник на тебя очень похож.
И тут Гриша внезапно понял, кого ему все время напоминала Матрена. Да, ростом она была пониже, но это объяснялось плохим питанием, да, цвет волос был другой, но ведь Ярославна красилась. Да и косметика, которую она использовала без всякого чувства меры, тоже сбивала с толку. И все же это был один и тот же человек, проживающий в разных ветвях пространственно-временного континуума. Матрена была зеркальным двойником Ярославны.
– Ярославна? – осторожно спросил Гриша, проверяя свою догадку.
– Дошло, – облегченно выдохнула девушка. – Слушай, а почему ты так долго не мог меня узнать? Я что, уродина? Лицо покрыто шрамами? Где зеркало? Дай мне зеркало!
– Да нет, нормально все, – заверил Гриша. – Просто вы не слишком похожи. Блин! Так ты, получается, жива. Вот здорово!
Забыв о похмелье, Гриша бросился к Ярославне, чтобы обнять ее, но девушка решительно остановила его на подступах к телу. То обстоятельство, что Ярославна опять включила недотрогу, взбесило Гришу.
– Ты опять за старое? – закричал он, размахивая жезлом.
– А разве было какое-то новое? – удивилась Ярославна.
– С тобой нет, а вот с твоим телом – да. У меня с твоим телом отношения интимного характера, и ты не должна нам мешать. Можешь в это время книжки свои любимые читать, или музыку слушать, а мы с телом будем заниматься разными интересными вещами. А еще лучше, если ты перестанешь из себя недотрогу строить, и тоже поучаствуешь. Это классно, поверь. Ты только попробуй….
Но Ярославна уже потеряла интерес к его речам. Она оглядывалась по сторонам, изучая новый для себя мир. Вместо привычного городского пейзажа ее окружала смесь деревни и концлагеря, в центре которого дымилось огромное пепелище. Голые люди, лежащие повсюду, если и вызвали вопросы, то Ярославна их не озвучила. А на предложение Гриши попробовать интересное занятие прямо сейчас, сказала:
– Если жезл Перуна смог спасти нас, то и все остальные легенды о нем правдивы. Он способен открыть проход между мирами, притом не только для сознания, но и для материальных объектов.
– Палка классная, – кивнул Гриша, понявший, что речь идет о его жезле. – Мы с этой штукой тут реально устроимся. У нас тоже будет имение, холопы, слуги, а мы типа будем с тобой господами. Будешь моей барыней? Только учти: барыня с барином спит в одной постели. Мы себе другое имение найдем, потому что с этим у меня неприятные воспоминания связаны, да и сгорело оно, к тому же. Только давай возьмем с собой Тита, его жену Танечку, и двух ее подружек. И еще одну прачку, не помню, как зовут, но попка у нее волшебная.
– Мы должны вернуться, – твердо сказала Ярославна, глядя Грише в глаза. – Немедленно!
– Зачем? – не понял Гриша. – Тут тоже хорошо. Ты еще не знаешь, как это классно, когда ты барин. Тебе даже задницу другие вытирают. Можно вообще весь день с постели не вставать, тебе все, что нужно, в спальню принесут. А еще у меня тут есть друг Тит, он тебе обязательно понравится. А вон там, на столе, его жена, Танечка. У них вчера свадьба была. Это я их семейное счастье устроил. Они раньше просто друг друга любили, но объясниться стеснялись, но я им помог. Подтолкнул, так сказать.
– Хватит уже гнать всю эту пургу! – прикрикнула Ярославна, и Гриша сразу понял, что если бы ему предложили выбирать, он бы выбрал, чтобы в теле Матрены осталось оригинальное программное обеспечение. Матрену еще можно было поставить на место поркой, или просто угрозой порки, но Ярославна определенно не подлежала никакой дрессировке. Она была дикой, своевольной, и упорно не желала заниматься с ним сексом.
– Ты ничего не понимаешь, – заговорила она. – Мы не можем просто взять и обосноваться в этом мире, дабы наслаждаться жизнью рабовладельцев. Опричники захватили нашу базу, а значит в их руках теперь все наши данные. В том числе и данные, касающиеся дальнейшего усовершенствования ретранслятора. Нет сомнений, что рано или поздно им удастся создать прибор, позволяющий перемещать в иные миры и материальные объекты. И тогда они начнут осуществлять свой дьявольский план, а мы уже не сможем им помешать. Нужно остановить их сейчас, раз и навсегда. При помощи жезла мы сможем вернуться, он же даст нам преимущество в борьбе с врагами. Ты, кстати, знаешь, что он способен замедлять время для всех, кроме своего владельца.
– Нет. Но я знаю, что им можно круто мочить козлов.
– Этого достаточно. Нам как раз нужно замочить много-много козлов и коз, пока они не замочили нас. То есть, один раз они нас уже замочили, но ведь мы не собираемся давать им второй шанс?
– Порву в клочья! – грозно сообщил Гриша, подражая интонациям любимых героев криминальных сериалов. – Поставлю раком и обесчещу без вазелина! Только назови их имена и адреса, и я с ними конкретно разберусь. Если что, привлеку Кольку Скунса, он на разборках незаменимый человек. Потому что бегает медленно. Если что, его поймают и начнут бить, а мы в это время смоемся и над ним поржем.
– Нужно накрыть всю шайку, когда они явятся в нашу захваченную штаб-квартиру, – поделилась планами Ярославна. – Сейчас там только головорезы, но скоро подтянутся важные шишки. Будут разбирать документы, искать секретную информацию. Правда, самые важные документы старик успел съесть…. Господи, вот же человек! Настоящий профессионал. Листов восемьсот сжевал и не подавился. Настоящий герой!
– Восемьсот листов! – присвистнул Гриша. – Похоже, он теперь месяца два будет срать отрывными календарями.
– Он умер, – строго напомнила Ярославна. – Пал смертью храбрых.
– Вечная память героям, – охотно поддакнул Гриша. – Предлагаю поднять за его упокой фронтовые сто грамм, а то что-то хреново после вчерашнего бракосочетания. На твою долю искать?
– А аспирина нет? – спросила Ярославна.
– Нет. Что, голова болит? Могу помассировать тебе соски… тьфу ты, в смысле – виски.
– Лучше поищи спиртное, а мне надо подумать. Я ведь только теоретически знаю, как открыть при помощи жезла устойчивый канал между мирами, да и то все эти знания могут происходить не из первых рук. Если мы в чем-то ошибемся, последствия могут быть катастрофическими.
Гриша не стал выяснять, о каких таких катастрофических последствиях толкует Ярославна. По жизни он всегда руководствовался принципом: меньше знаешь – крепче спишь. Пускай Ярославна думает о последствиях, а он себя заранее запугивать не станет. Надо наслаждаться настоящим моментом, а не трястись от страха перед будущим.
Гриша ходил по зоне вчерашнего торжества как по полю битвы. Тела в разорванных одеждах или вовсе голые валялись в беспорядке, в жутких, несовместимых с трезвостью, позах. Бутылок было разбросано много, но все, как одна, пустые. Винный погреб помещика Орлова, запасов которого Грише должно было хватить на несколько месяцев счастливой жизни, сгорел вместе с домом.
– Ничего, – вполголоса утешал себя Гриша, крепко сжимая в руке жезл Перуна, – все у меня будет. И дом большой, и тачка крутая, и пять миллионов баксов, и двадцать восемь блондинок.
На самом деле, ему не слишком хотелось воевать с опричниками, но была одна причина, по которой он не стал спорить с Ярославной: в числе опричников имелся некий Лев Толстой, на которого у Гриши скопился солидный зуб. Гриша мечтал жестоко разобраться с Толстым едва ли не сильнее, чем заполучить блондинок и миллионы. Толстой должен был ответить за все. Вообще за все!
Пока Гриша искал лекарство, Ярославна осматривала достопримечательности. Картина всеобщего опустошения и разгрома не слишком ее удивила – она успела хорошо узнать Гришу за прошедшие недели, и примерно так себе и представляла окружающий мир, где всем заправляет выкидыш ПТУ, обретший всемогущество. Она прогуливалась между телами спящих людей, как вдруг дверь одного из сараев распахнулась, и наружу вывалилось нечто, на первый взгляд показавшееся Ярославне живым свидетельством существования снежного человека. Это антропоморфное существо неопределенного возраста и национальной идентичности, покрытое густой грязной шерстью, отчасти прямоходящее, и, судя по огромным когтям на лапах, обитающее в естественных условиях на деревьях или скальных уступах, на мгновение застыло в дверях, затем задрало морду к небесам и породило жуткий рев, в котором Ярославне не сразу удалось опознать благородную отрыжку.
– Странно, – задумчиво пробормотала Ярославна, наблюдая за реликтовым гоминидом, – вроде бы они вымерли раньше, чем двести лет назад. В литературе о них тоже ничего не упоминалась. Может быть, это существо, которое древнерусские былинщики называли дивом?
Див, смердящий, как порядочная свинья, поправил на груди обрывки фрака, отыскал взглядом Танечку, спящую на столе, и поковылял к ней. Подойдя к законной супруге, он небрежно схватил ее за волосы, стащил на землю и нежно разбудил любимую пинками. Танечка со сна не разобралась в ситуации (похоже, забыла, что вчера ее жизнь коренным образом изменилась), и стала громко возмущаться, звать Матрену, папеньку, надзирателей, дабы те прибежали и немедленно наказали обидчика.
– Желаю зелена вина испить! – хрипло ревел Тит, нетерпеливо дергая супругу за волосы.
Тут Танечка все вспомнила, и горько разрыдалась. Супруг, разозленный тем фактом, что его игнорируют, отвесил Танечке звонкую затрещину.
– Ищи мне опохмел, зараза! – сердито закричал он.
– Почему я? – попыталась возмутиться Танечка.
– Жена да убоится мужа своего! – отчеканил Тит. – Так святой старец Маврикий молвил. Ищи живо, не то палкой тебя отстегаю, ибо не муж для жены, но жена для мужа!
В подтверждение своих слов Тит подхватил с земли ножку от стула, и ударил ею Танечку по спине. Это последнее проявление нежных чувств переполнило чашу терпения Ярославны, и она решительно направилась к молодоженам, явно планируя что-то недоброе в отношении деспотичного Тита, свято чтящего заветы Домостроя. К счастью, Гриша успел перехватить ее прежде, чем она достигла цели.
– Вот, пиво нашел, – похвастался он, протягивая Ярославне бутылку. – А куда это ты намылилась?
– Хочу вон тому монстру мохнатому кое-что растолковать.
– Э, нет. Тита обижать нельзя. Он натура тонкая и ранимая.
– А ему других обижать можно?
– Это не другие, это Танечка. Его законная супруга. У них вчера свадьба была. А теперь пошел хреновый месяц.
– Какой месяц? – не поняла Ярославна.
– Хреновый. У нормальных людей бывает медовый, но Тит все равно ничего слаще хрена не пробовал. А то, что он Танечку чуть-чуть нежно и любя побил, это нормально. Здесь так заведено. Танечке самой это приятно, только она виду не подает.
Ярославна немного подумала, затем спросила:
– Не понимаю, что заставило эту девушку выйти замуж за такую образину.
Гриша надулся от гордости, ткнул себя пальцем в грудь, и ответил:
– Я!
Пока подвергшаяся утреннему воспитанию Танечка бегала по руинам вчерашнего застолья и искала мужу похмельную жидкость, Тит завтракал – вылизывал грязные тарелки. Вдруг его всего передернуло, он напрягся, задергал правой ногой, и пустил по ляжкам густую коричневую лавину.
– Скажи, что мне это померещилось, – взмолилась Ярославна, с трудом боря приступ тошноты.
– Айда прогуляемся, – предложил Гриша, которого тоже затошнило при виде утреннего туалета Тита. – Я тебе свои владения покажу. Чтобы ты не думала, что я совсем голодранец. Я теперь завидный жених, у меня всего много.
Миновав холопскую зону с ее неряшливыми покосившимися бараками и сараями, Гриша с Ярославной вышли в чисто поле.
– Это все моя земля, – похвастался Гриша, широким жестом обводя простор. – Я теперь крепкий хозяйственник.
Тут из-за коровника появился крестных ход холопов. Надзиратели, сопровождавшие их, давно лежали пьяные, но крепостные, как роботы, продолжали выполнять заданную программу. Серые от пыли, едва волочащие ноги, они все с тем же истинным энтузиазмом благодарили господа за ниспослание им кормильца и благодетеля.
– А это кто? – спросила Ярославна, отхлебывая целительного пива из бутылки.
– Это мои холопы, – ответил Гриша. – А я их барин.
– А почему они с хоругвями и иконами? И почему выглядят такими измученными?
Гриша глянул на холопов внимательным взглядом, и ощутил укол совести. Уже вторые сутки бесправный люд, без корма и отдыха, ноги по колдобинам выворачивает. А ведь совсем недавно он был на их месте, являлся такой же бесправной и бессловесной скотиной, над которой каждый волен издеваться, как ему вздумается.
– Да что же это я? – простонал усовестившийся Гриша. – Я ведь не такой, как эти господа. Я нормальный пацан.
Со слезами на глазах он бросился к холопам, и, что было сил, закричал:
– Да что вы такие грустные и унылые? Вот я вас сейчас взбодрю! Ну-ка все бегом, а то плететесь, как тараканы.
Холопы, как табун дикий коней, рванули с места, выбрасывая из-под копыт комья земли. Хоругви раскачивались, как мачты парусника в шторм, пыль поднялась целым облаком, молитвенный хор смешался с топотом ног. Крестный бег промчался мимо Ярославны и ушел на триста двадцать восьмой круг.
– Думаю, до вечера не дотянут, – предположил Гриша, проводив крепостных взглядом.
– Дорвался до власти, и сам пошел людей мучить, – сделала вывод Ярославна. – Когда тебя били и унижали, тебе это не нравилось.
– Мне не нравилось, что меня бьют и унижают. О других речи не было. Когда Яшку засранца в воспитательном сарае подвергали анальному возмездию, я радовался больше, чем в тот день, когда мне телка в первый раз дала. Это так приятно: кому-то яйца лебедкой отрывают, а у тебя в это момент даже в ухе не чешется. Благодать!
– Типичная рабская психология, – поставила диагноз Ярославна. – Ладно, со своими вассалами делай все, что пожелаешь. Меня гораздо больше беспокоит то, что опричники заполучили доступ ко всем нашим секретным архивам. Я все же предлагаю рискнуть и вернуться обратно.
– Обратно? – испугался Гриша. – Это туда, где по нам стреляли? Давай хотя бы подождем, пока враги уйдут восвояси.
– Со всеми нашими секретами? Нет уж! У тебя жезл Перуна, с его помощью можно создавать энергетические щиты.
– Чего?
– Ты можешь усилием воли создавать невидимые барьеры, способные отражать летящие в тебя предметы, например пули.
– А как это делается?
– Не знаю. Думаю, у тебя это получится автоматически, в случае опасности.
– Объясни подробнее, я тебя не понимаю.
Ярославна наклонилась, подняла с земли увесистый камень, и вдруг, без всякого предупреждения, метнула его в Гришу. Гриша среагировал мгновенно: вскинул жезл перед собой и закричал:
– Барьер бля!
А в следующую секунду он прокричал еще целый букет прекрасных русских слов, когда камень отскочил от его лба и упал на землю.
– Не сработало, – констатировала Ярославна. – Вероятно, опасность была не настолько велика, чтобы запустить механизм защиты.
– Ты что, дура? – прорыдал Гриша, потирая отбитый лоб. – Я к тебе со всей душой и с прочими половыми органами, а ты камнями кидаешься.
– Надо же было проверить, – виновато оправдалась Ярославна.
– Проверила! Не работает.
– Работает. Просто ты заранее знал, что камень не представляет для тебя смертельную угрозу. А вот если в тебя вилы бросить, или штыковую лопату….
– Я с тобой больше дружить не буду! – предупредил Гриша. – Вилы, лопаты…. Если я не в твоем вкусе, так и скажи. Зачем сразу за вилы хвататься?
– Ты не понимаешь, – принялась втолковывать Ярославна. – Если мы сейчас не остановим опричников, произойдет нечто ужасное. А остановить их можем только мы. Больше некому.
– Но здесь нас не достанут, – возразил Гриша.
– Достанут. Они пришлют убийц.
– А я их всех круто убью.
– Они пришлют еще. И будут присылать снова и снова, до тех пор, пока не достигнут цели.
– И в чем их цель? Убить нас?
– Просто убить они хотят только меня, – ответила Ярославна. – Тебя ждет нечто более страшное.
– Что? – заранее испугался Гриша.
– Мы перехватили шифровку Толстого. В ней содержался секретный приказ всем опричникам.
– Приказ?
– Точнее, инструкция. Инструкция того, как тебя пытать перед смертью. Я всего не помню, но там одним только гениталиям уделено три страницы. В числе прочего предписывается совершить над твоими яичками следующие действия: тыкать иголкой, колоть шилом, прихватывать пассатижами, отбивать молоточком, ошпаривать кипятком, обрабатывать наждачной бумагой….
Побледневший Гриша попятился от Ярославны. Дикий ужас застыл в его очах.
– Мои яички шилом тыкать? – простонал он.
– Тыкать иголкой, – уточнила Ярославна. – А шилом колоть.
– И пассатижами….
– Прихватывать.
– Наждачная бумага….
– С крупным абразивом.
– Но почему? – воскликнул Гриша. – Чем мои яички провинились перед опричниками? И почему именно мои? Господи! Неужели на белом свете других яичек нет?
– Опричники такие звери, – вздохнула Ярославна. – Но одного у них не отнять – они всегда достигают поставленной цели. И если уж нацелились на чьи-то яички, то доберутся до них любой ценой.
– Так, что ты там говорила о возвращении? – быстро спросил Гриша, внезапно осознавший, что не хочет остаток жизни провести в состоянии постоянного страха за свое хозяйство, и не только за него. – Что надо делать? Ты знаешь, как эта палка работает?
– Только в теории.
– А точнее.
– Ну, насколько я понимаю, жезл должен воспринимать твои мысленные команды. Попробуй ему что-нибудь приказать.
– Я пробовал, – отмахнулся Гриша. – Приказывал, чтобы он наколдовал мне блондинок, плова, пива, еще блондинок.
– И какой результат?
– Плачевный.
– Возможно, это все потому, что жезл Перуна не является волшебной палочкой, исполняющей желания, – предположила Ярославна. – Этот инструмент создан для перемещения между мирами. Вот что, давай ты попробуешь приказать ему вернуть нас обратно, в нашу реальность.
– Давай, – без особой веры в успех, согласился Гриша.
Ярославна вцепилась в него руками, Гриша, подняв перед собой жезл, и чувствуя себя крайне глупо, гласом торжественным провозгласил:
– Палка, перенеси нас в логово стрельцов!
Утекла секунда, за ней вторая. Ничего не произошло.
– Я же говорил… – произнес Гриша разочарованно, а в следующе мгновение он уже летел куда-то в черноту, холодную и страшную, оглашая ее диким криком ужаса.
Глава 48
Гриша покатился по полу, остановившись только благодаря стене. Спустя мгновение на него с тихим визгом обрушилась Ярославна, притом упала так удачно, что Гриша всерьез забеспокоился о возможных алиментах.
– Ого, какая ты горячая! – обрадовался Гриша, хватая девушку за попу. – Недотрогой только прикидывалась. Я тебя раскусил – опасности всякие тебя возбуждают…. Блин! Ай! Куда ты коленом-то тыкаешь!
Ярославна довольно грубо слезла с него и подбежала к двери. Оттуда слышались приглушенные голоса, но выстрелы уже не звучали. Похоже, все стрельцы были отстреляны, и теперь в их штабе хозяйничали опричники.
Они вернулись в операторскую, которую совсем недавно покинули. Гриша поднялся на ноги и подошел к ложементу, на котором, нежно обнявшись, лежали два мертвых тела. Ярославна, даже бездыханная и окровавленная, выглядела очаровательно, свой труп с дыркой во лбу Грише не понравился. Рядом с шикарной девушкой он смотрелся откровенно неуместно.
Странно, но вид собственного тела с простреленной головой не вызвал у Гриши ни малейших эмоций. Напротив, этот покойник показался ему чужим человеком, и Гриша даже испытал чувство ревности – почему этот незнакомый дохляк прижимается к Ярославне? Уж не связывает ли их нечто большее, чем целомудренная некрофильская дружба?
– Господи! – простонала Ярославна, тоже подойдя к ложементу.
Девушка побледнела, глаза наполнились слезами. Гриша осторожно обнял ее за плечи, и постарался утешить, как умел.
– Понимаю, – сказал он. – Такое тело и я бы оплакивал. Наверное, на диетах всю жизнь сидела, спортом занималась, таблетки всякие для похудения пила. Небось, на олигарха нацеливалась, и такой облом. Все траты непомерные коту под хвост.
Тут он протянул руку, и попытался расстегнуть мертвой Ярославне блузку. Живая Ярославна с ужасом уставилась на него, а затем прошептала:
– Что ты делаешь?
– Должен же я на них посмотреть, – проворчал Гриша, одолевая следующую пуговицу. – При жизни ты мне их так и не показала, дай хоть после смерти полюбуюсь.
– Что? Да как ты… – Ярославна задохнулась от возмущения, оттолкнула Гришу, и встала между ним и покойниками. – Извращенец! – прорычала она. – Некрофил! Маньяк! Осквернитель усопших! Неужели у тебя нет ничего святого?
– Дай посмотрю, не будь врединой, – требовал Гриша, пытаясь прорваться к давно и страстно вожделенному телу. – От тебя все равно не убудет. Это уже не ты, это просто телка дохлая.
Возмущенная Ярославна залепила Грише пощечину. В своем прежнем натренированном теле она могла таким ударом сломать челюсть, теперь же получился просто легкий шлепок, Гриша даже не поморщился.
– По-хорошему прошу – пусти меня к сиськам! – потребовал он. – А будешь мешать, я тебя всю раздену. Всю-всю! И… кто знает, возможно, что и на этом не остановлюсь.
– Если нас услышат опричники, то придут и убьют, – попыталась сменить тему Ярославна. – Давай вначале разберемся с ними.
– А после разрешишь посмотреть?
– Да, разрешу, – кивнула головой Ярославна. Гриша возликовал, а она добавила: – А пока ты будешь смотреть, я с тебя мертвого стащу штаны, и тоже посмотрю.
– Э, не занимайся ерундой, – махнул рукой Гриша. – С мертвого штаны собралась спускать. Только скажи, я тебе сам все, что захочешь, покажу, даже потрогать разрешу. Я не жадный. Это ты за свое добро трясешься, будто оно у тебя позолоченное. Особенно теперь глупо. Когда ты вон в том теле была, то да, было что беречь. А сейчас-то что? Ничего особенного. К тому же это тело я уже видел и щупал, а то для меня остается загадкой.
Вдруг из коридора отчетливо донеслись голоса. Кто-то направлялся в операторскую. Гриша ловчее перехватил жезл, Ярославна спряталась за его спину, чтобы ненароком не попасть под ударную волну.
В операторскую, ни о чем не подозревая, вошли двое – один в камуфляже и с оружием, второй штатский. Грише показалось, что этого штатского он уже видел. Вспомнил даже где. Он входил в состав комиссии, которая навещала его еще у опричников.
– Так вот, надо тут все зачистить после… – штатский осекся, тупо уставившись на Гришу и Ярославну. Тип в камуфляже был менее подвержен заторможенности, и сразу же схватился за автомат. Гриша только того и ждал. Он до конца не понимал, какая сила превращает его волшебную палочку в оружие массового поражения, но интуитивно чувствовал, что чем интенсивнее его эмоции, тем мощнее выплеск разрушительной энергии. В первый раз, когда убил помещика, был так напуган, что едва Титу не уподобился. И каков результат! Чуть весь особняк не разнес. А вот когда расправлялся с надзирателями, действовал уже расчетливо, без ярких эмоций, потому и лупил точечно, даже ни одного строения не разрушил. Сейчас в нем смешались страх и ненависть, притом ненависти было больше. На опричников Гриша был сердит ужасно. Сколько всего он от них натерпелся! Похитили, держали в неволе, отлучили от всех радостей жизни, кормили отвратными кушаньями. Обещали денег и блондинок, вместо этого планировали зверски убить и утилизировать останки. Но самое главное – в штате опричников числился некто Лев Толстой, к которому у Гриши имелся особый счет. Мало того, что этот бородатый недочеловек понаписал кучу толстых нудных книжек, которыми на протяжении десятилетий истязали детей в школах, так он еще и обидел лично Гришу, нанес ему, можно сказать, глубочайшее оскорбление.
Гриша взмахнул жезлом, как родной бейсбольной битой – его излюбленным оружием в борьбе с недругами с соседнего района. Двух опричников буквально разметало на куски, во все стороны полетели окровавленные ошметки, осколки костей, веселыми гирляндами взвились в воздух вырванные из туш кишки. Толстую бронированную дверь операторской вынесло в коридор вместе с массивной рамой, стены с грохотом обрушились, обнажая соседние помещения. Там тоже копошились люди – перебирали уцелевшие бумаги, вскрывали сейфы, рылись в шкафах. Обломки стен засыпали их, убивая и калеча. Раздался жуткий треск, потолочная плита, прежде опиравшаяся на несущую стену, разрушенную Гришей, опасно просела, сверху кто-то пронзительно закричал, будто хозяйство дверью прищемивши.
Под завалами предсмертно стонали люди, кричали от боли, взывали к богу. Гриша видел торчащие из-под кирпичей окровавленные руки и ноги. На одного счастливчика упал сейф, и размозжил голову. С потолка сыпалась пыль и мелкие кусочки бетона. Плиты перекрытия просели, держась на честном слове. Все здание могло рухнуть в любую минуту, к тому же Гриша не знал, насколько оно велико и как много сверху этажей. Если один-два, шанс уцелеть еще есть, а если пять-шесть, то сразу в лепешку без всяких вариантов.
Ярославна, оправившись от потрясения, выскочила из-за Гришиной спины и подобрала с пола окровавленный автомат.
– Не вздумай больше махать своей волшебной палочкой! – предупредила она. – Дом обрушишь.
– Тебе жалко? – надулся Гриша. Вместо того чтобы восхититься его крутостью и разрушительностью, Ярославна опять начала ворчать. – Не на твои деньги построен.
– А если на нас рухнет? – подсказала Ярославна.
– Это да, неприятно будет, – согласился с ней Гриша. – Мне сейчас помирать никак нельзя. У меня огромные планы на будущее. Уж теперь-то, с волшебной палкой, я разгуляюсь. За все бесцельно прожитые годы оторвусь. Блондинки, тачки, яхты, игровые автоматы. Киллера найму, пускай моих школьных учителей отстреляет. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Не себя, так других детей от них спасу.
Поднявшаяся пыль начала оседать, Гриша расслышал крики, уже не предсмертные, а просто испуганные. Оказалось, не все опричники погибли, и даже не разбежались. Вдруг что-то зло просвистело у виска, и вышибло искры из железного корпуса ретранслятора. Ярославна вскинула автомат и дала очередь вслепую. Из пыльного тумана прилетела еще одна пуля, едва не застрелив девушку. Следующая прострелила Гриша штанину в районе гульфика. Парень выронил жезл, руки запустил в штаны, торопливо ощупал хозяйство, пересчитал добро, проверил, все ли на месте.
– Нашел время яйца чесать! – сердито крикнула Ярославна, опустошившая рожок автомата. – Бери жезл, создай щит. Сейчас убьют, и не будет у тебя никаких блондинок.
– Ты понимаешь – еще бы чуть-чуть, и все, – со слезами на глазах простонал Гриша, пытаясь добиться сочувствия. Он оттопырил штаны, показывая Ярославне сквозную дырку.
Ярославна подхватила жезл и силой впихнула его Грише в руку.
– Создай щит! – потребовала она.
– Да не умею я!
– Ты вообще ничего не умеешь!
– Базар фильтруй! – прикрикнул Гриша. – Ты со мной пиво пила? Нет. Вот пиво я пить умею так, что всякий позавидует. А как я могу лежать на диване и ничего не делать! Это тоже талант.
Из пыльного тумана выскочили двое, и дружно вскинули автоматы. Между опричниками и их жертвами было всего метров пять, с такого расстояния и слепой не промажет. Гриша, прекрасно понимая, что смерть неизбежна, инстинктивно поднял жезл, пытаясь заградиться им.
Загремели выстрелы, Гриша зажмурился от страха, но боли, почему-то, не почувствовал. Осторожно приоткрыв один глаз, он увидел автоматчиков, что в недоумении застыли, опустив оружие. Пули, несущие неминуемую гибель, расплющились о невидимую преграду и застыли в воздухе в десяти сантиметрах от жезла Перуна.
– Типа получилось! – выдохнул Гриша.
Ярославна воинственно крикнула из-за его спины:
– Опричники, сдавайтесь!
Автоматчики начали медленно опускать оружие на пол, но тут из пыльного облака прозвучал мерзкий крик:
– Их всего двое! Убейте гадов!
В этот момент Гриша оправился от очередного потрясения, и в полной мере осознал, какая трагедия едва не произошла.
– Вы мне чуть мошонку не прострелили! – люто заорал он, и, ничего не соображая от гнева, взмахнул жезлом. – Вот вам, суки! Порву за мошонку!
– Не надо! – успела пискнуть Ярославна, но голос ее потонул в грохоте рушащихся стен. Этот энергетический импульс оказался раза в три мощнее предыдущего. Все здание содрогнулось, разнесся кошмарный скрежет, треск, провисшая потолочная плита тяжело рухнула вниз.
Гриша, ничего не соображая от ужаса, бросился вперед, но его, как стоячего, легко обогнала визжащая Ярославна. Вокруг них рушились стены, сверху наваливались плиты, сыпались обломки кирпичей. Одна из плит сползла вертикально, перегородив дорогу. Гриша ударил ее жезлом – бетон разлетелся вдребезги, армирование разорвало, как марлю. Капли раскаленного металла попали на кожу и смачно зашипели. До Гришиного носа долетел волшебный аромат шашлыка. Он скакнул в образовавшуюся дыру, следом прыгнула Ярославна, и тут же нос к носу столкнулась с ошалевшим от ужаса опричником. Тот вцепился девушке в горло и стал душить. Ярославна лягнула обидчика коленом в пах, но тот даже не поморщился, только страшно оскалил зубы.
– За мошонку! – заревел Гриша, ударяя опричника жезлом в лоб. Голова лопнула, словно мыльный пузырь, Ярославну обильно забрызгало кровью и мозгами.
Здание рушилось, стены проседали, плиты перекрытия лопались, валились вниз, сверху на них давили верхние этажи. Гриша на всем ходу налетел на окровавленного опричника, забыв о жезле, пнул ногой в живот, крикнул, что это тоже за мошонку, сзади набежала Ярославна, подхватила большой камень и разбила врагу голову.
Впереди замаячил дверной проем, который превратился в узкий лаз – сверху рухнула плита. Гриша упал на пол, пополз вперед, расчищая путь носом. Просочился, тут же обернулся, помогая Ярославне. Девушка замешкалась в проеме, сверху затрещало, плита стала оседать, грозясь раздавить, как муху. Гриша схватил Ярославну за руку, рванул на себя изо всех сил, и успел вытащить боевую подругу из-под обрушившейся плиты.
– Господи! – вскрикнула Ярославна, которой благодетель едва не вырвал руку с корнем.
– Гриша, – поправил ее спаситель. – Вставай! Чего развалилась? Не на курорте.
Они пробежали по коридору и остановились. За спиной содрогалась земля, что-то продолжало обрушаться, раскалываться. Оттуда толчками надвигалась серая пыль.
– Прорвались, – хрипло дыша, сообщила Ярославна. Она привалилась спиной к стене и провела ладонью по залитому кровью и засыпанному пылью лицу – Это тоннель в хранилище секретных документов, оно отдельно, не под зданием.
– Выход наружу оттуда есть? – спросил Гриша. На Ярославну он смотрел с ужасом – та вся была в крови, в грязи, от одежды остались одни лохмотья. Сам он, надо думать, выглядел не лучше.
– Есть, – кивнула девушка.
– Слава богу. А то уж я боялся, что придется выкапываться.
– А жезл тебе на что? – напомнила Ярославна.
– Ну его на хрен! – в сердцах бросил Гриша. – От него пользы грамм, а вреда пуд. Захочешь шептуна запустить, вместо этого полные штаны нагрузишь. Надо его как-то настроить, чтобы он ломал только то, что я хочу, а не все вокруг, включая меня.
Гриша вытряхнул из кармана кусок чьей-то печенки, осмотрелся и сказал:
– Так, за мошонку, вроде бы, враги ответили. Но я еще не видел моего лучшего друга Льва Толстого. Обидно, если погиб под завалом.
Они миновали коридор, окончившийся дверью, ведущей в хранилище секретных документов. Гриша приоткрыл ее, держа жезл перед собой. Но, как выяснилось, такие меры предосторожности оказались напрасными. Толстой и не думал об активном сопротивлении. Едва в дверях показался Гриша, Толстой бросил пистолет на пол и поднял руки, давая понять, что сдается.
– Вот мы и встретились, – счастливым голосом пропел Гриша, проникая в хранилище. Следом за ним вошла Ярославна и с негодованием уставилась на Толстого, что сидел на полу, на ворохе секретных документов.
Ярославну в ее новой ипостаси Толстой не признал, но вот на Гришу он уставился со священным ужасом.
– Ты же умер… – пропищал он.
– За базаром следи! – прикрикнул Гриша. – Еще накаркаешь. Живой я, и неплохо себя чувствую. А вот ты, гнида подлая, сейчас околеешь.
– Не горячись, – попросила Ярославна. – Он всего лишь пешка.
– Он меня кинуть хотел! – закричал Гриша, впадая в ярость. – Наобещал за работу миллионы и блондинок, а на самом деле планировал расчленить и скормить голодным животным.
– Тебе попался недобросовестный работодатель, – посочувствовала Ярославна.
– И не говори! – подхватил Гриша. – Недобросовестный, бессовестный и вообще скотина дикая. Он думал, что ему все это сойдет с рук. Блин, как же конкретно он ошибался!
Толстой вжался в угол, глаза его округлились от ужаса, губы тряслись. Увидев восставшего из мертвых Гришу, бедолага выпачкал штаны, а когда он узнал в Матрене Ярославну, ему вообще стало дурно до тошноты.
– Жезл! – прохрипел он, вываливая на грудь остатки завтрака. – Это все жезл! Вы его нашли.
Гриша подошел к Толстому, и ударил его жезлом по голове. Затем присел рядом на корточки, и заговорил крутым голосом, каким обычно озвучивали свои мысли герои криминальных сериалов отечественного происхождения:
– Типа кинуть меня хотел? Кинуть хотел, да? Хотел кинуть? Кинуть? Меня хотел кинуть? Меня? Кинуть?
– Ты его что, словесно загипнотизировать пытаешься? – заинтересовалась Ярославна.
Гриша обернулся, и громким шепотом приказал:
– Не мешай!
Затем опять обратился к Толстому:
– Значит, ты типа кинуть меня хотел? Кинуть меня хотел? А? Хотел? Меня кинуть? Меня ты хотел кинуть, да? Хотел? Кинуть хотел, да? Хотел?
– Да! – не выдержал пытки Толстой.
– Смотри-ка, получилось, – уважительно проговорила Ярославна. – Это напоминает мне секретную методику допроса, которой обучали специальных агентов КГБ. Продолжай. Вдруг он расскажет что-нибудь важное.
Окрыленный Гриша усилий натиск.
– Кто лох? – заорал он вдруг, замахиваясь на Толстого жезлом. – Кого ты лохом обозвал, а? Ты меня лохом обозвал? Меня? Меня ты лохом обозвал? За базар конкретно ответишь! Ну-ка повтори! Скажи – кто лох?
– Я ничего не говорил, – прошептал Толстой, охваченный ужасом.
– Типа я сам это придумал? – взвился Гриша. – Типа я сам себя лохом обозвал, да? Ты опух!
Послышалось журчание, затем хлюпанье. Допрос шел в верном направлении – Толстой раскололся и протек снизу.
– Думаешь что, обгадился, и я бить тебя побрезгую? – спросил Гриша, немного отодвигаясь от ароматного Толстого. – Да я с Титом бок о бок целыми днями жил. Меня теперь ничем таким не испугаешь.
Вдруг трясущийся от страха Толстой оскалил зубы, и с какой-то отчаянной храбростью выплюнул:
– Думаете, победили? Хрен вам! Еще не знаете, с кем вы связались. Как узнаете, станете плакать и маму кликать.
– Что? – взревел Гриша. – Маму кликать? Да я…. Да мы…. Да я даже в детстве, когда в штаны наваливал, маму не кликал, потому что крутой! Ходил, вонял, весь такой крутой, с отвисшими штанами…. Блин! – опомнился он. – Зачем я все это рассказал? Ярославна, ты меня не слушай, такого не было. Это я все придумал.
Толстой уставился на Ярославну и прошептал:
– Это ты? Ты в теле зеркального двойника. Тоже не подохла. Оно и к лучшему. Когда наши братья до вас доберутся, пожалеешь, что от пуль не околела. Месть их будет ужасна!
– Все ваши братья уже на том свете, – круто проинформировал Толстого Гриша. – Тебя там ждут. И ждать им недолго.
– Вам конец! – гнул свое Толстой, у которого ртом и носом пошла пузырящаяся пена, а глаза налились кровью. – Вы трупы! Вас ждет смерть….
Гриша не выдержал, отбросил в сторону жезл и с усилием оторвал от пола тяжелую деревянную тумбу. Ярославна с визгом отскочила в сторону, когда Гриша с ношей в руках навис над Толстым, собираясь сделать страшное. Глаза Толстого полезли на лоб – он явно рассчитывал на более гуманную расправу.
– Вот тебе за все хорошее! – крикнул Гриша, и обрушил тумбу на Льва Толстого. Планировал размозжить голову, но Толстой извернулся, и тумба острым углом вонзилась ему в район гениталий.
– Попал! – восторженно закричал Гриша, наслаждаясь болезненным воем недруга. – Вторая попытка!
И долго еще разносились по опустевшим коридорам штаб-квартиры стрельцов истошные крики терзаемого Толстого.
Глава 49
Прохладный утренний воздух приятно бодрил, по поверхности небольшой речушки, мутной и грязной, как и все, что вошло в контакт с человеческой цивилизацией, плыла белая пена и бытовые отходы.
Гриша с Ярославной сидели на крутом берегу, наслаждаясь покоем и безмятежностью. Ярославна была молчалива и задумчива, чего Гриша уже совсем не мог понять. Все закончилось, темные силы повержены, Толстой, гнида жадная, жестоко ответил за свои злодеяния. Тут бы радоваться, отметить это дело, а не грустить непонятно из-за чего.
Глядя на мрачную, погруженную в задумчивость Ярославну, всю такую сосредоточенную, хмурую, безрадостную, всю такую, будто кредит в банке взявшую, Гриша возненавидел ее родителей. Изверги! Наверняка ведь истязали бедную девочку, заставляли учиться, книжки читать, гулять по ночам с мальчиками не пускали, пиво и водку запрещали, за запах табака грозились убить и съесть. И вот результат: морально изуродовали хорошую девчонку. Ей бы сейчас жизнью наслаждаться, пока молодость позволяет, ей бы посвятить свои лучшие годы сексу, алкоголю, наркотикам и танцам в ночных клубах, а она что? Сидит, как мокрая кошка, и думает о том, как спасти все человечество. Да таких родителей, как ее, надо в тюрьмы сажать!
Вот Гриша отнюдь не рвался спасать человечество. Гриша был последователен в своих убеждениях. Он считал, что если уж ему плевать на отдельных людей, то и на все человечество следует плюнуть тем более. А Грише было плевать на людей, потому что ничего хорошего эти люди ему не сделали, а плохого было столько, что он бы еще сам помог с человечеством расправиться.
Нет, Гриша не мечтал о глобальных альтруистических глупостях. Он хотел простых земных радостей. Мечталось ему, что они с Ярославной вернутся в мир крепостного права, при помощи жезла Перуна захватят себе небольшое имение, и заживут в свое удовольствие. Гриша уже запланировал, что все служанки в доме будут блондинками с приятными глазу фигурами, и что каждое утро на завтрак ему будут подавать его любимое блюдо – куру-гриль. А еще у него будет столько пива, сколько он захочет, и будет огромный телевизор, во всю стену, и будет тысяча и один диск с порнографией.
Особенно радовало то обстоятельство, что все эти мечты отнюдь не являлись бесплотными грезами, кои он частенько порождал в бытность свою простым грузчиком. Тогда эти эротические фантазии оставались просто фантазиями, но теперь у него имелось средство для достижения своих желаний. Жезл Перуна, могущественный артефакт далекого прошлого, наследие давно исчезнувшей цивилизации, принадлежал и повиновался ему. И, казалось бы, самое время плюнуть на все и начать жить для себя, но Ярославна, похоже, имела на будущее иные планы.
Была у Гриши мыслишка сказать Ярославне, что ему в кустики приспичило, а вместо этого сбежать в иное измерение, но он не мог так поступить. Во-первых, к Ярославне он привязался, и, во-вторых, Ярославна была тем человеком, который требовался Грише для ведения беззаботной, полной наслаждения, жизни. Умная и образованная Ярославна могла вести дела, решать проблемы, руководить закупками, командовать прислугой, организовывать сельскохозяйственные работы на полях, закупать для Гриши новых блондинок. Без такой хозяйки, как чувствовал Гриша, его помещичья идиллия продлится недолго. Прецедент уже был, когда он на втором дне правления умудрился спалить барский особняк и морально разложить всю прислугу. И это уже не говоря о холопах, которые до сих пор, не кормленые и не поеные, ходили по окрестным полям и возносили хвалы господу. Нет, без Ярославны он никак не сможет управиться с имением. Следовательно, ее требовалось уговорить.
Для начала Гриша решил взбодрить подругу.
– Чего такая хмурая? – спросил он жизнерадостно, и осторожно потрепал Ярославну по плечу.
– Нет поводов для радости, – мрачно откликнулась девушка.
– Как это нет? – изумился Гриша. – А в клочья порванные опричники, а жестоко наказанный Толстой? Тут повод для целого праздника. Мы всех победили. Ура! Пора бы и о себе подумать. Я тут, кстати, уже о нас подумал, и кое-какие планы набросал. Сейчас я тебе все расскажу, и тебе точно понравится. Ты, конечно, если захочешь, можешь кое-что поменять, или от себя предложить, но учти: у нас над кроватью будет висеть плакат с терминатором. Это не обсуждается. Значит, я предлагаю следующее: мы с тобой отбираем у законных хозяев имение (как это делается, я уже знаю – у меня опыт по этой части), закупаем пива, чипсов, большой телевизор, тысячу дисков с фильмами про групповую любовь, двадцать восемь блондинок….
– И ждем в гости опричников? – язвительно перебила его Ярославна.
– Опричников? Да ведь мы их всех перебили. В основном, конечно, я. Ты помнишь, как крут и беспощаден я был? Признай, что от меня на версту разило суровой мужской сексуальностью.
– Орден опричников не повержен, – возразила ему Ярославна. – Мы перебили лишь пешек, а вот кукловоды до сих пор живы и здоровы. И продолжат творить зло, не сомневайся в этом. И кроме нас больше некому их остановить. Понимаешь?
– Понимаю, – тоскливо вздохнул Гриша. Он действительно все понимал. Его опять пытались впрячь в работу, за которую, вероятно, вновь не будет заплачено ни миллиона, ни блондинки. С другой стороны, плюнуть на опричников было нельзя. Гриша чувствовал, что пока эти злодеи живы, они не дадут ему покоя ни в одном из миров.
– Так ты со мной? – спросила Ярославна.
– Как будто у меня есть выбор, – проворчал Гриша. – То есть ты не подумай, что я испугался, ничего подобного. А то решишь, что запугала Гришу, он и согласился. Гриша вообще не трус, ничего не боится. У кого хочешь, спроси. Это я сам решил тебе помочь, потому что одна ты точно пропадешь. Это раньше ты была крутая Ярославна, которая каратэ умеет делать, и все дела. А теперь ты Матрена. Матрена каратэ не умеет. Матрена умеет только кровать заправлять и вещи утюгом гладить. Ты же совсем беспомощная. Захочет кто-нибудь над тобой надругаться… ну, ты поняла, в каком смысле, ты же и постоять за себя не сумеешь. Станешь кричать, звать на помощь, а никто не придет. Народ сейчас злой, эгоистичный. Сидят все по своим норам, на других чхать хотели. Но я не такой. Я тебя не покину. Так что если кто-то захочет над тобой надругаться в извращенной форме, я ему свой жезл продемонстрирую, и скажу – в очередь! Я первый к этой кассе.
Ярославна покосилась на Гришу, и попросила:
– Матреной меня больше не называй. Глупое имя.
– Тебе оно больше идет, чем Ярославна. К тому же с Матреной у меня интим был, а с Ярославной нет. Слушай, – вдруг оживился Гриша, – а давай ты днем будешь Ярославна, а ночью Матрена. Эй? Мат…. Блин! Ярославна. Что ты сидишь, как сама не знаю от кого залетевшая? Ау?
– Думаю я, – бросила Ярославна.
– О чем?
– О том, что нам делать дальше.
– Есть у меня вариант, – многозначительно заулыбался Гриша. – Вон там кусты хорошие, густые. Включай Матрену и пошли.
Ярославна поднялась на ноги, Гриша тоже встал, опершись на жезл, как на трость.
– Для начала попробуем связаться с одним человеком, – сказала девушка.
– С которым?
– Раньше он был со стрельцами. Он многое знает, может помочь.
– Человек-то надежный? – подозрительно спросил Гриша. – Или такой же, как прочие твои друзья?
– С чего-то надо начинать, – пожала плечами Ярославна. – Вдвоем нам не справиться, нужна команда.





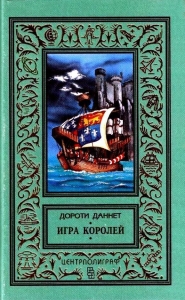
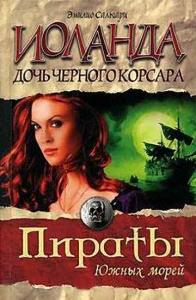


Комментарии к книге «Кредо холопа», Сергей Александрович Арьков
Всего 0 комментариев