Бармен из Шереметьево История одного побега Александр Куприн
Предисловие
Помню, как об этом шептались в постолимпийской Москве. Разговоры, правда, шли о бегстве самого бармена. Деталей, безусловно, никто не знал, и с каждым пересказом этот побег обрастал новыми невероятными подробностями. Все было прекрасно в этой чисто русской истории: и сказочная бесшабашность поступка, и везение, и даже алкоголь — куда ж без него?.. Но шла война в Афганистане, активно гнил социализм: наступали перебои с продуктами, кое-где уже вводилась карточная система и люди в паутине своих проблем довольно быстро забыли этот небольшой, но яркий эпизод. Вам, дорогие читатели, напоминает о нем мой хороший друг Александр Куприн — бывший оперативник угрозыска из Свердловска, в 1988 году сумевший бежать на Запад. Повесть эта хоть и художественная, населена персонажами, со многими из которых автор пересекался в жизни. Ярко и интересно показана рутинная деятельность советских спецслужб в доперестроечный период. Не могу не упомянуть еще один аспект, хоть прозвучит он несколько иронично — все возвращается на круги своя и сегодня численность спецслужб России выше, чем она была на весь СССР в далеком 1981 году. Идут разговоры о введении выездных виз, как это было раньше. Так что актуальность этой книги в ближайшие годы будет лишь возрастать.
К. Н. Боровой, политикБармен из Шереметьево (история одного побега)
…Объявляется регистрация на рейс… Выход на посадку у стойки номер… Объявляется…
— Вы мне не тот билет даете — это обратный.
— Ой, извините.
— Постойте. Так вы что — сейчас же обратно вылетаете?
— А разве нельзя?
— Я все же не понимаю, вы что — даже в город не выйдете?
— Не выйду. Не хочу.
Контролерша нажала кнопку-рычажок, и за разговором на своем мониторе стал наблюдать сотрудник ФСБ. Пассажир, конечно, приятный и вежливый, и документы у него в порядке, но что это значит — погулять по Шереметьево без выхода в город? Долго и нудно заполнять анкеты в консульстве, предоставлять справки и фото для получения российской визы, купить билет бизнес-класса и… погулять по аэропорту?
Фээсбэшник, глядя в монитор, прослушал конец разговора и негромко произнес в микрофон:
— Девочки, примите клиента с четвертой. На вид до сорока лет, телосложение спортивное, куртка холщовая, оторочена кожей, светло-коричневые ботинки, волосы русые, густые — возможно, парик.
Когда-то в зале выдачи багажа приходилось держать несколько сотрудников «семерки» и непременно обоих полов, чтобы при необходимости сопроводить объект и в туалет. Теперь же удаленное видеонаблюдение организовано так плотно, что «водить» клиента по территории стало не сложнее игры в компьютерную стрелялку, хотя и живая наружка тоже применяется.
В зале прибытия пассажир был принят операторами камер, доведен и передан на таможенный контроль, где его основательно досмотрели настоящие таможенные контролеры и чекисты, работающие «под таможенным прикрытием», ничего не нашли и выпустили в город. Однако в Москву, как и обещал, странный пассажир не поехал, а начал бродить по зданию аэропорта, пристально вглядываясь в стеклянные двери, лестницы и проходы. Такое его поведение запустило целую государственную машину — за ним уже ходили оперативники службы наружного наблюдения, велась запись с камер, были срочно затребованы персональные данные из анкеты-обращения за визой. И только инженер-установщик, служивший когда-то в КГБ и поэтому имевший допуск к мониторам, угрюмо сказал:
— Он вспоминает. Вспоминает и сравнивает.
— Что вспоминает? С чем сравнивает? — с некоторым раздражением спросила капитан ФСБ — старшая смены операторов, но бывший кагэбэшник уже отвернулся, чтобы уйти. С возрастом он стал раздражительным и старался избегать ненужных конфронтаций.
— Что он вспоминает? — не отстает начсмены.
— Строитель это. Скорее всего, из «Рютебау».
— А это что такое?
— Фирма, которая строила аэропорт. Его немцы строили. Из ФРГ. Фирма «Рютебау».
— Хм-м… Не знала.
«Вот ты ж курица, — подумал с грустью пенсионер, — в хорошие времена тебя, такую безмозглую, Женя дальше техника бы не продвинул. Но давным-давно нет Жени-начальника. Сгинул где-то в Афганистане еще в восьмидесятых. Да и самому надо бы уже на покой — аритмия, да еще мерцательная, слово-то какое противное…»
Человека на экранах мониторов он не узнал, хотя эти вот густые волосы кого-то отдаленно напоминали, кого-то из далекого прошлого.
А между тем, побродив полтора часа по аэропорту, пассажир направился к стойке регистрации вновь уже в обратном порядке, прошел таможенный и паспортный контроль, и вот он уже медленно поднимается на второй этаж в зоне вылета.
Прямо здесь, где кончается лестница, когда-то был валютный бар, хорошо известный уходящей московской элите. Здесь наливались пивом из диковинных алюминиевых банок советские спортсмены, сосредоточенно жевали бутерброды с икрой дипломаты, тут заказывал зеленый чай поэт Евтушенко и холодную водочку Володя Высоцкий. Весь цвет, вся богема, все те, кого через много лет назовут глупым иностранным словом «селебрити», проходили у этой стойки.
— Весь «Голубой огонек», — смеялась белозубая барменша Анна Грачева.
Анька… Одинокий пассажир вдруг почувствовал слабость. В баре пусто — он выбрал столик с краю, сел и бросил сумку на соседний стул. К нему неспешно подошел выбритый до синевы, военного вида бармен. Он хотел сказать посетителю, что сейчас здесь технический перерыв, что стулья вовсе не предназначены для багажа, и даже уже поднял палец, чтобы указать на лежащую сумку, но тут у клиента зазвонил телефон, и тот стал вежливо и негромко что-то объяснять по-немецки, а бармену ничего не оставалось, кроме как молча вернуться за стойку. Минут через пять посетитель закончил разговор и задумался, глаза его сканировали помещение, пытаясь зацепиться за былое. Увы, зацепиться было не за что — это, конечно же, был уже совсем не тот бар. Исчезли изогнутые диваны, смешные, совсем не барного типа стулья у низкой и широкой стойки. Да и самой стойки больше нет — теперь это скорее ресторан.
Кольцо! Конечно же, кольцо! Где она — эта дыра, оставшаяся от сбитого пробкой от шампанского «бронзового» кольца с потолка? Весь потолок аэропорта был сделан из этих колец — они лепились друг на друга и как коричневые соты нависали над тысячами суетящихся пчел-пассажиров. Это было визитной карточкой Шереметьево — ни в каком другом аэропорту, да и, наверное, ни в каком другом здании страны, не было такого. Но нет уже никаких колец — это теперь совсем другой потолок, обыкновенный, как в любом другом аэропорте мира.
Что же они тогда отмечали с Анькой в подсобке? И зачем он не позволил ей открыть бутылку? В его неопытных руках шампанское оглушительно хлопнуло, тяжелая пробка пулей унеслась вверх, да там и осталась. Вместо нее медленно упало одно из миллионов этих самых колец. Оказалось оно вовсе не металлическим, а пластмассовым с бронзовым напылением. Насмерть перепуганные влюбленные спешно заткнули чем-то бутылку и помчались прочь, на выход, через КПП на автобус. Он потом долго разглядывал потолок, пытаясь найти глазами застрявшую пробку, пока дядя Влад, старший бармен-администратор, угрюмо не заметил:
— Они уже хорошо запомнили твое лицо. Хватит.
Да — потолок аэропорта сделан из колец, чтобы маскировать объективы камер наблюдения — это была дежурная шутка всех работников Шереметьево-2 в те годы. Да и пассажиры, надо полагать, думали точно так же.
— Es tut mir leid, geht es Ihnen gut?[1], — прикоснувшись к плечу посетителя, с неподдельной тревогой спросил бармен и поставил перед ним стакан с холодной водой.
— Ой, простите ради Бога, — ответил тот по-русски, — голова закружилась. Могу я посидеть тут еще пару минут?
— Да сколько угодно, что вы. Позовите меня, если вдруг станет плохо, — я вон там с бумагами буду.
Ох, эти бумаги… Акт передачи смены, товарный отчет, требование на склад и что-то еще и, наконец, важнейшее — отчет о полученной валюте. Ошибка в любом документе могла стоить работы. В то же время, если хорошо и правдоподобно подогнать цифры, можно было за смену только на отчетах вывести в карман до сотни рублей.
— Работа с бумагами — это творческая работа, — повторяла Анька чью-то фразу, — отнесись к ней с душой, и прилипнет сладенький стольник! Она складывала из сторублевки маленький самолетик и, держа его над головой, шла-летела с ним в подсобку.
— Ведь вы не откажетесь пойти сегодня с дамой в «Метелицу»? — и прижимала его грудью к ящикам с минералкой, а в глазах ее блестели мириады огоньков-смешинок.
Подняв голову от бумаг, бармен смотрит на своего единственного посетителя. По-детски подперев лицо двумя кулаками, пассажир глядит куда-то вдаль, в глубину ушедших лет, и бармену даже померещилось, что по щеке гостя бежит слеза.
— Нет-нет, не нужно в медпункт. Да вот уже и посадку объявили. Спасибо вам. Спасибо…
Разговаривая по телефону уже по-английски, гость подхватил полупустую сумку и отправился на посадку. Странный пассажир.
Димка
По-детски подперев лицо двумя кулаками, сквозь мутное стекло плацкартного вагона Димка рассматривает заплеванный перрон. Не сказать, чтоб это было уж такое захватывающее зрелище, но так положено — пассажир должен смотреть в окно. Закутанные в одинаковые телогрейки и серые шали шарообразные, толстые бабки, а может, и не бабки вовсе, а вполне себе молодые женщины — понять это невозможно, бойко торгуют нехитрой снедью: семечки, пирожки с картофелем или капустой, беляши… Беляши, конечно, следует взять в кавычки — мяса там никакого нету: Димка выяснил это, отравившись ими еще в Хабаровске. Сероватая масса имеет привкус настоящего мяса, но что там такое — доподлинно неизвестно. Говорят — смесь субпродуктов с соей. Еще говорят — из бродячих собак. В любом случае в дороге беляши лучше избегать — два дня молодой организм извергал жидкость.
— Ну ты, Дима, сегодня Первый на Горшке! — дразнил его веселый зэк, досрочно откинувшийся по болезни. К счастью, это прозвище не прижилось, и до конца путешествия Димка остался Димкой. Зэк этот по слабости почти не покидает полку.
— Вот. Еду домой становиться на путь исправления, — горьковато шутит он, — так в справке написано.
Народ в вагоне тертый, и все знают, что речь идет о справке об освобождении, а не о медицинском документе, но шутить никто не решается — уж очень тема невеселая. Видно по блеску запавших глаз, что отпустили его помирать. Понимал ли это он сам — неизвестно, но шутки его были беззлобные, хорошие такие шутки. Вокруг всегда сидели несколько попутчиков и периодически слышался хохот. Сидел и Димка, пока однажды проводница не позвала его пальцем в свое купе-каморку.
— Зачем ты трешься там, пацан? Ведь у него наверняка тубик.
— Чего это — тубик?
— Туберкулез, красавец!
— А он говорит — желудок…
— Ну как знаешь, доктор. Иди отсюдова.
«Вот же надо было говорить с этим придурком, — пожалела она про себя, — еще и разнесет по вагону, что я ему тут сказала». Но Димка ничего не разнес. Только садиться стал в отдалении — чуть подальше…
На перроне под блекло светящимися буквами «Свердловск — Пассажирский» Дима купил у круглых теток горячую картошку в куле из газеты и два дряблых соленых огурца. Ножиком он аккуратно срезал с картофелин отпечатавшуюся газетную типографскую краску и без аппетита поужинал. Краска на газете была черная, а на картошке отпечатывалась почему-то синим. Он надолго задумался. Но вовсе не над этим феноменом газетных цветов. Жизнь, как писали в старых романах, дала трещину, и нужно было как-то с этим справиться, что-то изменить, сделать поворот.
Дима — парень замкнутый, любит больше послушать других, но дорога… Дорога развязывает языки лучше любого следователя.
— А потерпел пару годков — плавал бы на ледоколе «Ленин» и кормил с палубы пингвинов.
— Каких пингвинов? Откуда в Арктике пингвины? — искренне изумляется Димка
— Как нету? Куда они делись? Я в телевизоре видел, — вмешивается в разговор кто-то невидимый с боковой полки, но Дима не считает нужным отвечать на такую вопиющую глупость, даже головы не поворачивает, и повисает пауза.
— А что — трудно в эту мореходку поступить? — спрашивает зэк просто для того, чтобы разговор не заглох.
— Да не, я ж после армии. Легко приняли.
— Ну а че бросил-то, Дим? Не потянул?
— Ну не мое это. Да и в армии казарма надоела…
— А что твое, знаешь? Ну хоть примерно? Да не отвечай. Мне и самому вон уже пора примерять деревянный костюм, а я даже близко не ведаю, что было мое и как я его просрал… В Москве, говоришь, дядька у тебя?
Димка, может, и рад бы поболтать за жизнь со старым каторжанином, но без вот этого его вечного антуража из добровольных слушателей. С ними это сильно напоминает какое-то комсомольское собрание, и Дима сворачивает разговор, идет к себе на полку и смотрит в засиженный мухами потолок. Нерадостные мысли бродят в его голове.
Да, есть у него дядька в Москве. Есть. И жуть как не хочется обращаться к нему за помощью, да вот отчего-то жизнь с веселой лихостью обрубает Димке все пути-дороги и ведет его прямиком к Владу. К дяде, своему единственному родственнику, он относился настороженно. То есть, конечно же, он его любил и уважал, но вот этот случай на проводах в армию…
Дядя Влад был директором кафе с названием «Кафе» и примыкавшего к нему магазина «Кулинария». Был он одинок и, возможно, поэтому очень заботился о своих немногочисленных родственниках — сестре и племяннике. Помогал продуктами, помогал деньгами. Помогал советами и протекцией. Работник общепита — солидный и уважаемый член советского социума. Каждый, абсолютно каждый обыватель, от инженера до прокурора, ищет знакомства с ним.
И, конечно же, организовать последний вечер на гражданке своего единственного племянника для Влада — сущая мелочь, пустяк.
Проводы отшумели, алкоголь закончился, и Димкины друзья и соседи по зеленоградской хрущевке начали потихоньку расходиться, как вдруг дворовой авторитет по кличке Шеф позвал Димку во двор на разговор. Дима пацан неконфликтный, бояться ему особо нечего, и он спокойно вышел к гаражам, не ожидая никакой подляны. Однако то, что ему пришлось услышать, было хуже драки.
— Тут, Димон, такое дело… По ходу, Влад твой — пидор.
— Как же так? — возмутился Димка. — Портвейн и водку, что он принес, ты пил, и Влад был нормальный. Что случилось-то?
Шеф смекнул, что разговор повернулся в невыгодном для него свете, и замолчал. Заговорил Толян — он был постарше, уже отслужил, но на работу никуда не устроился и болтался целыми днями во дворе.
— Да ты не вкурил. Он — настоящий пидор. Пидорский.
До Димки стал доходить смысл происходящего, и ему захотелось уйти в армию прямо сейчас, пешком, прямо отсюда — вот от этих гаражей, и никогда в этот двор и в этот город не возвращаться. Толян между тем продолжал, и с его слов выходило, что Влада пытался зарезать его новый приятель — эстонец. Обоих забрали в милицию, где эстонец рассказал, что хотел убить Влада… из ревности. Охватить сознанием такое 18-летнему пацану было решительно невозможно, и Димке стало физически плохо. Когда он наконец проблевался и перестала кружиться голова — вокруг уже никого не было.
В письмах от матери дядя регулярно передавал приветы, а когда она окончательно заболела и слегла — писал сам. В 1979-ом, зимой, Димку отпустили на похороны. Смерть матери он сразу не осознал — понимание того, что теперь он совсем один на свете, настигло его позднее, уже в казарме. На поминках директор оборонного НИИ специальной техники сказал, что, хоть жилье и служебное, — он готов полгода держать квартиру при условии, что Дмитрий по возвращении поступит на предприятие. Но солдат уже знал, что он никогда не вернется ни в этот двор, ни в этот город и уж тем более — на этот оборонный закрытый НИИ. Он отрешенно разглядывал убитого горем дядю Влада и вскоре пришел к выводу, что Толян врал, ведь и эстонца этого почему-то сразу отпустили — вон он за Владом стоит в смешной шапке с волчьим хвостом.
Через полгода тоска армейских казарм закончилась и рядовой Дмитрий Климов в небольшой компании таких же дембелей вышел за ворота части. Однако вместо аляповато расшитой бисером формы на нем была куртка-штормовка, вместо чемодана с тяжелым дембельским альбомом — полупустая спортивная сумка, где болталась нехитрая одежда, а на самом дне — военный билет да документ, называемый «Требование» и дающий советскому дембелю право на бесплатный железнодорожный билет. Пунктом назначения солдат выбрал далекий город Владивосток.
ПГУ и ВГУ
Самое главное и самое престижное в КГБ, конечно же, Первое главное управление — ПГУ (разведка). Это — мечта молодых романтиков, по зову сердца стремящихся в Комитет. Многих из них, увы, ждут горькие разочарования. По возвращении из первой же ДЗК (длительной загранкомандировки) они с печалью обнаружат за собой «наружку», их телефоны будут прослушиваться, карьера остановится. Долгими часами, сжав голову руками, будет вспоминать оперативник, где и когда он мог дать повод к подозрениям. Кто из товарищей мог быть автором «сигнала»? Печаль, однако, в том, что никакого сигнала могло и не быть — человек вернулся из-за линии идеологического фронта и кто знает, кто знает…
Сотрудники же Второго главного управления — ВГУ (контрразведка), в загранкомандировки почти не отправляются, и в этом плане их карьера, конечно же, более предсказуема, жизнь и служба попроще. От них, например, не требуется легендироваться по месту жительства — соседи и друзья могли знать, что такой-то служит в КГБ, а вот для каждого «пэгэушника» готовилась история прикрытия — как правило, соседям он представлялся как инженер «номерного» завода, да много было и других заморочек. Абсолютное большинство сотрудников Первого ГУ КГБ СССР никогда в жизни не пользовалось служебным удостоверением — для прохода в комплекс «Ясенево» применялся пластиковый пропуск без фото и без имени, а демонстрировать коричневые корочки с тремя тиснеными буквами КГБ для проезда в метро никому не приходило в голову. Нет, как ни крути — служить в «Вэ-Гэ-У» предпочтительнее…
Старший оперуполномоченный Управления «Т» Второго главного управления КГБ СССР майор Валов вышел из магазина «Детский мир». В правой руке он нес портфель-дипломат, в левой же ловко, как фокусник, держал два эскимо. Щурясь на выглянувшем солнышке и поглядывая на часы, он одну за другой съел обе порции, бросил палочки в переполненную урну, перешел улицу и скрылся в здании номер 2, что по улице Дзержинского, бывшая Большая Лубянка. Здесь, на четвертом этаже с окном на Внутреннюю тюрьму, где теперь расположилась столовая, находится его рабочий кабинет — но застать в нем Валова непросто. Гораздо чаще его можно видеть в одной из комнат без табличек в главном корпусе Шереметьево-2, что прямо за Депутатским залом, в подвальном помещении аэропорта за стальной дверью с надписью «Гражданская оборона», где находилась электронная, видео- и аудиоаппаратура и посменно дежурили операторы, никакого, конечно же, отношения к ГО не имеющие, либо же просто в зале вылета, где он с отрешенным видом прохаживался, изображая пассажира. Часто он просто сидел в баре со своей обязательной двойной порцией мороженого. Конечно же, весь персонал знал, кто он такой — никаким секретом это не являлось. Называли его между собой «наш куратор от КГБ» или просто «куратор». По сути, именно зона вылета и была его местом работы, своего рода полем битвы — здесь, как шахматные фигуры на доске, размещались его доверенные лица и агенты, установлена и замаскирована спецтехника. Валов имел информаторов среди уборщиц, сотрудников «Аэрофлота», таможенников и пограничников.
Не то чтобы советский человек был от природы скрытен и молчалив, но, будучи пойманным на мелкой краже, взятке, аморалке или любом другом проступке, влекущем суд и увольнение, человек этот становился чрезвычайно разговорчив и вываливал горы подчас неожиданной и, как правило, не имеющей отношения к линии работы КГБ информации. Такой кандидат тщательно проверялся, у него отбиралась подписка с обязательством добровольно сотрудничать с органами, выбирался псевдоним, согласовывались график и порядок секретных встреч. Майор презирал «инициативников» — тех, кто добровольно напрашивался на разговор и приносил информацию. Таковых было огромное количество, да что говорить — все работники Шереметьево были не прочь стучать в КГБ, но Валов — опытный опер и понимает, что все эти добровольцы на самом деле хотят использовать его самого — майора Валова. Кто-то хочет через него свести счеты, кто-то продвинуться по службе, кто-то, наоборот, — в ожидании будущих проблем желает с ним завязаться для возможной отмазки. Майор никогда не отказывался послушать, но доверял в первую очередь своим проверенным агентам, завербованным на железной компре, обязанным ему и увязшим в своем стукачестве. В официальных документах это называется «агентурная сеть», и через эту сеть день и ночь шли потоки иностранцев — они выпивали, закусывали, покупали сувениры, догадываясь, конечно, что вот эта регистраторша или вон та веселая барменша так или иначе имеют отношение к «кейджиби», но, что делать, — холодная война в разгаре и таковы правила игры. Сеть приносила огромный массив информации криминального характера, или, как ее называли в КГБ, «информации по милицейской линии» — все это тщательно записывалось, но никогда в милицию не передавалось, чтобы не допустить расшифровки источника. Сказать, что по этим данным вообще не проводилось никакой работы, нельзя — чаще всего эта информация использовалась для вербовки новой агентуры.
Иностранцы в чистом виде Валова почти не интересовали — это прерогатива и головная боль престижного Первого главного управления КГБ СССР, а интересовали его советские граждане, активно ищущие контактов с иностранцами — вот за такую наводку информатор мог получить денежную премию, отмазку от любых неприятностей, а в некоторых случаях и государственную награду. Вручались такие награды секретным указом Президиума Верховного Совета СССР, носить их было нельзя и даже похвастаться перед соседями, родственниками было невозможно… впрочем, у Валова таких орденоносцев на связи никогда не было.
А были люди все больше простые, попавшие в разное время в жизненные передряги, и передряги эти, будучи описанными в агентурных сообщениях других подобных людей, легли на стол майора. Вот и сейчас на его столе лежат два дела: одно тоненькое с надписью «Личное», а второе — толстое, на обложке написано «Рабочее» — дело оперативной переписки, и жирным фломастером в скобках — агент «Ларин». Валов еще раз взглянул на часы, сложил обе папки надписями друг к другу и отправился к начальнику. Начальник Управления «Т» (контрразведовательные операции на объектах транспорта) сидел на третьем этаже в просторном и светлом кабинете, куда когда-то пришел из аппарата ЦК КПСС во время кампании по «усилению органов». Валова он ценил как лучшего опера, но, не имея на него весомой компры, несколько опасался. Вообще-то, они не должны были встречаться по службе — у майора был непосредственный начальник, но он только что ушел в отпуск, оставив за себя Валова. Выслушав подчиненного, генерал погрузился в чтение «Личного дела».
Майор пришел со странной просьбой — разрешить прием на работу в качестве грузчика родного племянника агента «Ларина». Этот «Ларин» работает барменом в зоне вылета Шереметьево-2 и буквально умоляет не препятствовать трудоустройству племяша — все документы в «Интуристе» он провел сам, пользуясь своими обширными связями — осталось лишь получить добро от Комитета.
— Я что-то не очень понимаю, зачем ему нужен на работе родственник. И еще меньше понимаю, зачем это нужно нам, — с сильным ударением на последнем слове спросил генерал.
— Тут нет ничего нелогичного, — спокойно отвечал майор, — в баре не проходит ни одной пересменки без недостач. Обычно грузчики воруют пиво и сигареты. Пиво выпивают, раскалывают пустую бутылку, чтоб списать ее в бой, а фирменные сигареты просто выкуривают в подсобке. Бывает, откручивают коньячные крышки на два оборота и высасывают по десять-двадцать грамм, чтобы сразу не было заметно. Сейчас у них грузчика нет — все сменные бармены приходят на час раньше и возят товар на тележках сами. Жалуются, но это лучше недостач. Непьющий грузчик, к тому же родственник старшего бармена-администратора, очень им нужен.
— Ну хорошо, а нашему ведомству какой прок от непьющего грузчика? — вновь делая ударение на слове «нашему», спросил начальник.
— Никакого. Но «Ларин» никак не был поощрен за ту перламутровую икону.
— Цесаревича Алексея? — оживился генерал.
— Ну да. Все же случилось прямо у него в баре…
— Так ведь вся слава смежникам ушла! За это бы его наказать надо! — воскликнул начальник и заразительно расхохотался. Это была громкая история с женой африканского дипломата, пытавшейся на подвязках между ног вывезти старинную икону и чуть не задушившей опера Шубина из Десятого отдела ВГУ КГБ СССР (борьба с контрабандой) его же собственным галстуком. Тогда наградили многих из «десятки», негритянку выдворили, а Саша Шубин стал начальником отделения.
— Ну я же не могу говорить агенту, что контрабанда не наш профиль, что Управление «Т» и «десятка» не одно и то же.
— Это — да! Это безусловно, — сразу согласился шеф, — но, может, его деньгами поощрить?
— Вы, очевидно, не понимаете, сколько они там имеют, — медленно и довольно грубо отвечал Валов, глядя почему-то в окно, и глаза его, сузившись, налились ненавистью, — так я вам скажу: до трехсот рублей в день! В день! А за Олимпиаду этот пидорас отбил себе однокомнатный кооператив!
Начальник, пораженный такой тональностью, хотел поставить опера на место, но тот продолжал, не замечая:
— Бармен чаевыми в рублях и валюте за пятидневку получает больше, чем мы с вами вместе за месяц! Это они нас с вами могут деньгами поощрить, — и, заметив, как генерал изменился в лице, резко замолк.
— Ну ты давай эмоции-то попридержи и объясни: от меня-то ты чего хочешь? Зачем ты ко мне пришел? Ты ведь и сам можешь этого племянника легко провести.
— Не могу. Они близкие родственники. В приказе сказано: «в особых случаях».
— В каком приказе? — машинально спросил бывший партиец и сразу пожалел.
— Два ноля шестидесятом, — с удивлением ответил майор.
«Ах ты ж, сука!» — расстроился генерал и, чтобы сбить тему, спросил: — А он что — в самом деле педераст?
— Да. Завербован в 1977-ом на инциденте с гомосескуальным партнером — выдернули из дежурной части Зеленоградского ОВД. Ревность. Драка. Непроникающее ножевое ранение.
— Что-то не нравится мне ваше отношение к источникам, — официальным тоном заговорил бывший инструктор ЦК. — Откуда столько ненависти? Почему вы с таким раздражением говорите о собственном агенте, который не первый год у вас на связи? Да, подчас они имеют немалые деньги, да, их не поднимают по тревоге, они живут материально в чем-то лучше нас, но скажи честно — ты бы поменялся местами с этим «Лариным»?
И опять партработник понял, что сморозил не то: ведь агент — гомосексуалист. Эх, да что за день такой…
— Ну давай рапорт. — И написал в левом углу: «Согласен».
Племянник и дядя
— Ну, вроде все утряс, — сказал Влад, — в пятницу выходишь на работу.
Бешено заколотилось Димкино сердце — слишком уж невероятной казалась ему удача. Четвертый месяц он жил в дядиной новенькой кооперативной квартире на Ленинградке и жил, по его собственным представлениям, вовсе даже неплохо. Квартира, хоть и однокомнатная, оказалась очень немалой, с большой лоджией и огромной кухней. На этой самой кухне у Влада стоял сделанный под заказ угловой диван. Одна сторона этого дивана была широкой, а вторая поуже. Вот на этой широкой стороне и спал Димка, спрятав шмотки свои в большие выдвижные ящики. Влад дома бывал редко, а когда бывал — обычно крутил диски на своей многотысячной супераппаратуре да читал журналы на английском, которыми он с кем-то обменивался.
Закончив с отличием МИНХ им. Плеханова, Влад довольно быстро начал продвигаться вверх, но вдруг заскучал и попросил перевода из Мособлпищепрома директором в небольшое кафе в Измайлово. С некоторым недоумением просьбу удовлетворили, и наступило прекрасное время свободы и хороших денег.
В совершенстве зная отчетную часть, Влад вечерами, после закрытия, переделывал практически все бумаги. Старенькая бухгалтерша Нина Ивановна давно просилась на пенсию, жалуясь на ухудшающееся зрение, но вместо пенсии новый директор поднял ей зарплату и освободил от половины расчетов, взяв их на себя. Старушка не могла поверить такому счастью, а предприятие довольно скоро стало работать почти как частное — наверх уходили аккуратные отчеты и выручка, чуть выше той, что сдавал предыдущий директор. Значительная же часть оставалась Владу. Кафе давало совсем немного, может, лишь десятую часть от оборота кулинарии, но, сдавая его под свадьбы и юбилеи нужным людям, молодой директор обрастал знакомствами. Кулинария же предоставляла огромный простор для заработка. Хорошие деньги приносили, например, кости. Влад получал от мясокомбината по два ПАЗика костей в неделю. В эти дни он привозил в кафе племянника Димку в помощь грузчику Степанычу и те вдвоем специальными кривыми ножами срезали с костей хрящи и остаточное мясо, которые шли в кулинарию для изготовления пирожков и пельменей, которых и в прейскуранте-то не было, а голые кости развешивались в кульки — из-под ценника с надписью «суповой набор» их живо разбирали неискушенные советские инженеры и служащие. Были и многие другие относительно безопасные схемы, впрочем, все это пришлось оставить ради валютного бара в Шереметьево.
Неожиданному приезду племянника Влад очень обрадовался, и не столько потому, что это был единственный его родственник на всем белом свете, а скорее оттого, что жизнь Влада в этом 1981 году как-то застопорилась. Проблемы начались еще два года назад — периоды тяжелых депрессий сменялись подъемом, но бурный 80-ый с его Олимпиадой и переходом на работу в Шереметьево как-то на время выровняли психику. Отношения с Юргенсом хоть и продолжались, но стали носить монотонный характер, быт был устроен, перемен на работе ждать тоже не приходилось, и, когда почта принесла письмо из далекого Владивостока, Влад ожил и стал с нетерпением ждать племяша. Племянник Дима был не только единственной родной душой, но и довольно интересным, в чем-то необычным человеком.
С детского сада и до седьмого класса школы Димка точно знал свое будущее. Он будет путешественником! Его смешили разговоры сверстников о профессии космонавта или военного, ведь друзьям-мечтателям ничего о космонавтике или военном деле не было известно, а Дима о деле своей будущей жизни знал все. Знал досконально. Ничего специально не заучивая, он легко мог назвать столицы всех государств. Он знал, с какими странами граничит, например, Парагвай, и легко мог найти на карте город со смешным именем Папеэте. Не было никой проблемы уложить маленького Диму в кровать — он просто закрывал глаза и перед ним появлялся огромный, медленно вращающийся глобус с рельефом гор и синими океанами. Оставалось только вглядеться да хоть в южную оконечность Чили, приблизить ее, и вот в лицо Димке летят соленые брызги мыса Горн, в воздухе стоит крик тысяч чаек, и пацан засыпает, улыбаясь. Однако примерно в седьмом-восьмом классе он начал осознавать всю катастрофичность своего положения — положения советского школьника. Первой утопичность его жизненных планов попыталась разъяснить мать, но это оказалось непросто, как вообще непросто отнять у человека мечту, и Димка обиделся не на систему, а на свою одинокую, тяжело работающую маму. Ему казалось, что будь она, например, секретарем обкома партии, то он вполне смог бы стать путешественником. Вон Юля из параллельного класса съездила с родителями в Болгарию, а у нее папа лишь комсомольский, даже не партийный, работник! Ближе к окончанию школы пришло и сформировалось уже ясное и полное понимание ситуации, но при этом мечты детские никуда не исчезли — десятиклассник Дима точно так же хотел видеть мир. География и красоты Родины его почему-то не интересовали — ни белые ночи Ленинграда, ни лесные просторы ударно строящейся Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, понимание того, что его мечта неосуществима именно из-за политического устройства страны, сделало его настоящим врагом системы, но врагом тихим, пассивным. Он начал слушать «Би-Би-Си» на английском и «Голос Америки» на русском, но интересовали его не диссиденты и преступления режима, а то, что реально происходит в мире и как люди живут за границей. Бороться он ни с кем не собирался, зато твердо решил бежать из этой страны, бежать любым путем, любым способом. Проблема, однако, была в том, что ни путей, ни способов побега не существовало — каждый из многих тысяч километров советской границы охранялся истово и охранялся в основном от пересечения изнутри. Целые области были объявлены погранзоной, в некоторых местах ширина этой запретной зоны доходила до двухсот километров — даже приблизиться к контрольно-следовой полосе было немыслимо. Нечего было и думать о пересечении сухопутной границы — этот вариант пришлось отбросить. Между тем отзвенел последний звонок и школа закончилась.
— Слушай, он летит в Ригу, — звонила Владу растерянная мать, — поступать в какой-то авиационный институт.
— Действительно странно, — опешил дядя, — не помню за ним никакой тяги к небу…
— Влад! Надо его отговорить. Пусть идет в наш.
— Я попробую.
Но в «наш» — единственный в Зеленограде ВУЗ — Институт электронной техники, Димка документы не сдал, а полетел в Ригу, хотя и сам оценивал свои шансы как невеликие. Вскоре после провальной попытки поступить в Рижский институт инженеров авиации в почтовом ящике обнаружилась повестка в военкомат. Мечтатель отнесся к этому спокойно и решил проситься служить в погранвойсках. Ночь за ночью его преследовал один и тот же сон, где он, швырнув в сторону автомат и фуражку, резво бежит через вспаханную КСП — контрольно-следовую полосу, прочь от Страны Советов. Поборов колебания, Димка направился к своему единственному родственнику за содействием. Ведь Влад знает всех и может все — должен же у него быть блат в военкомате! Ведь это вовсе не трудно — помочь племяннику попасть на службу в погранвойска. Дядя выслушал сбивчивую просьбу, стал задавать вопросы, потом стал в упор смотреть на племянника, надолго замолчал и вдруг спрятал лицо в руках. Дима знал, что дядя у него чувствителен и сентиментален, но тут испугался не на шутку. Влад же резко поднялся и, открыв финскую «стенку», достал карту СССР. Расстелив ее перед притихшим родственником, он стал нервно обводить карандашом всю огромную границу, протыкая при этом бумагу.
— Вот, вот, вот и вот!!! — зашипел он, показывая протяженность советских границ от Китая до Ледовитого океана. — А во-о-от этот крохотный кусочек — турецкая граница. Ведь ты уже знаешь, что финны и иранцы сразу выдают перебежчиков обратно??? Знаешь???
Дима не знал, но с готовностью кивнул. Влад пальцами вырвал участок границы с Турцией и дал этот клочок бумаги Димке.
— Бери этот кусочек, прикладывай вдоль всей остальной границы и считай!
— И что это будет? — прошептал ошеломленный племянник. — Зачем это?
— А эта дробь, эта единица, разделенная на то, что ты насчитаешь, и будет твой шанс, твой один из тысячи шанс попасть именно на этот участок!
Позже, уже в армии, Димка узнал, что на турецкий участок границы СССР существует особый отбор — шансов не было вовсе!
Контрольно-следовая полоса после этого разговора ему больше никогда не снилась.
Отношение к нему Влада стало совсем иным — внимательно-настороженным. Дядя, зная о детских мечтах племянника, и представить не мог, что все эти мечты живы, что Димка их не перерос, не забыл, не отказался от них. Это вызывало уважение и большие опасения. «Странно все же, как сильно его тянет к перемене мест», — изумлялся Влад. Сам он в восемнадцать лет ничего подобного не испытывал. Может, голос балканской крови? О Димкином отце сведений было совсем чуть-чуть. Например, известно было экзотическое имя его — Джанко, но от Зеленограда венгерский коммунист Джанко, к несчастью, был бесконечно далеко. В пору пламенной комсомольской юности сестра Влада была премирована путевкой в только что открывшийся Международный молодежный лагерь «Спутник». Там и случилось Димкино зачатие. Кроме необычного имени про отца было известно, что он этнический серб, но почему-то с венгерским гражданством. Говорить о нем мать категорически отказывалась, да Димка и не спрашивал никогда. Допытывался Влад, но только поначалу — пока не понял, что история эта случайная и никакого развития ее ожидать не следует. Отчество новорожденному записали нейтральное — Иванович. Через много лет Влад по каким-то каналам узнал, что Джанко жив-здоров, переехал в Югославию, где женился и наделал детей. «Шустрый такой папаша, плодовитый гад, — размышлял Влад, но никаких действий не предпринял, — опасно, очень опасно. Сестра давным-давно остыла к комсомолу, к тому же работает на „номерном“ заводе, да и во Владовой биографии родственник за границей означал немедленный конец карьеры. Ну его к черту, цыгана этого», — рассудил Влад и больше к этой теме не возвращался.
Влад и сам мечтал вырваться из СССР и даже когда-то пытался зарегистрировать брак с одной веселой одесситкой еврейского происхождения. Кончилось все, впрочем, ужасно — девушка рассчитывала на то, что сможет перевести этот брак по расчету в нужное ей правильное русло нормального брака. Владу ничего не оставалось, как признаться ей в своей ориентации, и это вызвало у несостоявшейся невесты такой эмоциональный взрыв, который даже немалыми деньгами погасить оказалось непросто — она уже видела себя в Бруклине с мужем-красавцем, который к тому же обязан ей своим выездом. Далее следовала провалившаяся попытка устроиться на круизное судно в Черноморском пароходстве, где он, слава богу, получил отказ на самой ранней стадии — ему объяснили, что без залога в виде любящей супруги и пары карапузов на берегу в загранкруиз его никто не выпустит. Постепенно надежда вырваться из страны угасала, а на смену ей пришли затяжные депрессии, а через несколько лет Влад уже и не был уверен, хочет ли он уехать. Он не вполне легально, но относительно безопасно зарабатывал громадные по меркам советского обывателя деньги, быт его был устроен и налажен, но именно с умершей мечты началось незаметное со стороны расстройство его психики. Впрочем, помощь и участие в жизни немногих родственников отвлекала Влада, придавала его жизни особый смысл.
Сестра его разрывалась между работой и врачами, и дядя решил серьезно поговорить с племянником. Вопросов он задавать не стал — очень боялся толкнуть пацана к прямой лжи, что было бы болезненно для обоих, а просто попросил выслушать.
— Видишь ли, в твоем желании свалить нет ничего необыкновенного. Тысячи мечтают об этом, многие попытались и теперь гниют по зонам, и лишь единицам это удалось. Единицам. И ничто не говорит за то, что ты попадешь в их число. Мой тебе совет — не дергайся! Загубишь, сломаешь себе жизнь.
— Так ведь это вовсе и не моя жизнь получается, — с тоской отвечал племянник.
— Ну послушай — есть способы уехать легально. Надо жениться на еврейке. Поедешь в Бобруйск или в Черновцы — оттуда выпускают на ура. Сходи в свою эту армию, и начнем тебе искать вариант, — неубедительно говорил дядя, но Димка его не слушал — в восемнадцать лет два года кажутся вечностью, а ему очень хотелось сбежать немедленно.
— Чего ж ты сам-то тогда не уехал? — простодушно поинтересовался он.
Ответить на этот вопрос невозможно — не рассказывать же подростку о своих поражениях на этом пути, о том, что родной дядя является информатором КГБ, о том, что его, поневоле знакомого с методами работы этой организации, теперь вообще никто и никогда из страны не выпустит.
— Так я как-то и не хотел, — вновь соврал Влад, тяжело вздохнул и отвернулся.
А племянник ушел в армию.
Море
Никакого конкретного плана, конечно же, у Димки не было. А было подспудное, интуитивное желание оказаться на границе. Как именно он эту границу пересечет, он пока не знал, но эта сила притяжения направляла и контролировала все его поступки, все действия. Именно эта сила и погнала его после армии во Владивосток, где, как ему казалось, можно устроиться матросом на судно и спрыгнуть в каком-либо иностранном порту. Идею ему невольно подкинул сослуживец, старший брат которого служил в торговом флоте. Историй об этом брате было великое множество — о приключениях в иностранных портах, о любви смуглой кубинки, об огромных деньгах и прочее. Димке хотелось верить в эти полные несовпадений и логических тупичков, но такие восхитительные рассказы. Как раздираемый подозрениями супруг порой склонен сам додумать вранье своей гулящей половинки, он довольно долго заставлял себя принимать все эти сказки на веру. Но в конце концов стал склоняться к мысли, что три четверти услышанного — низкохудожественный мусор. Разочарованный Димка решил вырвать эту морскую тему с корнями из своей головы и забыть, как вдруг в гости к казарменному сказочнику приехал его брат — сухощавый одессит по имени Стас, моторист контейнеровоза «Сальватор Альенде». Выяснилось, что по меньшей мере половина казарменных сказок — чистая правда. Раскрыть суть своего интереса Дима не мог и поэтому принялся детально расспрашивать о зарплате. «Рядовой моряк торгового флота — матрос, моторист, электрик, повар и т. д., на судах Министерства морского флота получает в месяц примерно 100–120 рублей зарплаты, — пояснил Стас, — но если судно пересекает границу, то моряку положена дополнительная выплата, которая составляет 22,5 % от его советской зарплаты. Когда же судно заходит в иностранные порты, то эти 22,5 % можно получать валютой порта захода: если в Германию, то в дойчемарках, в Болгарию — в болгарских левах, в Турцию — в турецких лирах, в Грецию — в греческих драхмах и т. д. Платят еще дополнительно чеками за мойку трюмов на сухогрузах после кубинского сахара, мойку танков на танкерах, раскрепление и закрепление контейнеров на контейнеровозах по 25 копеек бонами за каждый контейнер. Боны следует продать на берегу перекупщикам из расчета один к пятнадцати, и, таким образом, матрос полулегально получает в среднем 450–550 рублей в месяц. Можно, конечно, истратить все чеки на джинсы и сигареты во внешторговом „Буревестнике“, а потом самому перепродать — тогда получится еще больше, но мне лень, да и впадло фарцевать», — признался Стасик.
Картинка получалась завораживающая. «Даже если сбежать сразу не получится, то хоть деньжищ заработаю», — сладко размышлял Дима. Печалило то, что, по словам Стасика, без серьезного блата устроиться на загранрейсы в Черноморском пароходстве было немыслимо, и Димка решил испытать судьбу на Тихом океане — так сразу после дембеля бывший солдат оказался в ветреном Владивостоке.
Очень быстро выяснилось — устроиться можно лишь на тральщики или лесовозы, что ходят к Северу и возвращаются во Владик. Ни о каких вакансиях на торговые суда дальнего плавания в отделе кадров пароходства не знали. С отчаянья Димка решил записаться на рыболовецкий сейнер, приписанный к конторе со странным названием «Рыбакколхозсоюз».
— Не нужно тебе это, пацан, — медленно, после паузы, сказал ему старый кадровик, разглядывая открытое и чистое Димкино лицо, — озлобишься только.
— Это почему?
— Ну ведь есть же у тебя знакомые, что мотали срок? Есть же? Рассказывали про порядки в зоне? Ну вот эти корыта с дизелями — они как зона общего режима. Убить не убьют, но надломят. А ты чего вообще от моря ищешь?
— В загранку хочу. Мир посмотреть, — неожиданно признался Димка и покраснел.
— У-у-ух!.. Тяжелая история.
Тут Дима на себя разозлился — как это он так просто, за несколько минут, раскрыл незнакомому человеку свои самые тайные мысли? Но собеседник его тему загранки больше не затрагивал, а очень дружелюбно продолжал расспрашивать за жизнь. Не нравились бывшему бухгалтеру, а теперь кадровику, приехавшие из средней полосы романтики моря, влюбившиеся в него по книжкам. В Димке он любви к океану не увидел, зато вспомнил себя молодым и жаждущим познать этот огромный мир, вспомнил, как сам подумывал в послевоенный голод сбежать куда-нибудь, где тепло и фрукты, да много чего вспомнил, о чем лучше не говорить…
Анатолий Никитич, так звали кадровика, забрал аттестат, военный билет и армейскую характеристику, выписал пропуск в общежитие и велел зайти завтра под конец работы. «Странный какой-то дед, — сокрушался про себя Димка, — как легко он меня разговорил! Наверняка какой-то чекист в отставке».
В армии к нему, как, наверное, ко всем другим содатикам, подкатывали особисты, но разговор их был совсем другим — наглым, напористым и с попыткой запугать. Кадровик же был доброжелателен и… безразличен. Тем не менее он легко заполучил главную Димкину тайну. Эх-эх, надо быть поосторожней!
Владивосток Димке не понравился пронизывающей сыростью, грязью и серостью зданий. Совсем не так представлял себе вчерашний солдат портовый город. Никаких иностранных моряков в беретах с помпонами на улицах не было и в помине. Сам порт напоминал какой-то огромный ржавый завод — в маслянистой радужной воде плавал мусор, ревели гудки, скрипели тросы. Было зябко и хотелось поскорей уйти от берега.
Кадровик встретил Диму легким перегаром и протянул ему направление в Находкинскую мореходку. «Иначе, — объяснил он, — ты просто потеряешь время, делая черную работу на лесовозах или рыболовецких судах. А после мореходки есть шанс попасть сразу на сухогруз, открыть визу». Он дал еще несколько важных советов и настоятельно рекомендовал… продвигаться в комсомоле. Это поможет быстро и без проблем открыть эту самую визу. Иначе, не имея на берегу прямых родственных связей, это сделать будет очень непросто. Дима уже в деталях знал, что означает эта беспрецедентная, нигде больше в мире не известная штука — выездная виза. Советские матросы делились на два больших класса — с открытой визой и без: последним позволялось работать лишь на внутренних линиях, без захода в иностранные порты.
Обуреваемый сомнениями дембель бродил еще пару-тройку дней по Владику и перед отъездом в Находку снова зашел к Анатолию Никитичу.
— А он тут больше не работает, — сказала ему грузная женщина с усиками. — Вышел на пенсию.
И Димка стал курсантом Находкинской мореходной школы, впрочем, ненадолго. Мореходка мало чем отличалась от армии, влезть в комсомольскую работу, как насоветовал добрый кадровик, оказалось невозможным — тут полно было настоящих пламенных, да и противно это до омерзения, если честно. Довольно быстро Дима понял, что выбрал очень и очень долгий путь к своей мечте — выпускники в загранку почти не назначались, самым же странным было то, что никто из будущих матросов и не стремился к этому! Гораздо заманчивей представлялось им назначение в «печеночники» — рыболовные суда, специализирующиеся на добыче печени трески. Зарплаты там были почти в два раза выше, чем, например, у тральщиков. Рейсы короткие — все это притягивало гораздо сильнее, чем мифические тропические порты, ром и мулатки с черными, как южная ночь, глазами. Курсанты делились на две примерно одинаковые по численности группы — романтики моря и жители портовых городов, другой профессии и не знавшие. Среди романтиков попадались интересные персонажи, настоящие фанатики. Комсоргом курса, например, был молдаванин, никогда до приезда на Дальний Восток моря не видевший. И таких заочно влюбленных в стихию жителей материковой части страны было немало. Учились они, как правило, гораздо лучше местных и от мечты своей отказаться не торопились. Проблемы у романтиков обычно начинались после выпуска и распределения на ржавый лесовоз с мятым корпусом, плещущимся в трюме мазутом, раздолбанными двигателями и блатной командой. Но это — потом, а пока все учились, воспитывали в себе строителей коммунизма и изучали материалы XXV съезда партии. Димку накрыла вязкая серая тоска — все это казалось ему совершенно неинтересным, каким-то глупым продолжением службы в армии, а вскоре прозвенел первый звоночек — его вызвали на комсомольское собрание и начали воспитывать за противопоставление себя коллективу, замкнутость и неучастие в общественной жизни. Посвятить свою жизнь освоению Северного морского пути ему совершенно не хотелось, казарменная жизнь осточертела. Пора было этот план признать провалившимся, придумывать что-то другое, и он сел писать письмо дяде Владу.
Мартин
Мчится на юг по автобану E7 коричневый «Мерседес». Гельмут Рюб, старший инженер Ziemens AF, везет своего сына в аэропорт Франкфурта и мучительно пытается начать разговор.
— Ну зачем же ты открываешь уже четвертую банку пива? — хочет он сказать Мартину, но, понимая, что это закончится очередным скандалом, Рюб молчит. Молчит и младшая — она напросилась проводить брата, сидит тихо на заднем сиденье и ужасно жалеет, что поехала: эти двое все время ругаются. Вообще-то, если честно, она рассчитывала доехать до Касселя и остаться у подружки с тем, чтобы папа ее подобрал на обратном пути, но теперь ей и заговорить об этом страшно. Впереди появляются первые указатели на Кассель — ровно полдороги от дома Рюбов в Брауншвайге до Франкфурта, и маленькая Эмма решается:
— Папа. Ты должен завезти меня к Стелле.
— А ты что с ней созванивалась?
— Да. Вчера и сегодня. Она меня ждет.
Папа неожиданно соглашается — он еще надеется на разговор с сыном, и лучше, если это произойдет без младшей.
Через десять минут «Мерседес», зашуршав гравием, остановился у большого красного дома с острой крышей.
— Мы провожаем Мартина в Советский Союз! — закричала Эмма своей подружке. Стелла с мамой подошли к машине, но Мартин не смог подняться — он уже был пьян.
— И ты даже не обнимешь сестренку? — с нарастающим раздражением спросил отец.
— Я обниму ее, когда вернусь, — нашелся Мартин и помахал рукой. Девочки побежали в дом.
— Через пять часов! — крикнул старший Рюб. — Я заберу ее через пять часов.
Всю оставшуюся дорогу отец и сын не проронили ни слова.
«Где? В какой момент и как я его потерял?» — в тысячный раз думал Рюб и не находил ответа. Мартин рос нормальным, немного замкнутым парнем. Увлекался механикой, но не той, что требует чертежей и аналитического мышления — ему нравилась видимая и понятная механика. В Брауншвайге есть прекрасный Технологический университет, но Мартин учиться не стал, а предпочел уехать в Вольфсбург, где начал работать наладчиком конвейерных линий в концерне «Фольксваген». Отец пару раз навещал его и остался очень доволен — Мартин и еще трое парней снимали большой дом, где каждый имел свою комнату с удобствами. Жили дружно, по вечерам пили пиво в большой гостиной, смотрели телевизор или шли бродить по Порше Штрассе, недавно переделанную в пешеходную зону. Но ничего не длится долго, когда тебе двадцать лет, и вскоре на место уволившихся одного за другим приятелей въехали двое рабочих-итальянцев значительно старше Мартина по возрасту. В доме стало скучновато, монотонная работа тоже не радовала. Вечерами Мартин все чаще наливался пивом в одиночку. Сам ли он ушел из «Фольксвагена» или же был уволен — неизвестно, но к Рождеству 1980 года он вернулся домой и по протекции отца был принят наладчиком в Ziemens AF. В Брауншвайге за близость к границе с Восточным блоком правительство платило неплохую надбавку, и Мартин ничего не потерял в деньгах, но вот характер его окончательно испортился — он стал замкнут, в разговорах язвителен, и только младшая сестренка могла найти с ним общий язык. Женщин он избегал, считая, что большие залысины делают его непривлекательным в их глазах.
— Вот это все, что я от тебя унаследовал, — сказал он как-то отцу, глядя в зеркало на свои редкие волосы.
Летом 1981-го завод получил заказ на установку конвейерной линии в СССР, и Мартин неожиданно согласился на длительную командировку в город Свердловск, о котором раньше никогда и не слышал. Впрочем, вскоре передумал и …передумал вновь, решив таки лететь в эту огромную и странную страну, где 36 лет назад был убит отец его отца.
— Вы едете в Советский Союз работать. Зарабатывать деньги. Не пытайтесь играть Джеймсов Бондов, не задавайте русским вопросов, выходящих из темы вашего пребывания в их стране, — говорил представитель Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии и продолжил: — Самое главное — это не дать себя скомпрометировать, не попасть в капкан КГБ. Практика показывает, что это легко достигается концентрацией внимания на работе и лимитированием всех контактов с советскими гражданами. Позволю себе повториться, что развитие дружбы между народами СССР и ФРГ не является вашей задачей — оставьте это артистам, музыкантам, писателям и дипломатам! Если все же кто-либо из вас окажется в плохой ситуации, когда советские власти будут предлагать вам сотрудничество, — мы хотим об этом знать! Помните — Федеральное правительство Германии всегда на вашей стороне и будет бороться до конца, безотносительно того, была ли компрометирующая ситуация искусственно спровоцирована КГБ или же вы ее создали сами, по своей вине. Но мы должны об этом знать! Мы просто обязаны это знать!
В Шереметьево бригаду встретил угрюмый вислоносый господин Лемке из посольства ФРГ. Он пожал каждому руку и раздал всем карточки с телефонами дипмиссии. На обороте карточек стоял маленький штамп с двумя московскими телефонами самого Лемке — прямым рабочим и домашним.
— Звоните мне в любое время, если того потребует ситуация, но не звоните по производственным вопросам — я в этом ничего не смыслю, — объявил он, подмигнул, и инженеры понимающе засмеялись. В Свердловск, однако, Лемке не полетел, хотя и оставался в Шереметьево, пронаблюдав посадку группы на рейс до аэропорта Кольцово. Уже довольно давно он был, что называется, в официальной терминологии КГБ «установленный разведчик». Этот негласный титул присваивается работникам посольств и дипломатам после тщательного изучения их деятельности. Списки установленных разведчиков ждут своего часа — до осложнения отношений либо какого-нибудь международного скандала. Тогда «установленные» разом высылаются. Лемке же пока такое не грозит — отношения с ФРГ хорошие, вот и аэропорт этот построен западными немцами. По слухам, циркулирующим в шпионских кругах, существует негласная рекомендация Андропова не усердствовать с высылкой «установленных». В этом есть своя логика, ведь на место высланного приедет другой, про которого еще ничего не известно, а этот уже почти родной — неплохо изучен и местами предсказуем. Тем не менее на Урал господина Лемке не пустили бы ни при каких обстоятельствах.
В свердловском аэропорту гостей встретили две переводчицы с убогим немецким и пригласили в абсолютно новенький, пахнущий сырой резиной автобус. Гостям объяснили, что таких автобусов два и они закреплены за группой на все время контракта. Мартин с любопытством смотрел на мелькающие за окном стройки и бесконечные кривые заборы. Через полчаса, однако, визуальное знакомство со столицей Урала пришлось прекратить — окно залепилось брызгами грязи: город в ней утопал, снега тут ждали как избавления. Группу разбили на две части — двенадцать человек поселили в гостинице «Центральная», остальных на третьем и четвертом этажах гостиницы «Большой Урал». Инженеры получили индивидуальные номера, наладчиков расселили в двухместные. Гостиничные номера в классификации КГБ делились на «оборудованные» и «необорудованные». Иностранцев категорически запрещалось селить в не оборудованные системами контроля номера.
Соседом Мартина оказался пожилой турок из Мюнхена — иммигрант в первом поколении. Вдоль всей стены над изголовьем кроватей в номерах находилась полая декоративная деревянная панель. Панель эта на самом деле являлась частью довольно сложной системы прослушки. Турок об этом не имел ни малейшего понятия — он сразу поставил на панель в ряд пять фотографий своих детей, развернул маленький коврик и стал молиться, давая Рюбу понять, что никаких общих интересов у них быть не может и поэтому общение лучше свести до минимума. Мартин, впрочем, интересовался не исламом, а выпивкой, и тут открылись серьезные проблемы: алкоголь купить было почти невозможно. Впрочем, не только алкоголь — в магазинах столицы Урала было, что называется, — шаром покати. «Центральный» гастроном города находился прямо перед гостиницей, при этом ничего съедобного там купить было нельзя. Мартин не был стеснен в средствах, но потратить марки в Свердловске было просто невозможно. Не важно, сколько марок лежит на твоем счету, если их нигде не принимают. Менять же валюту на рубли по оскорбительно низкому официальному курсу не имело никакого смысла. В Москве с ее «Березками» иностранцу жить было не так тягостно, но в Свердловске не было ни одного магазина этой сети — город был, как тогда говорили, «закрытый». Впрочем, вскоре эту проблему удалось частично решить. Немцам выдали чеки Внешторга, которые принимали на четвертом этаже магазина «Пассаж» в специально оборудованной закрытой секции. Ирония была в том, что выпускались эти чеки и боны для оплаты труда как раз таки советских граждан за рубежом, а не наоборот, но деваться некуда — оставить западных немцев один на один с пустыми полками свердловских магазинов было нельзя и часть зарплаты было решено выдавать чеками. Ассортимент товаров в этой закрытой секции мог вызвать шок у рядового свердловчанина — там были сырокопченые колбасы, крабы и шпроты, сыр и другие продукты длительного хранения. Тут же продавалась одежда и электроника. Рюб сразу купил две картонных коробки чешского пива и другой алкоголь.
Работа была организована в две смены, и жильцы номеров почти не видели друг друга — наладчиков нарочно распределили так, чтобы один работал днем, а второй в ночную смену. Кормили по специальным талонам в ресторане гостиницы — опытнейшая метрдотель Жанна Матвеевна удивительным образом запомнила всех немцев в лицо и мгновенно усаживала за столик. Справедливости ради следует заметить, что отличить западного немца в Свердловске 1981 года было не такой уж сложной задачей. Мартин сдружился с ресторанным барменом Сашкой и часами просиживал за стойкой, наливаясь алкоголем. Было этому бармену лет сорок, у него отсутствовала ступня правой ноги, что не мешало ему оставаться довольно заметной фигурой в городе — Сашку хорошо знали и менты, и воры, и каталы, и, безусловно, кагэбэшники. Именно у него в баре Мартин познакомился с наигранно печальной девушкой по имени Галя, за что последняя впоследствии «забашляла» бармену стандартные пятнадцать рублей. Грустная Галя не всегда была проституткой — себя она искренне считала жертвой первой несчастной любви. Нежный юноша, на два года моложе рассказчицы, являлся объектом этого глубокого и чистого чувства. Но вот беда — случилось ему трагически разбиться на мотоцикле «Ява». Гале, соответственно, ничего не оставалось, как покинуть родной город Ровно, где все напоминало о любимом, и уехать в Ленинград. Она рассказывала эту историю клиентам так часто, что и сама в нее почти поверила. Со многими такое случается.
В северной столице дела ее пошли неплохо — она схватила разговорный финский и прилично немецкого. Снимала квартирку в Купчино напополам с фарцовщиком Мариком и уже начала откладывать кое-какие деньги, как пришла беда. Беда прилетела от товарки по цеху Лели, с которой у Грустной был конфликт. Два цыганенка подстерегли Галю у подъезда и сильно избили кусками арматуры. После больницы Грустная вернулась на полгода в Ровно и, отлежавшись, рванула в Москву. Однако ж пристроиться в постолимпийской Москве оказалось почти невозможно. Путаны со всех областей и республик Союза, наслушавшись о заработках времен Олимпиады, кинулись в столицу. Найти свою нишу в этом муравейнике честной проститутке было архитяжко. А вот для швейцаров и вышибал наступило золотое времечко. За проход в отель или валютный бар путаны легко давали десятку, и уже ходили слухи, что Максимычу из гостиницы «Белград» после смены проломили голову и забрали у него аж 400 рублей! Эту историю охотно муссировали официанты — традиционные ненавистники швейцаров. Как бы то ни было, Галя смогла снять комнату и пыталась работать в недавно открывшейся гостинице «Космос», — без особого, впрочем, успеха. Именно в «Космосе» от свердловской проститутки Буньковой, дочери крупного уральского партаппаратчика, она узнала о партии бундесов, командированных на Урал.
— Ну а что ты сострижешь с монтажников конвейера? — поделилась скепсисом Грустная. — Ведь там одни работяги!
— Зато здесь ты, бля, с дипломатами в брызгах шампанского! — закатив глаза, громко заржала на весь бар полусумасшедшая Буня. — А вчерашний бетонщик Зоран из братской Югославии?
— Тихо, сучка, не блажи! Скажи лучше, где я там жить буду?
— Найдем. Мне ж тоже домой нельзя — папа сразу в дурку положит.
Через пару дней, зябко поеживаясь и пряча носы в меховые воротнички модных коротких курточек, подруги спускались по трапу прямо под неоновые буквы «Аэропорт Кольцово».
Свердловск закрытый город
— Слушай! А давай мы тебя острижем наголо! А бриться перестанешь и отпустишь щетину. Очень интересно и романтично получится!
Голова Мартина покоится на коленях Гали — она перебирает его редкие волосы
— Sei nicht albern[2], — бормочет Рюб, но идея ему нравится. Еще больше ему нравится, что Галю заботит его внешность. В разные периоды Мартин перепробовал все — он мыл свою редкую белесую шевелюру специальными шампунями, призванными добавить объем, пытался подкрашивать и даже втирал какую-то австралийскую мазь, но в конце концов плюнул и стал носить кепку а-ля Брайан Джонсон — новый солист его любимой группы AC/DC. Прикрытые кепкой волосы как-то перестали его раздражать.
Влюбленные неспешно оделись и отправились на первый этаж — пора было освобождать номер, чтобы не встречаться с турком.
В парикмахерской при гостинице «Большой Урал» было полно народу, пахло потом и дешевым одеколоном. На стульях вдоль стены сидели женщины с усталыми лицами, все, как одна, в норковых шапках и с аккуратно сложенными шубами в руках. Гале предстояло легкое унижение. Конечно, она и сама могла побрить Мартина наголо — не бином Ньютона, но нужно знать тонкие дворцовые игры «Большого Урала». А дело в том, что парикмахерская находится внутри гостиницы, за постом ушлого швейцара. Парикмахерская частенько становится последней соломинкой путаны, за которую та отчаянно хватается, чтобы прорваться в гостиницу.
— Я на стрижку записана! — нервно кричит проститутка швейцару, стремительно пробегая вперед, и смиренно садится в очередь парикмахерской. Раздраженный инвалид ковыляет за ней, постоит минуту — да и вернется к входу. Он еще не дошел обратно до своего хлебного поста, а путана уже стрелой взлетела на заветный четвертый этаж, и лишь пустой стул напоминает о разыгравшейся мини-драме. Впрочем, на него уже кто-то усаживается: салон в «Большом Урале» — популярное место, лучшее в городе.
Галя стремительно подходит к первой освободившейся парикмахерше:
— Вон бундеса наголо постричь, — кивает она на Мартина.
— Сколько?
— Да пятеру.
— А тебе?
— Ничего. Потом пройти поможешь, если что.
— Ну тащи. Только говори по-немецки, а то очередь порвет…
Через полчаса они гуляют у оперного театра, и крупные мохнатые снежинки медленно падают на свежеобритую голову монтажника Рюба.
— Scheiße, — говорит он и проводит рукой по обритой голове.
— Чистый шайзе, — подтверждает Грустная Галя, и они оба смеются. Не так уж все и плохо, если разобраться.
Вечером в баре у Сашки встретили Буню. Никакой радости от этого подруги не испытали. По приезду в Свердловск они сняли комнату у бабы Маши, сторожихи из оперного театра, но вскоре Бунькова забухала и исчезла, а Гале пришлось платить за комнату одной. Сначала она злилась, но потом, рассчитав график дежурств хозяйки, начала приводить Мартина к себе, чтобы уж совсем не примелькаться в гостинице. Возвращения Буни в комнату она совершенно не хотела, тем более что та съехала на отечественных клиентов или, в терминологии валютных проституток, — «завонялась». Удивительным образом истории, что она рассказывала в московском «Космосе» про номенклатурного папу, оказались чистой правдой. Бунькова действительно была единственной дочерью завотделом Свердловского обкома партии, росла в огромной квартире, не зная ни в чем нужды, но на беду влюбилась в тренера по плаванию, к которому ходила заниматься. Тренер был очень веселым и очень ушлым в сексе, Буня летала на седьмом небе. Ей хотелось всему миру рассказать и всем-всем похвастаться своим Асланчиком. В большой обкомовской квартире на улице маршала Жукова царила паника.
— А нельзя ли его… убить? — каким-то сиплым шепотом спросил Буньков.
— То есть как это — убить? — растерялся Кормилов, начальник УКГБ СССР по Свердловской области.
— Ну, незаметно. И вывезти куда-нибудь… спрятать? — продолжал раздавленный горем отец, трясущейся рукой наливая гостю коньяк.
Генерал резко поднялся:
— Эти времена прошли, Семен. Не говори глупостей! И вот что — у тебя есть время до понедельника. Мой совет — дай ему денег, и пусть этот гондон убирается к себе в Абхазию. Иначе придется эту информацию как-то реализовывать через милицию: там уголовная статья вне зависимости от ее согласия — она малолетка. Черножопый урюк, конечно, сгниет в тюрьме, но не раньше, чем весь город обсосет эту историю в курилках и на кухнях. Решай, Сема, — времени не осталось.
…И член бюро обкома Буньков действительно выдал веселому абхазу денег — попросил никогда не приезжать в Свердловск. Ну не вылетать же из номенклатуры! Мыслимо ли на шестом десятке оказаться без спецполиклиники, без распределителя, без служебной машины, наконец?
А бедная Ленка с красными от бессонницы глазами кружила, как раненая птица, вокруг бассейна «Юность», никого не слыша и ничего не понимая…
Закончилось все еще хуже, чем можно было предположить — она собрала все таблетки, что нашла у своей больной нервами матери, и, запив их десертным сладким вином, легла спать. Через три дня в палате 36-ой горбольницы раздался резкий хохот — Ленка проснулась. Впрочем, это была уже не та беззаботная школьница Ленка Бунькова. От прежней мало что осталось.
История получила ограниченную огласку, достаточную, впрочем, для увольнения Бунькова-старшего. Из номенклатуры, однако, он не вылетел — многие в верхах ему сочувствовали и в конце концов подобрали место замдиректора крупного оборонного завода, известного в городе по номеру из повторяющихся цифр. Дочка после отравления в школу не вернулась, да и дома иногда не появлялась неделями — ошивалась среди торговцев цветами на Центральном рынке. Перепуганный Семен Буньков оформил ей инвалидность «по голове» и стал прятать дочь в психбольнице, а затем и вовсе отправил жить к родственникам в Тирасполь, откуда Буня и сбежала в Москву.
Понять, что она не вполне нормальная, было довольно сложно, пока Лена не начинала смеяться — тогда глаза ее закатывались и начинались судороги. В тяжелые же периоды, когда не до смеха, она функционировала вполне осознанно и сосредоточенно. Таков был Бунькин саморазрушительный парадокс.
В этот вечер Лена сидела за столиком с какими-то полублатными кавказцами, прилично накидалась вином и начала путать их имена, чего южные люди не любят чрезвычайно. «Надо бы собраться, — подумала она, — покалечат еще, твари черножопые». И, демонстративно оставив на стуле сумочку, пошла в туалет сполоснуть щеки и лоб холодной водой. Как опытная путана в кабак Буня брала дешевую сумочку из кожзаменителя, внутрь которой бросала черный капроновый пакет, своего рода сумку в сумке, где обычно и хранилось все более-менее ценное. Возвращаясь, она на автомате зарулила в бар, где и увидела свою подельницу. Рядом стоял бритый наголо незнакомый пьяный немец.
— А вот наша Галя с погонялом Грустная… — начала Буня нараспев, не обращая никакого внимания на посетителей. Подошла, пританцовывая, и неожиданно провела теплой ладонью по голове Мартина, задержав руку на шее. Мартин вздрогнул — ему вдруг стало приятно.
— Ты не ссы! Я только на полголовы шизнутая, — успокоила его Буня и увела подругу в сторонку. Минут десять они вдохновенно, перебивая и жестикулируя, врали друг дружке: Буня о том, что «черные» не хуже «фирмы» и забашляют — не жмутся, а Грустная, опасаясь возвращения подруги в съемную комнату, быстро и слезливо сочинила, что хозяйка ее выгнала и паспорт не отдает, на что пьяная Бунькова пообещала прислать отвязанных кавказцев, и тогда хозяйке не жить. На этой ноте она распрощалась и поспешила за столик, а Галя, мучившаяся месячными, поцеловала Мартина в щеку и ушла с тяжелым сердцем домой. Мартин заверил ее, что примет еще самую малость да и пойдет в номер спать. За подругу она не переживала — было очевидно, что та выпила и съела рублей на пятнадцать и никто ее, конечно же, теперь задаром не отпустит. Плохо она знала Бунькову.
— Wo ist meine Freundin?[3] — услышал Мартин певучий насмешливый голос в самое ухо, и хитрая Буня с черным капроновым пакетом под мышкой вновь положила теплую ладошку на свежевыбритую голову бундеса. Напрасно дети гор за столиком спорили, кто будет первым.
А утром начались проблемы. Собственно, проблемы у Рюба начались уже давно — уже дважды он из-за сильного похмелья не смог выйти на работу, и начальница Эльза вынуждена была ставить его в вечернюю смену с турком — соседом по номеру. Это не устраивало уже турка, так как теперь они проводили вместе целые сутки, а своего соседа по номеру турок не любил и презирал. В это утро Мартин не успел избавиться от своей новой подруги до прихода соседа и тот закатил скандал — привел начальницу Эльзу и старшего инженера. На крик нехристя прибежала старшая по этажу, а вскоре на лифте поднялся директор — импозантный Валерий Эдуардович. Немцы что-то орали, Мартин отрешенно смотрел в окно, и только вышедшая из душа Буня была в прекрасном расположении духа.
— А вы в курсе, что горячая вода в вашей гостинице — ну совершенно коричневого цвета? — заговорщически наклонилась она к директору, и тот в ужасе отшатнулся.
— Прям неловко перед иностранцами, — добавила Буня.
И пошла себе вниз.
Золотой век
И наступило лучшее время в жизни. Золотой век. Никогда еще Димка не был так безоблачно счастлив. Влад, проходя утром в ванную, глядел сквозь стеклянную дверь на улыбающегося во сне племянника и вздыхал озабоченно. Происходящее вызывало у него двойственные чувства. С одной стороны, он очень хорошо не один год знал Аньку. Знал все ее взлеты и падения. Знал ее проблемы и секреты. С другой стороны — это дикое безоблачное счастье, обрушившееся на его единственного родственника, обезоруживало Влада.
— Куда ж ты так торопишься? — разрезая пополам яичницу, интересовался дядя. — Ты ж на смену — не на свадьбу идешь!
— Ты ничего не понимаешь — я просто очень ответственный грузчик! — отвечал Димка. Он напитался Анькиной веселой иронией и часто теперь копировал ее стиль. — К тому же единственный! Вот вызову сам себя на соцсоревнование — ты еще увидишь мой портрет на Доске почета!
— Да ты идиот просто.
— Ну, не без этого, — сразу соглашался племянник, доедал завтрак и бежал на метро «Речной вокзал», откуда в Шереметьево ходил служебный автобус, а Влад, улыбаясь, погружался в свою огромную коллекцию винила. Как все же славно, что он принял племяша и посильно участвует в его жизни. Как это вообще хорошо и здорово — помогать родственнику.
С Аней Грачевой они теперь, слава Богу, работали в разные смены, и исчезла необходимость вытаскивать ее из историй, в которые она все время попадала. Дважды Влад гасил за нее недостачу в марках, что было очень и очень опасно, много раз разруливал скандалы с посетителями — Грачева не терпела шуточек в свой адрес, не переносила снисходительных реплик. Аня была принята на работу буфетчицей без права работы с клиентами — она могла отпускать спиртное только официантам, но ее все время звали к иностранцам и просили что-нибудь перевести — довольно скоро она стала бармен-буфетчицей и, наконец, полноправной барменшей. Влад был единственным, кто знал ее историю. В буфетчицы Грачева попала после иняза. На последнем курсе к наиболее успешным в языках студентам стали приглядываться кадровики КГБ — обычная история. Собеседование с ней проводил моложавый чекист с романтически седыми висками, очень эрудированный. Анька была молода, весела и хамовита:
— Нет, спасибо, работа в вашей организации меня не интересует, но вот в «Шоколадницу» я бы с вами сходила! И на несколько лет закрутился тяжелый, изматывающий роман с женатым подполковником. Чтобы обезопасить себя и скрыть характер их встреч, он оформил Грачеву информатором с оперативным псевдонимом «Анжела». Роман закончился беременностью и абортом. Насмерть перепуганный кагэбэшник помог ей устроиться в «Интурист», передал ее личное дело Валову и навсегда исчез, а Аня, свободно говорившая на двух европейских языках, начала карьеру буфетчицы. И, как ни странно, это было пределом мечтаний поголовно всех ее однокурсниц, получавших по 125 рублей в месяц за преподавание английского или немецкого в школах.
Надо сказать, что бар в Шереметьево не имел отношения к системе московского общепита, а принадлежал и управлялся Всесоюзным акционерным обществом «Интурист». Здесь все было иначе — и необычный, пять на пять, график смен, и постоянное обучение, и странная система наказаний. Недостача, например, должна быть компенсирована в пятикратном размере, но излишек в кассе карался еще строже — «лишние» деньги оприходывались, а к нарушителю в обязательном порядке должно быть применено взыскание. Проверки ОБХСС были редки и всегда по наводке куратора из Комитета — ведь даже с красными корочками МВД простой обэхээсник не мог пройти в зону вылета. Зато были отлично налажены внутренние проверки: плановые и внезапные — система была построена под самоконтроль. Сотрудникам ВАО «Интурист» был запрещен выезд в капстраны. Мотивация проста — зная язык и вступая в многочисленные контакты с иностранцами, работник имеет гораздо более полное представление о загранице, а частенько и знакомства — ну как такого выпустить? Этот запрет, конечно же, не касался проверенных информаторов — тех могли даже командировать за кордон по оперативной надобности. В целом работа считалась наипрестижнейшей, и попасть в «Интурист» было совсем не просто. За редким исключением, практически весь персонал ВАО «Интурист» состоял в агентурной сети КГБ. Вот и информатор «Анжела» вскоре заняла место за стойкой самого крутого в СССР бара. Переданных информаторов майор не любил и не доверял им, справедливо считая, что опер обязан сам найти кандидата и пройти с ним весь процесс вербовки, но тут выбирать не приходилось — валютный бар в СССР не может по определению функционировать без оперативного прикрытия в каждой смене.
Это было тяжелое для чекистов время. В мае бесследно вместе с семьей из центра столицы пропал шифровальщик, майор КГБ Шеймов. Случай был настолько вопиющий, что Андроповым был издан приказ об обязательном ориентировании на розыск Шеймова всего агентурного аппарата КГБ СССР под роспись. Каждый оперативник от Камчатки до Калининграда, встречаясь со своими осведомителями, предъявлял специальную ориентировку, в которой без указания фамилий были перечислены все приметы пропавшего майора и членов его семьи, их одежда и фото. Каждый агент своей рукой писал на ориентировке «ознакомлен» и подписывался оперативным псевдонимом. Конечно же, такая активность рождала сумасшедший вал сырой и абсолютно бесполезной информации, которую тем не менее нужно было проверять и перепроверять. Еженедельно проводились заслушивания по результатам розыска, ежедневно готовились отчеты и писались планы — тысячи документов с грифом «секретно» и «сов. секретно». Нервное было время, тяжелое. Кроме того, неотвратимо надвигалась Олимпиада-80, и Валову было совсем не до Анны Грачевой. Но вот прошел год, отшумела Олимпиада, и вновь встал вопрос — что делать с этой отвязанной «Анжелой»? График встреч она не нарушала и на явочную квартиру приходила аккуратно и вовремя, но при этом Анна не могла взять в толк — зачем в собственные выходные нужно тащиться в какую-то пыльную квартиру, если с куратором обо всем можно поговорить в подсобке бара либо в любом другом месте огромного аэропорта? Не понимала она и длинных пустых бесед — того, что оперативники в отчетах называют «профилактированием источника». Будучи девушкой умной, она никогда не показывала недовольства или раздражения, а относилась к этому как к смертельно надоевшей, но необходимой игре. Беда в том, что и Валов был неглуп — он быстро почувствовал имитацию сотрудничества, и это вызывало у него сильнейшее раздражение.
Гражданку Грачеву двадцати семи лет это, впрочем, не волновало — у нее случилась любовь. Любовь явилась к ней в опрятном сером халате и с пятью ящиками пива в тележке по накладной. Любовь забавно краснела и смущалась, не умея пока отвечать на Анькины острые шуточки, впрочем, обучалась любовь, на удивление, быстро, и вскоре уже Анька хохотала над ответами грузчика. И вот, конечно же, наступил момент, когда, смеясь, она вдруг увидела Димкин взгляд, его глаза и, резко замолчав, положила ему руку на голову, пропустила густые и жесткие волосы сквозь пальцы. Началась совсем другая жизнь — как будто в черно-белом кино их существования вдруг появился цвет и зазвучала музыка. Работа больше не казалась такой противной, изматывающая дорога в аэропорт не раздражала — ведь оба, по сути, ехали на свидание. Димка забросил слушать дядины диски и проводил все время с Аней. Довольно быстро она поняла, что никаких других женщин у этого парня никогда не было, и, хотя ей жутко хотелось секса, Анька нарочно тянула.
— Вла-ад! Вла-ад! Погоди, — коренная москвичка, Аня имела привычку растягивать гласные.
— Что тебе? — вздохнул Влад и остановился.
— Давай вот сюда отойдем — поговорить надо. Ну пожалуйста…
— Спрашивай!
— Кто он, Влад? Кто он — этот родственник твой? Курсант?
— Что это? Как это? — опешил Влад. — Почему курсант-то? Курсант чего?
— Ну сам посуди — молодой парнище, не курит и не пьет, симпатичный такой… и работает грузчиком! Ну ведь не может так быть! Он что тут — стажируется? Ты ведь знаешь — я не просто так спрашиваю, ведь знаешь! Он что — комитетский?
— Нет.
— Ментовский?
— Нет.
— А какой?
— Грачевский он, насколько я могу судить. Извини, меня ждут.
И Влад, оставив сияющую Аню, побрел к своим «Жигулям».
«Вот папы-дедушки страну построили, — размышлял он, прогревая двигатель, — раз не курит и не пьет, значит, комитетский. Это не Родина, а катастрофа!» Странно, но этот разговор ненадолго вернул ему душевное равновесие. Влад чувствовал, что его снова накрывает тяжелая депрессия, и не находил выхода. Приезд племянника несколько расшевелил его, но вот, похоже, и Димка скоро исчезнет из его жизни.
А роман продолжался, продолжалась старая как мир история…
Анна обстоятельно пыталась привить Диме любовь к Москве, которую сама обожала, часами просиживали они в ее любимой «Шоколаднице» на улице Горького, посмотрели все фильмы фестиваля французского кино, и вот однажды, после ужина в «Метелице», они оказались на Соколе в пустой квартире Аниной тетки. Началась эра секса, и в их уже цветное кино добавили яркости и звука. Дело это для нашего героя было новое, захватывающее, и он отдался ему целиком. Красоты столицы его и раньше не сильно волновали, а теперь ему и вовсе казалось, что нет в Москве более прекрасного, архитектурно выверенного и безупречного в дизайне здания, чем невзрачная хрущевка на улице Алабяна, что недалеко от метро «Сокол». В пятидневки, когда Анна не работала, он даже не заезжал домой, а сразу мчался к ВДНХ, где та жила со строгой мамой — директором школы. Из телефона-автомата внизу, дергая диск, он памятью пальцев стремительно набирал номер, цифр которого не помнил, а затем терпеливо ждал у подъезда. За эту его особенность — помнить руками, Анна дразнила его мутантом, в дополнение к ласковому «гад».
— Да ну чего гулять-то по такой погоде, Аньк? — канючил сластолюбец. — Поедем на Сокол — поваляемся… А?
— Откуда у советского комсомольца такое потребительское отношение к женщине? Я буду жаловаться в райком! — возмущалась Грачева, но день они неизменно заканчивали в тетиной постели. Да и на работе, когда совпадали их смены, Анна, бывало, разыгрывала мини-спектакль для официанток и посудницы — взяв в руки какие-нибудь старые накладные, начинала считать ящики, делала озабоченное лицо и, оставив вместо себя буфетчицу, с грозным видом шагала на склад — якобы разбираться с грузчиком. Там они долго целовались, причем Димка тянул подругу за плечи вниз.
— Вот же гад, — шептала Анька, и через секунду «гад» взлетал сквозь крышу в синее небо, потом выше — в белые облака, и еще выше, где огромное апельсиновое солнце — вот оно толчками взрывается, распадается, становится красным, потом бурым и серым, как пепел…
Уже затихли звуки Анькиных каблучков, а счастливец все сидит в своем импровизированном кресле, которое он соорудил из ящиков стеклотары и двух старых ватников. На лице его блуждает бессмысленная улыбка — она будет приклеена там примерно час, и ничто ее не смоет. Какой Париж? Какой Лондон с Нью-Йорком? Не нужно никуда бежать, ведь центр мироздания находится здесь — в этой подсобке! Отсюда и до Солнца недалеко — да вот хоть грузчика спросите.
Аэропорт
Дима часами глазел на пассажиров, вглядывался в их лица и пытался представить себя с билетом и паспортом в кармане. Что они чувствуют — эти люди, прошедшие уже таможенный и пограничный контроль? Каково оно — ощущение, что ты скоро покинешь это гигантское замкнутое пространство — СССР? Очень скоро он научился отделять угрюмых, знающих свои права, никуда не спешащих дипломатов от нервических командировочных, спортсменов от артистов, группы совтуристов от еврейских эмигрантов. Семейные пары и вообще группы родственников являлись точным индикатором отъезжающих навсегда по пятой графе — никогда советский турист не мог выехать за границу в компании супруги, это было совершенно невозможно — один из них должен был остаться в залоге. И уж совсем безошибочно, на раз, Димка определял самого замызганного иностранца от своего, советского. Глядя сверху на жидкий ручеек очереди на посадку, он испытывал необъяснимое волнение и представлял себя вон тем полным армянином, что, отдав билет и небрежно показав в последний раз паспорт, уходит вниз к автобусу, или вот этим полуобморочным туристом в толстых очках, что до сих пор не может поверить оказанной ему родным профсоюзом чести — выделенной путевке в братскую Болгарию. Димке казалось, что эти люди, пересекшие уже границу, сразу за КПП должны стать легкими, как бабочки, — такими же беззаботными и счастливыми. Однако автобус увозил на летное поле никаких не бабочек, а обычных тяжелых, потных и взвинченных советских людей. Они нервно оглядывались по сторонам и поправляли в сумках электрические кипятильники, фотоаппараты ФЭД и твердые палки сырокопченой колбасы или бастурмы. Отдельно стояли иностранцы — их легко можно было распознать по отсутствию в руках полиэтиленовых пакетов — непременного атрибута и опознавательного знака советского туриста, где бы тот ни находился.
План начал формироваться, когда однажды в подсобку прибежала посудница Люся и сказала Димке следовать за ней. Эта довольно глупая грязноватая женщина неопределенного возраста и таких же неопределенных обязанностей с малолетства стучала во все инстанции от месткома до КГБ и в этом находила свое призвание и значимость. Парадокс был в том, что и все остальные точно так же стучали, но вот посудницы почему-то побаивались. Смертельно боялся ее и Димка — он подскочил как ужаленный и поспешил за Люсей в бар. Здесь он испугался еще больше, увидев заплаканную Аню с потеками туши на щеках. В угол бара, чтоб не пугать посетителей, вынесли складную ширму, за которой Дима обнаружил абсолютно пьяного финна. Финн, лежа лицом на столике, посмотрел на Диму красным глазом, подмигнул и засмеялся, выдувая носом пузыри.
— Да не этого! Этот нормальный. Вон того поднимай — и к кранам, в посудную!
Только тут Дима заметил второго финна — тот свернулся на полу и мирно спал в луже собственной мочи. С трудом затащили его к раковинам, прислонили к стенке и сунули под нос нашатырь, но финн не приходил в себя, а только фыркал и мычал. Аня в истерике стала бить его наотмашь по щекам и, только перепуганный Димка перехватил ее руки, как пьяный открыл глаза и обильно выблевал на пол.
— Ну миленький, ну хорошенький… ну пожалуйста… — запричитала Анна и к Димке: — Принеси быстро плащ там, на стуле!
Он метнулся за плащом, вдвоем они вытащили из кармана билет и паспорт, застегнули плащ на все пуговицы и усадили финна на стул, а Анька быстро вымыла лицо, поставила в бар официантку и пошла вниз. За ней шел Дима, поддерживающий внезапно побледневшего пьяницу. На посадке регистраторша начала было шипеть, но, получив от Аньки двадцать марок, свернутых в маленький кубик, чтоб не увидели в видеокамерах, спрятанных в потолке, пропустила пьяного на посадку. Да и куда бы она делась — оставить его в аэропорту означало возвести проблему на следующий круг: с разборками, объяснительными, новым билетом и прочее. Отгребли бы обе — Ане, у которой накачался этот клиент, прилетело бы больше, но и регистраторов смены не обошли бы выговорами. Второй финн как-то смог собраться и, шатаясь, сам прошел посадочный контроль.
Уже ночью Анька, вспоминая эту историю, вдруг снова расплакалась и уткнулась носом в любимое плечо. Димка машинально гладил ее по волосам и не мигая смотрел в окно на большую луну в ночном московском небе — он думал.
В пропитанной запахом кислятины коммуналке за Павелецким вокзалом напряженно ворочала мозгами посудница Люся. Куратор Валов, которому она позвонила доложить о пьяных финнах, отказался встречаться с ней, сославшись на срочные дела, а попросил подробно описать весь инцидент на бумаге. И вот Люся, покусывая ручку, мучительно выводит на бумаге слова и формирует предложения. Исписав три листа, она под каждым аккуратно вывела свой оперативный псевдоним — «Кравец». Посудница свернула листы втрое, положила на дно своей сумки, прижав свернутой шалью, и вышла в коридор коммуналки. Было слышно, как у кухни храпит ее сын-инвалид — у него была своя комната, которую тот никогда не закрывал. За ближайшей дверью тихонько шепчется молодая пара — они подумывают перейти на работу в область, где есть шанс получить служебное жилье — лишь бы уйти из этого зоопарка. Дверь в ванную приоткрыта — посудница зашла и, не включая свет, шумно помочилась в унитаз — соседский шепот сразу стих. Вернулась к себе, выключила лампу, и комната наполнилась рассеянным серебряным светом — над столицей висела полная луна.
Валов
Вышел из отпуска начальник Третьего отдела Евгений Солодов, которого замещал Валов, — бумажной волокиты резко убавилось, и майор-куратор опять стал частым гостем в Шереметьево-2. «Насколько все же приятней заниматься живым делом, чем этим мерзостным бумаготворчеством», — с чувством некоторого превосходства размышлял он. Даже их относительно немногочисленный отдел генерировал невообразимое количество бумаг — каждый опер вел по два-три ДОРа (дела оперативной разработки), дела оперативного наблюдения, литерные дела. Велись особо противные и скучные «дела по установлению анонима» — любой анонимный сигнал требовал выяснения личности автора. Будучи установленным, этот человек, уже продемонстрировавший склонность к стукачеству, в большинстве случаев становился доверенным лицом, а позднее агентом. Но это в случае, если информация находила подтверждение. Если же сигнал был ложным, с «доброжелателем» проводилось профилактирование, чтобы отбить у него желание строчить анонимки. И вся эта деятельность протоколировалась, превращалась в унылые планы агентурно-оперативных мероприятий, материалы и заключения исследований, оперустановки, сообщения доверенных лиц и агентов и прочая и прочая… Само собой, весь этот массив нес грифы «секретно» или «совершенно секретно». Утрата любой из этих порой бессмысленных бумаг могла стать колоссальным ЧП. Майор испытал огромное облегчение, передав бразды правления отделом обратно в руки Солодова. Никакой карьерной зависти к последнему он не испытывал.
Валов вновь подолгу стоял, облокотившись на перила второго этажа, и разглядывал пассажиров или сидел с двойной порцией мороженого за угловым столиком. Впрочем, много времени теперь приходилось проводить с инженерами в отсеках с надписью «Гражданская оборона». В это время в системах видеонаблюдения начала внедряться технология time-lapse, заменившая 30 кадров в секунду «живого» видео на один кадр. Это позволило в 30 раз сократить количество пленки и освободить операторов наблюдения, что сидели в специальных помещениях. Качество существенно упало, ведь в записи, по сути, вместо полноценного фильма оставалась лишь цепь последовательных фотографий. Все оперативные мероприятия и операции, впрочем, как и прежде, фиксировались на живое, нормальное видео. Майор с интересом вникал в эту техническую тему и довольно быстро начал неплохо разбираться в тонкостях видеоконтроля. По первому образованию он был инженер-связист.
Начальник отдела Женя Солодов и сам недавно еще работал «на земле», с Валовым они приятельствовали много лет. Оба считали себя настоящими оперативниками, в отличие от «комсомольцев» — детей партэлиты, пришедших в Комитет из секретарей райкомов ВЛКСМ. Толку от таких не было — они лишь говорили правильные, идейно-выдержанные вещи и смотрели водянистыми глазами. Заставить работать с душой их было невозможно, от наказаний защищала родословная. К счастью, оперативной работы эти блатники и сами избегали, а стремились больше в политотделы, орготделы да в следствие. Страшно раздражало Валова и то, что внешне «комсомольцы» не отличались от фарцовщиков и барменов валютных баров — те же шмотки, та же «шестека» «Жигулей», те же знакомства в нужных сферах… Солодов, впрочем, был гораздо снисходительней — его всегда интересовал только результат. Не важно, как проводит время вне службы его подчиненный, если при этом он выдает неплохие показатели — воспитанием пусть занимаются многочисленные замполиты. А уж моральные качества источников информации его не тревожили вовсе. Да и какой, извините, оперативной информацией может располагать со всех сторон правильный передовик производства и верный муж? Нет уж: настоящий агент — всегда немного подонок, всегда подлец.
— Что с этим грузчиком? Есть какие-то материалы?
— Сделали оперустановку, запросил бумаги из гарнизона, где он служил, — угрюмо отвечал Валов.
— И что там?
— Ничего хорошего — в армии к нему дважды особым отделом был сделан оперативный подход и оба раза он отказался от сотрудничества.
— Я не понял — а зачем ты его пропустил тогда??? Зачем нам праведник в зоне вылета??? Что с тобой?
— Эти материалы я получил после того, как он был принят. Моя вина. А не пропустить его тоже нельзя было — это единственная просьба «Ларина» за много лет.
— И?
— У грузчика роман с «Анжелой», которую надо выводить из агентурной сети. Как только ее уволят — он сам уйдет за ней.
— А что она? Продолжает имитировать сотрудничество?
— Да. Ноль информации от нее — по ушам ездит, крыса…
— Может, как-то наехать на нее, напугать, обломать? Ведь за исключение агента тебя наказывать придется.
— Да с хера ли? — задохнулся от возмущения майор. — Это не мой агент. Мне ее Шадурский слил, когда его в политуправление переводили. Я ее не подбирал, не готовил, не вербовал!
— Ну ничего, — сменил тон Солодов, — уволим из системы «Интурист» и исключим как утратившую оперативные возможности. К грузчику не подходи — если он отказался сотрудничать в условиях армейской казармы, то уж теперь… Короче, убирай эту парочку из бара до конца года.
Солодов стеснялся отдавать Валову прямые приказы и всегда делал это в виде совета или пожелания. Пару лет назад от обоих почти одновременно ушли жены, но Женя Солодов умудрился это скрыть, оставаясь в формальном браке, а карьера Валова, конечно же, остановилась. Впрочем, в здании на площади Дзержинского вовсю шло преобразование Управления «Т» в самостоятельное Четвертое управление с новыми должностями и укрупнением отделов. Валов, однако, уже и сам не знал, хочется ли ему лезть в руководство: он притерся и привык к Шереметьево, можно сказать, полюбил этот незатихающий людской муравейник в новеньком стекле и бетоне.
Некрасов
Флегматичный опер уголовного розыска Некрасов персонально ничего против Гали не имел — «проститутка обыкновенная» называл он таких. Когда-то, еще студентом, он подрабатывал сторожем в зоопарке и ему запали в память лаконичные надписи на табличках, что висят над клетками — «лысуха обыкновенная», «еж обыкновенный»… Некрасов обслуживал гостиницы Свердловска и находил в этом значительное сходство с работой в зоопарке: воры, каталы, кидальщики, путаны, да и сами менты — всем им при желании можно было легко подобрать аналоги в животном мире. Впрочем, сегодня ему было не до аналогий — утром в райотдел приезжал Сергей Пономарев из КГБ и настоятельно просил изъять из обращения залетную путану, что взялась опекать западного немца из 418-го номера.
— Организуй мини-рейд по проверке пяти-шести номеров и определи ее в спецприемник. Зовут Галя, возраст — лет 25. Больше мы ничего не знаем, — врал Пономарев, — но только не меньше пяти номеров, чтоб не было подозрений, что искали именно ее! Время я скажу.
Пономареву хотелось еще несколько раз повторить про пять номеров, но он решил не нагнетать и в легком раздражении уехал к себе. Ментов он недолюбливал и отлично понимал, что никто не будет шерстить пять номеров, когда доподлинно известно, что объект в 418-ом. Некрасов тоже радости общения с кагэбэшником не испытал — своей работы море. Раскрываемость преступлений в гостиницах всегда очень и очень низкая — объясняется это прежде всего текучестью контингента, ведь как преступник, так и потерпевший, как правило, залетные — не местные. И в этом колоссальное отличие работы Некрасова от деятельности нормальных оперов, работающих «на земле». Опер-зональник смотрит на обслуживаемую территорию как в телевизор и все-то ему видно — тот откинулся и колотит бригаду, у этого вдруг бабки появились, тот вдруг забухал, неизвестно на что… и все по домам, все по месту прописки, все под рукой — не работа, а одно удовольствие. Гостиница же — как река, в которую нельзя зайти дважды: тут за одни сутки весь контингент может поменяться на три четверти. На эту линию, как правило, назначались очень опытные опера и задача им ставилась простая — не тянуть сильно вниз общие показатели раскрываемости. Некрасов был себе на уме, но очень опытный, непьющий и на хорошем счету.
Ну что ж: в приемник — так в приемник.
Приемник-распределитель для бомжей размещался на улице Первомайской. Закон позволял содержать там лиц без документов сроком до двух месяцев. Двухэтажный безликий барак с глухо зарешеченными окнами всегда под завязку набит бродягами с вокзалов. Невыносимая вонь режет глаза — это смесь блевотины, перекисшего пота и нечистот. Белые полосы хлорки, щедро насыпанные вдоль плинтусов, добавляют в букет свою несколько резковатую ноту. И хотя население приемника в целом однородно и состоит из «бомжей обыкновенных», как назвал бы их Некрасов, — в каждой камере можно найти как минимум одного находящегося во всесоюзном розыске преступника. Вот он сидит угрюмо на корточках, ни с кем не разговаривает — гоняет тяжелые мысли. Фамилию он назвал не свою, адрес выдуманный, но паскудные менты откатали его пальцы и дактокарта уже ушла спецпочтой в Москву, а через несколько дней ироничный дознаватель выкрикнет его на выход по настоящей фамилии. «Эх, жизнь — сука подлая», — загрустит вор. Но на самом деле он испытает некоторое даже облегчение — теперь для него закажут этап и покатит он по просторам Многострадальной, да в специальном зарешеченном вагоне к месту совершения преступления, к городу, где был объявлен в розыск. Этап тоже не сахар, конечно, — но нет уже сил этой хлоркой дышать! В соседней камере страдает известный питерский катала — менты закинули его сюда чисто из гнусности, сославшись на отсутствие документов и оформив как лицо, не пробиваемое по базе данных ОАБ — Областного адресного бюро. Катала исполнен ненависти и скрипит зубами — дубленку и норковую шапку больше никогда не придется надевать — камерная вонь въелась в мех навеки… Его, конечно же, выпустят в понедельник, когда придут дознаватели и проверят его ленинградскую прописку, но сейчас-то всего лишь вечер пятницы! «С-с-суки мусорские!» — скрипит он зубами.
В женском же отделении публика всегда была стопроцентно бомжатной, до того дня, когда в Свердловск завезли иностранцев. За ними потянулись путаны, и вот, нечасто, но иногда в камере можно увидеть, как суровые вокзальные тетки с интересом разглядывают свежезакрытую валютную проститутку-москвичку, снимают с нее воздушный шарфик, с вожделением нюхают дорогой парфюм, дерутся за лифчик…
Рейд по сигналу КГБ провели рано утром, бесцеремонно открыв номер контрольным ключом, и вытащили Галю из-под непротрезвевшего Мартина. Ушлый мент Некрасов, еще не включив в номере свет, заметил на полу женскую сумочку, прислоненную к спинке кровати. Двумя пальцами, как пинцетом, брезгливо вынул из нее паспорт, спрятал в карман и, оставив коллег доделывать работу, резво сбежал по широким лестницам вниз. Махнул рукой сонному швейцару, подмигнул новенькой молодой администраторше да и направился домой отдыхать. Есть все же своя прелесть в ненормированном рабочем дне.
Растерянный бундес с помятым со сна лицом остался сидеть на кровати, а немытую Галю в «собачнике» патрульного УАЗика повезли в райотдел по пустым улицам просыпающегося города. Тяжкое это занятие — проституция. Не для всех.
В дежурной части райотдела, даже не обыскивая, у нее «сняли пальчики» и посадили на скамью за решеткой, но не в камеру. Галя была к этому готова — у нее уже случалось задержание в «Октябрьской», что на Лиговском в Ленинграде, но тогда она смогла удачно отскочить за два минета дежурному РОВД и сержанту-водителю. Кроме того, она всегда внимательно слушала милицейские истории своих подруг, справедливо полагая, что когда-то и ее не минует чаша сия… «Свердловск, конечно, не Северная столица, но уж очень как-то жестко со мной обращаются, — размышляла путана, пытаясь оттереть чернила с рук, — в обезьянник-то за что?»
— А за проституцию, — задушевно разъяснил ей пришедший после обеда Некрасов, — за нахождение в гостинице без регистрации в этой самой гостинице. Галя вмиг возненавидела его за эти игривые интонации.
— Где ты, кстати, прописана?
— Город Ровно, улица Вавилова…
— Вот ведь как, — обрадовался противный опер, — а мы ведь тебя только по нашей области проверить можем, — с притворным сожалением посетовал он, — придется тебе в приемник-распределитель проехать.
— С чего вдруг? — возмутилась путана. — Мою личность вы по паспорту установить можете!
— А чего ж мы молчим? — широко заулыбался мент. — Давай же его сюда!
И даже руку протянул.
Но паспорта у Гали не было — он уже давно грел ляжку в джинсах Некрасова, а в сумочке лежала лишь косметика, пара импортных прокладок из «Березки» да серьезный запас презервативов, без которых она никогда не работала. Бедняжка не знала, что и думать, — на 90 % она была уверена, что паспорт был при ней, но и сказать, что он может быть на квартире, она тоже не могла — этот урод повезет ее туда на милицейской машине с сержантами в форме. После такого визита хозяйка квартиры, несомненно, выкинет ее на улицу, как завшивевшую кошку. Поверить же, что менты могли документ банально украсть, она не могла — ей казалось это слишком невероятным, и Галя ударилась в слезы, а Некрасов быстро аккуратным почерком написал рапорт о задержании лица без документов и определенного места жительства, метнулся за резолюцией к начальнику, и уже вечером насмерть перепуганная Галя обнаружила себя в живом аду — в камере приемника-распределителя УВД Свердоблисполкома. Пономарев вновь заехал в райотдел, поблагодарил и забрал паспорт.
Прошло три ломающих психику дня в компании полусумасшедших сорокалетних старух, покрытых синяками, наколками и шрамами, источенных болезнями, раздавленных судьбой. Многие из них бывали тут уже не по разу, даже знали дознавателей по именам. Дознаватель спецприемника — одна из наименее уважаемых должностей в милиции. Его задача — установление личности бомжа. Работа нудная и малоинтересная, но, как ни странно, очень многие предпочитают сидеть на этих должностях до самой пенсии. Стабильность, предсказуемость, нормированный рабочий день. А вонь?.. Да что вонь — через полгода ее уже и не замечаешь.
Срок содержания задержанных, или, как их называют работники приемника, «подобранных», ограничен, и поэтому дознаватели начинают работать с ними с первых часов — надо отослать запросы, затребовать копии, сделать телефонные звонки, а уж потом бродягу можно вернуть в камеру и ждать ответов неделями. Галю, однако, никто не вызывает, и поэтому в камере она оказалась под дополнительным прессом.
— Да ты, Москва, тут, по ходу, на яйцах сидишь? — ехидно спрашивает камерная шестерка.
— На яйцах, точно. Наседка! — уверенно заключает старшая, и все хохочут, показывая беззубые рты. В камерах вообще много смеются. Три ночи путана не спит, и это тоже часть плана. И вот, наконец, на четвертый день ее вызывают и ведут на второй этаж. В просторном кабинете спиной к окну сидит молодой коренастый мужчина с очень подвижными и живыми глазами. К его письменному столу примыкает другой — длинный, наподобие кухонного, со стульями с обеих сторон. Лицо его кажется знакомым. Ну точно, она видела его в 115-ом номере «Большого Урала». Номер этот был официально передан гостиничным хозяйством в распоряжение Свердловского УВД, и на нем красовалась табличка «Пункт милиции». Галя вспомнила, как месяц назад ее прямо на лестнице прихватили два вежливых сержанта и привели в эту комнату. Менты задавали ей разнообразные вопросы, заглядывая периодически в открытый ящик стола на какую-то бумажку, но сами ничего не записывали. Пометки в блокноте делал как раз вот этот коренастый — он тогда молча сидел у окна и не проронил ни слова.
— Здравствуйте, Галина Михайловна. Мне бы хотелось обсудить с вами некоторые вопросы — если, конечно, вы не против?
С этими словами он вышел из-за стола, указал на стул и сам сел прямо напротив помятой путаны.
— Вы, собственно, зачем приехали в Свердловск?
Яркий ли свет, такой непривычный после камеры, подчеркнуто вежливые манеры собеседника или что-то еще сбило проститутку с толку, но она начала вдохновенно врать о намерении устроиться на свердловскую кондитерскую фабрику, о проблемах с работой в спящем городке Ровно и еще какую-то чушь и даже не заметила, как глаза напротив нехорошо блеснули, руки кагэбэшника разошлись в стороны и вдруг с невероятной силой соединились на ее ушах. Что-то лопнуло внутри, резкая боль ударила прямо в мозг, и сердце как будто прыгнуло в черепную коробку — каждый его удар отдавался молотом. Галя откинула голову и стала хватать воздух открытым ртом, глаза как будто выключили — в них стало темно и тоже появилась пульсирующая боль.
— Ты за кого меня тут держишь, перхоть подзалупная??? За мента???
С перекошенным от злобы лицом над ней нависал коренастый.
— Я… я… больше не буду. Я… извините, пожалуйста, — прошептала Галя и добавила: — Я, кажется, описалась. Немного.
Пономарев встал и зашел за спину задержанной — та тут же съежилась и напряглась, а он поморщился, как от зубной боли, и снял с сейфа графин с водой. Галю от страха била сильная дрожь — она ожидала удара сзади. Над корзиной с мусором опер сделал ладошку ковшиком, налил туда воды и тщательно помыл руки. Взял несколько чистых листов, долго ими вытирался, слепил из влажной бумаги ком наподобие снежка и с ним вернулся за стол, где начал резво гонять его по поверхности, ловко хватая его поочередно правой и левой руками. При этом он не спускал глаз с задержанной. Галя же как зачарованная зачем-то наблюдала за скольжением шара. В голове было пусто и очень-очень больно. Вжик-вжик… летает по столу шар из сырой бумаги.
— Так вы, Галина Михайловна, впервые на Урале?
Выкинув шар в корзину, он вынул из портфеля авторучку с золотым пером, тонкую папку и несколько листов мелованной бумаги. В папке Галя заметила половинный листок со своими данными. Наискосок листочка шла жирная красная полоса. «Биография агента», — написал наверху чистого листа Пономарев.
«Какого агента? Что за агента?» — мелькнуло в голове, но думать времени не оставалось — оперативник начал подробно расспрашивать, быстро делая пометки. Разговаривали они четыре часа. Историю несчастной любви к мотоциклисту она благоразумно опустила — второй хлопок по ушам мог привести к инвалидности. В конце разговора Пономарев спрятал свое золотое перо, протянул ей лист бумаги и найденную в столе шариковую авторучку.
«Я, Слащева Галина Михайловна, 1959 г/р, — писала она под диктовку оперативника, — обещаю добросовестно сотрудничать с органами государственной безопасности СССР, хранить свою связь с ними в тайне, не разглашать сведения, ставшие мне известными в результате секретного сотрудничества…»
— Вам осталось выбрать оперативный псевдоним, которым вы будете подписывать свои сообщения, — таков порядок.
— Пусть будет «Шилина».
— А кто это?
— Это цыганка из Питера.
— Та, у которой племянники с арматурой? — усмехнулся опер.
— Она.
— Ну Шилина — так Шилина…
Далее Пономарев доходчиво объяснил, что Комитет интересуется только и исключительно иностранцами. В частности, господином Рюбом, хорошо ей известным, и посему ее задачей будет освещать каждый его шаг — больше не нужно ничего. Он так и сказал: «Ни-че-го».
Задержанную увели, кагэбэшник открыл окно и дверь, но запах мочи никуда не исчез. Скривился в гримасе смущения, выставил мокрый стул в коридор, а дверь захлопнул. Ай, неловко получилось, ай, нехорошо…
— Я не вернусь, — бросил он на выходе дежурному с красной повязкой, давая понять, что начальник распределителя свободен вновь пользоваться своим кабинетом.
Домой «Шилина» решила пойти пешком в наивной надежде, что холодный уральский ветерок выгонит запах. Тщетно — модную куртку теперь можно было лишь выбросить. Галя, впрочем, повесила ее до весны на балкон в надежде, что время и сквозняки приглушат эту вонь. Паспорт действительно оказался дома — лежал под старой косметичкой на подоконнике. Видно, выложила, когда тушь перекладывала, да и забыла, раззява… Капитан Некрасов больше ее не беспокоил. Он отлично понимал, что это уже не «путана обыкновенная», а ходячее ухо и глаз Комитета госбезопасности, а «смежников», как менты называли комитетских и наоборот, он не жаловал. Главным показателем его работы было раскрытие гостиничных преступлений — в основном это были кражи да мошенничество, а помощь Комитету никак не учитывалась, хотя эта помощь пожирала иногда много времени и усилий. Конфликтовать же с Комитетом или отказаться выполнять их «просьбы» было делом совершенно немыслимым, особенно сейчас — только что было раскрыто убийство милиционерами Московского метрополитена пьяненького замначальника канцелярии КГБ Афанасьева и по всему аппарату Министерства внутренних дел шла масштабная чистка. Уж лучше промолчать и помочь.
Галя, или, как теперь она называлась в документах, агент «Шилина», начала регулярно и подробно информировать обо всем, что происходило в их с Мартином романе, включая разговоры, перемещения и даже денежные дела. Именно Пономарев разрешил ей водить немца в съемную квартиру, именно он показал, как проходить в гостиницу через служебную дверь ресторана, минуя швейцара. Да и как не разрешить — агент не двурушничает, ее информация стопроцентно подтверждается аппаратурой, негласно установленной в квартире. Хлопот с ней практически нет благодаря отсутствию связей в городе. Не агент — золото.
Жизнь устаканилась, постепенно прошли звон в ушах и головные боли, появилась уверенность, и Галя, сама опасаясь в этом признаться, включила свой секретный план «Б» — она решила женить бундеса на себе. Деньги у него она теперь не выпрашивала, стала нежна, внимательна и даже пыталась ограничивать Мартина в алкоголе. Жить стало лучше, жить стало веселее — и все благодаря Комитету государственной безопасности СССР.
Разведка с территории
Если выйти из станции метро «Университет» к проспекту Вернадского, то на четной стороне проспекта в глаза непременно бросится большая угрюмая высотка. Не важно, что там написано на входе — на самом деле это РТ (разведка с территории) — секретное подразделение КГБ, чьи сотрудники занимаются делом не совсем обычным. В мире шпионских ведомств есть два устоявшихся вида деятельности: разведка, например, ЦРУ, и контрразведка, например, ФБР. Причем сотрудникам разведки закон прямо запрещает деятельность на территории своей страны — только за рубежом, а контрразведке, наоборот, предписано работать только «дома». В СССР на такую чепуху, впрочем, никто внимания не обращал — никто не вправе указывать советским чекистам, с какой территории им работать!
Ветреным холодным утром белая служебная «Волга» отвезла в аэропорт двух невеселых оперативников РТ: одного из начальников отделений Горяева и старшего опера, «германиста» Сидорова, свободно владеющего немецким — им предстояла малоприятная командировка в рабочий город Свердловск, где местными сотрудниками были подготовлены условия для вербовки гражданина ФРГ Мартина Рюба. В Свердловске москвичей встретили по-деловому, без подъездов к трапу и прочих понтов, — стремительно провели через депутатский зал и усадили в авто. Минут через пятнадцать езды по Сибирскому тракту, сразу за птицефабрикой, машина свернула влево на красивую и абсолютно пустую лесную отлично заасфальтированную дорогу и вскоре остановилась у КПП с надписью «Радиошкола». На довольно большой охраняемой и огороженной территории посреди леса находились Курсы усовершенствования специалистов радиоконтрразведки КГБ, хозяйственные постройки и пара коттеджей для ВИП-гостей. Там и разместили эртэшников. После ужина для них была натоплена баня, однако Горяев еще в аэропорту потребовал вызвать оперов, разрабатывавших немца, и от бани отказался. Полковник принадлежал к старой школе и предпочитал услышать, нежели чем прочитать — это всегда срабатывало. Примерно до полуночи он внимательно расспрашивал Пономарева и других сотрудников, затем отпустил их и лег спать. Наутро в голубом микроавтобусе РАФ командированных доставили в массивное старое здание номер 4 по улице Вайнера в самом центре уральской столицы для совещания и ознакомления с материалами. Как и предполагал Горяев, материалов оказалась огромная куча — сводки наружного наблюдения, распечатки телефонных разговоров с переводами, агентурные сообщения, аудио- и видеоматериалы. Сидоров погрузился в их изучение — ему предстояло составить план привлечения Мартина Рюба к негласному сотрудничеству, а практик Горяев, тайно презиравший всякое бумаготворчество, начал мучительно думать. Изначально он планировал спровоцировать немца на пьяное хулиганство и даже привез с собой микроклизмочку, в которой содержался психотропный препарат, вызывающий бесконтрольное буйство. Содержимое — всего десять-пятнадцать капель, выдавливалось в любой алкогольный напиток, после чего даже самый скромный яйцеголовый ботаник превращался в неуправляемого хулигана. Далее силами локальной милиции следовало возбудить уголовное дело по ст. 206 УК РСФСР, немца задержать и, поработав с ним в изоляторе временного содержания, отобрать подписку о сотрудничестве. Уголовное дело после вербовки можно не прекращать, но дать возможность подозреваемому выехать с территории СССР. Это позволит сохранить над источником некий дополнительный пресс. Однако чем глубже полковник вникал в характер разрабатываемого, тем меньше хотелось ему раскручивать этот сложный сценарий.
— Из того, что я вижу в этих материалах, вырисовывается какой-то рохля, увалень, или, как их в народе называют, — лох. Есть ли необходимость проводить такую масштабную операцию с применением спецсредств и привлечением милиции, когда этот немец и так прилип к нашему источнику и, похоже, ею полностью управляется?
— Ну, управляется он все же больше алкоголем, — возразил начальник «семерки» (наружное наблюдение). Мы не видим большой инициативы с его стороны — это она ходит к нему как на работу…
— А я вообще противник любых взаимодействий с милицией, — сказал начальник управления Кормилов, — от них можно ждать любого ЧП или утечки. Пьют сильно, — с осуждением добавил он и отвернулся к окну. Сам он почти год был в завязке — давление, диабет. Как и множество других руководителей КГБ, профессиональным чекистом он не был, а являлся продуктом политики «усиления» органов высокопоставленными партработниками. Как именно эти аппаратчики, в один день получившие генеральские погоны, улучшают деятельность разведки и делают ее более профессиональной, никто не знал. Но идеология в СССР всегда имела приоритет над профессионализмом. Для этих «усилителей» в ВКШ — Высшей Краснознаменной школе КГБ им. Ф. Э. Дзержинского, был даже специально организован факультет № 5 с единственной задачей — подготовка руководящего состава органов КГБ СССР из партийных, советских и комсомольских работников.
Посовещавшись еще минут сорок, решили от первоначального плана пока отказаться, а провести с агентом «Шилина» контрольную встречу и в разговоре выяснить, насколько она откровенна с КГБ и какова степень ее влияния на разрабатываемого. На контрольной встрече вместе с опером Пономаревым будет присутствовать полковник Горяев. Встречу решили провести через неделю, а пока 24 часа в сутки сопровождать агента наружкой. Это даст возможность оценить степень ее правдивости, ведь всегда можно спросить, где ты была или не была три дня назад, и сравнить со сводкой наблюдения, увидеть нестыковки.
— Как она реагирует на ваших сотрудников? — поинтересовался Горяев у начальника «наружки». — Не примелькались? Нет ощущения, что она знакома с нашими методами?
— Нет, товарищ полковник. Объект передвигается по городу исключительно пешком, проживает в самом центре, и это дает нам определенные преимущества. Мы не задействуем автомобили, но чаще меняем сопровождающих и тактику сопровождения. Отсутствуют какие-либо данные, позволяющие предположить, что она чувствует наружное наблюдение.
Начальник оперативно-технического отдела доложил, что в квартире агента было успешно проведено мероприятие «Т», в ходе которого под половыми досками установлены источники питания и закладное устройство «Логарифм-2». Устройство работает в штатном режиме. Аппаратура слухового контроля в номере 418 гостиницы «Большой Урал» также работает нормально, хотя качество звука несколько ухудшается при записи на магнитную ленту. Однако жалоб от переводчиков нет — все транскрипты подробны и детально отражают разговоры объекта.
На том разошлись. Москвичей повезли в отведенный им домик на территории радиошколы. Из трясущейся машины Горяев с тоской разглядывал серый, грязноватый рабочий город: очередь в винный отдел гастронома «Центральный», бездействующую киностудию, заборы оборонных заводов и думал. Забавные они, конечно, эти провинциальные коллеги — в столице бы никому и в голову не пришло устанавливать «Логарифм» и непрерывно гонять наружку в такой, в общем-то, рядовой, рутинной операции. Но, с другой стороны, — а чем им тут еще заниматься? Это не Москва с ее посольствами, представительствами, отелями и тысячами туристов. Свердловск — город закрытый: в кои-то веки заехали сюда полтора иностранца — так у них теперь все управление с этими немцами носится. А этот опер Пономарев все ж большая умница. И ведь дерзкий такой. И цепкий, гаденыш, как бульдог. Вся гостиница у него плотно прикрыта — каждый этаж и ресторан. Молодец, как есть — молодец! Надо обязательно сказать, чтоб поощрили парня. Таким отвязанным операм поощрения необходимы еще и на будущее — к сожалению, их часто «заносит» и вот тогда предыдущие заслуги могут спасти от наказания. Горяев и сам был таким в шестидесятые. Эх, шестидесятые…
Картина за окном автомобиля была настолько унылой и удручающей, что настроение у полковника вновь поползло вниз. Предстоящая вербовка тоже не добавляла оптимизма. «Какое тут все же чудовищное несоответствие, — размышлял старый опер, — десятки людей вовлечены в это дело, написаны сотни секретных документов, многие километры пройдены топтунами «семерки», использованы тысячи метров аудио- и видеопленки… и все для чего? Для того, чтобы отрапортовать о вербовке гражданина ФРГ! Но ведь оперативная ценность этого слесаря-сборщика нулевая! Она нулевая сегодня и будет нулевой всегда — никогда этот тюфяк не поднимется до положения, дающего ему допуск к интересующей Комитет информации. Что он? Зачем он? — с раздражением размышлял полковник. — Вот вернется этот Рюб домой в Германию, следом секретной диппочтой в советское посольство в Бонне прилетит его «дело». Резидентура включит этого алкаша в так называемую действующую агентурную сеть, с ним будут проводиться бессмысленные встречи… тьфу, гадость! Ну отчего у нас в СССР повсеместно «палочная» система?
Впрочем, через час в баньке Горяев выпил триста граммов болгарского коньяка «Плиска» и душевное равновесие к нему возвратилось. Полковник стал размышлять о предстоящей вербовке и вновь прикидывать варианты, ни одному из которых не суждено будет осуществиться.
Крах
— Oh mein Gott… Oh mein Gott… Oh mein Gott! — как заведенный повторял Рюб, мечась в животном ужасе по номеру. Он садился на кровать, чтобы через секунду снова вскочить, бежал к дверям, затем в туалет и снова на мгновение садился на кровать и тут же опять вскакивал, сжимая голову руками.
Две недели назад он приводил к себе эту полусумасшедшую Буню, из-за которой потом было столько проблем, и вот сегодня он обнаружил на своем конце круглую шишечку с плоской, как горное плато, поверхностью. Сифилис! Это была полная жизненная катастрофа. Судьба не баловала Мартина и ранее, но ударов такой сокрушительной силы он еще не получал. Бедный немец сидел на кровати и, сжав голову руками, раскачивался из стороны в сторону, завывая при этом носом. В дверь постучали, и в номер резко вошла Эльза-начальница:
— Ты отдаешь себе отчет, что автобус ждет тебя уже двадцать минут? Почему такое неуважение к работе и к коллегам?
Мартин поднял на нее полные боли трезвые глаза и покачал головой:
— Я не могу. Я не поеду. У меня большие проблемы.
— Мартин. Я сожалею, но, кажется, больше не могу для тебя ничего сделать — тебе надо вернуться в Брауншвайг. При всем моем уважении к господину Рюбу — твоему отцу…
Он не дал ей договорить.
— Да. Да — я должен вернуться немедленно. Я очень сожалею.
— Мы обсудим это вечером, — ответила Эльза, резко повернулась и вышла, не закрыв дверь. Затихающий звук ее шагов метрономом отдавался в голове Рюба: тук-тук — бесславный конец его работы в компании… тук-тук — позор и неизвестность, тук-тук — бежать из этого города, из этой страны, тук-тук-тук…
Мартин просидел на кровати еще с час и попытался привести мысли в порядок. Слово «сифилис» звучало как смертный приговор. Он вспомнил своих развеселых товарищей по работе в Фольксвагене — некоторые из них подхватывали какие-то легкие инфекции, но сифилис… Однажды в гараже завода Мартин наткнулся на послевоенные плакаты с описанием ужасов этой болезни — язвы, провалившийся нос, потеря зрения… С содроганием смотрел он на жуткие рисованные картины и навсегда их запомнил, а теперь этот кошмар со старых черно-белых плакатов пришел к нему, стал явью.
Однако пора было покинуть номер — автобус уже разгрузил смену, забрал отработавших и наверняка подъезжает — скоро сюда придет турок-сосед. Мартин, захлопнув дверь, побрел к лифту. В кабине спускались шумные командировочные, он на секунду забыл о своей беде, а когда вспомнил, опять застонал носом, и все в лифте разом замолкли от горестной тональности этого стона-мычания. Рюб долго, бесцельно ходил по скверу вокруг оперного театра, прошел всю улицу Ленина до Вечного огня, вконец замерз и вернулся к гостинице, но подниматься не стал, а прошел в ресторан, где уже открылся бар. Алкоголя ему совсем не хотелось, а хотелось расспросить Сашку, рассказать ему о своей беде. Бармен, однако, немецкий понимал только в терминологии своей работы, и Мартину ничего не оставалось, кроме как сидеть и ждать свою подругу. Сидеть-то он сидел, но вот представить, как именно он будет рассказывать Гале о постигшей его катастрофе и, самое главное, какой от нее следует ждать реакции, Мартин не мог. Вечером пришла Галя и совершенно оторопела, увидев абсолютно трезвого, бледного как бумага Рюба с бутылкой «Боржоми».
— Можно сейчас пойти к тебе домой? У меня есть разговор, — сказал он, и дрогнуло сердце проститутки. «Будет немчура делать предложение», — возликовала путана, и пара двинулась в сторону зоопарка, к ней на квартиру.
Заикаясь и потея, скороговоркой объяснял бедный немец, что был пьян, что сожалеет… но уши его подруги были выключены, а в голове ее в обратном направлении крутился фильм с хроникой последних недель. Галя просматривала каждый кадр, каждый эпизод, пытаясь найти, где, в какой момент, при каких обстоятельствах она могла была быть инфицирована? Секс она не любила, хотя освоила неплохо. Зная риски выбранной профессии, она всегда скрупулезно предохранялась и при любой возможности покупала импортные презервативы. Получалось, что, кроме пары глупых поцелуев, все ее интимные контакты с этим ублюдком были относительно безопасными. Момент и источник заражения были для нее ясны как день. Той самой встречей в баре с Буньковой и заканчивалось ее кино — дальше мотать не было смысла, и путана включила уши. Лысый несколько переменил тон и теперь вел разговор к тому, что сам-то он эту сучару Буню и не знал никогда. Это ее, Гали, подруга, и в баре-то она подошла не к нему, а к ней, и, если бы не Галя и ее подруга, — он был бы здоров…
Она смотрела на его шевелящиеся губы и с тоской размышляла. Еще час назад в ее жизни был некий смысл, было движение в правильном, ею самой выбранном направлении… и вдруг все вдребезги! Что же теперь? И отчего судьба так к ней несправедлива? Ведь она не делает ничего плохого, выверяет каждый свой шаг, живет, можно сказать, в страдании и страхе, лавируя между бандитами, клиентами, завистливыми, всегда готовыми предать подругами, ментами и Комитетом. Провидение же вместо утешения и послабления подкидывает ей то цыганят с арматурой, то теперь этого урода с твердым шанкром. За что, Господи? Впрочем, вопросы справедливости мироздания занимали ее постольку-поскольку: очевидно, что отсюда нужно быстренько сворачиваться. В этом блевотном городе-заводе делать больше нечего — надо валить в столицу. Под Новый год можно приподнять бабла — вся страна становится пьяненькой и благодушной, менты отдыхают, швейцары лишь машут рукой — проходи, шалава беспутная… Да-да, надо немедленно валить! Нужно только сдать кровь. Обязательно сделать тест. И получить 200 рублей от Сашки-бармена, что она дала в долг, дура. Галя встала, чтобы немедленно идти в бар — перед ней, сгорбившись, сидел посторонний человек, который вот совсем недавно занимал приличный кусок ее жизни.
— Raus hier![4], — сказала она и указала на дверь. Мартин все понял и, сгорбившись еще сильнее, вышел с курткой в руках. Постоял в подъезде и, кое-как засунув руки в рукава, поплелся в сторону гостиницы. Через десять минут туда же устремилась и Галя, правда, шла она в бар.
— Нету, красивая. Ну нету сейчас — подожди еще недельку, — широко улыбался хромой бармен. Сказать, что она уезжает, означало проститься с деньгами, и хитрая путана решила импровизировать:
— Сашечка, мне не в лом и подождать, но мой зарплату получил, ему надо пятьсот поменять — дай хоть триста из кассы! Я через десять минут принесу тебе марки в залог, в понедельник заберу их обратно и деревянными отдам, плюс четвертной. Бармен хоть ушлый, но дурак — дал триста рублей на десять минут. Никогда он больше не видел ни проститутки Гали Грустной, ни трехсот рублей, но и случай этот никому не рассказывал — засмеют: путана развела на три «катеньки»!
Утром Галя стояла у регистратуры областного кожвендиспансера, удобно расположившегося в полутора кварталах от гостиницы. Знакомая маникюрщица объяснила, что записаться надо непременно к врачу по имени Константин Беглов, или «Триппер-мастер Костя», как он был известен в кругах свердловских катал и блатных. Взяв талончик, Галя пошла гулять по узким коридорам диспансера, все посетители которого, как сговорившись, смотрели в пол. Посмотрела вниз и Галя, но ничего захватывающего не обнаружила — пол, как ему и положено быть в советском медучреждении: с оторванными кусками линолеума, сплющенными чинариками и грязью. Догадавшись, что пациенты просто таким образом прячут лица, опасаясь встретить знакомых, она невесело улыбнулась. Проститутке из далекого Ровно такие страхи были неведомы. Никто здесь ее не знал.
Беглов оказался рыхловатым малым с бегающими поросячьими глазками. Вместо анализа он предложил сделать превентивные инъекции импортным антибиотиком, но путана смекнула, что это разводилово: кто знает, что вколет этот свиноглазый? Может, воду дистиллированную, а деньги немалые — сто пятьдесят рублей просит, сволочь. Лучше обследоваться в Москве. Глядя на вороватую физиономию врача, она придумала неплохой бизнес-план по выемке денег из Мартина.
— Давай начнем с моего парня, — сказала она, протягивая врачу двадцать пять рублей, — я его приведу прямо сегодня, только с ним небольшая проблема…
— Сифилис — это большая проблема, очень большая, — обрадовался Беглов и спрятал деньги в карман.
— Нет. Тут другое. Он глухонемой.
— Так ты же с ним будешь, правда? Объяснишь что почем. Давай веди скорей — я до пяти сегодня. А знаешь, лучше в пять и приходите — под закрытие.
Развести бундеса на деньги оказалось труднее, чем она предполагала, — он озлобился и не хотел разговаривать. На сильно продвинутом в последние месяцы немецком она очень убедительно врала про доверенного доктора и про то, как они вместе будут ходить на уколы, но он не верил. Тем не менее согласился пойти в диспансер для того, чтобы подтвердить наверняка диагноз. Гале он сказал, что увольняется и ждет денег, а пока вот только пятьдесят марок…
Коридор Свердловского вендиспансера привел Мартина в ступор — облупленные стены и потолки, люди с лицами землистого цвета, запах хлора и эфира. Ничто даже отдаленно не напоминало медучреждение. Мгновенно в памяти всплыли те ужасные плакаты из заводского подвала. Рюб захотел уйти и горячо зашептал что-то Гале, но они уже стояли перед кабинетом. Беглов торопился — он скоренько подхватил Маритна под руку и увел за ширму, чтобы взять кровь, но тут произошла катастрофа. Серая клеенка, бурые пятна на ширме и довоенного вида стеклянный шприц в кипятке сделали свое дело — у пациента сдали нервы. Он отдернул руку и, забыв о том, что надо изображать глухонемого, заматерился по-немецки. Неописуемый ужас охватил триппер-мастера.
— Ты кого привела, сука потная? — брызгая слюной, зашипел он, схватив Галю за плечи. — Ты под что меня, мразота, подвести хочешь? А?? А???
Губы его побелели от страха, глаза выкатились, и на лбу выступили крупные капли пота.
Но путану все это уже не интересовало — не проканало и не проканало, что ж теперь — удавиться? Она умела перелистывать страницы. И Галя, с силой отбив руки доктора, повернулась, вышла в коридор и резво сбежала вниз, а за ней и злой немец. На улице, к досаде «наружки», они, не глядя друг на друга, навсегда разошлись в разные стороны.
«Объект проследовала до квартиры на улице К. Маркса, 25 и оставалась в адресе 1 час 30 минут, затем вышла из подъезда, держа в руках дорожную сумку светло-коричневого цвета. Напротив дома 181 по улице Луначарского она остановила а/м ВАЗ 2101 красного цвета г/н 30—3 °CВО и уехала в сторону ЦПКиО. В связи с тем, что автотранспорт для наружного наблюдения за объектом не использовался, быстро организовать преследование не удалось. Была остановлена движущаяся поблизости а/м ГАЗ, но догнать красные „Жигули“ не представилось возможным. В 19:10 наблюдение пришлось прекратить. Установленный владелец а/м 30—3 °CВО гр-н Вайсман А. А. к месту жительства на ул. Папанина 2—18 приехал только в 9:30 и пояснил, что всю ночь занимался частным извозом, а пассажирку с улицы Луначарского отвез в аэропорт Кольцово. С его слов, она находилась в раздражении, намеревалась вылететь в Москву и интересовалась, как можно быстро и без большой переплаты приобрести билет. Проверочными мероприятиями совместно с ЛОВД Кольцово установлено, что Слащева Галина Михайловна, 1959 г/р (имя вписано от руки), вылетела в Москву утренним рейсом в 7:45».
Мартин уже объявил о своем намерении уволиться, о том, что на работу он больше не выйдет, и о своем желании как можно скорее вернуться в ФРГ, но никакого определенного ответа он не получил — Эльза продолжала повторять, что нужно ждать решения из головного офиса. Это могло затянуться на несколько дней, и Рюб достал визитку Лемке. Он позвонил ему на домашний из номера Эльзы, попросив ее выйти. Мартин рассчитывал на короткий разговор, но вдруг расплакался и рассказал Лемке все-все. Старый лис-разведчик вмиг понял, что происшедшее с Мартином Рюбом вовсе не цепь случайностей, что все страницы этой драмы, кроме, скорее всего, венболезни, были предопределены и предначертаны в одной известной организации и что парня надо немедленно выдергивать. Уже вечером следующего дня, к изумлению начальницы, у Рюба был билет до Москвы.
В ведомстве на улице Вайнера, 4 царило замешательство — работа последних месяцев летела коту под хвост. Все сводки, прослушки, сообщения, планы, командировки, совещания, утверждения, согласования — весь этот круговорот оказался ненужным. Вся хитромудрая и сложная, последовательно выстроенная конструкция рухнула вмешательством венбольной проститутки.
Что делать — и такое случается в работе рыцарей плаща и кинжала.
Анна
— Ди-им! А Ди-им, — издевается Анька, — ну почему ты не делаешь девушке предложение? Это свидетельствует о твоих низких моральных устоях! А ведь у меня, между прочим, московская прописка!
Раньше такие разговоры вгоняли неудавшегося моряка в краску, но теперь Димка и сам зубастый:
— Прописка! Ма'асковская? Это же в корне меняет дело! Я обещаю подумать.
— Вот гад! — охает Анька и прыгает ему на спину. Димка-конь рысью скачет из кухни в спальню, скидывает всадницу на большую кровать, немного борьбы — и вот уже он всадник.
— Чайник же, — шепчет она, и на кухне действительно начинает ревниво свистеть забытый чайник, но им уже не до него.
Золотой век в зените, но скоро-скоро из далекого государства Мали, куда командирован ее муж, должна вернуться хозяйка этой квартиры — Анина тетя. И что тогда? А ничего! Если честно, то у Грачевой уже прилично накоплено и можно делать взнос в кооператив. А уж если получится выйти замуж за этого замечательного коня, то Влад добавит любую сумму — это ж его единственный родственник… «Все, все, все решаемо», — думала Анна, и эти восхитительно приятные мысли будоражили ее и пугали. Она была абсолютно счастлива. Вылетел из головы, рассыпался на мелкие кусочки и навсегда исчез этот тягомотный роман с Шадурским. Забылось, превратилось в дым его мужественное лицо с серебристыми висками, как резинкой потерлись и все другие пробы и ошибки. Память очищалась от мусора неудач и разочарований, Анна купалась в красивом водопаде новой любви — такой водопад в джунглях она видела в «Клубе кинопутешествий». Ну или, может, в какой-нибудь другой передаче.
— Димк, а почему его называют золотой век?
— Потому что у тех, кто его так называет, серебряный, бронзовый и железный уже, наверное, были.
Анька замолчала и надолго задумалась. Действительно. У нее точно были. Все три. Грачева расстроилась и почувствовала себя старой-престарой.
— А кто эту лабуду вообще придумал?
— Был такой древний грек. Гесиодом звали.
— Чем занимался?
— Стишата пописывал. «Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою. Горя не зная…»
— Хм-м… О чем это?
— Как о чем? О нем. О золотом веке.
— Пипец у нас в Шереметьево грузчики. Им древнегреческих поэтов процитировать — как ящик «Боржоми» на тележке подогнать!
Эта осенняя любовь как-то дисциплинировала Анну. Она никуда больше не опаздывала, и касса сходилась «в копеечку», пропали истеричные женские мысли, появилась уверенность. Грачева теперь знала точно, чего хочет, и вся ее жизнь была подчинена этому. На секретные встречи с куратором она больше не ходила, наивно полагая, что раз она работает внимательно и аккуратно, то ничто ее спокойствию не угрожает. Димка же, наоборот, пришел в душевное смятение. Эта любовь просто об колено ломала его планы. До сих пор он старался не выходить без нужды из подсобки, не светить лицо и ни с кем не знакомиться в смутной, неосознанной надежде когда-нибудь улететь вместо пьяного, например, британца, оставив его спать в своей подсобке. Ему так сильно этого хотелось, что он до деталей представлял этого англичанина — вот он, почему-то огненно-рыжий и с бакенбардами, сладко спит на пивных ящиках, подложив под голову мягкую сумку с круглой эмблемой «Челси», а Димка по его билету уже подлетает к Лондону и, прилепив нос к иллюминатору, пытается разглядеть Биг-Бен.
Нет, так точно можно сойти с ума.
Майор Валов между тем приступил к своему плану, согласно которому до Нового года влюбленные должны были покинуть Шереметьево. Коммунист Валов питал спинномозговую, жгучую ненависть к этой подпольной советской элите — фарцовщикам, цеховикам, каталам, барменам. Когда Грачева объявила ему, что на любые вопросы готова ответить прямо в баре, а ходить на встречи она больше не будет, Валов испытал прилив холодной ярости, но виду не подал. Сдержался. С планом он особенно не заморачивался и решил остановиться на старой доброй недостаче валюты. И вот этот день пришел — Анька заканчивала пятидневку, вечером нужно было готовить отчет и сдавать выручку, валютную и рублевую, как вдруг в три часа дня в бар зашла старший бухгалтер «Интуриста» Инна Иосифовна с двумя помощницами. Грачева поняла, что это внутренняя проверка и сейчас будут снимать кассу, но заулыбалась и никакого беспокойства не испытала — все должно сойтись до нолика, она точно знает. От кофе женщины отказались и начали проворно считать наличные и сверять накладные. Обнаружилась нехватка 30 польских злотых, 46 марок ГДР и больше сотни финских марок. Аньке стало плохо, ее усадили, дали воды, но продолжили писать заключение. Закончив, прикололи копию к накладным и ушли, а Анна осталась сидеть перед стаканом с водой. Голова ее взрывалась и не находила ответа, не находила объяснения происшедшему. Куда могла деться эта валюта? Бухгалтерши ни при чем — их трое, что в обстановке всеобщего стукачества делает кражу невозможной. За стойку заходит лишь буфетчица, но она никогда не приближается к углу бара, где касса старшего бармена. Ну не Люся-посудница же, в конце концов! Зачем ей — она и не знает, что такое эта валюта… Аньке казалось, что она сходит с ума — потерять работу сейчас? Потерять такую работу? Она начала судорожно переворачивать коробки под стойкой, вновь бросалась пересчитывать кассу, зарывалась в накладные… Пришел вечер, и нужно было закрываться и писать отчет. Последний, скорее всего, отчет. И тут в бар зашел куратор.
Валов задержался в аэропорту, работая с инженерами видеоконтроля, и зашел, собственно, чтобы сказать Грачевой одну заготовленную фразу-совет: «Если руководство „Интуриста“ сочтет возможным не увольнять, а перевести в буфетчицы или официантки, — лучше уволиться по собственному, потому что, видит бог, — мы не сработаемся». Майор был готов это произнести и уйти, но не был готов к тому, что произойдет в пустом баре.
На Аньку сошло какое-то помутнение — она перестала плакать, бросила искать эту валюту и только тупо смотрела на пачку накладных, скрепленных с актом недостачи. Сначала она просто скользнула взглядом по кагэбэшнику, но тут ее как молнией ударило — он! Только он может спасти!
— Миленький! — зашептала она скороговоркой, глядя на Валова сухими горящими глазами. — Миленький куратор. Нельзя мне сейчас терять работу. Нельзя. Ну никак нельзя. Меня замуж… — и осеклась. И снова: — Миленький, ну пожалуйста… С этими словами она завела опешившего опера за стойку и расстегнула молнию на его ширинке…
Димка ничего о пропавших деньгах не ведал, а прогуливался по складу и ждал свою невесту. Но напрасно он прислушивался в надежде услышать решительное цоканье ее каблучков по складскому кафелю — Аньки не было. В конце концов он переоделся и побрел в бар. В баре было пусто и происходило странное — за стойкой, где положено находиться бармену, стоял… куратор от КГБ с очень напряженным и потным лицом. Тут бы нашему грузчику повернуться и уйти, но он зачем-то приблизился к стойке и вежливо спросил:
— Извините, а вы не знаете, где Анна?
Лицо чекиста пошло пятнами, он вдруг зарычал что-то нечленораздельное, схватил пачку лежавших перед ним документов и швырнул прямо в Димку. На ходу застегивая ширинку, куратор быстро покинул бар, а растерявшийся Димка присел на корточки и начал машинально собирать с пола накладные. В этот момент он вдруг отчетливо осознал, что там, с той стороны, — Анька. Он медленно обогнул стойку — сидя на полу перед холодильником, беззвучно плакала его девушка.
Анне Грачевой дали возможность уволиться по собственному желанию. Димка потерял к работе всякий интерес, часами сидел на дядиной кухне и смотрел сквозь стекло на падающий липкий осенний снег. С Анькой они больше не виделись.
Звенящая пустота повисла в кооперативной квартире. Дядя и племянник почти не разговаривали друг с другом, и, казалось, оба, каждый по-своему, мучительно пытались осознать — что делать с этой жизнью дальше?
А в конце ноября произошел случай, напрочь разорвавший отношения родственников. Влад, засидевшись за книгой далеко за полночь, пошел в туалет и сквозь кухонную стеклянную дверь увидел, как Димка скинул на пол одеяло и что-то бормочет во сне, борясь с каким-то кошмаром. Волосы его прилипли ко лбу, на шее — крупные капли пота. Стараясь не скрипнуть дверью, дядя вошел, поднял одеяло и аккуратно накрыл племянника, но тот вдруг проснулся, подскочил, схватил со стола вилку и надломленным спросонья голосом закричал:
— Что??? Что тебе надо??? Пидор!!! Пидор!!!
— Я поправить… упало же… — зашептал Влад побелевшими губами и бросился прочь в свою комнату.
И каждый смотрел в московскую ночь, отражаясь в окне — Дима был бледен, его била крупная дрожь, и пот заливал глаза, а Влад плакал, сжав зубами кулак.
Тупик, полный тупик.
Бармен из Шереметьево
Влад заметил его боковым зрением — что-то было не так в фигуре этого бундеса. В том, что это был немец, Влад не сомневался — он уже давно с легкостью определял не только гражданство, но и материальный уровень и даже социальный статус клиента. Однако что-то выделяло этого немца. Был он в меру пьян, но по тому, как опущены его плечи, как согнута спина, как он, безвольно обмякнув, сидел на стуле, было видно, что у парня серьезные проблемы. Впрочем, вникать в его проблемы Влад не собирался — ему самому последние месяцы жизнь подкинула их немало. Нужно было закрывать бар и садиться за отчеты — племянник вон закончил смену и уже давно ждет его в подсобке, чтобы не толкаться в автобусе, а доехать домой в комфорте Владовых «Жигулей». Они только-только начали новь общаться, вновь разговаривать — пока лишь на нейтральные, рабочие темы.
— Что я могу вам предложить? — механически спросил по-немецки Влад и добавил: — К сожалению, мы должны вскоре закрыться.
Мартин поднял на бармена мутные глаза, и тот неприятно удивился — немец был гораздо пьянее, чем могло показаться.
— Мы закрываемся, — категорично повторил Влад, и в этот момент в голове его произошел резкий сдвиг. Так бывает, когда вдруг сами по себе пойдут старинные, давно сломанные часы — зашуршат шестеренки, четко начнет отмерять ритм маятник и вдруг все услышат равномерный хрипловатый бой. Влад незаметно огляделся по сторонам и налил немцу коньяк — тот только кивнул головой и стал крутить фужер, отпивая. Бармен вернулся за стойку и достал из ящика аптечку. Действуя четко и уверенно, он раздавил три таблетки клонидина в мелкий порошок, залил коньяком и тщательно перемешал. На край бокала он надел большую дольку лимона и поспешил к клиенту. Мартин уже выпил первую порцию и достал из кармана несколько мятых дойчемарок. Не обращая внимания на деньги, Влад поставил новый фужер и быстро выдавил в него лимон — клиент замотал головой, запротестовал, но было поздно — коньяк смешался с лимоном, и Рюб стал отпивать этот неприятного вкуса коктейль. Черт поймет этих русских — разве в бренди добавляют лимон? Теперь у него какой-то противный вкус. Может, попросить заменить? Да черт с ним, а то вообще не нальют — они, кажется, закрываются.
А во Влада как будто вселился робот — он начал действовать, как тысячу раз представлял и планировал в первый год своей работы в Шереметьево, до того, как лицо его примелькалось, стало знакомым всем без исключения работникам зоны вылета и план пришлось отбросить. Он с трудом вытянул от стены холодильник и оторвал угол обшивки. Здесь Влад прятал чаевые и излишки в валюте. Попасться с инвалютой на КПП было равносильно самоубийству, и когда-то давно, отсканировав бар буквально по миллиметрам, он придумал этот тайник. Тут валюта копилась обычно до праздников, когда контролеры бывали поддаты, начальства не было и опасность снижалась до минимума — в такие дни Влад разом выносил свою заначку и начинал собирать новую. Деньги были завернуты в страницу из журнала «Огонек» за 1979-ый год, чтобы отвести подозрения в случае обнаружения — в 79-ом Влад еще здесь не работал, да и бара этого не существовало. Оставив страницу журнала в тайнике, Влад с трудом задвинул холодильник.
— Может, грузчика кликнуть, чтоб помог, — услышал он и вмиг похолодел. Сзади стояла посудница и с интересом смотрела на вспотевшего бармена.
— Нет-нет. Нашел уже. Закатилось.
— Ну я пошла тогда.
— До свиданья, — сказал Влад и зачем-то притворно бодрым голосом добавил: — А я сейчас за отчет сажусь!
Посудница еще раз с интересом посмотрела на начальника и пошла прочь, размышляя, что же не так с его лицом. Уже за КПП она поняла — эти крупные капли пота над верхней губой и мертвенная бледность. И эта странная реплика про отчет — словно он докладывал ей, простой посуднице. Эх, хорошо бы вернуться да как следует посмотреть, что там происходит, но кто ж теперь пропустит обратно? И Люся с некоторым разочарованием побрела к автобусу.
В это время в баре Влад с военной четкостью продолжал выполнять действия, каких раньше никогда не делал. Он достал из ящика ключ-ручку, наподобие тех, которыми пользуются железнодорожники, и сунул ее в карман. Затем снял ботинки и носки, ботинки надел на босые ноги, а носки вставил один в другой. Открыл кассу и всю мелочь в копейках и в валюте высыпал в этот двойной носок — получилось нечто вроде тяжелой колбаски. Он тоже опустил ее в карман. Все это время бармен продолжал поглядывать на немца и слушать объявления — регистрация на рейс до Франкфурта закончилась. Влад вновь подошел к Мартину и с удовлетворением отметил, что тот находится в идеальной кондиции — ходить еще может, а соображать уже нет. Бармен ногой пихнул сумку пассажира под столик — от движения опрокинулся фужер с недопитым коньяком. Безжизненно и обреченно покатился он по столу, но не упал. Влад постоял еще пару минут, собираясь с духом, и, приобняв немца, крепко взял его за ремень. В таком виде они спустились по лестнице вниз и немедленно повернули налево — в мужской туалет. Около умывальников курила и увлеченно спорила небольшая группка пассажиров, но никто не обратил ни них внимания. В самом туалете людей не было и Влад подвел немца к крайней левой кабинке, которая была переоборудована под мини-склад. Тут лежали новые швабры, тряпки и рулоны дефицитной туалетной бумаги. Влад открыл дверь железнодорожной ручкой с сечением в виде треугольника и протолкнул немца вперед. Мартин сделал неуверенный шаг и остановился, а Влад, правой рукой смахнув с него серую твидовую фуражку, левой с силой ударил монетной колбаской в затылок. Мартин охнул, упал на колени и захрипел. Рука Влада описала большую дугу, и монетная дубинка еще раз обрушилась на голову немца. Удар был такой силы, что оба носка лопнули и монеты разлетелись в тряпки и рулоны с бумагой. Мартин завалился на бок и мелко затрясся, зрачки закатились назад, в штанах у него заурчало, и на кафельном полу образовалась желтоватая лужица. Все было кончено. Влад снял с немца светло-серую куртку, вынул из кармана паспорт и билет. Затем эту куртку аккуратно свернул, положив внутрь фуражку, вышел и закрыл дверь ручкой-ключом.
Димка, уже переодетый и готовый ехать домой, сидел в подсобке, подперев по привычке лицо кулаками, и ни о чем не думал. После катастрофы с Аней у него в душе образовался вакуум и поселилось какое-то безразличие ко всему происходящему. В голове было пусто, как в подвале, и только эхом отдавалось: «Производится посадка на рейс „Аэрофлота“ до Франкфурта. Пассажиров просят пройти…» Внезапно в подсобку вошел Влад. Лицо его было абсолютно белым. «Как промокашка», — почему-то подумалось Димке, а глаза, наоборот, — горели каким-то сухим огнем. Димка понял, что сейчас произойдет что-то необыкновенное, что-то очень страшное.
— Сними куртку и иди за мной. Быстро! — скомандовал дядя племяннику, и тот, скинув верхнюю одежду, послушно засеменил за ним в пустой бар. За стойкой Влад посадил Диму на стул и достал электробритву.
— Что это? Что ты? Чего ты? — встревожился Димка.
— Молчи. Вот билет и паспорт — сейчас пойдешь на посадку. Но он лысый, понимаешь? Он был лысый… понимаешь?
От слова «был» Дима потерял способность говорить, а только стал мелко кивать и безвольно опустился на стул, а Влад той частью бритвы, что используют для подравнивания височков и усов, начал брить Димкину голову. Бритва захлебывалась и заклинивала на его густых волосах, но Влад упорно продолжал. Руки его тряслись как в лихорадке. К счастью, он начал с боков и довольно хорошо освободил обе стороны, прежде чем бритва задымилась и перегорела. Через ближайшую стойку, прямо под баром, уже шла посадка на рейс. Дима попробовал встать со стула, но от волнения ноги стали ватными. Он все же поднялся и смотрел на дядю расширенными от ужаса глазами. Судорожными движениями Влад надел на Димку куртку Мартина, натянул на голову фуражку и повел из бара, но вдруг резко остановился. Они вернулись в бар, дядя вновь достал аптечку и бинтом перемотал шею племянника, а на плечо накинул сумку немца.
— Ну все. Иди, — сказал он, протягивая билет и паспорт.
— Я… очень-очень боюсь, — вдруг жалобно сказал Димка и заплакал.
— Ты??? Ты боишься??? — зашипел дядя — и снова: — Ты боишься???
Он неловко, неуклюже обнял племянника и толкнул его к лестнице.
— Иди. Там Ирка стоит — она только из декрета вышла, тебя не знает. Этот, который в форме, — вообще из экипажа. Он ей помогает просто. Паспорт держи в руке, но не суй — тут уже и не спросят. Покажи только посадочный.
Влад взял в руки паспорт, открыл на секунду и обомлел — лысый немец там был с волосами, правда, редкими. Он ничего не сказал, закрыл и протянул паспорт обратно Димке.
— Иди. Удачи.
На ватных ногах, ничего не соображая, Дима пошел на посадку. Такого животного, всепоглощающего ужаса он не испытывал никогда в жизни. В какой-то момент в глазах потемнело и он чуть не отключился, но, схватившись за поручни, рефлекторно стал делать глубокие вдохи и пришел в себя. «Лишь бы не потерять сознание, лишь бы не упасть», — стучало в голове. Он не запомнил, как прошел посадку, — ему просто поставили штамп в посадочный, ведь все реальные контроли прошел настоящий немец. Зато запомнилось, как автобус в темноте увозил его к самолету, а Дима смотрел-смотрел-смотрел на яркое здание аэропорта, тщетно пытаясь разглядеть фигурку самого родного человека на этой земле — дяди Влада.
Пожилая немка на соседнем сидении, видимо, не прочь была затеять разговор о внуках — детишках своего сына-дипломата, но, увидев бинт на шее, понимающе кивнула и открыла книгу. Когда самолет взлетел и за окном показались огни столицы, сказалось психическое истощение и беглец отключился. Был ли это внезапный глубокий сон, вызванный нервным потрясением, или потеря сознания, — неизвестно, а только очнулся он от нашатыря, который ему поднесли бортпроводницы уже в аэропорту Франкфурта. Секунд десять не мог он прийти в себя, слишком невероятной казалась эта обрушившаяся на него жутковатая реальность. И вновь навалился липкий страх. Димка спешил за пассажирами, не представляя, что делать и как себя вести. В голове крутилась фраза: «Он был лысым». Ноги опять стали ватными, а по спине побежал пот. Дима встал в очередь к турникету с надписью «Zur Einreise für Bürger der Bundesrepublik Deutschland[5]». Полная женщина в серой форме, ни слова не говоря, поставила в паспорт штамп и педалью открыла проход. Димка забрал паспорт и на негнущихся ногах пошел в зал выдачи багажа. Тут сотни людей выдергивали с каруселей свои чемоданы и заполняли декларации. И это большая проблема — он не знал ни слова по-немецки. Его английский был очень неплох — давала о себе знать элитная 609-ая Зеленоградская спецшкола и многолетний интерес ко всему западному, но немецкий… К счастью, над столиками висели образцы и Дима старательно все заполнил. В паспорте Мартина была наклейка размером с большую почтовую марку с адресом, и, хотя не было понятно, домашний это адрес или рабочий, — Дима вписал его в декларацию и пошел через зеленый коридор. У него не было багажа — только сумка, что резко выделяло его из потока пассажиров. По счастью, перед ним шли какие-то музыканты с инструментами в чехлах и беглец проскочил с ними. Впрочем, он прошел бы и так — таможенники никого не останавливали, да и ночь уже. Пройдя, наконец, все контроли, он сразу помчался в туалет, затем размотал бинт с шеи, изучил содержимое сумки и решил ее выбросить. Подняв лицо над умывальником, он чуть не закричал — из зеркала на него смотрел Влад: белая, как промокашка, кожа и глаза с каким-то болезненным, сухим блеском.
Четвертого декабря 1981-го года из здания аэропорта Франкфурта-на-Майне в сырую ночь вышел бледный, раздавленный и напуганный, за неполные пять часов сильно постаревший человек со странной прической. В кармане у него лежал чужой паспорт, он не знал язык этой страны и совершенно не представлял, что делать дальше.
Вот так иногда сбываются мечты.
И Аз воздам
А Влад вернулся в пустой бар и долго сидел, сжав голову руками. Затем он машинально взял веник и принялся собирать волосы с пола, вдруг плюнул и, запинав остатки волос под холодильник, в третий раз за сегодня достал злополучную аптечку. Он разом проглотил пять таблеток аспирина, закрыл бар и, бросив взгляд на опрокинутый бокал на столике, где недавно сидел его несчастливый гость, пошел на КПП. Дворники едва справлялись с мокрым снегом, в теплой машине магнитофонная Магдалина пела свою арию о том, что не знает, как ей любить Христа.
Примерно в 8 часов утра следующего дня двое студентов Университета дружбы народов им. П. Лумумбы, находясь по нужде в туалете зала вылета, услышали стоны из крайней кабинки, отжали дверь и освободили Мартина. На место вызвали сотрудников линейного ОВД, а те сразу позвонили Валову. Валов, однако, добирался до Шереметьево больше двух часов. Менты не посмели удерживать прошедших регистрацию и ожидавших вылета единственных свидетелей-студентов, и те улетели в свою Анголу, что привело куратора в ярость.
— А из чего ты, сучонок, заключил, что эти негритята — свидетели? Вот для меня, например, они — подозреваемые. Ты их, гнида, досмотрел? Ты можешь гарантировать, что они не увезли с собой деньги, паспорт и куртку этого Рюба?
Молоденький милицейский опер-осетин только хлопал густыми ресницами и заикался, оперативный дежурный ЛОВД отводил глаза. Валов потребовал отправить Рюба на машине начальника транспортного отдела милиции в посольство ФРГ для справки либо срочной замены паспорта, чтоб можно было выписать немцу билет на следующий рейс. Бундесы выдают своим паспорта в течение дня. С ним поехала переводчица от «Интуриста», помогавшая в этом деле с самого утра. Переводчица эта была недавно аттестованным сотрудником КГБ, прикомандированной в «Интурист». Вдвоем с Валовым они профессионально обсудили детали. Ситуация была ясна как день и беспокойства не вызывала: немец-урод накидался алкоголем до отключки, в туалете дернул не ту дверь, да там и вырубился, а паспорт, безусловно, подтянули черномазые. Отправив потерпевшего и раздав указания, Валов пошел в общий зал, в столовую для персонала, но отобедать ему было не суждено — прибежал дежурный линейного ОВД, которому было велено забронировать для потерпевшего билет на следующий рейс до Франкфурта, и сказал нечто такое, отчего у Валова напрочь пропал аппетит и застучало в висках.
— Касса отказывается менять билет.
— И чем же мотивирует? — с некоей даже иронией поинтересовался куратор, закусывая паровой котлетой.
— Билет не пропал. Он был вчера использован. По нему кто-то улетел.
Иронию как ветром сдуло, кагэбэшник сильно побледнел, оттолкнул тарелку, и уже вдвоем с милицейским они почти бегом устремились в кассы. Да, сомнений не было. Вот она — схема-распечатка, заполненная при посадке: место 12а, как и все остальные, зачеркнуто крестиком. А вот и билет до Франкфурта-на-Майне, выписанный на имя Мартина Рюба, тоже с местом 12а — вместо него пассажир Рюб, как и все остальные, получил обычный светло-коричневый посадочный талон. И вот с этим-то талоном кто-то, не Рюб, прошел в самолет. Прошел и вышел в Федеративной Республике Германии, стране — активном члене блока НАТО, стране, набитой под завязку американскими военными базами!
— Женя, бросай все к чертовой матери и мчись сюда с сиреной! — кричал Валов в трубку через минуту. — Не могу по телефону — расскажу здесь. Какое совещание??? Ни тебе, ни мне не нужны больше никакие совещания. Жду.
Затем он вернулся в кассу и подчеркнуто спокойно разъяснил персоналу, что все нормально — ошибки нет, шум поднимать не стоит, и попросил забронировать билет на имя Мартина Рюба на вечерний рейс. В комнате видеоконтроля его ждало еще одно горькое разочарование — запись вчерашней посадки была выполнена в режиме «одна рамка в секунду», что представляло собой более цепь фото, чем полноценное видео. К тому же запись была сделана камерой с потолка и на ней было хорошо видно серую твидовую фуражку, светлую куртку, но не лицо. Было совершенно очевидно, что пассажир смертельно пьян — в какой-то момент он даже остановился и схватился обеими руками за поручни разделителя, затем как-то собрался, показал паспорт и с талоном ушел внутрь на летное поле к автобусу. Валов вывел на экран изображения пассажира в фуражке и приказал операторам, ориентируясь на фуражку и куртку, просмотреть записи с камер над паспортным контролем, над таможней и в общем зале убытия. Запись нашли довольно быстро, и на ней, несомненно, был гражданин Федеративной Республики Германии Мартин Рюб — тот самый, что этим утром воскрес в складе туалета. Удивительным было то, что немец до прохода в зону вылета двигался вполне уверенно, то есть был относительно трезв! Напиться он мог только в баре, и майор спортивным шагом, расталкивая встречных, поспешил в бар. За стойкой стояла новенькая, только переведенная из буфетчиц на место уволенной Грачевой круглолицая дурочка, и Валов раздраженно плюнул. Он рассчитывал застать Влада, — уж тот-то предоставил бы всю информацию до деталей. Новенькая же заступила на свою первую пятидневку утром и ничего не знала о вчерашнем. Майор отправился на КПП — должен был уже подъехать Солодов, но по пути кто-то осторожно взял его за рукав. Посудница! Даже не пытаясь шифроваться, Валов отошел с ней в сторону и выяснил что:
а) старший бармен-администратор не оставил отчета передачи смены, чего не случалось никогда;
б) он двигал холодильник и не хотел, чтоб ему в этом кто-либо помогал;
в) в баре был одинокий клиент — лысый мужчина лет тридцати.
От этой информации засосало под ложечкой, ведь, если к нелегальному пересечению границы причастен его, Валова, агент, — это катастрофа. В лучшем случае это увольнение из органов.
Еще один удар ждал его на КПП — контрольно-пропускном пункте, которым пользовались сотрудники зоны вылета. Как и на других одиннадцати пунктах Отдельного КПП «Москва», службу там несли солдаты-срочники, обычно призванные из глубинки, — никаких москвичей или питерцев, никаких знакомств, никакого блата. Деревенские парни из Нечерноземья идеально подходили для такой службы. На пункте обязательному досмотру подвергались все допущенные в зону работники, отмечалось и время прохода. Этот порядок был установлен еще во время Олимпиады, но теперь стремительно отмирал — все давно перезнакомились и частенько проходили, вообще не останавливаясь. Для своих использовалась крайняя немаркированная кабина, и вместо солдат там частенько сидел пожилой и безразличный прапорщик. Были даже случаи прохода в «чистую» зону вообще без пропусков — регистраторши и кассирши билетных касс иногда забегали поглазеть на косметику в «Березке». Аккуратно отмечалось только время. Валов взял журнал и обнаружил, что бармен покинул территорию в 1:25 ночи, однако никаких следов выхода грузчика в журнале не было! Майор совершенно потерял самообладание и долго кричал на солдат из будки, их командира и начальника смены, совершенно не отдавая себе отчет в том, что вчерашние контролеры сменились утром, а те, кого он выстроил перед собой, никакого отношения ни к немцу, ни к грузчику не имеют. Бросив журнал и не дождавшись своего шефа, Валов вернулся в буфет, выгнал опешившую барменшу из-за стойки и стал внимательно разглядывать холодильник, пытаясь его подвинуть. Затем вытащил из угла мусорное ведро и вывалил содержимое на пол. Внимание его привлекла разорванная упаковка от бинта и сгоревшая электробритва, однако прикасаться он к ним не стал, а вновь подошел к холодильнику и, сев на корточки, стал шарить под ним рукой. Майор вынул облепленную Димкиными волосами руку, поглядел на сгоревшую бритву, и ему стало очень плохо. Так плохо, что он даже не смог подняться и сел, скрючившись, точно на то место под стойкой, где недавно в такой же позе сидела и плакала Аня Грачева. Здесь его и нашел подъехавший начальник.
Положение было катастрофическое — советский гражданин не просто бежал на Запад, а использовал для этого информатора КГБ. Никаких шансов остаться в Системе у них не было, а Валова ждали проблемы похуже увольнения, ведь это он пробивал и протаскивал никому не известного грузчика. Впрочем, брезжил еще мизерный шанс, что проклятый племянник угрожал бармену и никакого сговора и плана тут не было, а был эксцесс этого самого грузчика, ведь, судя по записи, он был сильно пьян. Это была последняя соломинка, и оба оперативника за нее ухватились — надо ехать домой к бармену! У пункта контроля их со скорбным лицом ждала посудница Люся со свернутой курткой «Аляска» в руках — Валов без вопросов понял, чья это куртка, проверил карманы и вернул ее:
— Оставь в баре.
— Это грузчика, — настаивала посудница, косясь на Солодова и почувствовав в нем начальника.
— Я знаю, чья это куртка!!! — закричал Валов, осекся и быстро пошел за Солодовым на выход. В общем зале он ненадолго поднялся на второй этаж в бухгалтерию и вышел с маленьким клочком бумаги, на котором был написан новый адрес бармена. На стоянке обнаружился автомобиль начальника линейного отдела милиции, в котором еще утром отправили Рюба в посольство ФРГ. В машине были опущены все окна, водитель бегал вприпрыжку вокруг. Он доложил, что Рюб остался в посольстве, — его будут смотреть врачи на предмет сотрясения мозга, а все контакты теперь по линии МИДа, что переводчицу от «Интуриста» даже не впустили внутрь. Окна открыты потому, что от немца сильно пахло мочой, а с середины дороги он еще и начал блевать. Машину водила помыл как мог, но запах вот не уходит…
Служебная «Волга» Солодова летела по Ленинградке, опера молчали. Оба понимали, что уже завтра их отстранят от работы, что, даже если они убедят бармена наврать про то, что он был запуган племянником, — эта версия ничего не гарантирует. Водитель, поглядывая на вставленную в специальный зажим записку с адресом, быстро домчал их до новой кооперативной высотки и встал в торце, не выключая мотор, а подавленные оперативники, поскрипывая снегом, пошли в адрес.
Модный звонок-соловей заливался трелями, но к двери никто не подходил. Они уже хотели уйти, но тут Солодову померещился негромкий свист, более похожий на звук, с каким обычно выходит воздух из проколотой шины. Подполковник плотно прижал ухо к двери — она вдруг подалась вперед и открылась. Замок не был заперт, но сама дверь была прижата с помощью квадратика свернутой бумаги. В лицо им ударил холодный воздух, а по полу навстречу, гонимая сквозняком, покатилась пустая аэрозольная банка из-под краски. Оперативники быстро зашли внутрь и прикрыли дверь на ту же сложенную бумажку — сквозняк прекратился, банка остановилась. Балконная дверь была настежь открыта, снежинки кружились над паркетом. На стене, прямо по дорогим рельефными обоям, краской было размашисто написано: «Будьте вы…», — последнее слово заходило на кухню. Солодов кисло поморщился.
В ванной тихонько журчала вода и сидел абсолютно белый труп бармена. Вены в локтевых сгибах были глубоко разрезаны, видны были даже белые кончики разделенных бритвой сухожилий, но крови не было — она ушла с водой. На лице покойника некоторое удивление, глаза полуоткрыты и смотрят вниз на бегущий ручеек, унесший всю его кровь, всю его многослойную и такую непростую жизнь. Валов приложил наружную сторону ладони к губам Влада и сразу отдернул, будто его ударило током.
— Что же он такой белый-то? — прошептал он.
— Кровь, похоже, не сворачивалась. Больной был, — предположил Солодов и добавил: — Он что — левша?
— Н-не знаю даже. Почему?
— У него следы краски на левой руке. И где бритва?
— Да он сидит на ней — вон видно ручку перламутровую.
— Уходим?
— Нет. Надо записку поискать.
Еще с полчаса они отрешенно бродили по квартире, заглядывая за мебель, осторожно, в перчатках двигая и возвращая на место предметы. В голове у них бродили одни и те же мысли: «Ах, если бы этот труп образовался до побега! Как хорошо, как удачно легли бы карты — все нашло бы свое объяснение, все бы сошлось как нельзя лучше — мразь племянник совершает убийство и бежит, чтоб избежать ответственности. Простая, такая русская, такая привычная всем бытовуха. Эх-эх…»
Никакой записки, кроме той, что на обоях, оперативники не нашли и покинули квартиру, оставив дверь настежь открытой. Из телефона-автомата Солодов позвонил 02, сказал, не представляясь, что у соседа сломана дверь и надо бы проверить — запишите, пожалуйста, адрес, пришлите наряд. И повесил трубку. Оперативники молча сели в машину. Водитель вопросительно посмотрел, но ничего не сказал, а Солодов вынул из кармана квадратик бумаги, которым была прижата дверь квартиры бармена, развернул и начал читать. Валов на заднем сидении заметно занервничал.
— Это мне? Это обо мне? — наконец не выдержал он.
— Почти. Это ментам. Но о тебе. Точнее, о нас всех. На — выйди и сожги.
…
— Но поймите же, господин Лемке, — ваш подопечный оказался замешан в преступном деянии, и случилось это, как мы все понимаем, на советской территории — почему же германская сторона препятствует допросу потерпевшего?
— Господин Рюб ни в коей мере не считает себя потерпевшим. Напротив — он глубоко раскаивается и даже готов компенсировать ремонт двери в туалете аэропорта.
— Хорошо, но где же его верхняя одежда? Бумажник? Билет, наконец?! Ведь очевидно же, что все это было похищено и мы обязаны найти грабителей.
— Мой подопечный, как вы его назвали, так не считает. Он полагает, что все перечисленное могло быть им оставлено в любой другой кабинке туалета и впоследствии подобрано кем-то. Ведь находка не является правонарушением?
— Нашедший обязан был сдать эти вещи работникам аэро…
— Ну вот теперь вы и сами видите, что проблема лежит между подобравшим куртку с бумажником и работниками аэропорта и тут уже мой подопечный ничем помочь не может! Нет никаких причин чинить Мартину Рюбу препятствия по возвращению его на родину — я говорю это от имени господина Андреаса Майер-Ландрут, чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германии.
— Ни о каких препятствиях, господин Лемке, речь тут не идет — доведите эту простую мысль до своего руководства. Правоохранительные органы нашей страны выполняют свою работу, пытаясь разобраться в этом печальном инциденте с гражданином ФРГ, с тем чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.
— Мы все делаем свою работу. Мартин Рюб вылетит сегодня домой и уже через несколько дней сможет дать какие-то пояснения вам по телефону. Всего доброго, господа.
— До свидания.
Мартин два дня пролежал с сотрясением мозга в клинике при посольстве ФРГ и, не закончив лечение, вылетел домой. Никаких официальных объяснений по поводу произошедшего с ним в ночь с третьего на четвертое декабря он не дал. Все последующие попытки контактов письменно или по телефону оставил без внимания.
В понедельник, седьмого декабря 1981 года, в кабинете Андропова по этому происшествию было проведено экстренное совещание. Докладчиком вместо отстраненного начальника управления «Т» выступил генерал-полковник Алидин — начальник УКГБ по Москве и Московской области.
— Виктор Иванович! Не нужно мне пересказывать всю историю — я внимательно прочитал справку, — прервал его Андропов, — скажи мне свое мнение: мог этот грузчик иметь отношение к зарубежным спецслужбам?
— Нет. Я в такую возможность не верю. Молод слишком.
— Это не довод. Что скажет контрразведка? — обратился Андропов к начальнику Второго главного управления Григоренко.
— Выводы делать рано, но по той информации, что мы имеем сегодня, фигурант практически все три последних года находился в казарменных условиях и был окружен большим количеством людей. Нет никаких данных не только о возможной вербовке, но и вообще о каких-либо контактах с иностранцами. Тем не менее я приказал не использовать региональные управления и командировал в Еланскую дивизию, где фигурант проходил срочную службу, и Находкинское училище сотрудников центрального аппарата — они опросят сослуживцев, соберут информацию и документы.
— Очень правильное решение, Григорий Федорович. Позволит, кроме прочего, уменьшить огласку. Что решили с сотрудниками?
— Валова увольняем. С Солодовым сложнее — он не подписывал допуск перебежчика к работе в зоне вылета и вообще находился в отпуске. Характеризуется только положительно, прекрасный агентурист.
— Увольнять никого нельзя, — неожиданно заявил Андропов, — иначе огласки нам не избежать. Верните этого Валова в аэропорт — увольте через месяц-два, когда стихнут разговоры. При передаче его агентуры новому сотруднику следует подчеркивать, что Валов отправлен на повышение — это очень важно для нейтрализации возможных слухов. У всех причастных отобрать подписки о неразглашении, в ходе бесед намекать, что все идет по плану и, если кто и оказался на Западе, — то так и задумывалось органами и нет никакой необходимости делиться этой историей с друзьями.
Решено было уголовного дела по факту незаконного пересечения государственной границы не возбуждать. Резидентуре в Бонне поручить собрать информацию о судьбе беглого грузчика и, по возможности, определить его статус и местонахождение. Начальника Управления «Т» Второго главного управления КГБ уволить в связи с реорганизацией и образованием нового Четвертого управления, майора Валова из Комитета государственной безопасности уволить по негативным основаниям, но не ранее седьмого февраля. Подполковника Солодова от работы начальником отделения отстранить и передать в распоряжение управления кадров (позднее ему было предложено отбыть советником в 40-ую армию, ведущую боевые действия в Афганистане, на что тот без раздумий согласился). Предложить Министерству путей сообщения СССР внести в должностные инструкции персоналов аэропортов обязательную — третью проверку паспортов пассажиров перед посадкой.
Заграница
Оставаться в аэропорту не имело смысла, но и податься было некуда, и Димка обреченно побрел прочь вдоль длинной очереди такси, ожидавших свистка диспетчера. Свисток означал разрешение двум авто въехать внутрь аэропорта, к терминалам. Очередь, однако, почти не двигалась — ночь. Таксисты кучковались по двое-трое и обсуждали что-то свое — таксистское, слышалась немецкая и турецкая речь. Димка дошел почти до конца этой очереди из машин, как вдруг его ухо резануло незнакомое, но такое русское слово «цаповник». Он остановился как вкопанный — молодая круглолицая таксистка с вьющимися русыми волосами смеясь толкала в спину пожилого мужчину, тоже таксиста. Подождав, пока дядька уйдет к своей машине, Дима робко приблизился, попросил знаком отпустить стекло и спросил:
— Извините, а вы не говорите по-русски?
— О, русачок! — обрадовалась полька и добавила четко: — Мир, труд, Олимпиада! Цо пан хце?
Но пан и сам толком не знал — что он хце…
— Не могли бы вы отвезти меня в город?
— Мает пан каки пеньензы? — поинтересовалась таксистка, хитро прищурив один глаз. Какие-то пеньензы Димка, конечно, имел — он вынул из кармана пачку, что Влад достал из-за холодильника, и дверь машины гостеприимно распахнулась. Польский показался Димке смешным — он все понимал, но его не покидало чувство, что таксистка эта на самом деле русская и только дразнится, нарочно коверкая слова. Он наврал, что прилетел с группой советских туристов из Москвы и только что от них убежал. Рассказывать настоящую историю он не решился — слишком невероятно. Девушка его понимала — в польских школах все изучали русский. Интересный такой достался пассажир.
— Малгожата Моссаковски, — представилась полька и, секунду подумав, добавила: — Гошка.
— Гошка? — переспросил Димка и впервые улыбнулся. Гошка разглядывала его безумную прическу и тоже улыбалась — она и сама не так давно приехала сюда из Гданьска. Днем она училась, а по вечерам работала в такси, куда ее недавно пристроил дядя — профессиональный таксист, прилично лет уже живущий в ФРГ. Об этом она рассказывала пассажиру, смеясь спрашивала что-то и тут же сама отвечала. Эта не очень понятная болтовня странным образом несколько успокоила Димку — напряжение отступило и захотелось спать. Машина незаметно продвигалась в очереди, и чем ближе они приближались к терминалам, тем острей перед пани Моссаковской вставал вопрос — а куда же его везти, такого славного? Гошка переключила радио на справочный канал и стала что-то бойко говорить в микрофон по-немецки, советуясь с диспетчером. Поблагодарила, отключилась и задумалась.
— Запровадже до костела! — объявила она.
В тепле машины Димку повело — до костела, так до костела, — прошептал он, силясь не заснуть. Горшка резко вывернула из очереди, включила счетчик, и они покатили к городу.
— Heiligen Nikolaus, — объявила она и добавила, будто пассажир понимал, где это: — Im Freibad Hausen.
— Николай? Так это русская церковь, что ли?
— Ну так! — подтвердила Гошка, с улыбкой наблюдая в зеркало, как клиент борется со сном. Кнопкой она немного опустила стекло, и пассажир, второй раз увидевший работу автоматического стеклоподъемника, пришел в себя.
— Пшистко бедже добже! — подбодрила она его.
— Очень хочется, чтоб пшистко… и добже тоже хочется, — признался Димка и улыбнулся во второй раз, а Гошка расхохоталась.
Светает — впереди появились очертания огромных небоскребов. Наступает утро, сменяя и размывая этот вчерашний, наполненный каким-то концентрированным ужасом и принесший невероятное нервное истощение день. Ничто, впрочем, не говорит за то, что наступивший будет легче…
— Гошка.
— Цо?
— Я… я никогда не был в церкви.
Дмитрий
Церковь была вовсе на церковь и не похожа — обычное строение в индустриальном районе города, рядом какие-то рельсы, склады. Гошка высадила сонного пассажира, но уезжать ей не хотелось — она объяснила Диме, что вернется на это же место в час дня, чтобы поменять польские злотые из пачки, что выдал племяннику Влад, на дойчемарки. Она бы и сейчас поменяла, да русачок сегодня ее первый пассажир — надо еще заработать эти самые марки. И уехала, веселая. А Димка сел на крыльцо и стал ждать. Никто, впрочем, не смог бы точно сказать, чего именно ждал беглец. Сидеть на ступеньке было зябко, и Димка периодически подсовывал под себя собственные ладошки, а потом прижимал их к щекам, чтобы нагреть — сонливость сразу слетала. Тем не менее он задремал.
— Wie kann ich dir helfen?[6] — услышал он сверху, и кто-то осторожно коснулся его плеча. Перед ним стоял мужчина лет 35-ти с очень неподходящей к лицу окладистой, но редковатой бородкой и пронзительными синими глазами.
— Я нихт ферштейн, — пробормотал Дима, с трудом возвращаясь в эту новую реальность.
— Русский! — воскликнул обладатель редкой бородки. Не было понятно, утверждает он или спрашивает.
— Русский, — с готовностью подтвердил русский, с трудом поднимаясь.
— Как ваше имя? — поинтересовался синеглазый с мягким акцентом.
— Дима… Дмитрий.
— И я Дмитрий, — улыбнулся незнакомец, открывая ключом церковные двери. — Отец Дмитрий.
— Чей отец? — растерялся еще не пришедший в себя Димка, и поп заливисто расхохотался. Был он из семьи еще первых русских священников-эмигрантов, что сначала нашли убежище в Харбине, потом вынуждены были перебраться в Белград, затем в Австрию, где и родился Дмитрий. Приход, однако, он получил здесь — в Германии.
— Нет, какая-то работа, конечно, есть, но я не занимаюсь хозяйственной частью — для этого у нас есть выборный староста и казначей. Я вас обязательно представлю. Нет, жить в церкви, я думаю, нельзя, но, если вам совсем некуда податься, — можете пока ночевать в классе, хотя это только на время. Благодарить следует не меня, а Господа нашего, ведь помогать ближнему — одна из задач слуг Его…
Церковь представляла собой подобие коммуны, прихожан насчитывалось меньше сотни, и все друг друга знали. Важные решения принимались приходским советом из десяти человек, деньгами заведовал казначей, выбираемый сроком на год. Было и еще много всякого удивительного и непривычного советскому человеку. Огромное внимание уделялось детям — для них работала воскресная школа, проводились утренники, экспедиции и походы: делалось все, чтоб детишки не забыли язык и родную культуру. При всем при этом работы для беглеца в церкви не было — все делалось руками самих прихожан. Тем не менее настоятель решил оставить Диму при храме, разрешив ему спать в помещении школы — что-то в открытом лице пришельца подкупало отца Дмитрия. Часами он расспрашивал своего гостя о жизни за железным занавесом и не только. Собеседником беглец оказался чрезвычайно интересным — он свободно ориентировался в древней истории, обладал феноменальным знанием географии и при этом очень хорошо и ясно изъяснялся. Несколько месяцев назад скончался многолетний староста прихода Горачек, и, пока не избрали нового, настоятелю в своих решениях не на кого было особо оглядываться: он решил под свою ответственность приютить тезку. Так Дима вошел в лоно церкви. Вошел не прихожанином, а, можно сказать, по специальности: грузчиком, дворником, исполнителем мелких поручений.
— Видите ли, Дима, я ведь даже еще и не протоирей, хоть и настоятель нашего храма. Мой сан — иерей и это невысокий сан. Рассчитываю, однако, вскоре быть посвященным в протоиреи, как подобает настоятелю.
— Как в армии. Там тоже… звания… должности… — бормочет невпопад Димка
Священник замолкает и смотрит на собеседника — не шутит ли тот, не иронизирует ли? Но Дима серьезен — просто мысли его далеко-далеко, в заснеженной Москве. Как там дядя Влад? Смог ли выкрутиться? Хватило ли связей? Маловероятно, конечно… И уже непонятно — стоило ли все это затевать? Кормил бы сейчас синиц на дядиной кухне, разглядывая из тепла, как они долбят клювиками кусочек мороженого сала. Так ли ужасна была та жизнь? Ведь не был же он диссидентом, от голода не страдал, гонениям не подвергался…
И, конечно, Анька. Где она теперь? А самое главное — ну почему так вышло, почему получилось, что с его приходом в бар всем близким вылилось лишь одно только горе? И что — теперь так всегда будет? От этой мысли Димку бьет как током, встрепенувшись, он с болью смотрит на собеседника:
— Простите, задумался. Я какую-то глупость, наверное, сказал?
— Дима, послушайте, — может, пришло время рассказать, что вас так мучит? Я наблюдаю за вами уже прилично времени, и у меня стойкое ощущение, что три четверти ваших мыслей где-то очень далеко. Где? Расскажите — я не враг вам. Возможности мои ограничены, и помочь по-настоящему я вряд ли смогу, но кто знает? Да и вам будет полегче.
Но Дима не был готов рассказывать историю своего побега. Да, он не убивал этого парня, чей паспорт спрятан в его спальном мешке. Ему даже неизвестно, как именно это произошло, но произошло это для того, чтобы он смог вырваться из страны. А значит, именно на нем лежит большая доля ответственности — ведь этот неизвестный парень, этот немец, потерял жизнь лишь потому, что кому-то приспичило непременно бежать из СССР. И этот кто-то вот он и есть — Димка! От таких мыслей его тошнило, болела голова и притуплялось восприятие — он начинал плохо слышать, становился невнимательным. Вот и сегодня, помогая женщинам печь пироги к рождественскому утреннику, он опять впал в прострацию и сильно обжег на плите локоть.
— Это может нехорошо кончиться, — вновь заговорил отец Дмитрий, глядя на забинтованную руку собеседника. — Вам следует открыться, и мы вместе подумаем, вместе поищем решение. Я видел много беженцев и хорошо представляю, через что многим из вас пришлось пройти…
Так то — беженцы, — с тоской отвечал Дима, — а из меня какой беженец? Я и сам не знаю, кто я. Авантюрист, наверное…
Деликатному настоятелю такая самооценка не понравилась, но настаивать и давить расспросами он не решался.
В следующую неделю он попросил Диму помочь преподавательнице русского языка приходской школы. Детей Дима любил и легко с ними ладил, но никакого учительского опыта, конечно же, у него не было. Вместо языка он просто начал по-русски преподавать географию. Просто, неформально, не нудно, непрофессионально — так, что ученики не хотели расходиться после занятий. Настоятель был горд и счастлив. Среди недели Дима подрабатывал в магазине фототоваров, принадлежащем Сигизмунду — казначею прихода. Жизненный путь казначея, приведший его во Франкфурт, был отмечен весьма тяжелыми и кровавыми событиями — арестом и высылкой родителей, войной, двумя ранениями и двумя пленениями. Чудом удалось ему после войны избежать выдачи СМЕРШу — спасла немка Труда, на которой он впоследствии женился. Сигизмунд яро ненавидел Советы и к новому помощнику отнесся поначалу с недоверием, но довольно быстро понял, что от этого вихрастого парня ничего плохого ждать не следует. В магазин частенько заглядывали солдаты и офицеры американских военных баз, во множестве разбросанных по территории ФРГ. Многие из них, заканчивая службу, не прочь были привезти домой качественный немецкий фотоаппарат, и тут новый помощник оказался незаменим. Димка с удовольствием общался с военными на английском, болтая на разные темы и помогая выбрать покупку. Сентиментальный бездетный Сигизмунд просто не мог нарадоваться. Внешне жизнь потихоньку налаживалась, но спокойствия не было и в помине — беглец плохо спал, почти не ел. Раза два в неделю приезжала веселая Гошка — показывала ему город, водила в кафешки, но никакого движения к ней он не ощущал, и это ужасно расстраивало обоих. «Нужно как-то определиться, — с тоской размышлял Димка, — иначе я заполучу психоз». Как это частенько бывает в жизни, помог алкоголь. Вообще-то, Дима его не употреблял. То есть почти не употреблял, что дома, в России, резко выделяло его из сверстников и вызывало большие подозрения еще у Аньки, да и не только у нее. Дима не имел к водке каких-то особых претензий, но когда-то давно, на собственных проводах в армию, он сильно перепил и долго мучительно блевал желчью, часть которой залетела в носоглотку и сильно обожгла слизистую. Навсегда запомнилась ему эта жгучая, кислая, омерзительная масса где-то за носом — с тех пор, стоило ему понюхать алкоголь, как внутри что-то рефлекторно сжималось и Дима, беспомощно и виновато улыбаясь, ставил рюмку обратно на стол. Впоследствии, правда, он придумал спасительную технологию — отправив рюмку водки в рот, он тут же подносил к губам стакан с водой якобы для того, чтобы запить, но на самом деле незаметно выплевывал в воду весь алкоголь. Работало это почти всегда без сбоев. В этот раз, впрочем, воспользоваться этим не пришлось. Новый 1982-ой год встречали у отца Дмитрия. Приглашенных было немного, за столом довольно быстро образовались две компании — в одной, что помоложе, говорили по-немецки, и Диме поневоле пришлось примкнуть к русскоговорящим, что были все значительно старше его. К вкуснейшим закускам жена Сигизмунда Труда подавала собственного приготовления Kirschwasser. Простодушный Димка в аромате сладкой черешни, смородины и миндаля даже не сразу разобрал алкоголь и после четырех или пяти фужеров сделался пьян. Сначала ему стало хорошо и он принимался благодарить собравшихся за участие в его так резко повернувшейся жизни, затем задумался и надолго замолчал. Все это время за ним внимательно наблюдал хозяин стола. Через некоторое время он даже подсел рядом. Однако расспрашивать поддатого гостя ему не пришлось — Димка заговорил сам, и остановить его было невозможно.
Дознание иерея
Услышанная история повергла священнослужителя в ужасное смятение. Это было совсем не то, что он ожидал — отец Дмитрий был уверен, что источником депрессий его подопечного являются оставшиеся в СССР родственники и, возможно, любимая девушка. Из рассказа, однако, высвечивалась совершенно другая, гораздо более зловещая история с убийством безвинного гражданина Германии. И хоть гость его напрямую не был в этом замешан, ситуация требовала разрешения. Второго января настоятель вежливо, но твердо попросил у Димы паспорт Рюба, затем поднялся к себе, вышел, завел машину и, ничего не объяснив, уехал. Димка отнесся к этому спокойно — он устал бояться, устал крутить в голове одни и те же мысли. Его уже устраивало любое разрешение этого узла.
Но уехал отец Дмитрий не в полицию, как был уверен беглец, — уехал он в Брауншвайг по адресу на наклейке в паспорте Мартина. Сначала иерей хотел позвонить и даже выяснил через оператора домашний телефон Рюбов, но отчего-то, набрав номер, бросил трубку и спустился к машине.
Димка этого не знал — он решил дожидаться полиции у входа. Не хотелось ему, чтобы люди в форме из-за него входили в церковь. Прождав часа два или три, он проголодался и отправился в фотомагазин. Сигизмунд специальными присосками изнутри прикреплял к витринному стеклу новенькую неоновую табличку «We speak English». Увидев Димку, он радостно замахал руками, попеременно показывая пальцем на табличку и на Димку, рот его шевелился, но из-за толстого витринного стекла ничего не было слышно. Димка тоже заулыбался — внезапно у него прошел нервный озноб. В магазине его накормили вкусными расстегаями, оставшимися еще с Нового года, и беглец окончательно успокоился — будь что будет!
А было странное. Через несколько часов езды по автобану отец Дмитрий добрался до адреса Рюбов и в некотором смятении позвонил в калитку массивного двухэтажного дома. Он не очень представлял, как начнет разговор с родственниками убитого, чей паспорт лежал у него в кармане, и уже неосознанно надеялся, что дома никого не окажется. Но тут дверь резко распахнулась и к калитке подбежала девочка лет десяти в желтых резиновых сапогах, которые ей были явно велики.
— Добрый день! Как вас зовут и кого вам позвать? — затараторила она.
— Какие у тебя великолепные сапоги, — ответил Дмитрий, не зная, как продолжить разговор.
— Это для работы в теплице! — похвасталась девочка.
— Эмма! Эмма! Вернись сейчас же — опять простудишься, — послышался мужской голос. Дмитрий поднял глаза — от дома к нему шел человек с фотографии на паспорте.
— Добрый день, — сказал он, открывая калитку.
Священник ничего не ответил — у него пересохло в горле, и он пожалел, что взял на себя дело, которым, похоже, должны заниматься совсем другие люди из совсем другой, далекой от религии сферы.
— Вы зайдете? — спросил Мартин и вдруг понял, что этот странный мужчина с нелепой бородкой сейчас каким-то образом вернет его в недавнее неприятное прошлое. Так и оказалось — неизвестный гость молча вынул из кармана паспорт и протянул его Мартину.
Тем временем Сигизмунд закрыл свой магазин и Димка побрел обратно к церкви. Присев, как месяц назад, на ступеньки, он принялся терпеливо ждать. Уже стемнело, но ни настоятель, ни полиция так и не появились. В итоге он замерз, открыл школьный пристрой да и залез в свой теплый спальник с книжкой.
— Нет-нет! Это совершенно невозможно. Куда же вы в ночь? Мы не можем вас отпустить. Завтра воскресенье — спокойно с утра и поедете, — убедительно говорил Рюб-старший. Отец Дмитрий провел уже полдня в их теплом гостеприимном доме, плотно закусил и обсудил с инженером, казалось, все вопросы бытия: от христианства до политики, и по всем законам приличия пора было уже и распрощаться. Но уйти было решительно невозможно. В доме Рюбов была атмосфера какого-то праздника, будто недавно произошло нечто очень хорошее, и священнику подсознательно хотелось побыть тут подольше. Уже утром ехал он по полупустому автобану и прокручивал в голове разговор с Мартином.
— Какие же претензии? Поймите: этот удар по голове — лучшее, что произошло со мной не только в Советском Союзе — это, возможно, лучшее, что произошло во всей моей жизни! Я буквально проснулся после этого сотрясения мозга. Никому я не был так благодарен, как родственнику вашего подопечного. И не смейтесь — я абсолютно серьезен.
Родители его, не зная, конечно, всех перипетий и приключений сына на далеком Урале, рассказали Дмитрию об удивительной трансформации Мартина по возвращении. О том, что он обложился книгами и готовится поступать в университет, о том, что в Рождество не выпил даже пива…
В отличном настроении иерей гнал свой «Фольксваген» домой, предвкушая, как он расскажет беглецу о разговоре с живым и почти невредимым Рюбом.
Мартин тоже в это утро был в прекрасном настроении. Он недавно закончил лечение, все кошмары остались в прошлом, впереди была учеба и целая жизнь. Распрощавшись с гостем, он поднялся к себе в комнату и погрузился в воспоминания, как вдруг его кольнула тревожная мысль — нужно позвонить Лемке! Ведь этой историей занималось немало людей и он просто обязан сообщить эту новую информацию. Мартин походил по комнате, хотел было спуститься и посоветоваться с отцом, но передумал и, достав визитку разведчика, с некоторыми колебаниями все же поднял телефон и попросил международного оператора. Продиктовав оба номера, он положил трубку, но телефон зазвонил уже через минуту — соединили с домашним.
Мартин начал с поздравления с Рождеством и Новым годом, чем расслабил разведчика, и тот допустил фатальную ошибку — не смог вовремя среагировать, когда Рюб перешел к рассказу о вчерашнем госте.
— Я думаю, вам будет интересно знать, что вчера нас посетил священник русской православной церкви из Франкфурта и рассказал, что у них в церкви живет…
— Мартин!!! Я не хотел бы этого сейчас обсуждать!!! — закричал Лемке, догадавшись, но Рюб взволнованно продолжал говорить, и Лемке бросил трубку. Опешивший Мартин вновь попытался связаться, но оператор ответила, что трубку в Москве больше не поднимают.
Простодушный немец даже не понял, что только что он передал в КГБ СССР местонахождение разыскиваемого ими перебежчика. Разговор, конечно, был перехвачен спецаппаратурой Второго отдела 16-го Управления КГБ (электронная разведка, радиоперехват и дешифровка), немедленно распечатан полный транскрипт и отправлен на третий этаж — в папку с тисненой надписью «Председатель».
Тем временем Лемке поспешил на Мосфильмовскую, 56, где прямиком отправился в кабинет спецсвязи посольства. Вскоре к двухэтажному дому Рюбов второй раз за эти выходные подъехал незнакомый автомобиль, правда, визитеров в этот раз было трое — женщина и двое мужчин. Все они предъявили пластиковые удостоверения Bundesamt für Verfassungsschutz[7], впрочем, с женщиной Мартин уже был знаком. Звали ее Регина Хайнц — она возглавляла Агентство по охране конституции в Брауншвайге. Именно она опрашивала Рюба по возвращении из СССР.
— Мартин! Ну почему не мне? Почему непременно в Москву? — мягко поинтересовалась она, глядя прямо в глаза собеседнику. — Ведь я оставляла тебе свой телефон.
— Не знаю я, — честно отвечал растерянный Рюб, — возможно, мне просто хотелось поделиться радостью с Лемке. Я был уверен, что он будет очень рад. Он много для меня сделал — я просто посчитал себя обязанным позвонить…
— Мартин. Пообещай мне, что ты никогда, никогда и ни разу больше на свяжешься с Москвой.
— Я не связывался с Москвой! Я просто позвонил господину Лемке.
— Ох, Мартин, Мартин…
Съехав с автобана и не заезжая домой, отец Дмитрий свернул к церкви. Ему не терпелось поделиться со своим подопечным ошеломляющей новостью. Поставив машину за новеньким белым минивэном и машинально отметив про себя, что никогда прежде у церкви его не видел, священник пошел к калитке, что вела к зданию школы, выбирая на ходу из связки правильный ключ.
— Herr Rayewsky? — услышал он незнакомый голос. Из белого вэна вышли трое неброско одетых мужчин и, приветливо улыбаясь, направились к нему, причем старший даже помахал рукой. И добрый иерей второй раз за эти выходные четко ощутил, что ввязался не в свое, ох, совсем-совсем не в свое дело…
И вновь, уже в который раз за короткое время, Димкина жизнь проделала крутой поворот. Страх прошел совершенно, исчезло угнетенное состояние последних недель, и беглец стал думать о будущем. Что же с ней делать, с этой большой будущей счастливой жизнью? Примерно раз в неделю его приглашали на беседы в BFV, выдали забавное бумажное удостоверение личности и предложили переехать в бесплатную комнату. Димка к тому времени уже оборудовал себе неплохой угол в доме Сигизмунда и начал отказываться, чем привел оперативников в замешательство. Они недолго посовещались и затем через переводчика поляка Юрека вновь настойчиво попросили переехать в это жилье. Пришлось согласиться. Жилье, конечно же, было оборудовано спецтехникой с целью зафиксировать попытку контакта с перебежчиком агентуры КГБ, Штази либо советских дипломатов или журналистов. Но все, что удалось зафиксировать, — это первый весенний Димкин с Гошкой бурный секс.
А в здании на площади Дзержинского прошло второе совещание. Начальник Первого главного управления Крючков устало и без интереса заслушал доклады с информацией, добытой в отношении перебежчика, собранные различными подразделениями, и выслушал мнения присутствующих. Никаких прошлых контактов с иностранцами не проглядывалось. Обнаружились возможные пересечения с гражданами социалистических стран в рижском общежитии, где разрабатываемый проживал в период неудачной попытки поступить в институт гражданской авиации, но принимать это во внимание не имело смысла. Как это всегда бывает при масштабных мероприятиях, выявились побочные, не имеющие прямого отношения к перебежчику истории. Выступивший начальник управления кадров доложил, что разведдопросами подруги грузчика Анны Грачевой, исключенной из агентурной сети, вскрыты факты аморального поведения сотрудника политотдела Шадурского. Приказ о его увольнении уже готов. Кроме того, обнаружилось, что вышедший на пенсию инспектор отдела кадров Дальневосточного морского пароходства Анатолий Нититич Лахов на самом деле является находящимся во всесоюзном розыске с 1961 года за хищение соцсобственности в особо крупном размере бывшим бухгалтером золотодобывающей артели «Синегорье» Эдуардом Израилевичем Лурье. Настоящий Лахов погиб в 1959 году при взрыве разведочного шурфа. Следствием занимается краевое УВД, Лурье арестован и дает показания, из которых следует, что с фигурантом он знаком не был, а направление в Находкинскую мореходку вручил ему в соответствии с разнарядкой комсомольских путевок, поступивших в отдел кадров из крайкома ВЛКСМ.
Начальник Четвертого (ФРГ) отдела ПГУ доложил, что местонахождение фигуранта установлено, предпринятые осторожные попытки контакта с ним успеха не имели, но через источники коллег из ГДР известно, что планов вернуться у него нет. Все говорит о том, что это была попытка покойного бармена уйти «на рывок», но понимая, что будет опознан на посадке, последний вытолкнул своего племянника, которого персонал не знал в лицо. Этим же частично объясняется последующее самоубийство бармена.
— Версия имеет право на жизнь, но есть у меня, товарищи, сомнения в этой истории — продолжайте и наращивайте оперативную работу с этим не в меру резвым грузчиком. Следите за его судьбой, перемещениями, контактами. Опыт подсказывает, что мы о нем еще услышим.
С этого времени, в связи с установлением местонахождения перебежчика, активные мероприятия по розыскному делу были прекращены, само дело переведено в ДОР (дело оперативной разработки) «Грузчик», но большого движения по нему не было, хотя и ожидались новые материалы от Штази. В целях конспирации и во избежание возможных слухов было окончательно решено уголовного дела по факту незаконного пересечения границы не возбуждать.
Франкфурт
— Тебя, наверное, прикрепят к толстовскому фонду, раз ты не жидак.
— Кто?
— Не еврей, — несколько смутившись, поправился переводчик Юрек. Оба языка — русский и немецкий, не были ему родными, но переводил он бойко и был нарасхват.
— А зачем меня прикреплять-то? — озадачился Дима.
— Ну, так положено. Они помогать будут.
— В чем? — не унимался беглец.
— Ну, чтобы ты, значит, адаптировался быстрее, язык там и прочее. А кстати, можно пана запытать? — Юрек, когда волновался, часто вставлял родные польские слова.
— Запытай! — смеется Димка.
— Но только это приватно! За между нами.
— Ну запытай уже!
— А зачем ты здесь остаешься? Для чего не едешь до Америки? Английский же разумеешь…
— А кто ж меня?.. А как? — Димка пришел в неописуемое волнение. Эта смутная, несформированная мысль сверлила его мозг уже довольно давно, но вот так обыденно, как от Юрека, она никогда не звучала. — Как это можно сделать? Ведь я уже признан беженцем в ФРГ?
— Ну, как я разумею, они пока только установили твою личность и начали процедуру. А потом — никто не может тебе запретить пойти к американцам. Я бы пошел, — сказал Юрек и стал смотреть в сторону, словно его обидели.
— Слушай, Юрек, — помоги! — взмолился беглец. — Через неделю мне уже неловко будет что-то менять! Сходи со мной к американцам или куда там надо.
— Да я-то тебе зачем там? По-английски ты и сам объяснишься. Скажешь, что всегда хотел до Америки, а раньше не пришел потому, что у немцев следствие шло. Возьми все бумаги, что у тебя есть, и иди. Нет, я не пойду с тобой — я простой переводчик, у меня еще и проблемы будут…
Три дня беглец сомневался и мучился, но все решили две чернокожие девчонки в форме ВВС США, зашедшие в фотомагазин. Димка долго помогал им выбрать линзы для макросъемки, попутно отвечая на вопросы о жизни в СССР и сам их о чем-то спрашивая, и вдруг отчетливо понял: пройдет несколько долгих-предолгих лет, прежде чем он сможет так же объясняться на немецком! Уже утром следующего дня он прошел в железные ворота гигантского светло-серого комплекса американского консульства во Франкфурте. Было полное ощущение, что он попал в какую-то военную часть — кругом ходили десятки людей в армейской форме, были слышны команды. Тут все были при деле и очень торопились — солдаты куда-то несли огромные, высоченные рюкзаки, офицеры сверяли бумаги в папках, изредка пробегали женщины в цивильной одежде, но со строевой выправкой. Огромную часть работы этого консульства занимало обслуживание военных баз, разбросанных в округе. Беглец почувствовал себя совершенно лишним, ему стало как-то зябко и одиноко. Тем не менее он решительно подошел к одной из стоек и сказал смуглолицему служащему, что он из Советского Союза и ищет политического убежища. Отрепетированные ночью английские фразы и предложения в развитие темы ему не понадобились. Дежурный что-то прокричал в микрофон, и через пять минут к Димке вышел невысокий человек средних лет с усталым лицом.
— Сэм, — представился он по-русски, — но можно и Семен. Он провел гостя в небольшой кабинет без окон, вынул длинную необычную тетрадь с желтыми листами. Листать их следовало снизу вверх. «У немцев таких нет», — зачем-то отметил про себя гость. Корявым почерком по-английски Семен быстро заполнял эти листы Димкиным жизнеописанием, не показывая при этом никаких эмоций. Так пролетело несколько часов.
— У тебя есть где жить? — спросил он, заканчивая писать.
— У меня, вообще-то, и работа есть, — сам не зная зачем, похвастался Дима.
— А может, ты уже и girlfriend завел? — улыбнулся американец, и лицо его преобразилось — исчезла без следа усталость, а в глазах заблестели смешинки.
— Завел… — опустив глаза, отвечал беглец. Сэм оттолкнулся от стола и покатился в своем кресле на колесиках. Витиевато, с некоей завистью присвистнул — эх, молодость, молодость… затем встал и начал складывать бумаги в портфель.
— Я отвезу тебя домой. Мне необходимо поговорить с господином Раевским, вашим священником. По-моему, мы даже с ним немного знакомы.
В машине Димка осмелел и начал расспрашивать своего нового друга. Особо не замыкаясь, Сэм рассказал, что когда-то был советским солдатом и ушел в Западный Берлин во время строительства стены. Женился на немке, затем уехал в Штаты, учился, развелся, воевал во Вьетнаме, а теперь вот на федеральной службе.
— А трудно, наверное, поступить на федеральную службу?
— Да нет, — отмахнулся Сэм, — сюда идут те, кто не способен найти себя в частном бизнесе, кто никогда не будет летать первым классом и жить в доме с видом на океан.
Так Димка и не понял, ирония это была, сарказм или факт. При этом он совершенно успокоился и сам себе объяснил, что нервничать больше незачем, что решат его судьбу теперь вот такие люди, как этот Сэм-Семен, и что повлиять на это он уже все равно никак не сможет. Кошмары закончились — он работал в магазине, занимался с детишками в церкви, пытался учить немецкий, но вместо этого без всяких усилий неплохо освоил польский. И еще ссорился с Гошкой, постоянно ссорился с Гошкой…
Сэм приезжал еще три или четыре раза с неизменными желтыми листами, каждый раз что-то уточняя. Примерно через месяц в фотомагазине зазвонил телефон и некто по-английски попросил Дмитрия, но напрасно радовался Сигизмунд — то не были покупатели. Голос с сержантскими интонациями вежливо попросил явиться в консульство США на Гизенер Штрассе в 9 утра понедельника.
В этот раз Диму провели в большой и светлый кабинет, где под новеньким портретом Рейгана сидела молодая спортивного вида женщина без следов косметики. По-английски она задала гостю с десяток довольно общих вопросов: что произойдет с ним в случае возвращения?.. Звонил ли он в Москву?.. Имел ли контакты с близкими?.. Знает ли об их судьбе?.. В каком звании демобилизовался из армии? Сделала какие-то записи в открытой перед ней папке, затем протянула холодную ладошку и распрощалась. Вся встреча заняла не больше пяти минут и совершенно раздавила Димку морально. Внезапно он осознал, что только что произошло нечто очень важное и, по всей видимости, не совсем для него хорошее. В состоянии, близком к тому, что испытал на регистрации в Шереметьево, на негнущихся ногах вышел он из кабинета. Не хватало воздуха, стучало в висках, и кружилась голова. В коридоре его встретил невеселый Сэм. Попросил подождать, зашел ненадолго к женщине под Рейганом, тут же вышел с бумагами в руках и знаком предложил следовать за ним. Полон дурных предчувствий, Дима поплелся в уже знакомый ему крохотный кабинет.
— У меня есть для тебя очень плохая новость, — начал Сэм и, взглянув с беспокойством на бледное лицо собеседника, добавил, указывая на стул: — Я хочу, чтоб ты присел.
«Выдадут!!! — кувалдой застучало в Димкиной голове. — Выдадут обратно!.. Поэтому она и спрашивала про Москву!.. Обратно… Выдадут… Как же так???»
— Что? — сказал он с вызовом каким-то хриплым, самому показавшимся незнакомым, чужим голосом. — Вы решили выдать меня обратно?
— Как это? — поднял голову от бумаг Сэм. — Зачем обратно? Куда обратно? По твоему кейсу консулом только что принято положительное решение — какое может быть «обратно»? Сейчас, возможно, тебе понадобится поехать в специальный лагерь в Мюнхене на пару недель, а затем — Нью-Йорк.
— А что же тогда? — шепотом прохрипел изумленный Дима. Округлившимися глазами он смотрел на Сэма и, кажется, ничего уже не соображал.
— Мне искренне жаль, но, похоже, у тебя больше нет родственников. По нашим сведениям, твой дядя — Климов Владислав Михайлович, умер. Покончил жизнь самоубийством еще в декабре прошлого года. Я не сообщал тебе раньше, но вот вчера эту информацию подтвердили наши друзья из немецкой BND — теперь нет оснований сомневаться.
…
— Не снимайте ее. Пусть висит.
— Ну как же не снять? А вдруг зайдут да начнут со мной по-английски разговаривать, а я и немецкого-то за все эти годы толком не выучил, — сокрушается Сигизмунд, тайком вытирая слезу.
— Скажете им, что я выходной. Что в отпуске. Скажете, что вернусь. Что приеду еще.
— А ты приедешь?
— Обязательно. Я теперь много ездить буду… Я точно знаю.
— Куда же, Дим?
— Да много куда, — конфузится важный Димка, — это большой мир. — И, поправив рюкзак, смущенно добавляет: — Очень большой мир!
— Удачи тебе, Дима.
New York, New York
— Хапнешь горя лопатой! — безапелляционно заявил Изя.
— Че так? — опечалился беженец.
— Кто ж тебе помогать-то будет? Ни Джуйка, ни Хиасс русского не возьмут, а толстовский ваш фонд и так нищий был, а теперь, говорят, и вовсе накрячился.
— А меня вот к этим приписали, — показал Дима желтый конверт плотной бумаги. Прямо по центру было написано The International Rescue Committee[8].
— Херня какая-то, — отрезал Изя и отвернулся к окну. Читать по-английски он не умел.
Огромный «Боинг» компании «Пан-Ам» набрал высоту и нес нашего героя к новой жизни. Герой прикрыл глаза и отдался размышлениям. Мысли, однако, лезли какие-то глупые.
Что за странное имя — Изя? Женское какое-то имя. Он познакомился с ним при посадке, безошибочно выделив соотечественника. Изя этот тоже впервые летел в Америку, но, в отличие от Димки, прекрасно знал, куда летит и чем будет заниматься — в Бруклине у него родственники. Он, как положено, выехал с женой, дочерью и тещей. В Вене все получили убежище, но он тут же слег в больницу с почками, а семья улетела в Нью-Йорк — вот теперь он с пересадкой их догоняет. Долго и обстоятельно объяснял Изя благодарному слушателю прелести работы таксистом и даже приводил убедительные расчеты. По его рассказам получалось, что нет в эмиграции лучшего занятия, чем крутить баранку. Работаешь за наличные и одновременно можешь получать пособие, бесплатную медицину и даже субсидированное жилье! Диму такая перспектива не впечатлила, и он рассеянно заметил, что машину никогда не водил. Чертыхнулся про себя Изя, окончательно потерял интерес к разговору, а вскоре и заснул.
«Во нервы у человека!» — восхитился несостоявшийся таксист. Сам он заснуть, конечно, не мог — в голову лезли самые разные мысли. Удивительное дело — всю свою жизнь Димка интересовался заграницей и наивно полагал, что знает о ней немало. Как же так получилось, что он представления не имеет о таких важнейших вещах, как Джуйка, вэлфер, фудстемпы, Хиасс и другое, а вот этот Изя, пустивший во сне слюну на казенную подушку с надписью Pan-Am, ориентируется в этих понятиях как рыба в воде? Может, прав он — не «Голос Америки» мне нужно было слушать, а в московскую синагогу ходить — говорят, что именно там обсуждаются все перипетии отъезда и устройства на новом месте.
Первое, что он увидел в аэропорту Кеннеди, был гигантский портрет бывшего соотечественника — с фирменной ироничной улыбкой на него смотрел Михаил Барышников. «Welcome to New York!» — гостеприимно приветствовал танцор. Из вещей у Димки был только малюсенький рюкзак да большой желтый конверт с бумагами — он поднял его на уровень глаз надписью наружу, в точности как инструктировал Сэм, и вскоре к нему подошел невзрачный сухощавый человек с прозрачной пластиковой рамкой на шее. В рамку эту была вставлена бумажка с написанными на ней тремя буквами I.R.C. Узнав, что у прибывшего нет никакого багажа, встречающий пришел в крайнее изумление. «О, да ты настоящий беженец!» — засмеялся он. Снаружи лил проливной дождь. Исполинских размеров автомобиль встречающего поверг Диму в настоящий шок. «Понтиак Бонвилл», — прочел он название этого монстра. Вместо сидений там были настоящие широченные диваны, внутри было тепло, тихо и пахло ароматизаторами. В дороге разговорились. Дядька оказался румын, тоже беглый, но не какой-то грузчик, а целый дипломат. Сказал, что машина эта надежная и недорогая, что никаких особых прав на управление таким гигантом не требуется — по американским меркам это обычный седан. Сказал, что едут они в Бруклин, где на улице Флатбуш IRC держит квартиру для временного размещения беженцев перед отправкой по всей Америке — в Нью-Йорке не оставляют никого. Вскоре они остановились у мрачного здания бурого кирпича с кованым забором и калиткой. Румын выдал два ключа и показал, как открывать калитку во внутренний дворик. Затем вынул из багажника большой пластиковый куль и, ловко закинув его за спину, повел гостя на третий этаж. Квартира была огромной и замысловатой, с множеством комнат, выходящих в ломаный, как лабиринт, общий коридор. Большинство этих комнат пустовало, и новоприбывший выбрал самую маленькую с двумя кроватями. В куле у румына оказались постельные принадлежности, полотенце и еще какие-то мелочи. Он объяснил, что завтра следует прибыть в штаб-квартиру IRC на Парк Авеню, но, как туда добраться, не сказал. Выдал 60 долларов и ушел обратно в дождь, а новоприбывший завалился спать в хорошем настроении. Дело в том, что румын изъяснялся по-английски неважно, несколько даже хуже, чем наш герой. «Славненько, славненько! — повторил Димка про себя любимое выражение Сигизмунда, — значит, не пропаду, значит, найду работу, значит, устроюсь тут», — и с этой мыслью провалился в глубокий сон.
Утром его разбудили удары входной двери, разговоры в коридоре. Димка взял зубную пасту, щетку, полотенце и выглянул наружу. На кухне сидели шестеро поляков, пили чай и о чем-то спорили. Увидев гостя, все разом замолчали.
— Чещ! — сказал им Димка, и поляки возликовали.
— Полак?
— Ние, — отвечал гость, — ние мовие по-польску… але разуме пшистко[9]!
Поляки скрыли разочарование, а Димка безотлагательно спросил, как найти этот самый IRC. Тут же старший кинулся к окну и, высунувшись по пояс, заорал:
— Якуб!!! Якуб!!! Врощ тутай![10]
Оказалось, туда только что отправился словак Якуб, но поляки его перехватили, вернули в квартиру и заставили ждать Димку. С этим словаком, умывшись и почистив зубы, он и направился в самый центр Манхэттена. Нью-йоркский сабвей привел путешественника в смятение. Стойкий запах мочи и расписанные вагоны даже отдаленно не напоминали роскошный Московский метрополитен. Прямо между рельсов конвульсировала средних размеров крыса с голым хвостом и серебристым брюхом — видно, съела яд. По перрону парами прохаживались толстые и неопрятные полицейские в некрасивой черной форме. Было очень шумно. Группка чернокожих подростков поставила на пол приличных размеров стерео на батарейках, откуда звучал новый хит «Абракадабра» — полицейские не возражали. Они, собственно, и сами были чернокожие.
Якуб этот оказался большой весельчак. На безумной смеси русских, английских, польских и словацких слов он рассказал, что все до одного поляки живут в их квартире нелегально — они давно уже выбрали все беженские льготы и имеют работу, но из экономии продолжают жить в спонсорской квартире. Легальных обитателей там только двое — он, Якуб, и вот теперь еще Дима. Вчера нелегалы попрятались, так как верная полячка из офиса IRC сообщила, что вечером привезут русского, а сегодня опять пришли. Гнать их не стоит — с ними веселее и всегда можно подработать «на дохах», то есть на заливке крыш гудроном. Димка вовсе и не думал никого выгонять — пусть живут. Про себя Якуб рассказал, что был пограничником и ушел пешком в Австрию.
— Один ушел?
— Нет. Вдвоем с русским.
— С русским? — изумился Дима.
— Ага. С калашниковым! — отвечал Якуб, заржав при этом на весь вагон. Впрочем, никто даже не взглянул в их сторону.
Манхэттен ошеломил. Димке уже случалось бывать в центре Франкфурта, видал он и небоскребы, но сейчас у него натурально перехватило дух. Людские реки мчались друг на друга, закручивались в водовороты, разбивались о коляски с хот-догами, вновь сливались и неслись, неслись куда-то — очевидно, к богатству и успеху. Вершины небоскребов скрывал туман, и непонятно было, какая там жизнь, за этим молоком — светит ли солнышко? Улицы генерировали удивительную смесь разнообразных звуков: от автомобильных гудков и полицейских сирен до криков велокурьеров. Из-под решеток прорывался грохот подземки. Странно, но через пару минут ухо переставало замечать эту какофонию. Димка совершенно забыл о цели этой поездки и стоял потрясенный с закинутой назад головой. Якуб его не торопил — он уже месяц, как прилетел сюда, и чувствовал себя коренным ньюйоркцем — немного даже гидом. В конце концов он взял подопечного за рукав и они вышли на Парк Авеню. Широчайшую улицу небрежно перегораживал массивный небоскреб. Сквозь туман Димка разглядел огромные буквы — название авиакомпании, доставившей его вчера в Америку — Pan-Am. Чтобы не блокировать движение, в небоскребе были оставлены своего рода туннели для машин. «Чего ж его так хамски построили прямо поперек улицы?» — с восхищением подумал бывший грузчик. Но спросить было некого. Тут же, совсем неподалеку, располагался офис IRC, или Международного комитета спасения — организации, принявшей под свою опеку Якуба, Димку и сотни других беженцев. Зайдя с шумной улицы в пустынный холл здания и позже в лифте, Димка испытал странное ощущение. Так чувствует себя боксер сразу после победного боя — хочется дальше прыгать и махать кулаками, в организме бурлит переизбыток энергии, и кажется, весь мир принадлежит тебе. Много-много раз после этого бывал он на улицах Манхэттена и всегда получал от толпы заряд энергии. Просто от улицы, просто от тысяч спешащих за счастьем и успехом разноцветных, разноязыких озабоченных людей.
Бесшумный лифт поднял друзей точно под облако. Якуб получил какие-то деньги и немедленно ушел, а Диму попросили подождать. В холле он подошел к огромному, в пол, окну и прикипел к нему. Внизу бурлил человеческий муравейник. Тротуара не было видно из-за сплошного потока людей. Удивительным образом двигались машины — очень плотно и очень медленно. Половина машин была покрашена в желтый цвет. Иногда внизу появлялся автомобиль скорой помощи или полиции с яркими световыми маяками на крыше — все расступались и пропускали, но, что поразительно, — за этими спецмашинами на расстоянии сантиметра друг от друга выстраивался хвост ушлых желтых таксистов и огромной гусеницей неотрывно следовал за ними, пробиваясь таким образом из болота пробок. Димка был абсолютно зачарован, прилип к толстому стеклу и совершенно потерял счет времени, пока не ощутил, что кто-то осторожно взял его за локоть.
— Ну что же вы? Я зову, зову… — улыбалась очень полная женщина лет тридцати. — Мне поручено заниматься вашим кейсом, — с этими словами она протянула белую визитку.
«Tassia Soodi», — прочитал Димка. Они прошли в офис, и в следующие полтора часа беглец как губка впитывал информацию о своей новой жизни.
— Наша организация имеет офисы во многих городах Америки, — с едва уловимым акцентом сказала Тася, — с завтрашнего дня я начну искать для вас работу, но имейте в виду — здесь, в Нью-Йорке, остаться не получится. — С подкупающей откровенностью она объяснила почему: — Дело в том, что главным показателем нашей работы является скорейшее трудоустройство беженцев, но стоит русскому на полминутки очутиться в районе Брайтон Бич — как он тут же плотно садится на разные программы и пособия. На работу его потом не выгнать. Поэтому мы стараемся распределять новоприбывших по всей стране, подальше отсюда.
Тася перешла на английский, чтобы протестировать подопечного, и нашла его словарный запас очень значительным. Вместе с тем из-за отсутствия практики говорит он медленно, но это быстро пройдет. Затем немного рассказала о себе.
— Нет, нерусская. Нет, в Союзе не была. Кстати, почему всегда говорят «Союз», а не Россия или СССР? Нью-Йорк люблю осенью и ненавижу летом. Америку всегда люблю. Да, за жилье будет уходить половина зарплаты, но надо к этому привыкнуть. Слово «негр» лучше прямо сейчас насовсем-навсегда забыть. Какой бы хорошей ни была работа, — можно со второго дня искать лучшую, это нормально. И еще много было сказано интересного — Димка все запомнил, как таблицу умножения. Ему было выдано 200 долларов и бумага в Администрацию социального страхования, что находилась в соседнем здании — там бывшему грузчику был присвоен номер, дающий право на трудоустройство, а саму карточку-удостоверение обещали отправить на адрес IRC. А еще Тася дала адрес в Нижнем Манхэттене, где Диму будет ждать ее бывший подопечный, беглый матрос Алексей. Он в Штатах уже шесть лет, работает и недавно получил гражданство. «Вам будет полезно пообщаться с ним», — советовала она, подробно объясняя, как проехать на метро, но Димка предпочел водоворот улицы. Он долго шел по Парк авеню, затем по Бродвею, свернул на улицу Леонард, где сразу нашел нужное здание. С трудом разобрался в устройстве домофона и поднялся в лифте на восьмой этаж. Алексей этот как-то сразу не понравился — в отличие от открытой и бесхитростной Таси, он много рисовался, изображая из себя настоящего американца, постоянно вставлял в речь английские слова и при этом вопросительно поглядывал, ожидая реакции собеседника. На интересующие Димку вопросы Алексей не отвечал, даже на самые простые. Отказался сказать, сколько он платит за квартиру, где работает и сколько получает, зато давал много советов. Он настоятельно рекомендовал гостю пойти добровольцем в армию, долго и подробно перечислял преимущества и выгоды — от разговорной практики до оплаты за колледж. «После армии ты даже думать будешь по-английски!» — убеждал Алексей. Дима от предложения вновь оказаться в казарме и надеть форму пришел в ужас, но виду не подал. Разговор постепенно угасал, и гость засобирался домой, когда вдруг заметил накрытый тряпочкой проигрыватель дисков. Оказалось, это Technics SL-1200 — такой же, как был у Влада. Тут они вновь разговорились. Выяснилось, что Алексей, или Алекс, как он себя называл, тоже имеет внушительную коллекцию пластинок, но увлекается исключительно джазом. По обеим сторонам балкона его крохотной студии расположились высокие и узкие колонки, которых гость и не заметил, пока не закрутился диск. Звук был потрясающий. На столике образовалась маленькая бутылочка виски и сыр. Димка рассказывал о своих приоритетах, — поп-рок шестидесятых, в основном, конечно, «Битлз», Алекс снисходительно замечал, что это ничего, это не страшно — и поп, и рок, и «Битлз» тоже надо пройти, прежде чем созреешь и подойдешь к настоящей музыке — джазу. Расстались друзьями — хозяин даже проводил гостя до метро, объяснив, как ехать, и выдав кучу разного рода предостережений. Беглец благополучно добрался до Бруклина, поднялся в квартиру-лабиринт и заснул как убитый.
Утром его вновь ожидало кухонное дежавю в лице тех же поляков. Отставив чашки с чаем, они немедленно устроили вежливый допрос — их интересовало, ожидаются ли в эту квартиру новые беженцы и что вообще говорила ему «груба кобета». Димка хотел было возмутиться и сказать, что Тася, напротив, — весьма вежливая женщина, но вовремя вспомнил причитания Гошки на предмет избыточного веса: «О-о! Я така груба!» Груба — значит толстая. «Ну да, Тася, конечно, нехудая, но этот польский — это что-то», — скривился беглец. Он как мог успокоил кухонную общественность и помчался на метро — бродить по улицам Манхэттена. Так пролетели восемь дней, за которые бывший грузчик неплохо изучил город. Город, который убитый здесь два года назад Джон Леннон называл столицей мира. Дима поднимался на башни Всемирного торгового центра и на смотровую площадку Эмпайр Стейт Билдинг, прошагал весь Центральный парк и пересек на пароме Гудзон, сходил на бродвейскую постановку Jesus Christ Superstar[11] и на последний «бондовский» фильм. Он влюбился в этот вечно пульсирующий мегаполис и уже совершенно не чувствовал себя здесь чужим. Но одна забота не давала ему покоя и точила мозг — как тут найти свое место, свою нишу? Особенно остро эта мысль резанула его во время паромной экскурсии на статую Свободы. Димка смотрел на группу шумных туристов из Японии и вдруг увидел, как один из них, сделав неловкое движение, уронил за борт дорогущую фотокамеру. Группа на полсекунды замолчала, и вдруг все начали… хохотать! Причем громче всех заливался бывший владелец этой камеры. «Смогу ли я когда-нибудь так же беспечно ржать, уронив в воду долларов пятьсот? — с печалью размышлял беженец, — как я вообще буду тут зарабатывать и на что жить?»
Медовую неделю с Манхэттеном завершил тот, кто и начал этот роман — словак Якуб. Однажды поздно вечером он вежливо постучался к соседу и объявил, что тому надлежит утром явиться к Тасе. Очень обрадовался простодушный грузчик и утром устремился в офис IRC. Он надеялся в этот раз подольше поговорить со своей благодетельницей, получить побольше полезной информации. Но все пошло не так. Перед Тасей сидела молодая пара, причем девушка плакала, а парень что-то горячо доказывал на незнакомом языке.
— Это надолго, — извинилась Тася, выходя с Димкой в коридор, — у меня к вам два предложения: Флорида и Калифорния. Орландо и Сан-Диего. Я лично советую второе, но у вас есть один день, чтобы принять решение. Позвоните мне утром со своим выбором и в конце дня приезжайте сюда за билетом. Сейчас мне, к сожалению, нужно вернуться в офис.
И беженец в смятении отправился в Сентрал Парк, где в прострации целый час рассматривал уток, а затем проголодался, купил вкуснейший хот-дог с приправой чили и мелко порезанным сочным луком, сел на скамейку и принялся размышлять. Опять жизнь делает крутой поворот, снова судьба кидает его за тысячи километров. Ну что же — ведь он об этом и мечтал. Но отчего же вдруг так грустно? Ему не нужна была карта, не нужна энциклопедия — никогда не бывав ни в одном из них, он тем не менее мог рассказать о населении, экономике и климате и Орландо, и Сан-Диего. Орландо, конечно, ближе к сумасшедшему Нью-Йорку, который уже полюбился путешественнику, но климат там не очень, а самое главное — Тася рекомендует Сан-Диего. Димка дошел до 72-ой улицы, постоял у знаменитого дома Дакота, где на тротуаре горели свечи и стояли портреты великого музыканта в круглых очках, развернулся и вновь направился в офис своих спонсоров. Тася была занята уже с другими людьми, и он, помахав рукой, губами прошептал: «Сан-Диего». — «Отлично», — показала она большим пальцем, подмигнула и постучала по телефону, напоминая, что завтра все равно нужно позвонить. Димка закивал головой и удалился.
— Приезжайте сюда с вещами часам к четырем, — сказала трубка голосом Таси, — Флорин, тот, что вас встречал, подвезет до Кеннеди, а рейс у вас в восемь вечера. Да, Кеннеди — это аэропорт, мы так его называем. В Сан-Диего вас встретит шеф тамошнего отделения, зовут его Боб. Нет, американец. В том отделении русскоговорящих нет, да вам и ни к чему. Зато они сняли отдельную квартиру.
Димка с грустью понял, что с Тасей ему уже никогда поговорить не удастся, иначе не стала бы она так подробно инструктировать его по телефону. Так и оказалось — в офисе его встретил знакомый румын, вручил привычный желтый конверт, но уже новый, и повез неспешно назад в Бруклин и дальше — в аэропорт.
Сан-Диего
На регистрации он вместе с билетом подал замысловатую бумагу, полученную еще во франкфуртском консульстве. На бумаге этой было написано, что податель сего признан беженцем и допущен на территорию США, а снизу было даже не приклеено, а просто пришпилено его, Димкино, фото. К большому удивлению, ничего, кроме билета, на регистрации не спросили. «Ну, наверное, при посадке потребуют», — подумал путник и решил бумагу в рюкзак не убирать. Но и при посадке никаких документов не спросили. В самолете он принялся писать письма Сигизмунду и Дмитрию, затем одно порвал, справедливо рассудив, что Сигизмунд покажет письмо иерею и нет нужды дублировать впечатления от Нью-Йорка, а второе подробно и красочно расписал на несколько листов. Боб явил себя сухощавым, загорелым, жилистым дядькой неопределенного возраста с широчайшей улыбкой. В аэропорт он приехал на грузовике, точнее, маленьком грузовичке с закрытым пластиковой крышей кузовом, в котором лежали две доски для серфинга.
— А не опасно? — поинтересовался новоприбывший.
— Чего? — озадачился Боб.
— Ну это… акулы.
— Это самый омерзительный стереотип из всех возможных! — взорвался серфер.
Возмущению его не было предела. Практически всю дорогу пришлось слушать монолог о том, что человек с доской — гость в доме акул и, если он ведет себя подобающим образом, никто его не съест. Боб приводил статистику и прочие доказательства несостоятельности подобных предположений. Димка же впал в грусть. «Насколько мы все же разные и насколько они неспособны понять первичные нужды беженца. Какой к чертям серфинг? Зачем он об этом так пламенно говорит? Разве это мне нужно? Эх, Тася, Тася», — с тоской вспомнил он ее четкие, как выстрелы, совершенно адресные советы. Надо будет ей написать, что ли…
Квартирка оказалась довольно милая, из двух смежных комнат, но называлась она по-американски — «односпальная». На кровати лежал уже знакомый по Нью-Йорку пластиковый куль, на не отделенной от комнаты кухне еще один — с посудой и набором продуктов.
— Найти нас очень легко, — сказал серфер Боб, — выходишь вон на ту улицу, что называется Юниверсити, и идешь по ней, никуда не сворачивая, до 54-ой и тут же на углу и увидишь наш офис. Давай завтра приходи — будем тебе искать работу.
С тем и откланялся, а путник лег спать.
Воздух. Удивительной чистоты и свежести утренний воздух обдувал бывшего грузчика, бодро перебирающего ногами по Юниверсити Авеню. Над головой шуршали пальмы, слышалось пение птиц — было тепло и приятно. Город ему явно нравился. Нью-йоркского столпотворения и пробок не было и в помине — машины были редки, а пешеходов и вовсе не встречалось. Не то чтобы он вдруг разлюбил манхэттенский пульс и динамику, но вот такая резкая перемена тоже показалась ему интересной. «Здесь я, пожалуй, быстрее найду свое место», — размышлял он, открывая дверь под надписью International Rescue Committee. В отличие от нью-йоркского, этот офис располагался в здании, похожем на небольшой самолетный ангар или разрезанную пополам гигантскую бочку. Клерки сидели в загончиках из передвижных невысоких стенок. Отдельно размещался лишь Боб, но и он был на виду, как рыбка в аквариуме, — стенка его кабинета была целиком из стекла. Боб и отвел гостя к молодой полячке по имени Ханна, на столе которой лежал знакомый желтый конверт, в левом верхнем углу его фломастером было написано: «Dmitry Klimov, USSR». «Что ж меня все время швыряет к полякам?» — расстроился про себя беженец, присаживаясь на предложенный стул. Ханна говорила по-английски без ошибок, но очень медленно, и Димка предложил ей перейти на польский. Так он узнал, что квартиру за него будут оплачивать не более полугода. Столько же будет продолжаться финансовая помощь. Дальше по Юниверсити Авеню находится большой образовательный центр — там на очень хорошем уровне преподается английский и можно получить эквивалент аттестата об окончании школы. «Язык пану, похоже, не нужен, а вот аттестат надо получить — экзамен там несложный. Кроме того, нужно обязательно, абсолютно обязательно сдать на водительское удостоверение — без автомобиля тут нечего делать. С работой проблем нет — можно устроиться хоть завтра, но советую сначала получить права».
— Мает пан каки пеньензы? — вдруг произнесла полячка, и Димка вздрогнул. С этого вопроса точно в такой же интонации началось его знакомство с Гошкой в бесконечно далеком отсюда аэропорту Франкфурта. «Гошка, Гошка… надо бы позвонить ей», — с каким-то чувством вины подумалось ему, впрочем, подсознательно он понимал, что звонить, скорее всего, он ей уже никогда не будет. Гораздо чаще ему теперь вспоминалась Аня.
На 44-ой улице беженец обнаружил зеленые холмики, покрытые стриженой травой. На холмиках этих сидели и активно общались десятки людей разных рас с бумагами, книгами, бутербродами и кофе в бумажных стаканчиках. Вскоре, однако, всех их втянуло в себя здание с вывеской San Diego Continuing Education — центр для желающих продолжить образование. Направился туда и Димка. Его довольно долго мучили в офисе ориентации, где определили, что его английский соответствует пятому уровню. Беда была в том, что на пятый уровень никогда не набиралось студентов. Третьего и четвертого уже были достаточны для работы, и люди просто не доходили до последнего курса. Дима записался на четвертый и на тест для получения эквивалента школьного аттестата. В центре были широко представлены различные профессиональные курсы: от сантехника и оружейника до дизайнера одежды, но вождению автомобиля тут не обучали.
— Тут не фиг делать, — безаппеляционно заявил Эмин, складывая два куска пиццы вкуснятиной внутрь, — это бестолковый город военных и пенсионеров. Надо валить в Лос!
С Эмином Димка подружился на курсах и за месяц узнал от него множество интересных вещей — вот даже такое неслыханное диво, как пицца, открыл ему именно Эмин. Он же научил складывать кусочки, или слайсы, начинкой друг к другу — горячий сыр не обжигал губы, да и, вообще, вся процедура поедания этого чудесного продукта приобретала некую опрятность. В Штатах он был уже более полугода, а до этого его шесть месяцев проверяли в Мюнхене, куда он был переправлен из Югославии, где специалист по титану, секретный инженер Гулиев находился в командировке. Там он успешно ушел от своих коллег, явился в американское посольство и попросил политическое убежище. Вспоминать об этом он не любил — говорил, что это было очень нервное время. Югославы могли выдать его Москве, и, почему они в конце концов разрешили ему выезд в ФРГ, так и осталось загадкой. Впрочем, загадок в нем была прорва. Например, Эмин свободно говорил, пел арии и писал по-итальянски. Английский его был тоже очень неплох, и на курсы, по его словам, он ходил от скуки, в поисках новых знакомств. Он нигде не работал и, похоже, не очень искал трудоустройства, все время приговаривал: «ОНИ мне должны что-то предложить». Кто такие эти «они», не пояснял, да Дима и не лез с расспросами. Главным же Эминовым достоинством в Димкиных глазах был, конечно, красный автомобиль «Ауди». На нем он вечерами и учился вождению, на нем вскоре сдал на права. Можно было идти к Ханне и устраиваться на работу, но новый знакомый яростно отговаривал его от этого шага:
— Ты сможешь вернуться в Сан-Диего к старости — доживать. Это город доживания. Сейчас они устроят тебя на какую-нибудь тухлую работу за 5 долларов в час, через пять лет ты поднимешься до 9—10 долларов и сам не заметишь, как бессмысленно пролетит вся жизнь.
— Ты-то откуда знаешь? С чего ты выдаешь такие прогнозы? — изумлялся Дима.
— Вижу. Общаюсь с местными. Проецирую, — туманно отвечал Эмин и продолжал: — Нужно валить в большой город и искать себя в бизнесе. Мутить что-то свое. Иначе прокантуешься всю отмерянную жизнь, как сраный инженер в Союзе.
— Ну вот эти братья, Юра и Саша, что открыли продуктовый магазин на Юниверсити, — они почасовую зарплату не получают, но ведь реально же умирают в своей лавке с восхода до заката! Тоже на жизнь мало похоже, — сомневался грузчик.
— А ты посмотришь на них через пару лет, когда они раскрутятся и поставят за прилавки таких, как ты, — кому не в падло работать на зарплату, а сами будут оттягиваться на круизах!
— Ну черт его знает. Я-то вообще еще толком не работал — ни на чек, ни на себя. Да и как ты что-то замутишь — стартовый капитал нужен же!
На этот довод возразить было нечего. Друзья трижды сгоняли в Лос-Анджелес, но никакого впечатления этот город не произвел — покрыт четко видимым желтоватым смогом, фривеи постоянно стоят в пробках, а на улицах, наоборот, пустынно. Кроме того, все какое-то неопрятное, запущенное. Поразило количество латинос. «Очевидно, перейдя границу, они стремятся как можно дальше уйти на север», — рассудил он, катясь в Эминовой машине домой в Сан-Диего.
А вот занятия на курсах беженцу очень нравились. Студенты делились примерно поровну: иранцы, бежавшие после падения шаха, и японки — жены военных с огромного гарнизона Кемп Пендлтон, где шла постоянная ротация солдат с баз на Окинаве. Оттуда солдатики и привозили жен-японок. Русских в классе не было. Димка принялся ухаживать за немного полноватой, но очень красивой иранкой по имени Пуштун. У нее были выразительные и всегда немного влажные глаза-миндалины, и непонятно, куда бы эти глаза его завели, если бы вдруг аккуратная и никогда не пропускающая занятия Пуштун не исчезла. Через несколько дней Димку на перемене разыскала ее старшая сестра и кое-как объяснила, что объект его обожания вернется в класс, как только герой-любовник… сам прекратит посещать занятия! Запечалился Димка, вспоминая, как иранка старательно занималась, и уж совсем было собрался бросить класс, но передумал. «Ничего же я не делал с ней, — рассуждал он, — не форсировал, вел себя уважительно, про Персию расспрашивал. За что же меня гнать-то?» И остался.
А вскоре у него появилась Йоко. Маленькая японка сама подошла к нему в магазине пластинок, сказала, что видит его каждый день на перемене, но он, очевидно, ее не замечает. Они пару раз где-то недорого поужинали и стали жить вместе. Йоко училась в университете, а в центре брала курсы дизайна. Кроме того, она отлично говорила на английском. С ее появлением дальнейшее посещение классов утратило всякий смысл — никакой инструктор не в состоянии был бы дать больше разговорной практики, чем live-in girlfriend, или, как это неблагозвучно называется по-русски, — сожительница. Странные это были отношения. В них присутствовало искреннее участие, много секса, разговоров и смеха. При этом возможное расставание ни одна сторона не расценила бы как трагедию.
— Ты знаешь, она — наркоманка!
— Ека твоя, что ли?
— Ага. К ней уже третий раз подруга-стюардесса прилетает — так они накуриваются какой-то дрянью и ржут как кони. А потом сметают все из холодильника.
— Да ты с ума сошел. Это трава. Конопля называется. Из земли вырастает. Не называй ее больше наркотиком, а то обидно — вся моя юность под этим дымком пролетела. Ты вот лучше деньги начинай с нее брать за квартиру. Тыщу раз говорил — здесь так принято! К тому же она в поиске.
— Ну ты-то откуда знаешь?
— Да вижу я. По глазам, по голосу, по интонациям, по жестам. Даже по походке вижу.
Но деньги беглец брать стеснялся, зато ходил с Йоко по вечерам и субботам в университет, разобрался в этой странной системе «кредитов» и «юнитов», а потом даже сам стал потихоньку брать курсы в колледже при этом университете, насколько позволяло время.
Колледж, однако, расценивался как личная забота беженца, а вот прекращение посещения занятий в центре автоматически означало выход на работу. Димка и вышел. Ханна определила его к своему дяде рабочим по обслуживанию жилого комплекса из огороженных забором двухсот дорогих домов с тремя общими бассейнами, теннисными кортами и спортзалом. Работа была несложная и состояла в мелком ремонте оград, проводки, ирригационных спринклеров и прочее. Плюсом было то, что вся работа проходила на воздухе, а минусов было два: необходимость носить форменную майку и бейсболку с названием комплекса — Playmore, и то, что в бригаде были исключительно Ханнины земляки — поляки.
— Что значит «не люблю форму»? — удивлялся бригадир. — Вот сегодня ты приставлял лестницу и красил перила на балконах. А ты понимаешь, что тут в каждом доме оружие? Увидят они незнакомого на своем балконе да и застрелят через стекло. Ты даже понять не успеешь, что случилось!
Димка нервно поежился. Темно-синяя майка его больше не раздражала, иногда он не снимал ее и после работы — никому в Калифорнии дела нет, как ты одет, да к тому же маек этих ему выдали аж пять штук. Решилась и проблема передвижения — он занял у Эмина денег и за 900 долларов купил себе огромный седан «Шевроле» весом почти в две тонны. Машина эта несколько лет использовалась в полиции и по достижению определенного пробега была выставлена на аукцион — обычная практика в Штатах. Димка, конечно, ничего об этом не ведал — всю информацию собрал ушлый Эмин, он же и провел покупку, поднимая в нужный момент руку.
Управлять этим монстром было легко и приятно — в салоне тишина, мощный восьмицилиндровый двигатель мгновенно реагирует даже на легкое нажатие педали газа, отлично работает кондиционер. При всем при этом машина оказалась весьма прожорливой и при цене бензина девяносто центов за галлон наносила заметный урон и без того тощему бюджету. Еще печальней было то, что прошло уже полгода бесплатного проживания и вскоре нужно было начинать платить 350 долларов за квартиру из своего кармана. Добрейшая Ханна, узнав от поляков о приобретении подопечным автомобиля, упросила шефа продлить оплату Димкиной квартиры еще на полтора месяца. Прекрасная все же организация — этот Международный комитет спасения.
На работе все было ровненько, пока в бригаде не появился новый рабочий. Звали его Гженда. Было это имя, фамилия или же кличка, Димка так и не понял. Поляки его презирали — по слухам, он сидел в австрийской тюрьме за кражи из магазинов и должен был быть выслан обратно в Польшу, но как-то выкрутился и даже получил статус беженца в Штатах. Гженда пытался прикалываться над единственным неполяком, но никто не смеялся. Тогда он стал называть Димку попеременно Ленинград и Комсомол, что было неприятно, но терпимо. Но вот однажды он решил напугать русского, подкрался сзади, когда тот крутил какие-то провода, и зашипел, изображая змею. Димка отпустил проволоку, резко развернулся, схватил поляка плоскогубцами за щеку, притянул к себе и эмоционально высказался тому прямо в ухо. Гженда завизжал, как свинья под ножом, и помчался в офис. Случился большой скандал, который Ханна и ее дядя — бригадир, с огромным трудом смогли погасить.
— Пан даже не разумеет, как ужасно все это могло закончиться! — вздыхала она, закатывая глаза.
Гженда немедленно уволился, но появился через неделю — пришел за чеком. Выглядел он неважно — отек с щеки поднялся на глаз, но не это его волновало. Он показал пальцем на аккуратный коричневый прямоугольник на своей щеке, сказал, что это останется на всю его Гжендову жизнь, и пообещал жестоко отомстить. Димка теперь все время бегал проверять свою единственную собственность — машину. Но меченый не появлялся — шины целы, стекла не побиты. Тем не менее работа беглецу разонравилась.
Пропал Эмин. Домашний телефон его не отвечал, стук в дверь тоже оставался без ответа. «Наверное, таинственные „они“ в конце концов что-то ему предложили», — решил наш герой. И не ошибся. Эмин вернулся через неделю злой и разочарованный. Ему действительно предлагали работу в городке Монтерей — древней столице Калифорнии.
— Там Defense Language Institute — языковая школа от Министерства обороны, находится и им нужны инструкторы русского языка. Я для тебя взял пакет, — кивнул он на довольно толстый конверт, лежащий на столе.
— А чего сам-то не захотел?
— Да ты не представляешь, какая это дыра! Деревня. А «институт» этот состоит из одноэтажных бараков с кондиционерами. Есть там с десяток русских — ходят важные такие, называют друг дружку не иначе как «профессор». Я потом забухал там с одним — так он поведал мне по секрету, что купил машину-холодильник и место на пляже. Будет после работы бизнесом с дочкой заниматься — мороженое продавать. Тьфу, блин, — исполнение мечт!
Дальше Эмин рассказал, что инструкторы должны хорошо разбираться в жизни современного СССР, что в институте есть «советские» комнаты с портретами членов политбюро, знаменами и прочей атрибутикой, что обучаются там в основном военные, но есть и студенты в масках — разведчики.
— А сколько платят-то? — рассеянно спросил Димка, забирая пакет.
— Немного. Стартовая зарплата 15 долларов в час, но это госслужба и там полно бенефитов.
— Сколько-сколько? — опешил Дмитрий и даже сел от неожиданности в кресло. Пакет он теперь сжимал как спасательный круг и сразу заторопился домой.
Внутри оказалось довольно много бумаг — он все внимательно заполнил. Подробно описал обстоятельства побега, в поручителях указал телефоны Сэма, Таси, отца Дмитрия, серфера-спонсора Боба и Эмина. Кроме того, в пакете была пустая аудиокассета с инструкцией — нужно было сесть на стул в центре комнаты и подробно на английском рассказать обстановку, ведя взгляд слева направо. Самым неприятным пунктом была графа, где следовало отметить статус — гражданин США или постоянный житель — обладатель грин-карты. Дима не был ни тем, ни другим — вместо этого он приложил письмо из IRC с датой въезда в страну — получалось без малого год. Кроме того, в разделе «образование» он аккуратно вписал предметы, которые он брал в колледже, — пусть видят, что он развивается и улучшается: эти термины он слышал от Таси.
— Здравствуйте. Меня зовут Санджей, я из департамента по персоналу. У вас ошеломляющая история, — ворковал в трубке голос с сильным индийским акцентом, — к сожалению, принять вас инструктором пока не представляется возможным, но мы можем предложить вам должность ассистента, правда, с испытательным сроком и не раньше чем через месяц, когда пройдет год с момента въезда в Штаты. Мы проведем с вами большое интервью по телефону. Ни в коем случае пока не оставляйте работу…
От Сан-Диего до Монтерея меньше пятисот миль на север. Можно было, конечно, ехать и по пятнадцатому фривею — это гораздо быстрее, но путешественник выбрал Пасифик Кост Хайвэй — красивую, видовую дорогу вдоль океана. И вот уже остался позади Сан-Диего с поляками, прекрасным IRC и куда-то ушедшей три недели назад Йоко. Ветер треплет волосы, левая рука, палимая солнцем, свешивается из окна — Димка, надев на нос черные очки — прощальный подарок Эмина, едет начинать карьеру федерального служащего.
«Здравствуйте, дядя Сигизмунд!
Эта бумага, что у меня в руках на фотографии, — сертификат о вступлении в американское гражданство. Можете поздравить нового американца!
…Вот уже шестой год я здесь, а до вас так и ни разу не добрался, хоть и обещал. Совесть моя неспокойна.
…Я часто летаю, правда, все больше в Вашингтон (столицу), но с осени буду в длительной командировке в нашем мюнхенском отделении и уж тогда к вам непременно заеду. Расскажу про исполинские деревья, про медведей гризли, про горячие фонтаны прямо из земли, про огромный каньон и про многое другое — Америку я неплохо исследовал. Обещаю — будет интересно.
…Следите ли вы там за тем, что происходит в СССР, — «перестройка» и прочее? Я слежу, но больше по работе, чем по личному интересу.
…Очень расстроила меня болезнь вашей жены Труды, сильно надеюсь на германскую медицину.
Большой привет отцу Дмитрию — я его часто вспоминаю.
Ваш Дима».
Вена
— Привет. Это я.
— Надо же. Привет. Помнишь, значит, телефон…
— Ага. Сам удивляюсь… Как ты?
— Как я — когда? Сколько лет прошло — ты не забыл?.. Тогда — ужасно, сегодня вроде неплохо. Ты как? Чего не приезжаешь — можно ведь сейчас… Ой! Или ты здесь???
— Нет, Анька, — я далеко. Ну, может, не так далеко. В Европе сейчас.
— А чего позвонил-то, гад?
— Вот честно, не знаю — торкнуло чего-то. Ты прости, если что…
— Пьяный, что ли?
— Так не пью ж я. Забыла?
— Ничего я не забыла. Где ты обитаешь-то, вообще? Где твой золотой век происходит?
— По-разному, Анька. В Америке в основном.
— А сейчас в Европе, значит? Слушай сюда — я в ноябре буду в Вене четыре дня. Хочешь — встретимся. У меня и сюрприз-подарок для тебя есть…
…
Немного было народу в кафе «Централ», что на Херенграссе, — дождь да и время такое — не обед и не ужин. Анна нервно крутила на фарфоре шарик мороженого: «Где же он?.. И надо ли было все это затевать? Глупо получится, если он не поя…»
— А я б тебя и не узнала, пожалуй!
— Ну конечно, — я ж без тележки пришел!
И оба захохотали. И испарилось, исчезло все напряжение. Грачева по-хозяйски схватила Диму за воротник и с видимым удовольствием пропустила его волосы сквозь свои пальцы. С сожалением отпустила и позволила сесть на пурпурный диванчик.
— Докладывай, подлец, все по порядку.
— Ну вот, — развел руками Дима, — я, вообще-то, послушать хотел, — и с этими словами подпер лицо двумя кулаками, демонстрируя готовность впитывать информацию. Разговорились.
— И из-за этого расстались? А чего она не хотела ездить-то с тобой? Во дура! Я б ездила… ой, извини.
— Так не всем это интересно, слушай… Оказалось, нормальные люди и вовсе не любят перемещений.
— А ты?
— А я люблю.
— Ну да. Тебя к нормальным отнести — значит обидеть половину человечества.
И опять засмеялись, и снова Анна схватила его за голову, теперь уже обеими руками.
Прошло уже часа два, и даже поменялась смена официантов, а они все болтали.
— Ну а зачем мне в Россию, Ань? Что я там оставил? Вот разве к дяде на могилу сходить.
— Так ведь нет никакой могилы! Кремировали его. Я пепел просила отдать — истерила там так, что вспомнить стыдно. Не отдали, суки. Не родственница, говорят. Высыпали, наверное, в какую-то яму.
— Ну вот, — отвернулся в сторону Димка, — и мать кремировали. Вовсе не к кому ехать… одно место все ж хочется посетить.
— Ну только не говори пожилой женщине, что это ты про тетину хату на Соколе! — засмеялась Анна.
— Неа. Аэропорт. Бар. Подсобку. Склад. Потолок колечками, — закатил глаза Дима.
«Тьфу, дура! Вот же обезьяна безмозглая — язык бы тебе отрезать…» — расстроилась про себя Анна, впрочем, ненадолго. И они продолжали болтать, словно находились в «Шоколаднице» на Тверской, бывшая улица Горького.
— …Да какой муж? Он женатый, вообще-то. Очень помогает. Кроме зарплаты помогает. Я как переводчик при нем, но называюсь референт. Я тоже не знаю, что это означает. Нет, какая ртуть — он долгами СССР торгует. Да на фиг тебе? Я и сама-то не очень понимаю. Ты о себе ничего толком не рассказал, слушаешь только. Не надо везти — я в этом же здании и живу. Ну да — в Рэдиссон.
И так они болтали дотемна. Как-то скомкано распрощались, но Димка тут же вернулся и за руку увел референта в свою рентованную машину. Взрослые люди.
— Ты иди на заднее сиденье — будешь мне башку мять.
— Тащишься, гад? Не убьемся хоть? Дождь все же… Димк, а ностальгия существует?
— Рассказывают, что существовала. Но давно и не у нас.
— У кого же, Дим?
— Ну вот в Нью-Йорке у меня есть знакомый профессор, очень пожилой — так его папа страдал от ностальгии. Он был полковник в Донской армии, ушел с Врангелем, а в эмиграции ему все время снилось, как он скачет верхом поздней осенью по мерзлой пашне в своем имении. Просыпался с улыбкой, и тут на него падало настоящее. Он и застрелился утром. Утром никто не стреляется, говорят…
— Господи, что за ужасы ты рассказываешь! Ты-то тут каким боком?
— В том-то и дело, что никаким. Мои «имения» в сэсээре — это казармы да кухня у Влада. О чем ностальгировать? Ну вот — приехали. Нет, это не гостиница. Это haus-hotel. Тебе понравится.
Квартирка хоть крохотная, но с внутренним вторым этажом-спальней, напоминающей большой балкон — Анна видела такие в журналах. Все чистенько и вполне уютно, лишь перевязанные стопки полотенец да свежие халаты в пластике выдавали отель.
— …Нет. Не моя. На фига она мне? Может, и служебная, — честно согласился Дима. Ночь прошла в сексе и слезах — каждый раз, говоря о 80-ых, Анна начинала плакать. Проснулись довольно поздно, Анна было запаниковала, но позвонила куда-то и успокоилась.
— Мне в четыре надо быть в холле в деловом костюме и с минимумом косметики! — повторила она чей-то приказ.
— А что с этим олигархом твоим? Он гей, что ли?
— Да нет. Он не по этой как бы теме…
— Семьянин примерный?
— Ну да, — машинально ответила Анна и закрыла ладошкой рот, а Димка сокрушенно всплеснул руками и зацокал языком, изображая участие и сожаление. Ловко отбил обе подушки и спустился на кухню.
— Яичницу?! — кричал он снизу через минуту, но Анька была в душе.
Они неспешно позавтракали, Дима у холодильника наливал в высокие стаканы апельсиновый сок, как вдруг на него навалилось ощущение какой-то нереальности происходящего. Он резко обернулся — Анна смотрела на него с выражением растерянности на лице:
— Мне кажется, что это сон, Димка. Это какой-то сон. Не может же такого происходить, правда? Вот ты что сейчас чувствуешь?
— Аньку чувствую, — ответил он, обняв ее сзади и ткнувшись носом в волосы. «Странно, как нас одновременно накрыло», — думал он, подталкивая ее вверх, — обратно в спальню.
— Гад. А гад!
— Чего-чего? — с готовностью откликнулся Дима. Он всегда был внимателен и отзывчив в постели.
— А ведь я знаю, как ты мне позвонил. Не знаю зачем, но точно знаю — как. Вот только не ври, а ответь честно — ты где-то случайно наткнулся на телефон с диском? Ведь цифр в твоей памяти нет — помнишь только, как диск крутить. Права я? Где нашел античный телефон?
Чрезвычайно опечалился Дима такому повороту разговора, но сумел остаться в зоне правды:
— Нет. Это называется роторный телефон. Нет у меня такого, и не крутил я диска никакого.
Приподнявшись на локте, Грачева внимательно посмотрела ему в глаза. Но тот ничего не добавил. Не рассказывать же, как в Мюнхене у знакомых наткнулся на псевдовинтажный аппарат, кнопки которого были расположены в виде наборного круга. Пальцы мгновенно вспомнили заветную комбинацию. Но никакой диск он не крутил, и лжи тут, соответственно, нет. Тему, впрочем, лучше закрыть.
— Во сколько тебя забрать? — рассеянно спросил он в машине.
— Не забрать меня, Димка. Улетаю я вечером.
— Да как же так? Четыре ж дня — ты говорила! — взвыл Дима, на секунду искренне забыв, что у самого утром самолет.
— Ну вот так он мне сказал — что ж я могу сделать? Может, что-то не срослось, а может, они вчера все порешили после ужина — с той стороны тоже переводчик был.
— Заревновал, наверное.
— Это вряд ли. Но забрать меня ты можешь. Номер же научился набирать… Забрать можешь. Звони и забирай. Я и ездить с тобой буду, — говорила негромко, как бы сама с собой, Анька, а в глазах у нее стояли тоска и слезы. Останови здесь — я пешком пройду квартал.
Занервничал Димка и очень расстроился. Он тоже вышел из машины, не зная, что сказать.
— Что же — это и есть твой сюрприз?
— Нет. Я его в тумбочке оставила. В той, что с моей стороны стояла.
— С какой? Мы ж…
— Ну ты обе проверь, болван. Давай губы!
В тумбочке он нашел три цветных фотографии и одну черно-белую с печатью какой-то школы на обороте. С фото на него внимательно и серьезно смотрел вихрастый парнишка, над которым возвышалась гордая, улыбающаяся Анька. Ладони ее были спрятаны в волосах этого пацаненка. На обороте трех фотографий фломастером было написано: «Санька», а на черно-белой карандашом: «Александр Дмитриевич Грачев, г/р 1982».
Эпилог
…Подняв голову от бумаг, бармен смотрит на своего единственного посетителя. По-детски подперев лицо двумя кулаками, пассажир глядит куда-то вдаль, в глубину ушедших лет, и бармену даже померещилось, что по щеке гостя бежит слеза.
— Нет-нет, не нужно в медпункт. Да вот уже и посадку объявили. Спасибо вам. Спасибо…
Разговаривая по телефону уже по-английски, гость подхватил полупустую сумку и отправился на посадку. Странный пассажир. Медленно, словно сверяясь со своей памятью, спустился он по лестнице, подошел к стойке с надписью «Бизнес-класс» и неспешно проследовал в длинный рукав, простирающийся прямо до самолета. Пассажир привычно расположился на месте во втором ряду, глотнул воды из бутылки и, прильнув к стеклу иллюминатора, стал пристально вглядываться в здание аэропорта, словно пытаясь, как той зимней ночью 1981 года, найти и увидеть одинокую фигурку своего дяди. Ох, как же бешено колотилось тогда сердце. Как вжимался он в кресло, теряя от страха сознание. Как ждал взлет. И какой страшной ценой было за все это заплачено в ту страшную ночь, когда оба они бежали — Дима из страны, Влад ещё дальше…
«Звони и забирай…» — сказала она.
Он и позвонил. И забрал. Теперь их разделяет лишь шторка между бизнес- и экономклассами. Можно, конечно, можно было лететь всем вместе — можно было ему и вовсе не лететь, а просто встретить их в Штатах. Но отчего-то захотелось окунуться в прошлое и, уходя, навсегда перелистнуть эту страницу своей жизни, поставить точку.
— В стране бардак, — говорила Анна, — все продается, все покупается, и никому сегодня дела нет до советских беглых…
Как ей объяснить, что зловещий аппарат этот никуда не делся и работу его он почувствовал с первых секунд еще на паспортном контроле, что вовремя не раздавленный аппарат этот неизбежно будет снова набирать силу.
Самолет взлетел и наклонился в плавном повороте, ненадолго даруя пассажирам панораму столицы. Вот и Ленинградка видна. Ярко, словно это было вчера, вспомнилось, как бежал он по ней, прыгая через осенние лужи, за служебным шереметьевским автобусом, пока водитель не сжалился, как трясся потом, улыбаясь, в душном тепле, прижатый к грязному стеклу. Понимал ли тогда влюбленный грузчик, что больше никогда не будет он так безгранично и так беззаботно счастлив? Наверное, нет — счастливые не склонны анализировать…
Дядя Влад — сколько ему было? Ненамного больше, чем Диме сейчас. Прошло немало лет, прежде чем боль воспоминаний о дяде сменилась грустью и Димка понял, что все-все хорошее, что у него есть и было, вот даже двое самых дорогих людей, что летят вместе с ним к новой жизни, — все связано с его дядей, барменом из Шереметьево.
И снова Димка прячет лицо, отвернувшись к иллюминатору, и кажется ему, что Влад где-то там наверху, над разрезанными самолетом облаками, дописывает повесть их общего побега. Последняя страница закончена, через несколько часов посадка в Нью Йорке. Бледный и взволнованный выйдет он из самолета и начнет искать глазами вихрастого парнишку с Аней, чтобы обнять их и сказать какие-то важные и невыносимо банальные слова о новом начале, о шансе повторить или избежать ошибок прошлого, о будущих восторгах и разочарованиях на этой земле…
Нет, конечно! Ничего подобного он говорить не станет — просто возьмет мальчишку за плечи, посмотрит в глаза и скажет: «Привет, Санька! Здравствуй, сын!», и с этих слов начнется новая жизнь и новая повесть.
Невыдуманные рассказы
История любви
Случилось мне, значит, в немыслимо уже далеких восьмидесятых попасть в казарму Челябинской межобластной школы милиции. Что означает межобластная? Ну, типа — всесоюзная. Туда отправляли выпускников технических вузов, решивших попридержать свой вклад в развитие народного хозяйства, а пока поискать себя в уюте милицейских кабинетов. Днем нас гоняли в тир, в спортзал, на плац и время пролетало пулей, но вот длинные осенние вечера в казарме были невыносимы. Уже на сто раз пересказаны анекдоты и прочие жизненные истории, но не станешь ведь до самого отбоя смотреть в окно на серый дождик индустриального Челябинска? Но вот слово берет выпускник Туркменского госуниверситета, курсант Оразмухаммед Бердыев:
— А хотите, про любов расскажу?
Я так лбом в стекло и треснулся от неожиданности. Но все молчат — тема-то стремная. Не казарменная тема-то, да и не ментовская вовсе.
— Ну расскажи, брат Бердыев, — говорю я неуверенно.
И он начинает.
Есть у него в деревне осел. Старый рабочий осел. Лет ему немало, упрям невероятно, но службу свою ослиную несет без нареканий и жрет умеренно.
— А как зовут-то? — бесцеремонно вторгается кто-то из самого угла.
— Так зачем звать? Ведь не слушает он все равно. Надо за веревка тащить.
— Не, ну имя-то есть у него?
— Ишак же. Зачем ему имя? — снисходительно отвечает рассказчик.
И продолжает.
А дом Бердыевых стоит на самом краю деревни Гарауль. Сразу за домом — большой оросительный канал. Оразмухаммед долго и обстоятельно рассказывает, как строился этот канал, как бульдозеры вязли в песке, как на дно канала стелили толстую полиэтиленовую пленку, как с непривычки в воду падали и тонули дикие сайгаки, но потом научились пить не падая. Никто рассказчика не перебивает, хоть он и ушел от романтики в унылые будни соцстроительства. Делать-то один хрен нечего, а до отбоя далеко. Но вот канал с горем пополам построен, и рассказчик возвращается, собственно, к любви. Однажды он заметил в своем подопечном на первый взгляд незначительную, но странную перемену — у старого ишака приподнялись уши, до этого годами безжизненно висевшие. Тут вся казарма затихла и стало слышно, как по жестяному подоконнику снаружи барабанит дождь. Дальше — больше: ослик начал уклоняться от службы, укусил бабушку и вообще стал проявлять склочный, антисоциальный характер, не подобающий сознательному советскому ослу. Уши его с каждым днем медленно, но неуклонно поднимались, мутные прежде глаза заблестели, и вот однажды он запел, повернув морду к каналу.
— Как это запел? — выплеснул я немного здорового скепсиса. Бердыев повернулся ко мне, глаза его наполнились слезливой тоской, он закинул голову, и по казарме понеслось протяжное: «И-и-и-и-и-й-й-я-я-а-а-а!» Тут же в коридоре загремели сапоги и показался перепуганный дневальный. «Тс-с-с, — замахали на него руками очарованные слушатели. — Иди, иди осюдова на пост! — Но тот не ушел, заинтригованный, а ступил внутрь и прикрыл за собой тихонько дверь.
Любовь. Невидимая постороннему глазу, всепоглощающая, бессмертная любовь разливалась между тем в насыщенном песочной пылью воздухе совхоза Гарауль. Довольно скоро Бердыев выяснил, что на другом берегу канала приезжие творческие люди снимают кино. Они разбили немаленький лагерь, и среди камер, машин, проводов, синего автобуса, полевой кухни и прочей атрибутики есть у них в штате две ослицы для подвозки всякой всячины. К ним-то и воспылал удаленно старый заслуженный ишак. Им ушастый Ромео и песни пел. Еще через неделю он начал перепрыгивать изгородь и болтаться вдоль берега, но в воду войти не решался, даром что осел. Привести его обратно становилось все труднее — он огрызался и сам в ответ кричал непотребности на ослином. Потерявший всякое терпение Оразмухаммед решил его привязать. На беду в это время в деревню привезли баллоны с газом. Требовалось незамедлительно сделать четыре ходки с пустыми баллонами для замены их на полные — всегдашняя ослиная работа. Но влюбленный забастовал.
— Я бил его палкой — толко пыл прошел.
«Вот, подумал я рассеянно и с некоей даже гордостью», — говорит туркмен по-русски через пень-колоду, а слова какие редкие знает — «пыл прошел». Вот что значит наша родная советская школа! Но из дальнейшего повествования сделалось ясно, что от ударов палкой из ослика пошла пыль. Пыл же его вовсе не прошел. Больше того — ночью осел перегрыз веревку и бесследно исчез. Тут Бердыев сделал паузу, а мы скоренько сунули дневальному в руки чайник и отправили за водой, чтобы послушать развязку под ароматный грузинский чай с опилками. Но, подобно влюбленному ослу, дневальный не слушался — чайник взял, поставил под ноги, а идти отказался. Очень хотелось и ему узнать все перипетии ослиной любви.
— Долго ли, коротко ли… но через несколько дней наш ослик вернулся. Пришел сам. — Бердыев даже показал, как это выглядело — прошел, виновато глядя в пол и ритмично раскачиваясь в стороны, между рядами кроватей, а к ушам приложил свои ладони пальцами вниз. Опустились, значит, уши. Был герой-любовник худ, грязен и густо облеплен репьями да колючками. Самое же главное — он улыбался!
— Как улыбался? — опять раздался богомерзкий голос из угла.
— А вот так, — ответил рассказчик и улыбнулся по-ослиному, при этом углы рта были опущены вниз. Это была настоящая ослиная улыбка. Как он это сделал, я, к сожалению, передать не могу — тут нужен настоящий писательский талант. Могу только сказать, что черные туркменские глаза его в этот момент светились смесью счастья и гордости за своего безымянного ослика.
Вот такая Love Story.
Любовь & грин-карта
История эта печальна, поучительна и в трех действиях. Познакомился Артур с симпатичной официанткой. То есть она была учительницей, но в Армении, а в Лос-Анджелесе работала без документов в ресторане. Артур тихоню полюбил и незамедлительно предложил ей руку, сердце, американский паспорт и кредитные карты. Сыграли скромную свадьбу, подали бумаги ей на статус и стали ждать.
Тут наступает действие второе — «Те же и добрые люди».
Поток эмигрантов из России давно иссяк, но из Армении он широк и стабилен как река. И принесла эта река каких-то негромких людей, которые знали невесту еще по Еревану. Они шепотом рассказали Артуру, что у его новой жены Анаит уже есть муж в Армении, что развелась она с ним фиктивно и что именно с ним, а не с подругами, скайпится, коварная, ночными часами. Запечалился Артур, загрустил, но виду не подал. Из грусти его родился иезуитский план. «Взял я ее фотографию и поехал на Восьмую и Альварадо — ну ты знаешь…»
А кто не знает этот угол в мексиканском квартале? Там быстро и не слишком качественно за невеликие динеро страждущим изготовят грин-карту, права или что клиент пожелает. Фуфлыжную грин-карту на имя жены Артур сам отправил на собственный домашний адрес в серьезном официальном конверте. Через три дня его сексуальная жизнь закончилась навсегда. Простодушная Анаит, распечатав официальный конверт со своей фамилией, и подумать не могла, что держит в руках не вожделенную грин-карту, а бессмысленный кусочек пластмассы. Бедняжка посчитала, что вопрос с ее статусом решен, и начала думать, как элегантно выйти из этого брака. Стала она рассеянна, о чем-то думала, улыбалась невпопад и от Артура дистанцировалась. Горько было джигиту это наблюдать, но план есть план, и вот он уже предлагает ей провести выходные в Мексике. Там он замыслил ее оставить в расчете на то, что Анаит самостоятельно попрется к границе, предъявит поддельную грин-карту и услышит, как на ее руках с металлическим щелчком закроются наручники.
В Мексику она не хотела, но потом согласилась — может, ей показалось приятной мысль въехать обратно в Америку, предъявив погранцу новенькую грин-карту. Откуда ж учительнице-официантке знать, что подделку тот различит, даже не взяв в руки, что в Америку она больше никогда не въедет, что…
Как известно, контроль на этой границе осуществляется только в обратку, то есть при возвращении в Штаты. Молодые беспрепятственно выехали в Мексику.
Как на самом деле разворачивалось действие третье, никто толком не знает. Артур утверждает, что, развернув машину на грунтовой мексиканской дороге, он выкинул неверную под высокие кактусы на обочину, включил громко музыку и устремился в облаке пыли обратно к границе, но мне тут видится почему-то не Артур, а Тарантино. К тому же Хачик, Артуров племянник, как-то говорил мне, что расстались влюбленные мирно, что Анаит была усажена в самолет и что она теперь даже иногда позванивает из Еревана Артуровой маме — с праздниками поздравляет.
Вот что бывает, когда переплетаются любовь и грин-карта.
Хачик
В бесконечно далеких уже 90-ых случилось мне быть автодилером — машинами банчил. Покупал на аукционах и отправлял в Калининград, объявленный в то время свободной экономической зоной. Перед отправкой машины нужно было подкручивать, доделывать и даже иногда ремонтировать — этим занимался механик Хачик (настоящее имя!). Постоянного прихода работа со мной ему не приносила — он все время искал халтуру на стороне. И вот однажды, подкопив деньжат, Хачик купил ржавенький Ford Mainline 1956 года, известный в СССР как «Волга ГАЗ-21», и начал его потихоньку восстанавливать. Восстанавливал, однако, недолго: как только заработал мотор — машину угнали. Явление это в Америке чрезвычайно редкое — если такое и случается в армянской диаспоре, то обычно это влечет за собой цоканье языком, подмигивание, понимающее похлопывание по плечу и вопрос вполголоса о жирном чеке от страховой компании. В нашем случае никакой страховки не было, что придавало ситуации особый трагизм. Хачик был безутешен, но время лечит душевные и материальные раны, и вскоре мы об этом позабыли.
В армянском языке нет слова «позвонили» — в буквальном переводе это будет «пришел звонок». Так вот, через пару лет Хачику пришел звонок от пограничников, задержавших на границе Мексика — Аризона авто нашего механика. И вот что интересно — машина была полностью восстановлена трудолюбивыми руками мексиканских нелегалов: перетянуты сидения, отреставрирована панель, двигатель работал как часики. Авто сияло новой краской, и даже резина была с белыми боками, как и положено винтажному средству передвижения. Хачик еще с полгода гордо рассекал по армянскому району Глендэйл, пересказывая эту историю на разные лады, а потом кому-то этот раритет неплохо продал.
Так что, если у вас украли кошелек, страну или невесту, — это не всегда конец истории…
По распределению
В далеком 1980-ом Римма Исакова вместе с дипломом Свердловского пединститута получила распределение в поселок Ромашково на севере области. Четырнадцать часов на поезде, потом автобусом. Поселок этот представлял собой унылую россыпь черных двухэтажных бараков да частных домов. Было, правда, там и свежее здание белого кирпича — Шахтоуправление, еще несколько панельных пятиэтажек, а больше там не было ничего: лишь грязь да огромные комары. Поселкообразующим предприятием были две глубокие шахты, куда в железных клетках посменно опускалось все мужское население. По странной логике в относительно опрятных пятиэтажках расположились общаги, а, например, такое важное учреждение, как школа, — занимало деревянный барак. В соседнем, еще более запущенном и обитом гнилой вагонкой бараке разместилась милиция, дальше по улице — поликлиника. Даже райкомы КПСС и комсомола ютились в бараке, правда, выбеленном известью. Римма не была избалована комфортом — она родилась и выросла на окраине уральской столицы, тем не менее от вида места, где ей теперь по закону полагалось отработать три года, сделалось зябко и захотелось немедленно уехать обратно. В общежитии новоприбывшей выделили отдельную и очень светлую комнату на последнем, пятом этаже, прямо напротив душевой, и Римма несколько успокоилась — ну что такое три года отработки, когда тебе только двадцать два? Мухой пролетят! А там можно будет вернуться в Свердловск или еще куда поехать — да хоть в Москву или даже на юг!
В школе кроме указанного в дипломе преподавания истории ей поручили вести уроки географии и биологии, о которых она не имела представления. Но начинать работу со скандала ей не хотелось, и Римма потихоньку втянулась в учительскую рутину. Через месяц, узнав, что у молодой учительницы есть разряд по лыжам, ей поручили еще и физкультуру. Дело в том, что преподаватель труда был склонен к запоям и в такие периоды пропавшие часы заменялись физкультурой — вот эти непредвиденные занятия и поручили молодому специалисту Римме Исаковой. Выгнать же трудовика было совершенно немыслимо — он потерял ногу на войне, и теперь какой-то маршал дважды в год присылал на адрес школы персональные поздравления. Ну как такого уволишь?
Ученики были не сахар, но в целом управляемы — гораздо хуже обстояло дело со взрослыми. С таким повальным, безнадежным алкоголизмом Римма столкнулась впервые. В дни, когда на шахте выдавали получку или аванс, поселок напоминал поле битвы: пьяные валялись у подъездов, на скамейках, автобусных остановках, на детских площадках. Особенно много их было за гаражами, где пролегал самый короткий путь от школы до дома — в такие дни, чтобы избежать неприятностей, молодой учительнице приходилось делать солидный крюк.
За этими гаражами и случилось первое несчастье. Обычно там, на импровизированной скамейке из бревен, в окружении нескольких алкашей сидел коренастый парень с колючими глазами. Звали его Гендос — в детстве, наверное, был Геной. Поначалу Римма, торопливо проходя по натоптанной тропинке к себе в общежитие, слышала брошенные вслед смешки и поганые реплики, но вскоре это прекратилось — видно, Гендос запретил своим шестеркам открывать рот, и она шла в полной тишине, чувствуя спиной его сверлящий взгляд. Все это было очень неприятно, но нагрузка в школе была приличная — после тяжелого дня совсем не хотелось идти длинным путем через улицу Калинина. В тот злополучный вечер Римма, как обычно, спешила домой и боковым зрением заметила, что Гендос сидит на скамейке один без привычного антуража, смотрит в землю, нервно хрустит пальцами. Учительница прошла дальше, а он, бесшумно поднявшись, по-кошачьи побежал за ней и с силой ударил кулаком в основание головы — там, где шея переходит в затылок. Римма упала лицом вниз, но через минуту пришла в себя — одежда на ней была закинута вверх, трусики порваны, а сзади судорожно бился Гендос, пытаясь пропихнуть свой член, но у него ничего не получалось. В конце концов он кончил ей между ног, встал и растворился в сумерках, а Исакова, поднявшись, побежала в общагу. Она долго-долго плакала под горячим душем, бесконечно намыливая и смывая места, к которым прикасался подонок. В милицию решила не обращаться, ведь даже девственность не была утрачена…
Злосчастные гаражи она с тех пор обходила стороной. Характер Риммы изменился — теперь она нередко кричала на учеников, а двойки ставила не задумываясь. Кроме того, написала письмо в Свердловск своей хворой запущенным диабетом матери, в котором потребовала, чтобы та срочно оформляла инвалидность. Под предлогом ухода за больной матерью Римма рассчитывала прервать обязательные три года отработки и вырваться из этого зоопарка, как она стала про себя называть поселок. От всех дополнительных нагрузок в школе она теперь спокойно, глядя директору прямо в глаза, отказывалась — по «Положению о молодых специалистах» уволить ее все равно было невозможно.
Настоящая катастрофа случилась через полтора месяца. Однажды поздно вечером в дверь ее комнаты постучали. Обычно Римма спрашивала — кто там? Однако в этот раз стук был отчетливо-требовательный. «Комендант», — решила она. И открыла. В комнату быстро и пружинисто вошел Гендос и тут же запер дверь на торчащий в скважине ключ. Римма открыла было рот, чтоб закричать, но получила сильный удар кулаком в живот и стала задыхаться, в глазах потемнело. Гендос скинул с кровати на пол матрас и бросил на него свою жертву. В этот раз в кармане у него был тюбик детского крема, и он долго, с перерывами насиловал учительницу, замотав ей голову простыней. Ушел бесшумно, аккуратно прикрыв дверь. И вновь Исакова плакала и кусала губы под горячим душем. И вновь не решилась пойти в милицию. Воображение рисовало ей большой зал суда, где прокурор всему поселку подробно рассказывает, как именно она была изнасилована. Невыносимо было даже думать об этом…
К работе она утратила всякий интерес, уроки вела чисто механически, а звонку радовалась не меньше учеников. Все это время она отчетливо понимала, что Гендос появится снова, ведь в милицию она не обратилась. Однажды после занятий она спустилась в мастерскую к трудовику:
— Григорий Матвеич, сделайте мне пику.
— Что за пику? Может, нож сделать красивый? — обрадовался трудовик. Фронтовик был очень совестлив — знал, что Римма бегает с учениками в сквере, когда он запьет, и очень хотел что-нибудь для нее сделать.
— Нет. Мне нужна именно пика, короткая и очень острая.
Далее она поведала инвалиду почти правду. Сказала, что с работы идет за гаражами и на нее нападают собаки. Убить псину ей жалко, а ткнуть острым, чтоб не лезли, — самое то.
Через пару дней счастливый трудовик изготовил для нее изумительную трехгранную и очень острую пику длиной с обычную финку, с наборной ручкой, загнутой, как у старинного пистолета. Римма начала готовиться к визиту. Поздно вечером, когда вся общага укладывалась на казенные сетчатые кровати и движение по коридору прекращалось, учительница отрабатывала два движения — левой рукой резко распахивала дверь, а правой вонзала в темноту коридора свое оружие. После этого, раздевшись, она долго не мигая смотрела в потолок и, наконец, засыпала. Гендос, однако, не появлялся…
В пятницу 6 ноября 1981 года в учительской разливали шампанское и пили чай с принесенными самодельными тортами. Часов в семь стали расходиться. Исакову проводил до общаги смешной женатый раздухарившийся математик. Распрощавшись перед дверью, в хорошем настроении она поднималась по лестнице, как вдруг между четвертым и пятым этажами увидела пьяного Гендоса с каким-то нервно хихикающим приятелем. Они ждали ее.
— Пять минут, — сказала она каким-то незнакомым голосом. Парочка осталась в коридоре, а она зашла к себе. Через минуту-две в дверь постучали.
Отворив замок, Римма левой рукой распахнула дверь, а правой по самую кривую рукоятку с хрустом всадила пику в грудь Гендоса — в самую середину. Разжала пальцы и быстро закрыла дверь, провернув ключ на два оборота. Затем разделась, легла в постель, свернулась калачиком и погрузилась в глубочайший сон, характерный для состояния аффекта.
Гендос, надо отдать ему должное, пику вынуть не пытался — рефлекторно схватил рукоятку левой рукой, да так и не отпускал. Он не кричал, не стонал, не жаловался, а, опершись на плечо своего позавчера откинувшегося приятеля Кисы, часто и прерывисто дыша, спустился до второго этажа, где сел на пол, прислонившись спиной к стенке. Просидев тихо с полминуты, Гендос увидел, как от чугунной батареи на противоположной стороне коридора по грязному кафелю, улыбаясь, ползет к нему смерть. Он отчаянно засучил ногами, пытаясь ее оттолкнуть. Затем завалился на бок, страшно захрипел, закатил глаза и затих.
Киса этот, хоть и числил себя блатным, в ментовке заговорил и в деталях поведал всю историю о том, как Гендос по случаю Кисиного освобождения хотел «угостить» последнего учителкой и что из этого вышло. К слову, заговорил он во многом благодаря тому, что два дежурных опера принялись бить его по почкам кусками толстого телефонного кабеля. Были они, как и вся большая страна в этот праздничный вечер, тяжело пьяны и анализировать Кисины фантазии настроения не имели — их интересовало скорейшее раскрытие преступления.
Римма не слышала шума в коридоре, не разбудил ее и громкий стук в дверь. Проснулась она, лишь когда поднятый ментами комендант общаги открыл дверь дубликатом ключа и стал трясти ее за плечо. В милиции она все честно и подробно рассказала, после чего ее «оформили по сотке», то есть задержали на трое суток в соответствии со статьей 100 УПК РСФСР и увезли автозаком в Североуральский ИВС — изолятор временного содержания, или по-старому в КПЗ. По дороге она еще не вполне осознавала весь ужас происшедшего, но, когда автозак въехал внутрь здания и за машиной стали со скрежетом закрываться гигантские железные ворота, ее охватил ужас. В камере, однако, оказалось тепло и нестрашно, больше того — тут ей сказочно, просто невероятно свезло. Везенье явило себя в виде толстой, неопрятной, многократно привлекавшейся цыганки Хавы — жены сапожника-ассирийца и матери одного из учеников Исаковой. Больше в женском отделении не было никого, хотя мужские клетки были, как и положено в праздничный день, забиты до отказа. От смертельной ли камерной скуки, от врожденных понтов либо просто от желания помочь перепуганной учительнице, но Хава приняла деятельное участие в судьбе новой соседки.
— Ты что подписывала в милиции: объяснение или протокол допроса? — поинтересовалась она, внимательно выслушав сокамерницу.
— Не знаю я… а в чем разница-то?
— Ну песню твою, что ты там пела, записывали на простые листы бумаги или же на разлинованные серенькие бланки?
— На простую бумагу писали, а внизу сказали своей рукой добавить: «С моих слов записано верно, мною прочитано».
— Та-ак… значит, со статьей они еще не определились, дело еще не возбуждено, — вполголоса сказала Хава, закатила глаза и надолго замолчала.
Выговорившись, Римма впала в апатию — мысли ее стали тягучие, как клей, навалились безразличие и усталость. От запаха хлорки болела голова, но то, что она услышала дальше, заставило ее собраться и крепко задуматься.
— Ты понимаешь, что изнасилование тебе никогда не доказать? — ожила цыганка. — Нет ни свидетелей, ни насильника, ни вещдоков. Ведь ты наверняка и трусы выкинула?
— Конечно!
— Вот! Да им и не нужен такой поворот, что в поселке урки жарят молодых специалистов прямо в общагах — за это там покатятся бошки из райкомов и исполкомов. Поэтому они потянут тебя на 104-ую. На «сильное душевное волнение» потянут. И хорошего в этом мало…
— Что ж мне делать теперь? — вновь, уже в который раз в этот бесконечный день, заплакала Римма.
— Не знаю, что делать тебе, зато точно знаю, что я бы сделала. Но только с тобой это не подойдет… не проканает у тебя. Тут нужен сильный позвоночник.
— Ну ты скажи все равно. Я спортом занимаюсь — у меня сильный.
— Дура ты. Я не про тот позвоночник! Ты недуховая — вот в чем беда. Тебя нагнуть легко. Ну слушай, что бы я сделала.
Тут цыганка встала, зачем-то вытерла ладони о подол, округлила глаза и, обращаясь к воображаемому следователю, начала по нарастающей:
— Один уркаган, откинувшись, по каким-то своим разборкам пришил заточкой другого, и вы решили повесить это на меня? Вы в натуре мозгами поехали или как? Я здесь по распределению — детишек ваших учить уму-разуму приехала, а вы мне шерсть-блатоту всякую в кенты рисуете? Мокруху шьете?
Она, распаляясь, продолжала в том же духе, пока Римма вполголоса не заметила:
— Но ведь я уже все им рассказала. И расписалась.
— Это ничего не значит! Тебе эту версию подкинули пьяные опера. Ты, дура, в первый раз в жизни надулась шампанским, да и в мусорской ты тоже никогда не бывала! Испугалась и подписала. Играй такую овцу с железным позвоночником — не дай себя нагнуть. Крови в твоей комнате нет, а кореш Гендоса в их ментовских глазах всегда сначала соучастник, а уж потом, если сильно повезет, — свидетель. Да ты не ссы и не трясись — никто тебя плющить больше не будет. Мокруха — это подследственность прокуратуры, а там почти все следователи — бабы. Ментов ты больше не увидишь — только в конвое. Главное — стой на своем и не дай себя нагнуть. Отмораживайся полностью и окончательно.
Так все и получилось — девятого числа ее отвезли в прокуратуру, где следователь Малафеева уже набила на машинке все бланки о возбуждении уголовного дела и прочие. К ее искреннему изумлению, задержанная категорически отказалась от своих показаний, данных уголовному розыску тремя днями ранее, и заявила о полной своей непричастности к убийству. В смятении Малафеева направилась в кабинет с тисненой надписью «Прокурор», но и там решение найдено не было. Так как трехсуточный срок задержания истек, а с квалификацией дела ясности не возникло, Исакову выпустили из изолятора, попросили вернуться в Ромашково и сидеть в общаге. На работу, сказали, можно не ходить.
— Овца с железным позвоночником, — повторяла она про себя, трясясь в грязном автобусе домой в поселок, — овца с позвоночником… — Образ ей чем-то даже нравился.
А в это самое время начальник ромашковской милиции получил неприятный звонок из прокуратуры:
— Семен, ты в курсе, что ваша учительница едет домой?
— Что-о-о??? Как??? Ведь она все признала, сука!
— Отказалась. Сказала, что была под прессом твоих оперативников.
— Это козлы из ИВС виноваты! Они должны были посадить ее с первоходами, мрази поганые! Или вообще одну! Заперли, гниды, в общую, и там ее кто-то научил!
— Пьяные были — попутали. Да и нельзя в таком стрессе в одиночку, сам знаешь — повеситься может, а в общей не дадут. Но это все не имеет значения. Там есть зацепка — преподаватель труда, который, по ее первичным показаниям, изготовил заточку. Надо его доставить сюда и допросить.
— Это невозможно. К нему выезжали вчера — он в запое.
— Так сдай его в вытрезвитель!
— И это говорит прокурор? В вытрезвитель мы имеем право доставлять людей из общественных мест. Я не могу взять его из собственного дома.
— Это твой выбор, Сема. Хочешь иметь бесфигурантное убийство на конец года — получишь.
Бесфигурантного, то есть убийства, исполнитель которого не установлен, начальник допустить не мог. Это исключалось абсолютно. Мучительно что-то соображая, он машинально продолжал:
— Послушай! У него орденов больше, чем у нас с тобой пуговиц! Я не могу ветерана войны хватать из-за стола своей кухни и везти в Североуральск. У нас, как ты знаешь, и вытрезвителя-то своего нет — алкашня летом в траве, зимой в сугробах отрезвляется…
— Ну решай там сам. Нам он нужен трезвый, и чем скорее, тем лучше.
Делать нечего — начальник в сильнейшем раздражении вызвал двух верных, крепко замаранных участковых, Абаева и Лазбу, выделил машину и объяснил задачу. Надо заметить, что запои трудовика были двух видов — в гараже, где он держал инвалидный «Запорожец», и дома. Гаражные запои с их прохладными ночами и комарами не были затяжными, а вот домашние… В этот раз Григорий Матвеевич запил дома и участковые обнаружили его в плачевном состоянии — в желтой от мочи постели с почти опустошенной трехлитровой банкой самогонки. Оглядевшись, менты сдернули со стола плотную скатерть, расстелили ее на полу у кровати да и скинули туда ветерана. Взялись дружно за углы, отнесли в видавший виды ПАЗик и погнали в райцентр, причем инвалид лежал на железном полу и бился всю дорогу в тряске. Дежурный фельдшер медвытрезвителя, однако, обнаружила у пациента нарушение сердечного ритма и принимать категорически отказалась.
— Он у вас не столько пьяный, сколько уже без сознания, — сказала, — везите его сейчас же в скорую.
Скорая ветерана приняла без разговоров. Врачи оценили его состояние как тяжелое, а джигиты в смятении вернулись в поселок. Вечером следующего дня ветеран-трудовик Григорий Матвеевич Руденко, бывший полковой разведчик, умер от обширного инфаркта, вызванного алкогольным токсикозом.
Начальник милиции мучительно размышлял. Нет сомнений, что эта учительница врет… но так ли это плохо? Ведь эта ее новая версия о том, что, проходя к себе в комнату, мельком заметила на площадке двух спорящих пьяных, а больше ей ничего не известно, — это гораздо предпочтительнее, чем то, что она рассказала в ночь на седьмое ноября. К тому же тема заточки сама собой закрылась со смертью преподавателя труда, да будет ему земля пухом — начальник сморщился, словно от горькой таблетки. Зачем нам изнасилования молодых специалистов, прибывших по распределению, ведь это обязательно повлечет заслушивание в обкоме и оргвыводы? Это же не бытовуха в среде ранее судимого быдла, составляющая статистику убийств и тяжких телесных. На бытовые преступления начальство смотрит снисходительно — вся страна пьет, никуда от этого не деться. С учительницей же дело примет тяжелый, скандальный оборот. Собрав материалы в папку, он пешком направился в райком партии, где, запершись в кабинете, они больше часа обсуждали дело с Главным. Вернувшись к себе, подполковник немедленно нажал кнопку на коммутаторе с надписью «Нач. угрозыска».
Сергей Кислицын по кличке Киса был задержан на вокзале райцентра с билетом на Свердловск в кармане. Чутье подсказало ему валить, но подсказало поздно. Задержанного доставили в Ромашково, где бедолага провел три дня в «собачнике» поселкового отделения милиции под невообразимым прессом, а на четвертый, безостановочно кашляя и конвульсируя всем телом, подписал явку с повинной. В явке этой было сказано, что это он, Киса, воткнул в грудь Гендоса заточку, после того как последний глубоко оскорбил его, назвав «ссученным».
Исакова за эти дни вышла из общаги лишь однажды — подписать заявление о прекращении отработки по семейным обстоятельствам, забрать трудовую книжку с дипломом и купить кое-каких продуктов. Больше ее в поселке ничто не держало — она могла ехать куда угодно. За что и почему свалилась на нее такая невообразимая удача, учительница так и не осознала. Посчитала, что все это благодаря ее стойкости и пресловутому железному позвоночнику.
Кислицын был осужден и получил двенадцать лет строгого режима, а Римма…
Римма уехала обратно в Свердловск. К учительству, правда, больше не вернулась — работала в торговле, затем перешла в общепит, пару раз выходила замуж и разводилась. У нее две взрослые дочери и небольшое кафе на юго-западе. Вкусно и недорого. Своя всегда свежая выпечка. Особенно хороши там сырники.
Карась
В моем милицейском кабинете на подоконнике в стеклянной банке жил карась. Был он жизнерадостен и неприхотлив. Жрал хлеб, но без особенного удовольствия. Больше даже не жрал, а умничал. Хлеб разбухал и опускался на дно к карасьим какашкам. Вода, соответственно, портилась. Я тогда был молодой, смекалистый и быстро понял, что кормить рыбину надо через три дня на четвертый. Это дало превосходный результат — карась жадно сжирал хлеб, и вода, водопроводная вода индустриального Свердловска восьмидесятых, оставалась относительно чистой. Так мы и жили до того дня, когда мне пришлось внезапно улететь в Москву на семь дней…
В кабинете воняло. Из зелено-серой воды овалом торчало карасье пузо. В глубокой печали на вытянутых руках я скорбно понес банку в туалет, с тем чтоб вылить все в унитаз, но, к счастью, там кто-то гадил и дверь была заперта. Тогда я выплеснул все в умывальник, и тут рыба ожила!!! Прямо под струей я отмыл ее от слизи, наполнил банку свежей рыжеватой хлорированной водой и отнес другана обратно на подоконник. Там он жил еще довольно долго, меланхолично разглядывая сквозь стекло, как я строчу бесконечные бумаги с грифом «секретно». Низ карасьего пуза так и остался белым.
Когда мы расстались и как сложилась его судьба — вообще не помню!
Давно было.
Шапка
Однажды в Октябрьский ОВД, где я в этот день работал помощником дежурного, позвонили из скорой.
«Помогите, — говорят, — не можем пройти к пациентке. Овчарка не пускает». Дело было в частном секторе напротив Свердловского зоопарка. Приехать-то я туда приехал, а что дальше делать, — загадка. Скорая стояла там уже часа полтора — врачи грелись внутри, а во дворе покосившегося дома бесновалась большая рыжеватая овчарка. За два часа непрерывного лая она совершенно обезумела, от нее шел пар, а в углах пасти висела пена. Несмотря на мороз, дверь в дом была открыта и бедная собака металась от ворот в дом и обратно. Врачи сказали, что пациентку они знают, что зовут ее баба Женя и что дело серьезное. «Застрели ее», — по радио вынес приговор дежурный. Мороз для меня закончился — от нервозности стало жарко, и я даже расстегнулся. На деревянных ногах, с трясущимися руками я подошел к воротам и трижды выстрелил в пса. Бедняжка упала на бок и побежала-побежала-побежала, отталкиваясь от воздуха, прямо в рай, где, как известно, продолжают жить все умершие собаки. Потом затихла. Врачи зашли в дом — обнаружилось что хозяйка тоже не жива. Написали заключение и стремительно уехали. Транспортировка трупа в советское время — отдельная и грустная песня. Никакой вывозной службы не существовало. Сотрудник в форме выходил на обочину и тупо тормозил любой грузовик, а родственники грузили тело. Если не было родственников, мы брали клиентов вытрезвителя, пообещав, что на работу не сообщим. Часа через три или четыре я вернулся в райотдел и сел писать рапорт о трех использованных патронах. Дежурный Миша Мезенин, прочитав рапорт, пришел в сильное душевное волнение:
— А где труп?
— Так вывез же. В морге труп.
— Да, блин, собакин труп!
— Ну там лежит, наверное, а может, убрали уже — я в домоуправление позвонил.
— Слушай. Бери машину и гони обратно с сиреной! Отвези эту собаку на Сибтракт.
— Да ты охренел, что ли? Куда? Зачем?
— Да там свояк… того… нутрий выращивает. Ну свези, пожалуйста, — он тебе шапку сделает.
— Из нутрии?
— Ну ща-я-яз! Из собаки и сделает.
Окоченелый собачий труп оказался на месте. С ужасным стуком мы с водилой закинули его в обезьянник и таки свезли в частный дом к Мишиному свояку. Думаю, нутрии трескали эту собаку целую неделю. Может, и месяц даже.
А у меня образовалась неземной красоты собачья шапка.
Впрочем, я всем врал, что волчья.
Три товарища
Мой хороший приятель Ашот, не посмотрев сводку погоды, вышел со товарищи в океан ловить тунца. Вышли они на десятиметровом двухмоторном катере. Как и предписано всем игнорирующим прогноз погоды — парни попали в сильный шторм. Сначала не поняли и даже простодушно закинули снасти, но вскоре они осознали, что никуда не плывут, а вся энергия моторов уходит на борьбу с усиливающимися волнами. А еще они поняли, что назад им уже не вернуться — надо прорываться до ближайших островов Чаннел Айлэндз. Два часа они, забираясь на волну и падая вниз, плыли к заветным островам, имея намерение укрыться в Китайском заливе, что на острове Санта-Круз. Кое-как дошли. В бухте уже стояли две яхты и было видно, что их тоже нещадно бьет и подкидывает до неба. Решено было туда не заходить, а попытаться укрыться за скалами мыса Коч. Но там наши рыбаки обнаружили совсем уже невменяемые волны, которые били со всех сторон. Лодка проваливалась в гигантские водные ямы, взлетала вверх, и возникла совсем реальная опасность пропустить боковой опрокидывающий удар волны. Тут не выдержали нервы у одного из них — сильного, кстати, аквалангиста. Он схватил радио и подал мэйдэй — сигнал бедствия. Оператор монотонным голосом без всяких признаков удивления или беспокойства переспросила размер плавсредства, местонахождение и подтвердила: таки да — бедствие у вас, высылаем вертолет — готовьтесь оставить судно. Идея бросить любимый катер не нашла отклика в сердце владельца. Лютой злобой налился Ашот и длинно обматерил паникера. Хотел, говорит, даже в грызло ему заехать, да боялся на полсекунды отпустить управление. Тут радио сообщило, что вертолет взлететь не может ввиду штормового ветра. Ашот понял, что на самом-то деле ему катера совсем-совсем не жалко. Ну не капельки не жалко. И если надо оставить — так отчего же не оставить? Да запросто бы оставил…
У парней началась паника. Один судорожно пил коньяк и тут же его выблевывал, а второй впал в полуобморочное состояние. Ашот схватил изо льда бутылку водки в 0,7 литра, засунул ее под спасательный жилет и даже не почувствовал холода. Водка стала для него дороже всего на свете: «Я решил — как только окажусь в воде, сразу всю бутыль выпью. Если повезет — отключусь, а в отключке и помирать легче». Но тут по радио сказали, что к ним направлено коммерческое судно, с тем чтобы, закрыв волну бортом, попытаться вытянуть их веревками. Через какое-то время из ниоткуда задом приблизилось огромное синее судно. Было очень неприятно увидеть, что его точно так же болтает вверх и вниз, причем из воды зловеще обнажались исполинские винты, каждый по размеру не меньше катера наших рыбаков. Сверху что-то непрерывно орали в мегафоны, но Ашот их игнорировал — он понял, что ничего не получится, что в этом месте, где волны лупят и справа, и слева, и спереди, отгородиться не удастся, а вот разбиться о борт — запросто. Под крики мегафонов корабль исчез так же внезапно, как появился. Вновь ожило радио, и уже другой голос сообщил, что на помощь сейчас подойдет корабль Береговой охраны США. Три товарища были уже умотаны до последнего вздоха, когда к ним подошел небольшой, не больше 100 футов, корабль US Coast Guard. Довольно ловко с ходу на катер был спущен погранец-спасатель. Погранец был бодр и энергичен, но быстро сдулся, побледнел и затих. А сдулся он оттого, что еще два долгих часа ничего не получалось — и катер не становился как надо, и веревки летели мимо, однако Ашот совершенно успокоился и глядел на спасателя влюбленными глазами. «Наш заложник, — думал он, — теперь точно вытащат…»
Но все хорошее кончается — вот уже три мокрых армянина один за другим затянуты на борт пограничника и смачно шлепнулись на казенную палубу. Занавес.
Странно то, что они не рассорились, а немедленно принялись искать новое судно. Так что, если кто в большом Лос-Анджелесе желает продать яхту не менее 36 футов с двумя дизелями, у меня есть только что подсохшие покупатели.
Океан и его ужасы
— Есть ли жизнь на яхте? — спрашивают меня.
Уверенно отвечаю: «Нет, нет и нет!» Больше всего наводная жизнь напоминает то, от чего, как от сумы, не следует зарекаться. Корпус яхты сделан из стеклопластика и не «дышит» — утром внутри повсеместно можно видеть капли влаги, словно на стенках карцера в следственном изоляторе. Как и в тюрьме, тут полностью отсутствует приватность — шаги праздно идущего по доку соседа отдадутся в яхте как проход конвойного по коридору. Скученность и замкнутость пространства вызывает желание поскорее встать на путь исправления и выйти по УДО. Тихий океан переполнен всякой тварью — посвети ночью в темноте фонарем в воду, и холодок ужаса побежит по спине. Продолжая аналогию, скажу, что вместо сторожевых собак тут морские львы и котики. А еще ночью слетаются разнообразные птицы — некоторые бесшумно парят прямо над водой в темноте, другие тихо, как автоматчики на вышках, сидят на мачтах и ждут, чтоб успеть отобрать рыбу, если первым свезет. Как-то в ночи я вышел на корму и вдруг почувствовал, будто кто-то сзади провел по голове полотенцем — оказалось, огромная птица сидела прямо надо мной, я ее спугнул, она шоркнула меня большим крылом и низко-низко полетела прочь, а я пошел внутрь мерить пульс — сна как не бывало.
Самостоятельная яхтенная жизнь полна опасностей, забот и унижений — она мало чем отличается от отбытия срока в местах не столь отдаленных. Да и океан в целом, сказать по совести, вовсе не такая уж романтическая штука. Вот начать, собственно, с воды — что собой являет вода Тихого океана? Гадость, по сути, редкая! Всегда холодна, кроме, может, сентября. Всегда вызывает желание покинуть ее и выйти на берег ну или подняться обратно на яхту. Вода несет некий очень темный оттенок и кажется тяжелой, как свинец. Высокая волна на просвет имеет приятный зеленый цвет, но если в Каннах такой волной восхищался бы весь берег, то здесь только зябко поежишься. В отличие от дружелюбного Средиземного моря, Тихий океан никогда не вызовет умиления. Это не друг. Если ты плаваешь в Малибу, устал и хочешь выйти на пляж — будь уверен, что у тебя осталось достаточно энергии и ты в состоянии победить невероятно тягучую обратку, вымывающую песок прямо из-под ног. Поэтому на тамошних пляжах так много спасателей. Если же ты решил погрузиться в пучину с яхты вдали от берега, то все может обернуться еще печальней. Тихий океан — это суп. Суп живности. Кроме акул там всегда и везде в шаговой доступности морские львы. Тут следует заметить, что морской лев — никакой не предмет умиления! Это жуткая машина весом в полтонны с песьей головой! Пасть у него — точная копия волчьей. Людей эти твари совершенно не боятся и всплывают рядом с тобой мгновенно и бесшумно, легко вызывая ступор или даже инфаркт у человека неподготовленного. А еще киты! Вот как-то шли мы на остров Каталина, и я заметил китовый хвост слева по курсу. С невообразимой скоростью кит нырнул под яхту и буквально через пару секунд вынырнул у правого борта, рыгнув со спины на нас вонючей смесью пара и прелого воздуха. И все это резко, быстро, непредсказуемо — даже ужаснуться не успели.
Если же в океане кто-то сдох, то происходит нечто подобное татарскому празднику Сабантуй — невероятное оживление, драки, крик, движуха. Вот намедни проходили мы у раздутого огромного морского льва, и было жутко наблюдать, как сверху с разбойничьим криком его долбили чайки всех видов, а из-под воды кто-то невидимый неистово вырывал куски жира и мяса.
А келп? Келп — это здоровенная водоросль ржавого цвета и невменяемой длины. Он прекращает рост примерно в метре от поверхности и зловеще колышется — смотреть на него сверху ну просто жутко. Келп наматывается на винт, на якорную цепь, тормозит яхту, облепляя киль, и ты виснешь там, как пришелец на чужом празднике…
Тем не менее полно отчаянных и беззаветно смелых людей, которые отплывают на яхте или на катере далеко-далеко от берега и там легкомысленно купаются. А мне страшно. Я боюсь. А раньше купался. Бывало, прыгну — и вот уже болтаюсь как последний дурак с вымученной, поддельной улыбкой в Тихом океане, а подо мной целая миля тяжелой соленой воды. Начну, к примеру, тонуть — так это займет, наверное, целый час, ведь чем глубже, тем вода плотнее. Человек сделан из нее (воды) на 70 %, а во мне еще жир — значит, давление не даст опуститься на самое дно и я потешно зависну на глубине в километр — там, где кончается свет. Буду смиренно висеть в темноте, пока вокруг не начнет неспешно кружить одинокая акула. Она покружит, покружит, а потом куснет за ногу и резко дернет вниз. Руки мои встрепенутся, голова откинется назад, а из рта и носа вылетят последние пузырьки и струйкой потекут вверх, к свету, к вам…
«Койот» с севера
Гриша — безбашенный еврей-нефтяник из Сургута с биографией еще удивительней, чем моя. Мы употребляем алкогольные напитки на его яхте в Лонг-Бич, на дворе, кажется, 1993 год. Гриша рассказывает о своей карьере «койота»[12]:
— Вообще-то, в этой Энсинаде надо знать специальных людей, но в первый раз я, конечно, не знал никого — пришел и тупо зашвартовался в Бендере.
— Где?
— Ну это ихняя «марина» так называется. Я стал на гостевой док, повесил на яхту маленький американский флаг, и уже через час или полтора нарисовался какой-то хлыщ с неплохим английским. Тут важно, чтобы яхта не выглядела помпезно дорогой — тогда никто не подойдет. А если покоцанная, как моя, да если на палубе пить сервесу — обязательно подойдут «койоты».
— И че «койот» сказал?
— Ну, типа вверх или вниз плывешь? В смысле — в Штаты или вдоль полуострова на юг Мексики. Про лодки поговорили, поулыбались, и он свалил. Через час пришел с бабой и в лоб предложил 700 долларов. Я ответил, что беру «штуку» с человека и мне надо не меньше девяти человек. Тогда Мигель — так его звали, попросил ни с кем не разговаривать, снять флажок и подождать до завтра: «Keep your mouth shut, wait till mañana and we’ll see what I can do»[13].
— А на фига такая конспирация?
— Ты не понимаешь — вся эта Мексика коррумпирована навылет: там «койоты» — как менты, менты — как бандиты, и все работают, суки, в связке. Если долго там торчать — обязательно спланируют поганку, но не чтоб оставить людей, а чисто нажить. В идеале все надо сворачивать в один день, чтоб принюхаться не успели.
Гриша ушлый, закаленный советским Севером авантюрист. После этого своего первого визита в Энсинаду он освоился довольно быстро и проработал таким образом года полтора. Но спалился:
— …И подлетел маленький белый вертолет. Сделал круг и свалил. Я понял, что сейчас либо катер пошлют, либо пограничник прилетит. Если катер — тогда занавес, а если сверху — то можно еще пободаться. Метнулся вниз — там мучачита была молоденькая, я ее тащу наверх — она блажит и сопротивляется, не понимает ничего. Думает, тупая, что ее утопить хотят. Один мекс врубился, стал мне помогать выталкивать ее наверх и одежду снимать, но дура сопротивлялась. Я уже хотел ее отпустить, как вдруг этот мекс (прикинь — оказалось, это ее родной дядя) со всей дури ей влупил с правой. Телка сдулась и пошла со мной, но изо рта ее текла кровь. Мы с дядькой сняли с нее лифчик, а на бедра навернули яркий платок. Я положил ее на нос, дал в руки бутылку шампанского и фужер и жестами велел приветливо махать пограничникам. Через минуту прилетел большой вертолет Coast Guard, снизился и стал кружить. И вот тебе картинка — внизу, задыхаясь в поту, как селедки, стоят сальвадорцы, гватемальцы, мексы, а на палубе насмерть перепуганная телка со ртом, полным крови, кокетливо машет погранцам пузырем шампанского.
Дали Грише тогда семь лет…
Cholesterol
В нашем маленьком угловом шопинг-центре было всего 10 разных бизнесов — от парикмахерской до китайского фастфуда. И вот как-то сижу бездельничаю да смотрю изнутри сквозь витринное стекло и вижу, как рыхловатый негр неопределенного возраста с трагическим лицом обходит всех по одному и что-то врет. Дошел и до моего ломбарда.
— Я буду вас охранять, — сказал он неуверенно, — это недорого. Пять долларов в день. Я уже со всеми договорился. Все согласны.
— А зачем ты нам? Это ж ломбард, а не цветочный магазин. У нас в каждой щели по два пистолета. Уж мы сами, — и я действительно показал ему два пистолета.
— Да знаю я, — отмахнулся он печально, — ну дайте хоть три доллара в день. Я ведь еще и паркинг подметать буду!
На следующий день он действительно появился в застиранной голубой рубахе с надписью PMS Security. Девки из парикмахерской стали над ним хихикать — он аккуратно оторвал первые три буквы и показал парикмахершам палец. Как ни странно, у нового охранника оказалось множество дел — он ревностно следил за тем, чтобы на паркинге были исключительно машины наших клиентов, а не соседей, он таскал на помойку пластиковые мешки с мусором, охотно бегал по мелким поручениям. В первый же день я послал его в рыбный ресторан — он принес нам куски сома, зажаренные в кляре, и стал с удивлением смотреть, как я выковыриваю рыбу из этого самого кляра.
— Зачем ты это делаешь?
— Так ведь в этом кляре сплошной cholesterol…
— Chol’Esterol, — повторил он с сильным ударением на Е. Слово ему очень понравилось, он повторял его весь день на разные лады и так заработал себе кличку на всю оставшуюся недлинную жизнь. Значения этого слова он, конечно, не понимал — думал, что это собирательное название вкусной и здоровой пищи.
Обычно в полдень на паркинге становилось жарко, но никто не спешил пригласить Холестерола внутрь, под прохладу кондиционера. Бедолага садился на маленький стул в тени угловой вывески и, положив на голову мокрый платок, весь день двигал свой стульчик за тенью, подобно древним солнечным часам.
Торговля наркотой ужасно не вязалось с трагическим, немного вытянутым вниз лицом Холестерола, с его флегматическими манерами и природной рыхлостью, но против обычаев South Central LA не попрешь, и уже через пару месяцев наш охранник начал банчить крэком. Брал у дилера на реализацию и продавал прямо на нашем углу. Торговля шла довольно бойко, и вскоре у Холестерола появились две отвязные подружки-помощницы. Начались разговоры о том, что неплохо бы его выгнать, но тут он использовал неожиданный ход — перестал по вечерам приходить за пятидолларовой зарплатой. Как теперь его выгонишь, если он как бы и не работает? Но вот однажды наш замечательный дворник-охранник бесследно исчез вместе с подружками. Мне тут же донесли, что он «швырнул дилера», т. е. взял большую партию дури, деньги прогулял или у него их отняли, а остатки наркоты просадил сам с друганами-подружками. По понятиям нашего района такого человека начинают избегать как прокаженного — близко не подходят, не разговаривают и ни в коем случае не заходят к нему домой, чтоб случайно не попасть под drive-by shooting[14]. Тем удивительнее было увидеть старину Холестерола через месяц на своем привычном стульчике. Был он тих и светел.
Утром следующего дня из проходящей машины в него трижды выстрелили из чего-то малокалиберного. Две пули пролетели мимо, а одна попала ему в пах. В шоке и ужасе бедный Холестерол пробежал целый квартал, зарылся в пустые коробки на задах супермаркета с так неподходящим для нашего героя названием «Lucky» и там истек кровью. Нашли его по красной дорожке.
— А что делать? — философски сказал мне сосед Норман из соседнего магазина. — Ты поставь себя на место дилера. Думаешь, ему охота было его убивать? Вовсе нет. Но ведь как-то надо воспитывать дистрибуторов! — И строго посмотрел на своих помощников.
Ну как тут не согласиться?
Норман
А надо вам сказать, что в соседях у нас был магазин пейджеров — в то время сотовые телефоны еще только появлялись и мало кто мог их себе позволить. Этот странный магазин больше походил на клуб — он был открыт 24 часа в сутки, и торговали там в основном крэком, хотя и пейджерами тоже. Его хозяин — очень толстый негр Норман, имел множество врагов. От неприятностей его отмазывал такой же жирный брат-полицейский. Но отмазывал не до конца, не так чтобы уж совсем отмазывал.
Вот однажды заходят к нам в магазин двое упитанных и одинаковых с лица мафиози и вежливо так говорят моему работнику: «Отойди влево». Тот и возражать не стал — не только отошел, а еще и лег на пол. Парни достали большие пистолеты, поводили стволами на стенку, будто что-то выверяя, затем открыли беглый огонь. Стреляли они в Нормана сквозь общую нашу с ним стенку, рассчитывая, очевидно, зацепить его вслепую хоть одной из этого шквала выпущенных пуль. Стрельба в закрытом помещении — это отдельная и очень грустная песня, доложу я вам, и уж совсем-совсем не то, что показывают в голливудских боевиках. Это совершенно особый жизненный опыт — совсем, кстати, необязательный. Так вот — от выстрелов поднялись потолочные панели, часть из них вообще упала вниз. Все помещение затянуло плотной белой и серой пылью. С этой пылью смешался кислый запах сгоревшего пороха — глаза жутко слезились и рефлекторно закрывались, отчего делалось еще страшнее, уши заложило наглухо. Израсходовав боезапас, парни быстро ушли, а я еще долго лежал на полу за сейфом в ожидании, что Норман откроет из своего магазина ответный огонь и тут уж мне точно прилетит, но оказалось, что хитрый негр утек, как только увидел, как эта парочка прошла в мою дверь.
Долго и оживленно обсуждали мы эту стрельбу, а по телевизору в это время транслировались последние заседания суда над полицейскими, избившими чернокожего господина по имени Родни Кинг. Мы краем глаза смотрели в телевизор, шутили над Норманом и представить не могли, что жить нашему магазину, да и почти всем другим бизнесам в округе, оставалось всего несколько дней, что 63 человека будут убиты, две тысячи ранены, что сгорят целые кварталы, а начнется все это именно на нашем перекрестке. Шел апрель 1992-го года, надвигался знаменитый лос-анджелесский черный бунт…
Sloan
У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Sloan.
— Откуда?
— С Голливуда.
— Что вам надо?
— Хотим предложить пуленепробиваемые стекла. Сами же и установим!
— Ну приезжайте.
Следующим утром действительно к магазину подкатил опрятный белый минивэн с надписью SLOAN SECURITY LLC, и из него выпрыгнули двое энергичных. С собой они привезли куски толстенных стекол с застрявшими внутри пулями разных калибров. Стекла эти мне очень не понравились — хоть и толстые, они были пластиковыми, подозрительно легкими и не вызывали никакого доверия. Сами «слонята» тоже как-то не располагали — тарахтели заученно скороговоркой, а между собой и вовсе общались по-итальянски.
— Не верю я в ваши стекла, — собрался я с духом, — давайте кусок, и я сейчас в него выстрелю, и тогда посмотрим.
— Что ты, что ты! — заголосили они хором. — Если полиция на звук приедет, у нас лицензию могут отнять!
Напрасно я доказывал им, что мы находимся в самом сердце South Central LA и полицейские тут на такие пустяки, как пистолетный выстрел, даже пончик в сторону не отложат — итальяхи уперлись, а потом с понтом согласились… и тут же заявили, что у них нету нестреляного куска! Затем они потащили меня в вэн, где у них был оборудован кинозал — видик и большой телевизор от генератора. Там они показали мне фильм, в котором лихо стреляют в эти куски пластмассы и пули в ней обреченно и безнадежно вязнут. DVD тогда еще не были изобретены, и я попросил кассету. Почему-то, уж не помню почему, кассету эти говнюки мне тоже не дали. Еще в этом фильме была показана чудо-пленка, которая клеится на стекло и удерживает его от разлета на куски. Пленка эта толщиной всего в полмиллиметра. Тут я совсем приготовился отказаться, как вдруг один из них озвучил цену — 1200 долларов.
— Как? За все? — изумился я.
— Да, — гордо подтвердили макаронники, — стекла и установка. Sales promotion[15] у нас. Через месяц не меньше двухи попросим. Такие дела.
Они стремительно все обмерили, попросили аванс, получили отлуп, пожали мне руку и наутро привезли стекла. После установки магазин разделился на две части и я ощутил себя аквариумной рыбой — наступила полная изоляция от гетто, общаться с обитателями которого можно было только через специальное окно. Разделилась и зона кондиционирования воздуха — в торговом зале возобладала жара, зато внутри стало на удивление прохладно. В общем, хорошо получилось и недорого.
Месяца через два в гости к моему рабочему Майклу пришел его малолетний племянник Тони. Майкл запустил его в аквариум, где придурок Тони начал крутить маленький револьвер, что лежал у нас под кассой, и, выражаясь милицейским языком, «произвел непроизвольный выстрел», за что был бит и с позором изгнан. Это было очень грустно, но больше всего меня опечалила круглая сквозная дыра в «пуленепробиваемом» стекле, и я немедленно позвонил «слонам».
— Что за хня, — говорю, — ваше стекло пуля прошила, как брикет масла.
— А-а-а!!! — в ужасе закричали итальянцы. — У вас что — перестрелка была??? А-а-а!!!
— Нет. Авария просто. Случайный выстрел.
Они немного успокоились, но тут же приехали уже вчетвером и с видеокамерой. Осмотр дыры вернул им душевное равновесие:
— Чего ж ты нас пугаешь? Ведь выстрел был со стороны, где наклеена пленка! А если б наоборот — пуля застряла бы намертво!
Спорить с ними было лень — я протянул руку и попрощался. «Слоны» ушли в свой вэн, но никуда не уехали, а о чем-то там интенсивно спорили. Звуки не доносились, да и итальянского я не знаю, но почему-то мне явственно слышалось: «Снимаем эти стекла! Тут раз в месяц настоящие пули летают! Засудят нас на хер! Надо вернуть этим русским бабло…» Минут через двадцать они вновь зашли в ломбард и предложили возврат денег и разбор стекол. Однако я, как аквариумный меченосец, уже привык к тишине и прохладе и категорически отказался. Повисла неприятная пауза, но тут позвонил мой бизнес-партнер Жора — в прошлом тертый киевский фарцовщик, и быстро меня проинструктировал.
— Парни, — сказал я, повесив трубку, — дайте мне 500 долларов, и я подпишу, что вы стекла просто для красоты поставили.
Оскорбленные такой наглостью «слоны» один за другим вышли вон, сели в микроавтобус и укатили к себе в Голливуд. Больше я их никогда не видел, а стекла до сих пор там стоят — пожелтели только.
Яша-убийца
Ужасно эта кличка не нравилась Яше, но ничего поделать он не мог. А дело было так. Однажды утром он открывал свой ювелирный магазин в Голливуде, а рядом праздно терся ранний посетитель. Яша привычно поднял железную штору, открыл стеклянную дверь, открыл железную, как вдруг ощутил, что этот посетитель сидит у него на спине и пребольно сжимает локтем горло. Вместе с наездником рысью помчался Яша вглубь магазина, где лежала тяжелая стальная палка для правки золотых колец. Однако, добежав до кассы, Яша встал как вкопанный. Под ящиком кассы у него лежал револьвер. Яша задыхался и уже почти ничего не видел. Он вдруг отчетливо осознал, что, даже добежав до палки, он может ее просто не найти. Схватил револьвер, сунул его себе под мышку и нажал спуск. Раздался негромкий хлопок, локоть, сжимавший горло, разогнулся, и вот наездник-неудачник уже лежит на полу, мелко трясется и хрипит. Лицо у него стало фиолетового цвета, да такого, что приехавшие полицейские не могли понять, к какой расе он принадлежит, и записали убитого негром, хотя в магазин на Яше он въехал вполне себе белым.
— И вот что странно, — говорит Яков, — из него не вылилось ни капельки крови!
— Действительно странно, — отвечаю я, — какой же ты убийца без крови-то? Я б тебя звал Яша-Синдбад.
— Какой такой Синдбад? Что за Синдбад? — встревожился Яша.
— Да фигня — не заморачивайся! Сделай лучше еще кофе.
Хороший человек был Яша-убийца. Приветливый и доброжелательный.
Помер вот от рака в прошлом году.
Отцы и дети
Пришел ко мне в магазин хитренький вьетнамец Луи. Я не видал его лет 15, но узнал сразу — азиаты не сильно меняются. Вот и Луи чуть пригнулся, да вокруг узких глаз образовались мешочки. Сколько ему сейчас? Под 80, наверное.
— Здорово, Луи!
Он смотрит на меня в замешательстве — не узнает, старый.
— Алекс! Ты, что ли? Седой стал! А мне сказали — ты продал этот бизнес.
— Врут все, — хихикаю я, и Луи тоже смеется — он рад меня видеть.
— А я до сих пор этот Rolex ношу, — показывает он свои часы, но я, к стыду, не помню эту историю и увожу разговор:
— Как твоя недвижимость?
Вьетнамец долго и обстоятельно рассказывает о своих успехах. Когда-то у него были барачного типа трехэтажные многоквартирники в Голливуде, а я только входил в тему.
— Никогда! Никогда не влезай в 30-летний договор с банками! Бери на 15 лет и старайся выплатить в 10, — учил он меня еще лет 20 назад. Мудрый.
Теперь из жилой он переходит в коммерческую недвижимость — купил два больших шопинг-центра на 22 бизнеса каждый и еще что-то по мелочи.
— А что дети?
У него был рыхловатый сын, которого, видно, дразнили в школе, и поэтому тот покрыл себя брутальными татуировками. Забавный такой — заставлял отца говорить с ним по-английски. Еще была дочка-тихоня.
— С детьми проблема, — несколько наигранно говорит Луи, — я им совсем не нужен!
Оказывается, сын-толстяк замутил успешный стартап и на него уже работают 18 человек, а дочка очень удачно вышла замуж и купила большой дом. Луи изловчился и тихонько вручил ей чек, чтобы загасить задолженность перед банком, но молодой муж его строго отчитал и вернул бабки.
— Ты видишь! Они во мне не нуждаются.
— Так я не понял — ты жалуешься или хвастаешься?
Щелки глаз сужаются до миллиметра, лукавый азиат смеется и разводит руками. Счастливая старость.
На пляже
Из русских на пляже два чикагских литовца да бывший уралец, дальнобойщик Милевич.
— Ну че ты жидишься? — говорит он. — Полтинник же всего.
Но гонять на глупых джетски мне неохота, а ему в одиночку неинтересно.
— Да я плавать не умею. Перевернусь еще, утону — маеты сколько. Труп везти, бумаги всякие…
— Не ври. Ты жмот. Просто жмот, — весомо заключает Милевич и идет к воде. Литовцы с интересом слушают разговор, хотя по-русски не понимают. Вдруг он разворачивается:
— Ну на хоть поснимай меня, — и протягивает свой телефон.
Я и снимаю. Снимаю, как метрах в ста от берега он резко добавляет газ и с башки его слетает недавно купленная шляпа I love Costa Rica. Он останавливается, глушит мотор и ныряет за ней в воду, а я, утратив всякий интерес, возвращаюсь на лежак дремать.
— Триста долларов!!! — доносится до меня вскоре. — Триста за очки отвалил и, блин, прямо в них нырнул за шляпой!
— Oh, shit! — сочувствуют литовцы.
— Я делаю безразличное лицо и, подавляя притворную зевоту, лениво спрашиваю:
— Так у тебя вроде цепура была с крестом…
С округлившимися глазами Милевич с размаху хлопает себя по мокрой груди и, ощутив крест, нервически смеется.
Фима
Фима работал администратором у Тарапуньки и Штепселя. У него была жена, но она померла, а через год он стал жить с Надей. У Нади была красивая грудь и круглый, как колобок, сын-подросток. Фима любил Надю, Надя любила своего ребенка, а ребенок любил поесть.
— …Она ему отрезает, и он ест! Я терплю, терплю, не выдержу и говорю: «Наденька! Ведь за этот сервелат мне в столе заказов унижаться пришлось! Ведь сервелат вообще не едят ТАК». А она молчит, отрезает и смотрит, как он дальше ест. Она резала сервелат, как мое сердце! Он жует, а она смотрит на него так, как на меня не смотрела никогда…
— Так, может, они из Ленинграда? Может, у нее родители от голода померли?
— Какой на хер Ленинград?! Из Винницы она…
Фима так и живет в Киеве — в 90-ые собирался эмигрировать, да передумал, а сейчас поздно — под восемьдесят уж… куда ж тут ехать-то?
Шурик
Ему уже прилично за 60, но он хочет, чтобы все называли его Шурик. В Кишиневе он заведовал какой-то базой.
— В Союзе у меня было ВСЕ! — зажмурившись от удовольствия, говорит Шурик. Странным образом в это короткое предложение он вмещает целую гамму красок — слово «Союз» у него выходит уважительно и с придыханием, а короткое «все» получается на удивление массивным, весомым. Шурик победно смотрит на меня, ожидая расспросов, но я такая мерзкая крыса, что всегда найдет, где укусить:
— И загранпаспорт был?
Шурик кипятится и многословно доказывает мне преимущества отдыха в Ялте, затем опять сбивается на свою базу, но я уже убрал звук и вижу только шевелящийся рот. Вдруг он резко добавляет громкость и, как сквозь вату, пробивается:
— Синьку! Завезли синьку! А ты представляешь, что такое синька? Да, блин, цыгане меня на руках носили! Бельцы, сороки… вся шерсть цыганская ко мне стянулась.
Я с тоской смотрю по сторонам и понимаю, что, приди я минут на 15 раньше, — можно было сесть вон там, где три веселых тетки все время хохочут… Эх-эх…
Американский футбол
Ну нет на Земле места, приятней Лос-Анджелеса субботним утром после ночного дождя. Воздух чист, свеж и прохладен. Трафик вменяем, население настроено благостно — улыбается и частично машет руками.
— Ну ты готов к суперболу? — спрашивает меня кассирша с круто закрученными ресницами.
— Да не смотрю я этот ваш футбол, — отмахиваюсь я.
— Ламар!!! Ламааар!!! — в притворном ужасе кричит она. Бодрой утренней рысью прибегает атлетический Ламар. Он тоже негр, но светлокожий. Упустить такое преимущество он не мог и плотно покрыл себя замысловатыми татуировками. Ламар резво закидывает мои покупки в пакет и выдвигает смелое предположение:
— Да он, наверное, за Falcons болеет!
— You’re trippin’ (Да ты гонишь), — отвечает кассирша, все смеются, а я выхожу допивать кофе на паркинг.
И вас с добрым утром!
Кофе
Когда-то очень давно я купил дом, собаку и дом для собаки. Этот последний дом был сделан из толстого пластика в виде перевернутого чана. Собака очень любила свою недвижимость и все время там сидела — только башка торчала. Каждое утро, завидев меня с кофе, она громко и радостно барабанила хвостом по внутренним стенкам будки — только гул стоял.
Так я выяснил, что меня собака тоже любит. А иначе зачем бы ей лупить хвостом — ведь кормлю я ее только вечером! Потом будку завил плющ и удары стали тише. Потом собака состарилась и нужно было прислушиваться — машет ли она там, внутри, хвостом? А потом она начала слепнуть и иногда меня не замечала вовсе. Через 17 лет собака померла. Я по-прежнему пью по утрам кофе.
Тихо во дворе…
Депрессия и способ борьбы с ней
Лет с десять назад на какой-то party я случайно разговорился с приятным евреем-англичанином из Barclays Bank. Он работал с компанией Сергея Каузова, того, что на Кристине Онассис женился, кажется, в 1978 году. Так вот, этот англичанин рассказал, что в 90-ых без всяких видимых причин он внезапно впал в глубокую депрессию. Не было никаких предупреждающих «звоночков», не случилось никаких жизненных трагедий — все были живы, богаты, здоровы. Он никогда не употреблял наркоты или сильнодействующих препаратов. Вообще ничего. И вдруг — бац! — и он уже не хочет вставать утром из кровати. Отворачивается к стенке. Отказывается общаться с друзьями и родственниками. Потом появились назойливые мысли о самоубийстве. Кто-то посоветовал ему отвлечься, путешествуя по горячим точкам. Он принял этот совет и в составе волонтерской миссии отбыл в Дагестан.
На одном из блокпостов машину гуманитариев тормознули и бородатый человек начал задавать ему вопросы, но англичанин онемел от жути и только мычал. Тогда бородатый, прислонив банкира к мешкам с песком, поднес автомат к его левому уху и выпустил в воздух очередь. После чего незамедлительно засунул горячий ствол в рот задержанному. Во рту зашипело.
Что было дальше и как он оттуда выбрался, англичанин не рассказал.
— Этот кислый запах сгоревшего пороха теперь всегда со мной, — горько пожаловался он.
— Ну а депрессия? Мысли о самоубийстве?
— Да вот точно в ту секунду, когда я ощутил во рту горячий ствол, депрессия меня навсегда покинула, — грустно улыбнулся банкир.
— Так ты бы запатентовал этот способ.
— I’ll think about it, — неуверенно ответил подданный Ее Величества и отошел, явно теряя интерес к разговору.
Поминки законника
Два сморщенных, неважно одетых старика сидят передо мной — уж такое досталось место за длинным столом. Они осторожно цепляют вилкой рыбку, оставляя без внимания разнообразные деликатесы — видно, не все уже можно кушать, а может, просто не знают всех этих разносолов. Между собой не разговаривают — наверное, старая обида, но часто повторяют, обращаясь почему-то ко мне:
— Какая потеря! Какой человек ушел!..
От вин отказываются, пьют глоточками водку и хвалят. Вот они как по команде опустили руки в карманы, пошуршали там, чтоб не показывать пачку — не светить дешевку, вынули каждый по сигарете и ушли со всей толпой на крыльцо курить.
А-а… ты ж не куришь, — подошел Жора.
— Жорик! Что за персонажи?
— Ветераны наши. Нельзя не позвать. Этот в пиджаке — Женя Краснодарский… а может, Красноярский — запамятовал я… стыдно, вообще-то. У него рак вроде нашли — меня попросили бабла подсобрать на лечение, а второго уж не помню по имени — он сейфы ломал в шестидесятых. Мало на воле был совсем, но в зоне жуть какой авторитет имел! Взаместо судьи выступал. Он, кстати, классический законник — ни дома не имел, ни бабы, ни детей. Строгий. Очень строгий, — повторил Жорик, словно речь шла о завуче младших классов. — Последний, наверное. Да как же, блин, зовут-то его?..
— А чего они не разговаривают между собой?
— Меряются авторитетами прошлого века, — засмеялся Жора, — пусть накатят немного. Заговорят. Но ты молчи лучше — выщелкнут твое ментовство, даже если ты тире или запятую произнесешь.
Удивительное это слово — «рак». Звучит как навсегда ломающаяся сухая ветка…
Старики вернулись, и я увидел то, чего не замечал всего десять минут назад — как велик Жене пиджак, как беззащитно торчит из него худая, сморщенная шея. Не произнеси Жорик это короткое как выстрел слово — и не заметил бы я этот мрачный, землистый цвет лица, эти пергаментные пальцы… Дед между тем захмелел и вдруг спросил:
— А что — собака есть у вас?
— Ну да. Есть. Питбуль.
— Мой — порвет! Любого, кто подойдет, — порвет, — избегая упоминания породы, с какой-то болезненной гордостью заявил Вор, и сразу стало его жалко.
Потихоньку под водочку разговорился и безымянный. Оба они нищенствовали. Первый имел комнату в частном доме в Домодедово, второй и вовсе жил где-то в Королеве, я так и не понял у кого. Они еще пару раз вышли покурить, у судьи в законе образовался нездоровый лихорадочный румянец, и он принялся кого-то обличать, но понять, кого и за что, было довольно непросто — половины зубов у ветерана не было. Я же, избирательно нажравшись всяких икр да балыков, совершенно потерял интерес к своим соседям и впал в сытую полудрему, сквозь которую прорывалось:
— Ну так я ему говорю. В глаза говорю: «Ты что — мокрушник какой-то сраный? Ты, может, фулюган, какой по двести шестой позорной тут чалишься? Забыл, кто ты есть??? Ты — Вор!!! Носи это гордо и держи себя ровно!»
— А он че? — с поддельным интересом лениво спрашивает Женя.
— Год себя держал, потом ссучился — вышел в промзону. И ты знаешь, что они там выпускали? Колючую, сука, проволоку! Нет, ну ты можешь уразуметь такое скотство? Вор делает проволоку! Тьфу, мразота…
Деликатный Женя Красноярский, или Краснодарский, согласно кивает, поглядывая зачем-то на кухонную дверь. Ему, как и мне, не очень интересны сорокалетней давности разборки в далеком Ивдельском лагере, затерянном где-то на севере Урала.
Слова старикам не дали — выступали все больше кавказцы, правда, исключительно по-русски.
Уже поздно вечером, когда все закончилось, мы выехали из «Фаэтона». На углу Никитской и Садового Жора приметил худую сгорбленную фигуру с большой сумкой. Притормози, — попросил.
— Ой, спасибо тебе, Жорик. Долгих тебе лет и здоровья, — затараторил вор Женя, — а мне парни на кухне костей дали для собачки. Для собачки моей. Да мне только до Павелецкого, на электричку, до Павелецкого только…
Был он абсолютно счастлив.
В машине запахло больницей, дешевыми сигаретами и чем-то очень грустным…
Роза
Роза, жилистая, как спринтер, башкирка, всегда приезжает со своим столом. Как она его без машины таскает по Москве? В столе есть овальная дыра для лица. Роза — массажистка. Смотреть в дырке особенно нечего, но это и не важно — прикольно сопя носом, Роза мнет спину, и постепенно начинается улет. Одна беда — телефон. Боясь пропустить работу, Роза всегда отвечает на звонки и, ловко прижимая «Моторолу» плечом, продолжает делать массаж. Но — слабнут ее пальцы, не сопит нос, а из моих глаз исчезают диковинные цветы и образы. Вот опять. Кажется, муж.
— Ну зачем ты сейчас об этом? Мне некогда — у меня клиент. Что значит — какой?
Отставив телефон, Роза больно щипает меня за бок:
— Сань, а ты миллионер?
Вынув лицо из дырки, я быстро вру:
— Да, конечно! Несомненно! — и падаю обратно.
— У меня клиент, — продолжает Роза, — американский миллионер.
И вдруг через секунду:
— Да пошел ты сам на хер!!!
Телефон-раскладушка с треском захлопывается. И вновь надо мной сосредоточенно сопит нос, и я шагаю по желтой кирпичной дороге к изумрудному горизонту. Заканчиваются 90-ые…
Сон
…Я таки помер, вознесся и в очереди стою, а мужичонка передо мной блажит скороговоркой, типа он, мужичонка, всю-то жизнь прожил в Саратове, женился на однокласснице и не изменял ни разу, начал с табельщика и дошел до главбуха, и есть он поэтому самый праведник. А Бох слушает его с каким-то омерзением и вдруг говорит голосом высоким и дребезжащим, как у какого-то старого артиста:
Я, — говорит, — тебе даровал одну-единственную жизнь, а ты, гондон, так ее серо и бездарно просрал! В трубу его!!!
Тут апостол Павел в кожаном переднике ловко подскочил — хвать бухгалтера одной рукой за воротник, второй за жопу да и швырк просителя в большую трубу, откуда идет горячий воздух и весь предрайник отапливает.
— Следующий!!!
Вышел я на полусогнутых, открыли дело и только приготовился оправдываться, как вдруг Павел и говорит:
— Это, — говорит, — Иваныч. Его следует пропустить.
— Ну ща! — возмутился Бох. — Вы мне тут и бухгалтера чуть не протащили. Читай меморандум по делу!
— …Фарцовщик… мент… невозвращенец, — забубнил Павел, — жил в разных странах… изменял бабам и Родине…
— И Родине? — удивился Бох.
— Так точно. Вот тут, в деле, «измена Родине»… «лишен советского гражданства»…
Бох расплылся в благостной улыбке — глаза его лучились добротой.
— Ну вот! Есть же кадры достойные! Три жизни в одну впендюрил, подонок! — и гневно апостолам: — А вы все норовите шушеру всякую протащить!
И вдруг спросил строго, глядя в лицо:
— А бухаешь???
— Запойный! — эхом ответили ассистенты.
— Ай, хорошо, хорошо, — Бох собрал бороду в кулак и закатил глаза в блаженстве.
— Петя! Павлик! Проводите Иваныча в 119-ую да посмотрите, чтоб койку дали лучшую — у окна и подальше от параши. Да соточку нектару праведнику с дороги!
— Следующий!!!
А что вам снилось в новогоднюю ночь?
Луковицы
На многих барселонских открытках можно видеть огромный 96-футовый парусник «Садко», покрашенный в цвета ментовского УАЗика. Сегодня на нем катают туристов — смотреть на закат, причем название новые хозяева, которым я продал эту красоту, не изменили. Принадлежал «Садко» моему бизнес-партнеру Хельмуту, но он так ни разу до Испании и не доехал. Я жил на том паруснике лето 98-го и 99-го года. Замечательно, следует признать, жил. Теплыми вечерами на палубе собирались интереснейшие персонажи — по мачтам просто так, без нужды, ловко лазил артист Пепе с огромной бородой. Никто не мог определить его возраст — по виду ему было лет 70, но был он чрезвычайно гибок и голос имел мальчишеский. Часто приходил львовский бандит-строитель Тарас, про которого говорили: «Держит Барсу». Он всегда приносил много вина, был тих и застенчив. Заглядывал подкокаиненный Витя Коптев — тот, что запустил очень оригинальный бар The Hook рядом с Рамблой. Неудавшийся угонщик самолета Миша Овечкин приводил своего длинного друга-голландца, и тот играл нам на банджо. Люди разные, но было у них одно общее — оставляли, гады, срач, бардак и прочий беспорядок.
Но вот как-то поздно вечером мы услышали с берега жалостливое: «Хлопцi!» Костя-матрос, фамилия его, кстати, Священный, подпрыгнул как ужаленный, повел носом и быстрее ветра метнулся на берег. Через минуту он привел двух расстроенных дам лет тридцати с небольшим. Дамы рассказали, что работают на сборе лука в Валенсии, что это их первый выходной — они приехали провести его в Барселоне и опоздали на последнюю электричку. Были они из Западной Украины, и работа по 10 часов в позе пьющего оленя их ни капельки не напрягала: «Где мы еще такие деньги заработаем?» Девки пели украинские песни, ржали как кони, так что эхо летело над гладью воды, и пили дешевое вино, но зато утром все перемыли и протерли. Я их, конечно же, снова пригласил в гости, но они больше не появились, а стали присылать подружек из своей бригады — таких же развеселых и опрятных. Корабль сиял чистотой! Мы с любовью называли девчонок «наши луковицы». Потом они разом пропали куда-то. Видно, весь лук собрали.
Одесса
Утром Одесса пахнет цветущей акацией.
Еще нежарко, воздух чист, нет пока необходимости переходить на теневую сторону улицы — и там, и тут шагать одинаково приятно. Это час деловых людей. Одесских деловых людей — есть такой подвид, хотя многие скажут, что эти слова нельзя заключать в одно предложение.
Поселился я на улице Еврейской, в прошлом Бабеля, — аккурат между бывшим КГБ в синих елях и ментовской управой. С огорчением должен отметить, что внешне одесский правоохранитель в подметки не годится московскому. То есть он похож на московского, но двадцатилетней давности. Нет на нем костюма от Brioni, а есть светлая опрятная и поглаженная супругой рубашка с короткими рукавами и погончиками, светлые же штаны на ремне и непременно белесые туфли в мелкую дырочку. Обязателен животик, необязателен, но широко представлен глуповатый галстук. Часто правоохранитель несет папку и строго говорит по телефону. Телефон корейский — коррумпированный московский чекист таким и руки не испоганит.
У синагоги надевает яркую строительную жилетку самоназначенный парковщик. Бизнес его тощ и становится только тяжелее — в Одессе и раньше с лохами было непросто, а уж сейчас-то и вовсе никто самозванцу за парковку платить не хочет. Еще и побить могут. При любом раскладе ему сегодня предстоит много узнать о себе и маме. Он делает озабоченное, несколько скорбное лицо и ступает на теплый асфальт.
Довольно много на моей улице куда-то бегущей молодежи. Все они в майках с английскими словами и обрезанных по колено джинсах. На ногах — вьетнамки, а в ушах — наушники.
На Бунина — ремонт. Суперленивые похмельные рабочие втроем втыкают провод в розетку — они будут устанавливать входную группу в магазин. Истошно и с акцентом кричит на них иностранный турок-прораб.
Через час, покончив с завтраком, я выхожу из Fankoni в совсем другую Одессу: на улицах уже жара, пыльно, полно праздного народу, а божественный запах цветущей акации исчез без следа до следующего утра.
Никогда не разговаривай с неизвестными
Престранный случай произошел со мной в Голубой мечети Стамбула. В хорошем настроении с двумя московскими дизайнершами подъехали мы к исламской святыне. Внутрь, однако, нас не впустили.
— Только для молящихся! — закинув, как тетерев, голову, прямо перед нами закричал охранник и повесил соответствующую надпись. В печали пошел я разглядывать информационные щиты с фотографиями. Минут через десять подошел какой-то вислоносый хлыщ в старом клетчатом костюме с широким галстуком: «Ведь вы не мусульманин, но я вижу в вашем лице восточные черты, — молвил он на хорошем английском и продолжал: — Я могу показать вам мечеть внутри и рассказать о ней». Я смотрел на его растянутое в сладенькой улыбке лицо и не мог понять, чего в нем не хватает. Треснутого пенсне!
Коровьев подхватил меня под локоток и увлек обратно к щитам. Мои спутницы были гораздо привлекательней, но к ним он не проявил интереса. У щитов вислоносый стал тараторить с ужасающей скоростью то, что я уже и так прочитал. Перебивать его было неловко, но меня ждали, и я строго сказал: «Пошли внутрь». Хлыщ пошел вокруг мечети и подвел меня к открытому окну.
— Ты ж обещал показать внутри!
— Так смотри!
После этого он объявил, что провел экскурсию и я должен заплатить 50 лир.
— Так у гидов же бейджики на шее, — сказал я неуверенно, протягивая нетрудовой полтинник. Коровьев ничего не ответил, а схватил мою руку и прижал ее к галстуку, где у него, очевидно, хранится сердце.
— У меня шестеро детей, и мы все будем за тебя молиться, — заявил он.
Осмыслить, что же я такого наворотил, что за меня нужно теперь молиться всемером, мне помешал бритый охранник, который материализовался из сумерек и налетел на моего гида. Они стали громко, как чайки, кричать друг на друга, а я поплелся прочь.
— Ну что — принял ислам? — спросили меня язвительные москвички.
— Не! Ислам меня принял. На полтос пока.
Кот
Желтые кошачьи глаза смотрят с осуждением — человек должен ночью спать, а не патрулировать дом, держась за шею и слушая пульс: вот удар пропущен… вот два подряд. Из спальни в прихожую, потом в кабинет и назад в спальню. Ну, иногда на кухню — но там пол холодный. И вот однажды хозяин умирает: останавливается, делает шаг назад и падает спиной в ворсистый ковер, раскинув руки, как Леонардовский человек в круге, только одной ноги не видно.
А как же кот? — спросите вы.
Его, конечно же, забрали в приют, в animal shelter. Но вот беда — никто его не хочет! Кот диковат — я ж его в парке подобрал. Не урчит и гладиться не дает — ну кому нужен кот без этих двух важнейших навыков? Был бы я жив — рассказал бы, как он галантен, как умеет здороваться, ткнувшись лбом в ногу, какой он гордый и независимый, наконец. Но меня нет — и кота не берут. Вот и тридцать дней прошло — пора его усыплять. (Усыплять!!! Как будто можно будет потом разбудить…)
Но не поднимается у них шприц на молодого и красивого кота — ему дают еще 10 дней. Тетушки-волонтерки напяливают на беднягу яркий жилетик на липучках с надписью adopt me и везут в торговый центр, где снуют тысячи людей. Тут происходит невиданное — он на руках у девочки в очках, она что-то шепчет ему на ухо, и кот даже не вырывается! Но нет — вздрогнул, гад, и сиганул, расцарапав ребенка своей мощной задней лапой. Слезы. Пластырь. Скандал.
…И вот через сорок дней я встречаю своего друга. Его желтые глаза похожи на фары скорой помощи, прорывающейся сквозь туман. Он немного прихрамывает и лижет бок, куда вкололи этот препарат, вызвавший паралич безвинного кошачьего сердца.
Вот сейчас… сейчас он подойдет ко мне и ткнется лбом под коленку.
Здравствуй, кот.
Примечания
1
Извините, у вас все в порядке? (нем.)
(обратно)2
Не говори глупостей! (нем.)
(обратно)3
Где моя подружка? (нем.)
(обратно)4
Убирайся отсюда! (нем.)
(обратно)5
Для граждан Федеративной Республики Германии (нем.)
(обратно)6
Чем я могу вам помочь? (нем.)
(обратно)7
Федеральное ведомство по защите конституции (нем.)
(обратно)8
IRC — Международный комитет спасения, организация, осуществляющая помощь беженцам. ХИАС, Джуйка — общества помощи еврейским иммигрантам.
(обратно)9
По-польски не говорю, но все понимаю (пол.)
(обратно)10
Вернись сюда (пол.)
(обратно)11
Иисус Христос Суперзвезда — рок-опера (англ.)
(обратно)12
«Койот» — нелегальный перевозчик мигрантов, Энсинада — порт в Мексике недалеко от границы с США, «марина» — стоянка частных яхт, сервеса — пиво (исп.), мучачита — девушка (исп.).
(обратно)13
Держи язык за зубами, жди до завтра — посмотрим, что я смогу сделать.
(обратно)14
Обстрел из движущегося автомобиля (англ.)
(обратно)15
Распродажа (англ.)
(обратно)


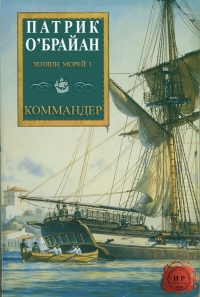


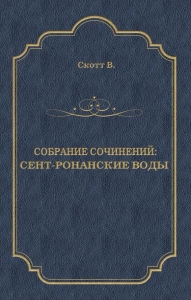

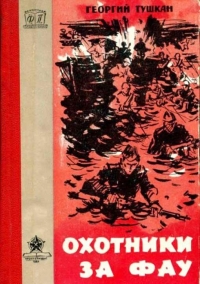

Комментарии к книге «Бармен из Шереметьево. История одного побега», Александр Куприн
Всего 0 комментариев