Хаггард Генри Райдер Рыцарь пустыни, или Путь духа
© Бушуев А.В., Бушуева Т.С., перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство „Вече“», 2019
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2018
Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд[1].
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия[2].
Посвящение
Редьярду Киплингу, эсквайру
Мой дорогой Киплинг,
Мы с вами оба верим, что в жизни есть более высокие цели, нежели просто выдумывание историй, для радости или печали; и каждый из нас стремится воплощать эту веру по-своему.
Тем не менее, когда мы обсуждали план этой истории, и когда вы прочли уже написанную книгу, мнение ваше о ней было именно тем, которое все мы надеемся получить от честного друга-наставника – и, как правило, тщетно.
Итак, поскольку вы проявили к книге интерес, я преподношу ее вам, в знак всего того, что я не в силах описать. Но вы поймете.
Всегда искренне ваш,
Г. Райдер Хаггард, Дитчингем, 14 августа 1905От автора
Эта история была написана два года назад в результате размышлений, которые посетили меня среди песков Египта и пустых келий отшельников, давно ушедших в мир иной.
Возможно, издав эту книгу, я должен попросить прощения за мое отклонение от знакомого, проторенного пути приключений, так как в ходе литературного опыта, длящегося, стыдно сказать, уже более четверти века, я часто замечал, что тот, кто пытается свернуть с курса, намеченного для него традицией или общественным мнением, как правило загоняется обратно градом каменьев и улюлюканьем толпы. Несомненно, многие, похоже, считают крайне неправильным, когда автор пытается, пусть даже крайне редко, обращаться к новому направлению мысли или новой группе читателей. Как он начал, так должен и продолжать, утверждают они. Тем не менее я отважился на описание истории великого и, на первый взгляд, удачного платонического эксперимента Руперта Уллершоу главным образом потому, что меня заинтересовала эта проблема: в тех условиях, в которых он волею судьбы оказался на Востоке, был он прав или не прав, держась за железное толкование данной в юности клятвы и строгую букву закона Запада? И следовало ли ему возвращаться к жене-англичанке, которая столь дурно обошлась с ним, как, в конце концов, он все-таки решил поступить? Короче говоря, можно или нельзя позволять обстоятельствам изменять моральные нормы?
В данной книге вопрос этот решается однозначно, и хотя Меа сама была частью такого решения, если взглянуть на этот вопрос ее глазами, то все покажется не столь простым. Тем не менее, я склонен полагать, что здесь дан правильный ответ на этот вопрос. Кроме того, какова бы ни была точная причина и природа принятого решения, должно быть нечто приятное и благородное в полном отречении ради совести, даже если окружение и общественное суждение не требуют такой жертвы. По крайней мере, такова одна из точек зрения на жизнь, ее устремления и возможности; та, что, устав от родной земли, обращает свое лицо к звездам.
А иначе, отчего тогда древние отшельники так сильно поистерли каменные ложа своих келий? Отчего, тем или иным образом, преемники их по-прежнему истирают все те же ложа повсюду на бескрайней земле, особенно, на мудром и древнем Востоке? Я думаю, что ответ на это один – вера. Та самая вера, что подвигла Руперта и Меа к тому, что они считали самым главным в их долгом послушничестве, – вера в личное воскрешение и воссоединение душ. Без опоры на эту веру в той или иной ее форме, сколь слабой и колеблющейся она бы ни была, невозможно представить себе счастье или даже просто продолжение нашего человеческого мира.
Г. Р. Х.Пролог
Последние жалкие остатки стыда, последние мучительные порывы отчаяния, когда сеть наброшена на голову, а трезубец победителя приставлен к горлу – кто может наслаждаться историей о таких вещах? И все же о них следует кое-что рассказать, поскольку они вытесали характер Руперта Уллершоу, благодаря им он построил лестницу, по которой взошел до тех отверженных высот, что привели к единственному, достойному его, трону. Достаточно будет самого малого. Самые простые факты – это все, что нам нужно.
Одним июльским вечером лорд и леди Дэвен сидели вдвоем за ужином в прекрасной комнате великолепного дома на Портленд-Плейс. Они были очень странной парой. Муж намного старше жены – ему было пятьдесят лет, она же – в самом расцвете женственности. Лицо лорда Дэвена, бледное, почти бесцветное, свидетельствовало о решительности и склонности к легкой язвительности. Его небольшие серые глаза под лохматыми нависающими бровями, такого же песочного цвета, как и его прямые волосы, как будто пронзали насквозь самую суть людей и вещей, а его манера разговора, когда ему было что сказать о том, что его занимало, была резкой и бескомпромиссной. У него было весьма несимпатичное лицо, да и слова его часто были весьма нелицеприятны, что вызывало некоторое любопытство, ибо человек этот отличался хорошим здоровьем, был богат, силен и своим происхождением и счастливой судьбой намного превосходил подавляющее большинство других людей.
Однако в его серебряной ложке меда отметились своим присутствием мухи. Так, например, он ненавидел свою жену, так как с самого начала она возненавидела его. Он, всей душой желавший, чтобы его сыновья унаследовали его богатство и титул, не имел детей. Его острый, язвительный ум низвергал все убеждения и отрицал все условности, и все же призрак мертвой веры продолжал преследовать его, а условности вязали его по рукам и ногам. Ибо он не находил других камней, на которые мог бы присесть и отдохнуть или за которые мог бы уцепиться, пока вселенская волна, что, в конце концов, перехлестывает за неровные края нашего мира, несла его дальше.
Женщина, Клара, леди Дэвен, была просто воплощенное великолепие; высокая, с головой истинно королевской посадки, восхитительной кожей лица, гладкой, как слоновая кость, прекрасно сложенная и развитая в каждой части тела, кроме, быть может, мозга. Добрая, по-своему мужественная, благонамеренная, ласковая, цепко усвоившая то, что познала в молодости, но импульсивная и довольно примитивная в своих наклонностях и мировоззрении; она бы наверняка предпочла жить своей жизнью и идти своим собственным путем, словно этакая милая, титулованная дикарка, поклоняющаяся солнцу и звездам, грому и дождю, главным образом потому, что была не в состоянии понять их суть, а временами они пугали ее. Такова была Клара, леди Дэвен.
Она не отличалась воображением, она жила в настоящем ради настоящего. До нее никогда не долетал грохот колес Судьбы, мрачный и нескончаемый, чье эхо доносится из-под завесы тонкой, капризной суеты наших будней, подобно тому, как в звуках духовых оркестров, марширующих на эспланаде, можно различить грохот далеких боевых пушек, творящих судьбы империй.
Нет, Клара не отличалась воображением, хотя у нее было сердце, хотя, например, из года в год она могла скорбеть о человеке, которого когда-то отвергла или была вынуждена отвергнуть (и который впоследствии спился и умер), чтобы воспользоваться «шансом в жизни» и выйти замуж за лорда Дэвена, которого она откровенно не любила; к тому же, как она знала, был он страшный эгоист и лицемер, как и все представители рода Уллершоу, начиная с его основателя и кончая самим лордом с его родственниками. В конечном счете, такие примитивные и несчастные женщины склонны заводить любовника, особенно если тот напоминает им их первого возлюбленного. Леди Дэвен так и поступила. Любовник этот, как это ни странно, был почти мальчик, наследник и кузен ее мужа, благородный, но пылкий юноша, которого она очаровала своим флиртом и красотой, и теперь буквально тряслась над ним, как это обычно бывает в таких случаях. Вскоре она была поймана с поличным, как и должно было случиться, и дело дошло до неизбежной развязки. Пташки оказались слепы, а лорд Дэвен умел ловко раскидывать сети.
Нет, как уже было сказано, Клара не отличалась воображением. Тем не менее, когда ее муж, поднеся к губам бокал кларета, внезапно его уронил, – разбив его вдребезги и, словно кровью, забрызгав белоснежную скатерть красным вином, – сама не зная, почему, она вздрогнула. Наверно, инстинкт подсказал ей, что это неслучайно, что это символ неких грядущих событий.
В кои веки она услышала из-за духового оркестра на унылой эспланаде своей жизни залпы пушек Судьбы. Ей тотчас вспомнились слова одной песни, которую она когда-то пела, – надо сказать, что подстать своей прекрасной наружности она обладала не менее прекрасным голосом, – меланхоличной песни, которая начиналась так:
«Разбита жизни чаша и красное вино ее пролито; Грехи земные с нами позади и Суд маячит Страшный впереди!»Это была любимая песня ее несчастного, ныне мертвого, любовника, который пристрастился к выпивке, и которого она отвергла, – еще до того, как он запил. Воспоминания разбередили ей душу. Сказав, что идет в свою гостиную, она поднялась из-за стола. Лорд Дэвен ответил, что тоже придет туда. Она недоуменно посмотрела на него, ибо он не имел привычки заходить в ее комнаты. Они уже много лет жили раздельно.
* * *
Муж и жена стояли лицом к лицу в темной комнате, ибо лампы не были зажжены, а луну, которая только что сияла сквозь открытые окна, заслонило облако.
Правда всплыла. Она узнала худшее, и это было очень плохо.
– Вы хотите убить меня? – хрипло спросила Клара. Холодная ненависть в каждом слове и движении ее мужа свидетельствовали именно об этом.
– Нет, – ответил он. – Только развестись. Я хочу, наконец, избавиться от вас и снова жениться. Я хочу оставить наследников. Я сделаю все для того, чтобы ваш молодой друг никогда не получил мое богатство и титул.
– Развестись со мной? Вы? Вы?
– Вам ничего не доказать против меня, Клара, я буду все отрицать, а вот я могу доказать против вас все. Этому бедняге придется на вас жениться. О, я искренне сочувствую ему, ибо какой у него был шанс? Я не желаю, чтобы мое имя становилось посмешищем, и оно погубит его.
– Он не женится на мне, – пылко ответила она. – Я слишком сильно его люблю.
– Поступайте так, как сочтете нужным. Если хотите, вернитесь в дом вашего преподобного родителя и посвятите себя религии. Вы будете украшением любого благочиния. Или же, если хотите… – он выразительно махнул рукой, указывая на бесчисленные огни Лондона, которые мерцали под ними.
Откинувшись на спинку стула и тяжело дыша, Клара задумалась. Затем в ней проснулось мужество, и она сказала:
– Джордж, вы хотите от меня избавиться. Вы заметили начало моего увлечения и отправили нас вместе за границу. Это был очередной заговор, теперь мне это понятно. Увы, жизнь всегда полна неизвестности, вы же сделали мою совершенно невыносимой. Если со мной что-то случится – в скором времени, будет ли это сопровождаться скандалом? Я прошу не ради себя, а ради моего престарелого отца, моих сестер и их детей.
– Нет, – медленно ответил Дэвен. – В этом печальном и невероятном событии не будет скандала. Только глупые птицы гадят в своих гнездах, да и то, если у них нет иного выхода.
Клара вновь умолкла, затем отстранилась от него и сказала:
– Спасибо, не думаю, что к этому есть, что добавить. Уходите, прошу вас.
– Клара, – ответил он холодным, твердым голосом, – вы устали, что вполне естественно. Вам хочется спать. Сегодня вечером сон будет для вас хорошим другом, но помните, что хлорал, который вы так любите, довольно опасная штука. Примите на ночь, но не слишком много!
– Да, – тяжело ответила она, – я знаю. Я приму на ночь, но не слишком много.
На мгновение между ними в темной комнате воцарилось гнетущее молчание. Затем внезапно из-за облаков появилась огромная луна, в последний раз освещая для них обоих их живые лица. Лицо женщины было трагичным и ужасным – казалось, из ее широко открытых глаз уже смотрит смерть. Лицо мужчины, хотя и было слегка напуганным, оставалось безжалостным. Он был не из тех, кто отступил бы, встретив свой Рубикон.
– Прощайте, – быстро произнес он. – Я поздним поездом отправлюсь в Дэвен, но завтра утром вернусь в Лондон, чтобы увидеть моего адвоката.
Белой, похожей на руку призрака рукой она указала сначала на дверь, затем в окно на зловещее, темное небо и печально прошептала:
– Джордж, – сказала она, – вы знаете, что вы в сто раз хуже меня, это вы сделали меня такой, какая я есть. Это вы вынудили меня выйти за вас замуж, потому что я была красива, а потом, когда вы устали от меня, вы обращались со мной так, как вы делали это многие годы. Бог рассудит нас, но я скажу вам, что поскольку вы не ведали милосердия, то не будет оно даровано и вам. Это не я говорю вам, стоя у края могилы, это говорит что-то внутри меня.
* * *
Утром Руперт Уллершоу стоял у двери дома на Портленд-Плейс, куда он пришел, чтобы нанести визит леди Дэвен, которой он принес подарок на день рождения. Надо сказать, чтобы его купить, он копил деньги в течение нескольких месяцев. Он был юношей с простоватым лицом, но с искренними серыми глазами и прекрасного телосложения: широкоплечий, сильный, атлетичный, хотя и довольно медлительный. В глазах его застыла тревога, ибо, еще будучи юношей, он узнал, что «хотя хлеб обмана сладок человеку, но затем рот его будет набит камнями»[3]. Имелись у него и другие основания для беспокойства, ибо он был единственным сыном и надеждой своей овдовевшей матери и покойного отца, капитана Уллершоу, родственника лорда Дэвена, который своим поведением разбил ей сердце и лишил ее внушительного состояния, ради которого он собственно и женился на ней. И вот теперь их сын, Руперт, только что вышел из Вулиджа, где, когда его стопы угодили в этот жесткий капкан, он учился в надежде сделать для себя карьеру в армии.
Вскоре дверь ему открыл дворецкий, мрачный, меланхоличный человек. Руперт мгновенно отметил, что тот странно обеспокоен; выглядел он так, будто недавно плакал.
– Леди Дэвен у себя? – на всякий случай осведомился Руперт.
– Да, сэр, она у себя, но больше никогда не выйдет, за исключением одного раза, – ответил дворецкий сдавленным голосом. – Неужели вы не слышали, сэр, неужели вы не слышали? – как безумец повторял он.
– Не слышал чего? – ахнул Руперт, хватаясь за дверной косяк.
– Мертва, мистер Уллершоу, мертва… несчастный случай… говорят, передозировка хлорала! Его светлость обнаружил ее час назад, и врачи только что ушли.
* * *
Между тем, в комнате наверху, лорд Дэвен стоял один, созерцая неподвижную и ужасную красоту смерти. Затем, встрепенувшись, взял каминную метелку и смел застрявшие между прутьями низкой решетки остатки сгоревшей бумаги, чтобы они рассыпались в пепел и их больше никто не видел.
– Я никогда не верил, что она посмеет это сделать, – подумал он про себя. – В конце концов, ей хватило смелости, и она была права: я хуже, чем была она. Зато я выиграл и, наконец, избавился от нее – причем, тихо и без скандала. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов!
* * *
Когда Руперт, приехавший этим утром из Вулиджа, добрался до маленького дома в Риджентс-парке, который был домом его матери, он увидел, что там его ожидало письмо. Отправленное поздно вечером, оно было без подписи и без даты, однако написано почерком Клары, на простом листе, и вставлено в обычную записку с приглашением на обед. Жалкое, ужасное содержание этого послания нет необходимости излагать. Достаточно сказать, что из него он узнал всю правду. Он дважды прочел его, а затем решил сжечь. В этот ужасный час потрясения и раскаяния светский блеск и упоительное безрассудство его оставили, и он, будучи в глубине души довольно праведен, осознал, куда они его привели.
После этого Руперт Уллершоу заболел и слег, причем, так сильно, что долго лежал в постели, бредил и даже хотел умереть. Однако его крепкая конституция помогла его молодому телу пережить удар, от которого его душа так и не оправилась. В конце концов, уже идя на поправку, он все рассказал матери. Миссис Уллершоу была сильной, сдержанной женщиной с широким, терпеливым лицом и гладко зачесанными седыми волосами. Она многое пережила, однако сохранила простую веру в Провидение, даже когда думала, что порча в крови ее сына овладевает им, эта порча, от которой ни один из Уллершоу не был совершенно свободен, и что сын начинает идти по стопам своего отца, а также дурного наставника и искусителя, его кузена, лорда Дэвена. Она выслушала Руперта, пристально глядя ему в лицо, – лицо, которое страсть, болезнь и покаяние сделали почти старческим, – и выслушала его, не проронив ни слова.
Затем она предприняла одно из величайших усилий своей жизни, и в этом порыве ею даже овладело красноречие. Она рассказала Руперту все, что знала про этих блестящих, сумасбродных, беспринципных Уллершоу, от которых он вел свое происхождение, и пересчитала перед ним урожай яблок Мертвого моря, которые они собрали. Она показала ему, сколь велик его собственный грех и сколь неизбежна гибель, которой он сам едва избежал, – та самая гибель, что уничтожила бедную Клару, имевшую несчастье, попав в сети семейства Уллершоу, быть испорченной их примером и философией, ставивших гордыню и удовлетворение собственных прихотей выше подчинения закону человеческому или Божественному. Она указала ему, что ему было послано предостережение, что он стоит на распутье, и что его счастье и благополучие всегда будут зависеть от избранного им пути. Она, которая редко говорила о себе, воззвала к нему, умоляя, чтобы он помнил свою мать, которая столь многое вынесла от рук своей семьи, и не добавлял ей седых волос, ибо это сведет ее в могилу. Она просила сына жить ради труда, а не ради удовольствия, и избегать общества праздных людей, которые могут быть счастливы, когда вокруг них все и вся погрязли во грехе и богаты всем, кроме добрых дел.
– Поставь перед своими глазами другой идеал, сын мой, – сказала она, – идеал отречения, и узнай, что, когда тебе кажется, что ты отказываешься, на самом деле ты обретаешь. Следуй по пути Духа, а не по плоти. Покори себя и ту слабость, которая происходит из твоей крови, как бы тяжело это ни было. Самоотречение не так уж и сложно, а его плоды прекрасны, в них ты обретешь мир. Жизнь коротка, мой мальчик, но раскаяние может стать вечной мукой. Живи так, чтобы, получив прощение за то, что ты совершил, это не терзало тебя, когда настанет твой смертный час.
Надо сказать, что ее слова упали в плодородную, хорошо вспаханную почву, почву обильную, на которой хорошо растут как злаки, так и плевелы.
– Мама, – просто ответил Руперт, – так и будет. Клянусь тебе, чего бы мне это ни стоило, так и будет, – и, протянув исхудавшие руки, он притянул к себе ее седую голову и поцеловал в лоб.
Эта история покажет, как он сдержал свое обещание, причем в таких обстоятельствах, в каких, случись ему его нарушить, редко кто обвинил бы его. Сколь романтичной ни была жизнь Руперта Уллершоу, с этого момента она ни разу не была запятнана грехом.
Глава I. Голос поющего песка
Прошло более одиннадцати лет, и сцена, над которой вновь поднимается наш занавес, резко отличается от той, на которую он опустился. Вместо маленького лондонского дома, где Руперт лежал больным, перед вами вход в скальный храм, а в стене его, высеченные из твердой скалы, четыре гигантские статуи египетского царя, каждая почти семнадцать футов в высоту, которые навечно смотрят на воды Нила и пустыню за ним – на ту неизменную пустыню, откуда в течение трех с половиной тысяч лет, рассвет за рассветом, они приветствовали восходящее солнце. Ибо это место – храм Абу-Симбела ниже Второго порога Нила в Судане.
Сентябрьский день 1889 года. Под одним из колоссов рядом со входом в храм сидел британский офицер в армейской форме – рослый, бородатый, обладающий зорким, цепким взглядом и физической силой, что придавало ему сходство с огромными каменными статуями, что высились над ним. Была в нем та же спокойная, терпеливая сила – нечто вроде презрительного ожидания, которым древнеегипетские скульпторы умели наделять изваяния своих богов и царей.
Было бы нелегко признать в этом человеке юношу, которого мы когда-то оставили выздоравливать после болезни. Двенадцать лет трудов, размышлений, борьбы и самоконтроля – все это зубила, которые врезаются очень глубоко – оставили на нем свои следы. Тем не менее это был Руперт Уллершоу, и никто другой.
История того периода его жизни может быть изложена в нескольких словах. Пойдя служить в армию, он уехал в Индию, где проявил себя наилучшим образом. Здесь ему посчастливилось принять участие в двух небольших приграничных войнах, где его профессиональные способности не остались без внимания. Надо сказать, что он был человек прилежный, и тот факт, что он был равнодушен к развлечениям, – кроме разве что большой охоты, – оставлял ему массу времени для его штудий. Случайная беседа с одним знакомым, много путешествовавшим по Востоку, который указал ему, сколь полезно было бы для его карьеры знание арабского языка, которым в то время владело крайне мало английских офицеров, подтолкнула его заняться его изучением.
Его усердие вскоре стало известно начальству. По некой внезапной необходимости правительство Индии назначило его на некую полудипломатическую должность в Персидском заливе. Здесь он прекрасно себя зарекомендовал, и, хотя так и не получил за это полного общественного признания, сумел предотвратить серьезную проблему, которая могла бы вырасти до огромных масштабов и вылиться в морской вооруженный конфликт. В знак признания заслуг Уллершоу был повышен в чине и довольно рано удостоился ордена Бани, а значит, при желании мог легко сделать блестящую дипломатическую карьеру.
Но Руперт, прежде всего, был солдат, поэтому, повернувшись спиной к столь приятным перспективам, он подал прошение отправить его на службу в Египет. Просьба была мгновенно удовлетворена, благодаря его знанию арабского. Здесь, в той или иной роли, он принимал участие в различных военных походах, отличился в сражениях при Эль-Тебе и Тамаи, причем, в последнем даже был ранен. Впоследствии он совершил марш-бросок с сэром Гербертом Стюартом из Донголы и сражался бок о бок с ним в Абу-Клеа.
Вернувшись после смерти Гордона в Египет, он служил офицером разведки в Каире и, в конечном итоге, дослужился до звания подполковника египетской армии. В этом звании он сопровождал генерала Гренфелла, отправившегося вверх по Нилу, и 3 августа 1888 года принял участие в битве при Тоски. Затем его отправили за несколько миль от тех мест, в Абу-Симбел, решать судьбу пленных, и впоследствии вести переговоры с некоторыми арабскими вождями, чья лояльность внушала сомнения.
Таков краткий отчет о тех годах жизни Руперта Уллершоу, с которыми, сколь ни богаты они событиями, наша история не имеет ничего общего. Его карьера сложилась удачно. Редко кто из офицеров его звания мог смотреть в будущее с большей уверенностью, ибо хотя Руперт и казался старше своих лет, он все еще был довольно молод. Более того, его любили и уважали все, кто его знал, и несмотря на свои успехи, он почти не имел врагов. Остается только добавить, что он сдержал обещание, которое дал своей матери, когда лежал больным, до самой последней буквы. После печально завершившегося первого любовного романа жизнь Руперта была безупречной.
Солнце начинало клониться к закату. Его лучи проложили через разлившийся Нил красные дорожки и омывали простиравшуюся за ним пустыню дрожащим розовым светом, в котором отдельные, похожие на пирамиды, горы высились здесь и там, как памятники царям. Зрелище это было необыкновенной красоты. Оно также было безмолвным, поскольку Руперт и его небольшой эскорт разбили свой лагерь в полумиле от реки. Пока он любовался природой, благоговейный трепет времени и места проник в его сердце, приглушая преходящие эмоции и настраивая его разум, пока тот не пришел в гармонию с его окружением, став инструментом, открытым для тонких влияний прошлого и будущего.
Руперт сидел в тени величественных творений людей, которые были мертвы на протяжении сотен поколений, и обозревал реку, пустыню и горы, которые этим неизвестным ваятелям наверняка казались такими же древними, как и ему в этот день. И как никогда ранее, ему стала понятна его собственная абсолютная ничтожность. Он подумал о своих мелких стремлениях к продвижению по службе, и улыбка возникла на его лице, подобная улыбке каменного царя-бога, возвышавшегося над ним. «Сколько же людей в течение всех этих усталых веков, – задался он вопросом, – даже в этом пустынном месте лелеяли надежду на такое преимущество и шли вперед. Лишь единицы ожидал триумф, большинство же терпело неудачу, но все они очень быстро понимали, что и неудача, и успех – неразличимы, когда их покрывает забвение».
Так предостережение из прошлого положило на него свою тяжелую длань, подавляя его дух, а воды Нила, текущего через пустыню к морю с далеких гор, в которых он рождается, напевали ему, что как и дни Иова, его собственные дни летят «быстрее, чем стрела», нашептывая ему на ухо древнюю мудрость Экклезиаста: суета сует, всё суета.
Руперт опечалился. Между тем вокруг него сгустилась тень холмов, безлюдных и гнетущих, как тот огромный пустой храм, в котором он сидел, осколок веры, который был еще более мертв, нежели те, кто когда-то ее исповедовал. Внезапно ему вспомнилось, как утром, на рассвете, он видел, как чаши теней наполнились светом, и как тогда на стенах этого самого храма он прочел молитвы веры, утверждавшей вечность всех добрых дел и воскресение всех праведников – непреложные истины, в которые те, кто высекал их тридцать пять столетий назад, верили столь же твердо, как он верил сегодня.
Теперь с ним говорило будущее, и его сердце вновь наполнилось надеждой. О! Он твердо знал, ибо им владела странная убежденность, что, несмотря на все беды и горести, которые ждут его впереди, что хотя, возможно, он рожден для печали, как искры костра – для того, чтобы лететь вверх, его жизнь не будет бесполезной, а смерть напрасной; что ни одна жизнь, даже жизнь муравья, который неустанно трудится рядом с ним в желтом песке, не лишена цели и приносит свои плоды; что слепой случайности не существует; что каждая загадка имеет ответ, а каждая родовая схватка ведет к рождению новой жизни; а из ткани мыслей и дел, которую он сейчас ткал, будут скроены одежды, в которые он обрядится в будущем.
Так размышлял Руперт Уллершоу, как то делал всегда, когда бывал один, а он любил бывать один, ибо чаще всего смотрел в лицо трудностям и находил истину в одиночестве.
Утомленный этими размышлениями, вполне естественными в такое время и в таком месте, он, наконец, поднялся и сделал несколько шагов, чтобы посмотреть на одинокую могилу товарища, чей рабочий день навсегда закончился, затем со вздохом подумал, что поскольку к вечеру стало заметно прохладнее, неплохо бы до наступления темноты немного прогуляться. Руперт любил виды и звуки природы и, вспомнив о том, что закат лучше всего наблюдать с вершины скалы, находившейся позади него, он побрел вверх по крутому песчаному склону, следуя узкой тропинкой, протоптанной шакалами с берега реки к своим норам в скалах. Он знал, что эти хитрые животные выбирают самый простой путь.
Добравшись, наконец, до гребня холма, он какое-то время постоял, чтобы окинуть взором бесконечную пустыню. Огненный шар солнца опускался к пескам так быстро, что Руперт почти видел его движение, как это бывает, или, кажется, что бывает, в Египте. Солнце садилось за две дальних, одиноких горы. На несколько секунд, а, может даже, на целую минуту, его огромный красный шар, казалось, застыл на вершине одной из гор.
Глядя на него и на горы, Руперт вспомнил легенду, которую ему рассказал один старый араб, что за эти горами есть храм, более величественный и прекрасный, чем Абу-Симбел. Он тогда спросил, как далеко до него, и почему никто туда не ездит. В ответ он услышал, что храм расположен на большом расстоянии, в глубине пустыни, и что любой, кто увидит его, непременно умрет, ибо там обитают чародеи, которые не веруют в Аллаха и не признают его пророка. Поэтому никто туда больше не ходил. Осталась только легенда, которая, добавил араб, без сомнения была правдой.
Забыв историю этого легендарного храма, Руперт продолжил свою прогулку мимо могил эмиров Халифы[4], которые были ранены в битве при Тоски, в нескольких милях отсюда. Когда они испустили дух, отступающие товарищи наспех похоронили их там, где те умерли. Он знал человека, который лежал под одной из этих грубых груд камней – храбрый дервиш высокого ранга, который едва не положил конец самому Руперту и его земным приключениям.
Уллершоу видел, как туземец летит на него, издавая воинственный клич и потрясая огромным копьем. К счастью, у Руперта в руке был револьвер и, прежде чем копье попало в цель, он успел выстрелить. Пуля поразила врага в голову – брызнула кровь, и нападавший пошатнулся, как будто был пьян. Затем в суматохе сражения Уллершоу потерял раненого из виду, но потом выяснилось, что дервиш умер после отступления, а пленник, который помогал его хоронить, даже показал Руперту могилу.
Размышляя об этом с тем уважением, с каким один храбрец смотрит на другого, даже если этот другой – жестокий и фанатичный язычник, Уллершоу заметил, что на него упала тень, которая, судя по ее длинной уродливой форме, принадлежала верблюду.
Повернувшись, Руперт увидел, что на него на всем скаку летит белый дромадер. Его мягкие, как губка, копыта, ступая по песку, не производили почти никакого топота. Неудивительно, что Руперт не услышал его приближение. На спине верблюда сидел арабский шейх, держа в руке три копья, одно большое и два маленьких. Заподозрив внезапное нападение, чему нельзя удивляться в этом одиноком месте, где можно в два счета погибнуть от рук фанатика, Руперт перепрыгнул через могилу и вытащил пистолет. Но тут всадник крикнул, чтобы он во имя Бога убрал оружие, так как сам он пришел с миром, а не с войной.
– Спешивайся, – строго приказал Руперт, – и брось свои копья.
Араб остановил своего дромадера, велел ему опуститься на колени и, скользнув с седла, положил копья и смиренно поклонился.
– Назови свое имя и род занятий, – требовательно заявил Руперт, – и почему ты пришел ко мне один?
– Бей, – ответил он, – я Ибрагим, шейх Страны Пресных Колодцев. Я пришел в ваш лагерь с моими слугами и мне сказали, что ты здесь, на вершине холма, и я последовал сюда, чтобы поговорить с тобой, если ты согласишься открыть мне свои уши.
Руперт рассмотрел гостя: красивый, но жестокого вида мужчина лет сорока, со сверкающими черными глазами, крючковатым носом и короткой, заостренной бородой, которая уже начала седеть.
– Я тебя знаю, – сказал он. – Ты предатель правительства Египта, от которого ты получил немало благ. Ты принял у себя генерала Халифы, Вада Эн-Негуми, и снабдил его провиантом, водой и верблюдами. Если бы не ты, он вряд ли бы смог продвинуться вперед, если бы не ты, многие из его людей были бы захвачены. Как ты смеешь показывать мне свое лицо?
– Бей, – смиренно ответил шейх, – эта история – неправда. То, что я сделал для солдат Абдуллахи, я сделал лишь потому, что в противном случае мне грозила бы смерть. Да будет проклято его имя! – и он плюнул на землю. – Теперь я пришел искать правосудия у тебя, ибо ты наделен здесь властью.
– Продолжай, – произнес Руперт – Ты получишь правосудие, обещаю тебе, если я смогу его тебе дать.
– Бей, отряд египетских войск на верблюдах набросился на меня и ограбил. Они забрали всех моих овец и большую часть моих дромадеров. Они убили троих моих людей, которые пытались их защитить. Более того, они оскорбили моих женщин, да, они, гнусные собаки феллахов. Во имя Аллаха, я молю тебя потребовать возвращения моей собственности. Если же ты не можешь этого сделать, то напиши от моего имени в Каир, потому что я верный человек, и мой господин – хедив, и никто другой.
– Тем не менее, – ответил Руперт, – тем не менее, Шейх Ибрагим, я видел некое письмо, написанное тобой самозванцу Абдуллахи, Халифе, в котором ты предлагал ему помощь, если он вторгнется в Египет и захватит дорогу, что пролегает мимо Пресных Колодцев.
Лицо Ибрагима стало мрачнее тучи.
– Это письмо было подделано, – угрюмо сказал он.
– В таком случае, друг мой, откуда тебе о нем известно? – спросил Руперт. – Возвращайся к своему племени и будь благодарен, что теперь хедив побеждает, и его солдаты не захватили тебя, как твоих овец. Знай, что теперь ты человек с меткой против его имени, так что будь осмотрителен, дабы это не стало твоей участью.
Сказав это, Руперт ногой коснулся могилы эмира, через которую они говорили.
Шейх не ответил. Подойдя к своему верблюду, он забрался в седло, велел животному встать и поехал прочь. Отъехав на расстояние около сорока ярдов, где, как ему казалось, он мог не опасаться револьверной пули, он остановился и разразился залпом яростных проклятий.
– Нечестивый пес! – крикнул он, дополнительно присовокупив ряд выразительных оскорблений в адрес предков Руперта. – Ты, который своей грязной ногой попираешь могилу истинного правоверного, которого вы убили, выслушай меня. Ты отказываешь мне в справедливости и обвиняешь меня в помощи Халифе. Будь осторожен, а не то я и вправду помогу ему, я, который является шейхом Земель Пресных Колодцев, через которые он пройдет, чтобы взять Египет с пятьюдесятью тысячами воинов за его спиной. Он не настолько глуп, чтобы идти берегом реки и быть обстрелянным с пароходов вашими пушками. Мое племя – сильное племя, мы живем в горной стране, откуда нас не выгнать, хотя на днях твои псы-феллахи и застигли нас врасплох.
О, будь осторожен, чтобы я не поймал тебя, белый бей, чье лицо я не забуду. Если когда-нибудь я это сделаю, то отплачу тебе за оскорбление, которое ты бросил в лицо мне, верному человеку. Клянусь головой моего отца. Да, и тогда тебе придется выбирать между верой и смертью, и ты будешь вынужден признать, что Магомет – это пророк Аллаха, ты, неверный пес, поклоняющийся кресту, и тот, кого ты называешь самозванцем, сбросит тебя и все твое грязное племя в море.
– Ты забываешься, шейх Пресных Колодцев, – невозмутимо ответил Руперт. – Ты также забываешь, что будущее – это дар Божий, и оно не создается людьми. Убирайся долой с глаз моих! Немедленно, а не то я тоже рассержусь и позову моих солдат, чтобы они схватили тебя и бросили в тюрьму, где тебе самое место. Уходи, чтобы я больше не видел твоего лица, ты, который посмел угрожать своему суверену. Я уверен, что когда мы встретимся снова, эта встреча станет глашатаем твоей смерти.
Ибрагим сел на своего верблюда и открыл рот, чтобы ответить, но было в суровой, гордой осанке англичанина нечто такое, что заставило его промолчать. Во всяком случае, он повернул верблюда и, пустив его рысью, быстро поскакал через пустыню.
«Крайне опасный человек, – размышлял Руперт. – Я немедленно доложу о нем и потребую, чтобы за ним проследили. Лучше бы они оставили его овец, а взяли его самого, поскольку ему, вне всяких сомнений, известно, что я велел им это сделать. Так или иначе, сомневаюсь, что это наша с ним последняя встреча».
И, выбросив мятежного шейха из головы, Руперт продолжил свою прогулку и пересек горное плато. Вскоре он вышел на тропу, по которой собрался спуститься вниз. Тропа была странная, похожая на идеальный золотой водопад и настолько крутая, что спуск по ней казался опасным, почти невозможным, что так и было бы, будь ее склон из камня. Но он был песчаным, и ноги путника погружались в песок, не давая ему соскользнуть вниз. Затем, если путнику повезет, что, однако, случается крайне редко, он может насладиться любопытным зрелищем. По мере того, как человек перемещается туда-сюда поперек склона, вокруг него, словно вода, начинает течь песок, пока в самом низу не упадет в Нил и не будет унесен течением. Более того, по мере того как песок «течет», он поет свою дикую песню, издавая стонущий, меланхоличный звук, который невозможно описать на бумаге. Говорят, что звук этот вызван вибрацией горных пород под весом струящегося песка. Периодически во время спуска Руперт останавливался и слушал этот странный, волнующий звук, пока тот не стихал. Затем, когда наскучило слушать пение струящегося песка, он преодолел оставшуюся часть склона и достиг берега Нила.
Здесь его размышления вновь были прерваны, на этот раз женщиной. Вообще-то он заметил ее, пока спускался, и тотчас же узнал в ней старую бродяжку, которая последний год-два жила в лачуге неподалеку, зарабатывая себе на жизнь тем, что обрабатывала полоску земли на берегу Нила. Так случилось, что примерно месяц назад Руперту удалось выхлопотать для нее компенсацию за ее скромный урожай, который сожрали вьючные животные, и за ее дойных коз, которых захватили солдаты. С этого момента старуха стала его преданным другом. Он частенько проводил приятный час в ее обществе, разговаривая с ней в ее хижине, или пока она работала в своем саду.
Внешне Бахита, ибо таково было ее имя, была странной личностью, совершенно не похожей на египетских и суданских женщин: высокая, худая, светлокожая для жительницы Востока, с правильными чертами лица и копной снежно-белых волос, которые свисали ей на плечи. Да, она так резко отличалась от них, что все местные жители называли ее не иначе как цыганкой и, соответственно, приписывали ей различные магические способности и много тайных знаний, что в последнем случае так и было.
Руперт поздоровался с ней по-арабски – на этом языке он теперь говорил необычайно бегло – и протянул для пожатия руку. Бахита взяла ее и, нагнувшись, коснулась губами.
– Я ждала тебя, мой отец, – сказала она.
– Уж лучше называйте меня своим сыном, – ответил он, с улыбкой, взглянув на ее белые локоны.
– Ой! – ответила она. – У некоторых из нас есть отцы, которые не из плоти. Я стара, но, возможно, твой дух старше меня.
– Все возможно, – серьезным тоном произнес Руперт. – Но скажи, в чем дело?
– Боюсь, я опоздала с моим делом, – ответила Бахита. – Я пришла предостеречь тебя против шейха Ибрагима, который некоторое время назад проезжал мимо моей хижины по дороге, чтобы навестить тебя в твоем лагере. Но ты уже видел его, верно?
– Да, Бахита, но откуда ты это знаешь?
– О! – ответила та уклончиво. – Я слышала, как ветер принес с вершины вон того холма его сердитый голос. Похоже, он угрожал и ругался.
Руперт кивнул.
– Извини, я знаю этого человека с детства, да и его отца тоже знала, ибо он навредил моему народу и хотел бы навредить еще. Вот почему я живу здесь, чтобы следить за ним. Он очень злой человек, жестокий и мстительный. Кроме того, с ним следовало говорить мягко, ибо его племя сильное, и он способен доставить правительству большие неприятности. Он не солгал, сказав, что солдаты грубо обошлись с ним, так как у одного из них были с ним старые счеты.
– Что сказано, то сказано, – равнодушно ответил Руперт, – но скажи мне, мать, откуда тебе так много всего известно?
– Мне? О, я сижу у реки и слушаю, и она шепчет мне свои вести – вести с севера, вести с юга, река рассказывает мне все. Хотя вы, белые люди, не слышите, эта древняя река имеет голос для тех, чьи уши открыты.
– А как насчет вестей с востока и запада, где не течет река? – спросил Руперт, улыбаясь.
– Вести с востока и запада? О, оттуда и отсюда дуют ветры, и те, чьи глаза открыты, видят в них больше, чем одну только пыль. У них тоже свои голоса, у этих древних ветров, и они рассказывают мне о царях моего народа, которые давно мертвы, а также о давно минувших войнах и любви.
Руперт рассмеялся.
– Ты умная женщина, мать, – сказал он. – Но будь осторожна, чтобы тебя не арестовали как шпионку махдистов, ибо ты не сможешь призвать Нил и знойный ветер-хамсин себе в свидетели.
– Ах, ты смеешься надо мной, – ответила Бахита, покачивая седой головой, – но вы, дивные белые люди, вам еще многому надо научиться у Востока, который был седым от времени, когда первый из ваших предков еще лежал в материнской утробе. Поверь мне, Руперт-бей, что у природы есть свои голоса и некоторые из них говорят о прошлом, некоторые о настоящем, и некоторые о будущем. Да, даже движущийся песок, по которому ты спустился, теперь имеет свой собственный голос.
– Это я уже знаю, потому что я слышал его, но, боюсь, не смогу по-арабски объяснить тебе его причину.
– Ты его слышал, да, и ты скажешь мне, что это, истирая камни, поет песок, или это камни поют под звуки песка, словно арфа на ветру. И так оно, вне всякого сомнения, и есть. Ты слышал голос, мудрый белый отец, но скажи мне, ты понял его разговор? Прислушайся! – воскликнула она, не дожидаясь ответа. – Я сидела здесь, наблюдая за тобой, пока ты спускался, и слушала, что песок говорил о тебе и о других, с кем связана твоя жизнь. О, нет, я не обычная гадалка. Я не читаю по руке и не черчу квадраты в пыли, не бросаю кости и камушки и не смотрю в капли чернил. Но иногда, когда голос говорит со мной, я вижу будущее и особенно будущее того, чьи ноги стоят на поющем песке.
– Вот как? И что он пел про меня?
– Этого я тебе не скажу, – ответила Бахита, покачав головой. – Я не имею права тебе это говорить, и поступи я так, ты бы счел меня обыкновенной обманщицей, коих на свете много.
– И все-таки, что там песок пел обо мне? – повторил он беззаботно, потому что только наполовину слушал ее разговор.
– Многое, Руперт-бей, – ответила она, – многое из этого было печально, а еще больше – благородно.
– Благородно! Не иначе, как это означает титул пэра! По большому счету, довольно безопасное пророчество, – с усмешкой пробормотал Руперт себе под нос и уже повернулся, чтобы уйти, но в последний миг остановился и спросил: – Скажи мне, Бахита, что тебе известно о затерянном храме в пустыне?
Та мгновенно навострила уши и ответила ему вопросом на вопрос:
– Как я могу о нем знать, если он затерян? Но что знаешь ты?
– Я, мать? Ничего. Меня интересуют история и старые храмы, вот и все, и я был уверен, что человек, умеющий толковать голоса реки, ветра и песка, должен о нем знать все.
– Возможно, так и есть, – спокойно ответила его собеседница. – Возможно, я скажу тебе, ибо я тебе благодарна. Приходи в мою хижину, и мы посмотрим.
– Нет, – сказал Руперт, – не сегодня. Сегодня я должен вернуться в лагерь, мне нужно написать письма. В другой раз, Бахита.
– Хорошо, в другой раз, а потом мы можем вместе посетить этот храм. Кто знает? Но я думаю, что сегодня вечером ты будешь не только писать письма, но и читать. Послушай! – и она подняла руку и кивнула в сторону реки.
– Я ничего не слышу, кроме воя шакала, – ответил Руперт.
– Неужели? А я слышу биение лопастей парохода. Через три часа он пристанет к берегу в Абу-Симбеле.
– Чушь! – воскликнул Руперт. – Я ожидаю его не ранее, чем через неделю.
– Люди часто получают то, чего не ждут, – ответила она. – Спокойной ночи, Руперт-бей! И да хранят тебя все боги, которые когда-либо были в Египте, пока мы не встретимся снова.
С этими словами она повернулась, и при свете взошедшей луны быстро зашагала между камней, упавших со скалы, на самом краю разлившегося Нила. Пройдя с полмили или чуть дальше на север, она вошла в калитку забора своего сада и приблизилась к своей глинобитной хижине.
Здесь Бахита села у двери на землю и задумалась, ожидая прибытия парохода, о котором ее предупредили не то собственные уши, не то некий путешественник. Ибо Бахита также ожидала письмо или, во всяком случае, сообщение, и размышляла о том, кто его написал или отправил.
– Глупая прихоть, – сказала она себе. – Неужели Таме мало собственной мудрости, которую она получила с кровью, что ей нужна еще мудрость этих белых людей? Неужели ради нее она готова оставить свое высокое положение и даже смешаться с дочерьми феллахов и спрятать свою красоту за яшмаком последовательницы лжепророка? Не иначе как бог наших отцов наслал на нее безумие, и теперь она в великой опасности, и этот пес Ибрагим грозит ей бедой. Но кто знает? Вдруг это безумие – не что иное, как истинная мудрость? О, есть вещи, слишком высокие для меня, и мой дар не способен прочитать всю ее судьбу. Поэтому я останусь здесь и буду смотреть в оба и держать ухо востро, как мне было велено.
Глава II. Два письма
Когда Руперт добрался до своего лагеря, располагавшегося за великим храмом, он спросил сержанта караула, не появлялся ли там шейх Ибрагим со своими слугами. Солдат ответил, что никого не видел.
«Он наверняка хотел застать меня одного. Как мне повезло, однако, что я захватил с собой пистолет», – подумал Руперт.
Затем он пообедал и написал донесение о встрече с Ибрагимом и других вопросах своему начальству в Каире. Заканчивая этот отчет, он к собственному удивлению услышал гудок парохода, а в следующую минуту его ординарец сообщил ему, что идущее вверх по течению судно быстро направляется к храму.
«Значит, старая Бахита была права. Какие, однако, у нее длинные уши», – подумал Руперт, поднимаясь на палубу корабля.
Судно оказалось правительственным и пришло из Ассуана. На его борту прибыла рота египетских войск под командованием такого же, как и сам Руперт, офицера, который привез служебные депеши и частные письма. Хотя одно из писем было написано почерком матери, чему Руперт был несказанно рад, ибо давно уже не получал от нее вестей, у него давно вошло в привычку первым делом читать депеши. Помимо прочего, в них содержался приказ, предписывавший ему немедленно отправиться в Каир, чтобы доложить начальству о положении дел в районе Вади-Хальфа. В этой же депеше сообщалось, что офицер, который доставил почту, останется вместо него в Абу-Симбеле.
Поскольку судно должно было отчалить вниз по Нилу на рассвете, Руперт провел большую часть ночи, инструктируя своего преемника. Он дал ему ряд советов и ввел в курс политической ситуации. Наконец, покончив с этим делом, тем более что рота солдат уже сошла на берег и расположилась лагерем, он смог заняться упаковкой собственныых вещей. В результате Руперт взошел на борт парохода лишь в четыре утра, то есть, примерно за час до того как тот отчалил. Придя в свою каюту, наш герой вскрыл материнское письмо. Листок внутри конверта был написан карандашом и явно дрожащей рукой. Охваченный тревогой, Руперт начал читать. В письме говорилось следующее:
«Мой дорогой сын, в моем последнем письме к тебе я писала о том, как благодарна я была, что по милости Божьей, тебя благополучно миновали великие опасности битвы при Тоски и с каким восторгом прочла в официальных сообщениях о победе похвальные отзывы о тебе.
Это было пять недель назад, и я не писала с тех пор, потому что, мой дорогой Руперт, я была серьезно больна и не в состоянии это сделать. Я также, дабы тебя не пугать, не позволила никому писать вместо меня. Однажды вечером, Руперт, когда перед сном я читала Библию, на меня внезапно снизошло странное чувство, и я ничего не помнила в течение двух дней. Когда я очнулась, врач сказал мне, что со мной случился удар, но я не поняла, какого рода, впрочем, это не имеет значения.
Он добавил, не тогда, а потом, что какое-то время мое состояние внушало тревогу, и сообщил мне, что, хотя на данный момент опасность позади, и я, возможно, проживу еще долгие годы, это, вне всякого сомнения, предостережение. Разумеется, я поняла, что он имел в виду, и больше не спрашивала.
Мой дорогой мальчик, как ты знаешь, я не боюсь смерти, особенно если та придет в такой милосердной форме, но, с другой стороны, я не хочу умирать, не увидев тебя снова. Поэтому, если это возможно и если твоя карьера не слишком от этого пострадает, я прошу тебя как можно скорее приехать в Англию, ибо, Руперт, прошло одиннадцать лет с тех пор, как ты уехал из дома, и все это время я не видела твоего лица, разве что во сне.
Я не могу писать много, ибо моя левая рука парализована, и вся эта сторона моего тела неподвижная и беспомощная, отчего мне трудно сидеть, поэтому я прошу твою кузину Эдит Бонниторн рассказать тебе последние новости. Но одну я упомяну сама, поскольку молодая женщина, возможно, не захочет сообщать об этом в письменной форме джентльмену.
В семье лорда Дэвена очередное печальное разочарование, шестое, как мне кажется, с момента его повторного брака. На этот раз ребенок, мальчик, родился семимесячным. Какие только усилия не предпринимались ради спасения его жизни! Я слышала, что бедного малыша поместили в нечто вроде инкубатора, – это недавнее изобретение, которое, как говорят, очень успешно в подобных случаях. Увы, все было напрасно, ребенок умер.
Поэтому, хотя я и знаю, что тебе это безразлично, ты снова наследник лорда и, вероятно, им и останешься.
Бедная леди Дэвен приходила меня проведать. Она хорошая женщина, хотя и очень косная в своих религиозных взглядах. Если не ошибаюсь, она называет себя кальвинисткой (нет, ты только представь, он женился на кальвинистке!). Она больше сожалеет о том, что ребенок не был крещен, нежели о его печальной смерти. Говоря наполовину по-немецки, наполовину по-английски, как это за ней водится, когда она нервничает, его жена заявила, что, по ее мнению, ребенок умер из-за того, лорд Дэвен не позволил его крестить из опасения, что малыш простудится, и добавила, что уверена в том, что ни один из их детей, если таковые у них еще будут, не выживут, пока ее муж не откажется от своего безбожия и вольнодумства.
Наконец, она заявила, что жалеет, что вышла за него замуж, но, похоже, это было наказание за ее грехи, худшим из которых было то, что она, позволив ослепить себя перспективой блестящего брака, на слово поверила ему, когда он поведал ей о своих религиозных воззрениях, и даже не поставила в труд выяснить, сказал ли он ей правду. Я слышала, что между ними произошла громкая ссора по поводу крещения младенца, в которой она, похоже, одержала верх, хотя он так и не уступил, ибо Табита (это ее имя) умеет быть волевой и сильной. Во всяком случае, лорд Дэвен вышел из себя и накричал на нее, заявив, что, мол, пусть кто-то из них двоих умрет, на что она ответила, что лично она не станет принимать хлорал. Я рассказываю тебе все это потому, что ты должен это знать. Это печальная история, и, как мне кажется, в словах бедной леди Дэвен что-то есть. Постарайся приехать ко мне, мой дорогой, дорогой Руперт.
Твоя любящая мать,
Мэри Уллершоу».Материнское письмо тронуло Руперта до глубины души. Мать была единственной, кого он любил на этом свете. И хотя он смутно понимал, что рано или поздно это случится, теперь она могла умереть в любой момент. То, что на самом деле она побывала одной ногой в могиле, явилось для него ударом. До этого он ни разу не бывал в отпуске. Во-первых, потому что не хотел возвращаться в Англию, ибо это было чревато неизбежной встречей с лордом Дэвеном, во-вторых, потому, что его карьера на каждом новом месте шла вверх столь стремительно, что взять отпуск и уехать домой означало бы упустить очередную солидную возможность продвижения по службе.
И вот сейчас Руперт понял, что был неправ, что им двигал эгоизм и что теперь, возможно, уже трудно что-либо исправить. И он принял решение: первым же пароходом отплыть домой, даже если это означает отказ от нового звания в египетской армии. Приняв это решение, он взял второй конверт, четким и аккуратным почерком адресованный подполковнику Уллершоу, кавалеру ордена Бани, офицеру дипломатической службы египетской армии.
«Смотрю, она не упустила ничего. Что ж, это в духе Эдит», – подумал он про себя, когда его взгляд упал на довольно пространную надпись. Затем вскрыл конверт и погрузился в чтение письма.
Как и во всех ее письмах, а надо сказать, что Руперт получал их по несколько штук в год, Эдит Бонниторн, похоже, прилагала все усилия к тому, чтобы рассеянный родственник ее не забыл. Очередное письмо было длинным, четко и складно написанным, отчего возникало впечатление, что его тщательно обдумывали и возможно даже, не раз переписывали.
Начиналось оно с теплых поздравлений дорогому кузену Руперту за то, что он не только вышел живым из сражения при Тоски, сообщения о котором она читала с дрожью в сердце, но и снискал себе славу, что, добавляла она, наполняло ее еще большей гордостью за него, нежели раньше.
Затем следовало подробное описание болезни его матери, исход которой, писала Эдит, они ждали с тревогой, ибо несколько часов подряд казалось, что его матушка вот-вот отойдет в мир иной.
За этим следовали разнообразные новости. Например, Эдит сообщала ему, что картежные долги, проигрыши на скачках и общая склонность к экстравагантности привели к тому, что Дик Лермер, приходившийся им обоим кузеном, оказался в весьма щекотливом положении, и против него было начато дело о банкротстве. Но в последний момент лорд Дэвен пришел ему на выручку и рассчитался с кредиторами. Более того, он назначил Дика своим личным секретарем, да еще с хорошим жалованьем – ибо адвокатом тот не зарабатывал ничего. А поскольку Дик – превосходный оратор и пользуется популярностью, лорд Дэвен решил, что он должен участвовать в выборах от либеральной партии, ибо ту часть страны, где находятся владения лорда, в парламенте представляет один консерватор, которого он на дух не переносит и хотел бы его сместить.
Поэтому, добавляла Эдит, Дик снова встал на ноги, хотя казалось, что на этот раз ему ни за что не выкарабкаться. «Скажу честно, я искренне рада – как за него самого, так и тому, что все эти неприятные семейные скандалы, похоже, остались в прошлом», – писала родственница.
Сам лорд Дэвен, продолжала Эдит, после смерти малютки-сына пребывает в жутком состоянии духа. Если честно, она даже представить не могла, что он способен на такие глубокие переживания. Кроме того, в его семье царит разлад, он и его супруга постоянно скандалят по причине религиозных разногласий. Более того, похоже, верх берет его жена, ибо все его язвительные замечания и сарказм никак на ней не сказываются и она практически ни разу не вышла из себя. Чем все это закончится, Эдит не берется гадать, однако лорд постарел и сдал буквально на глазах. В конце письма кузина умоляла Руперта приехать домой и проведать мать, ибо в противном случае он, вероятно, никогда ее больше не увидит, и вообще, следует немного отдохнуть после стольких лет тяжких трудов. Эдит также выражала уверенность в том, что ему будет интересно завести знакомство с влиятельными людьми Лондона, которые будут только рады подтолкнуть успешного человека с хорошими общественными и профессиональными перспективами еще выше, главное, нужно лишь им о себе напомнить.
Положив ее письмо рядом с материнским, Руперт задумался, ибо слишком устал, а также был слишком взволнован, и сон не шел к нему.
Он вспомнил, когда в последний раз видел Эдит Бонниторн и Дика Лермера. Это было много лет назад, когда он слег после той ужасной любовной связи. Они оба приходились ему и между собой троюродными родственниками, будучи по мужской или женской линии потомками того самого старого Уллершоу, который женился на наследнице пивовара и сколотил огромное состояние, принадлежавшее в данный момент лорду Дэвену. Эдит была дочерью некоего мистера Бонниторна, служителя Высокой Церкви, который в один прекрасный день уехал в Рим, удалился в монастырь и там умер. Его жена, с которой он в течение нескольких лет до этого шага жил порознь, якобы, по причине ее дружбы с родственником, лордом Дэвеном, чего супруг не одобрял, была женщиной редкой красоты, очарования и ума. Но, увы, она тоже давно уже умерла.
Дик Лермер, следующий за Рупертом в цепочке наследников состояния лорда Дэвена, – хотя сам титул не перешел бы к нему по причине особой оговорки в оригинальном патенте, – был сыном адвоката канцлерского суда, испанца по происхождению. Их настоящее испанское имя было Лерма, но за многие поколения жизни в Англии было переиначено на английский манер. Этот мистер Лермер умер рано, оставив супруге, одной из Уллершоу, и сыну Ричарду, приличные средства к существованию, и, пожалуй, все.
После смерти своей матери Эдит Бонниторн, у которой не было за душой ни гроша, переехала жить к вдове мистере Лермера. Вот почему она и Дик выросли вместе. Поговаривали, по крайней мере, Руперт такое слышал, что бездетный лорд Дэвен был не против взять ее к себе в дом, на что его первая жена Клара ответила решительным отказом, что и стало одной из причин взаимного охлаждения супругов.
Руперт отчетливо помнил, как когда-то давно Дик Лермер и Эдит Бонниторн вдвоем стояли у его постели. В то время Дику шел двадцать второй год. Сначала он хотел стать врачом, но какое-то время спустя забросил медицину и начал обедать в коллегии адвокатов, ибо теперь принадлежал к их сословию. Уже тогда это был весьма распущенный и экстравагантный молодой человек. Обладатель яркой, красивой внешности, он пользовался успехом у женщин. Вероятно, их восхищал взгляд его темных, томных глаз под длинными ресницами, его смуглое, овальное лицо и кудрявые каштановые волосы, унаследованные им от предков-испанцев. Или же их привлекала его сентиментальная и вместе с тем страстная натура, его готовность отвечать на их чувства. Во всякой случае, женщины любили его. Кузина, Эдит Бонниторн, на тот момент еще школьница, не была исключением из правил, хотя даже будучи в юном возрасте, отлично знала недостатки Дика и постоянно его отчитывала за них.
Она была красивым ребенком, эта Эдит, – высокая и стройная, с прекрасной осанкой. Люди имели привычку оборачиваться ей вслед. Бог дал ей правильные черты лица, тонко очерченные брови, широкий лоб, пышные золотисто-рыжеватые волосы, огромные синие глаза под слегка тяжелыми веками, идеальной формы нос и рот, а также алые губы, открывавшие в улыбке белоснежные зубы, маленькие изящные кисти и стопы, длинные пальцы и овальной формы ногти. Именно такой она запомнилась Руперту.
Да, он должен вернуться домой. Он должен увидеть всех этих людей, хотя, если честно, ему хотелось увидеть одну только мать, и больше никого. Их жизни и его собственная разошлись так далеко, но судьба вдруг вновь велела им пересечься. Продолжая размышлять в том же духе, Руперт принялся вспоминать, что слышал о них в последние годы. По большому счету ничего, поскольку он сам ими не интересовался.
Вторая жена лорда Дэвена, на которой тот женился через десять месяцев после смерти Клары, была немецких кровей и теперь занимала место старшей носительницы титула. Руперт слышал, что лорд женился на ней, руководствуясь, как он выразился, научными принципами. А если кратко, то потому, что немки считались образцом домашних добродетелей. Но что подвигло ее выйти замуж за лорда Дэвена – об этом он понятия не имел, разве только потому, что это был лорд Дэвен. Результат оказался малоутешителен, ибо, судя по обоим письмам, брак, основанный на научных принципах, потерпел сокрушительное фиаско.
Разумеется, все это лично ему было только на руку, однако сей факт совершенно не радовал Руперта. Более того, он был бы искренне рад, если бы его кузен Дэвен был на тот момент отцом многочисленного семейства. Руперт не горел желанием наследовать ни богатство, ни титул, если таковые на него свалятся, будучи совершенно равнодушен как богатству и положению в обществе, не заработанным им самим, так и к тому образу жизни, какой те предполагали.
Неким загадочным шестым чувством, которым мы все, хотя и в разной степени, наделены – он понимал, более того, был уверен, что это богатство и почести не принесут ему счастья. Кроме того, по причинам, о которых читатель может сам легко догадаться, ему претило само имя Дэвен. Увы, такова была ситуация и ему оставалось лишь надеяться, что она изменится.
Что до остальных родственников, то его кузен, красивый, чувственный, беспринципный искатель наслаждений Дик Лермер, о котором Эдит писала в своем письме, до сих пор шел по жизни тем самым путем, какой он предсказал бы ему. После смерти матери Дик получил скромное состояние, приносившее около тысячи фунтов годового дохода, которые он легко и красиво пускал на ветер. В данный момент он подвизался на роли прихлебателя и мальчика на посылках у лорда Дэвена. Худшей судьбы для мужчины Руперт не мог даже представить, и даже перспектива стать марионеточным членом парламента была бессильна ее радикально улучшить. Ибо на то она и марионетка, чтобы беспрекословно плясать под дудку своего покровителя и хозяина. Руперт вспомнил, что несколько лет назад до него дошли слухи о возможной помолвке между Диком и Эдит. Если в слухах этих и была крупица истины, судя по всему, из этой затеи ничего не вышло. Да, крупица истины, возможно, была, ибо он вспомнил, что когда Эдит была еще юной девушкой, Дик был к ней сильно привязан, и Эдит, похоже, разделяла его чувства. Несомненно, если это наблюдение было верным, то как только она раскусила истинный характер своего воздыхателя, ей хватило здравого смысла положить конец этому увлечению.
Что касается самой Эдит, то по какой-то договоренности, детали которой были ему непонятны, но которая похоже, устраивала их обоих, будь то с финансовой точки зрения или какой-то иной, но последние пять лет она жила в доме его покойной матери, куда переселилась после смерти миссис Лермер. Хотя в своих письмах к нему мать Руперта никогда не отзывалась о ней с приязнью, с другой стороны, она никогда не жаловалась, если не считать слов о том, что Эдит, похоже, крайне недовольна своим положением и жизненными перспективами. Что, добавляла мать, нетрудно понять, учитывая ее редкую красоту и немалые таланты. Как так получилось, размышлял Руперт, что женщина, наделенная такой красотой, что судя по ее фотографии, так и было, а также не обделенная разумом, дожила до таких лет и так и не вышла замуж? Наверно потому, что ей еще не встретился тот, кто был бы ей небезразличен. И если это так, то ее сердцу следует воздать должное, точно так же, как разорвав отношения с Диком, – если таковые и были, – она продемонстрировала наличие здравого смысла.
Ничего, вскоре он все узнает. Тем более что пароход уже отплывает. Руперт со вздохом положил оба письма в карман и вышел на палубу. На востоке вставало солнце – огромный золотой шар, и его прямые жгучие лучи падали прямо на сидящих над вратами Абу-Симбела колоссов. Стрелы света проникали в дальние загадочные уголки храма с его рядами колонн. Когда Руперт впервые увидел этих молчаливых каменных исполинов, те как будто улыбнулись ему. Улыбались они и сейчас, на прощание. Интересно, подумал Руперт, увидит ли он их когда-нибудь снова, эти жутковатые монументы, которые провожали взглядом не одно поколение египтян, греков, римлян, персов, сарацинов и христиан? Ответа на этот вопрос он не знал, однако шестое чувство вновь подсказывало ему, что он их увидит. То же самое думала и Бахита, ибо спустя несколько минут пароход проплыл мимо ее хижины. Стоя на берегу, она крикнула ему:
– Прощай, Руперт-бей! Но не надолго, а пока вновь не вернешься сюда!
Руперт помахал ей в ответ и неотрывно смотрел на нее, пока ее высокая фигура не скрылась за поворотом реки. Лишь тогда, чувствуя, что его вот-вот сморит сон, он вернулся в каюту и лег в постель.
Глава III. Возвращение Руперта
Одним унылым днем в конце сентября, после почти двенадцати лет отсутствия Руперт вновь ступил на английскую землю. Его корабль прибыл в Плимут ранним утром, а накануне, примерно в десять часов вечера, сам он не сводил с горизонта глаз, наблюдая за тем, как яростно мигает маяк на острове Уэссан, пока тот наконец не погас, словно лампа, в которой кончилось масло. По расчетам Руперта, корабль должен был войти в порт не позднее девяти часов. Ночь была довольно ясной, и Руперт, прежде чем лечь спать, курил трубку и считал огни, красные и зеленые, многочисленных судов, бороздящих океанские просторы вблизи знаменитых уэссанских маяков, причем, некоторые из этих кораблей проплывали всего в нескольких сотнях ярдов от его лайнера. Но позднее, когда они уже вошли в Ла-Манш, сгустился туман.
Как и большинство бывалых морских путешественников, ощутив изменение такта двигателей, он моментально проснулся. Затем, повторяясь каждые две минуты, меланхолично загудела сирена. Руперт встал и, выглянув в иллюминатор, увидел, что они вошли в полосу густого тумана, ползти через которую им придется несколько часов, оповещая о своем присутствии регулярными гудками. Время от времени из нее доносились ответные гудки точно таких же напуганных кораблей, как и их собственный.
Хотя солнце проглядывало сквозь эту пелену, словно желтый китайский фонарь, окончательно туман рассеялся лишь к десяти утра. В результате на якорь в плимутской гавани они встали лишь в четыре часа пополудни.
Еще два с половиной часа ушло на то, чтобы перегрузить багаж, серебряные слитки и пассажиров на баржу, а затем пройти таможню, так что специальный поезд, пыхтя паром, покинул станцию Плимута лишь когда уже стемнело. Руперт, безразличный к зазнайству и чванству, а также привыкший бережно обращаться с деньгами, купил себе билет второго класса и, как вскоре выяснилось, оказался в своем вагоне единственным пассажиром.
Здесь, на юге Англии вечер был теплый и приятный, и он опустил окно, чтобы выглянуть наружу. Мягкая быстрая изморось придавала осеннему пейзажу печать некой особой грусти. Меланхоличные коровы стояли у ворот, ведущих на набрякшие дождевой влагой поля; под порывами ветра с деревьев облетали листья; раскрыв над головой зонтики, женщины спешили в свои дома, чьи еще не подсвеченные лампами окна и холодные очаги придавали их серым каменным стенам ощущение полного запустения. Привыкнув за долгие годы к Востоку, к его величественным звездным ночам, Руперт поймал себя на том, что окружающий пейзаж воистину погружает его в уныние, проникающее до самых глубин его сердца.
Наверно, он зря вернулся в Англию. Интересно, что его здесь ждет? И жива ли его мать? Или нет? Вполне может статься, что она уже отошла в мир иной, ибо с тех пор, как он получил ее письмо в Абу-Симбеле, новых известий от нее не поступало, и хотя он телеграммой известил о своем прибытии, было еще слишком рано надеяться на ответ. Нет, конечно, он надеялся получить от нее весточку еще в Плимуте и даже простоял двадцать минут в очереди к окошку «до востребования», однако к его великому разочарованию там для него не оказалось ни писем, ни телеграмм.
Поначалу Руперт встревожился, однако затем вспомнил, что забыл сообщить ей название своего судна, вышедшего из Порт-Саида, а значит, на его борту никак не мог рассчитывать на весточку от матери. Таким образом, ее молчание еще ничего не значило. И все же ему было страшно, причем, он сам не мог сказать, почему. Страшнее даже, чем когда-либо в начале сражения или какого-либо опасного, рискованного дела. К нему как будто подкрадывалась опасность, причем не вымышленная, а настоящая.
В Эксетере Руперт купил вечерних газет, коих не держал в руках уже многие годы. Прочтя их, он на время забыл о своих смутных тревогах. Время тянулось медленно. Вскоре оно уже казалось ему едва ли не вечностью, но тут он, наконец, увидел огни унылых лондонских пригородов, которые лишь подчеркивали это гнетущее однообразие. Собранное то здесь, то там в пошлые созвездия питейных заведений, тут как будто обосновалось целое небо павших звезд.
Пэддингтон. Наконец-то! Их поезд на всех парах въехал под огромные пустые своды вокзала. Хотя на часах была половина двенадцатого ночи, на той платформе, на которую он прибыл, стояли люди – друзья и родственники, пришедшие встретить пассажиров, прибывающих в Англию. Вот, например, молодая жена, увидев лицо мужа, вместо того, чтобы ожидать остановки поезда, бежит рядом с дверью вагона, не обращая внимания на недовольных носильщиков, на которых она то и дело налетает на бегу. Еще мгновение, и пара после долгой разлуки уже сжимает друг друга в объятиях. Руперт отвернулся, чтобы не подглядывать за их счастьем, лишь пробормотал себе под нос:
– Повезло парню, его кто-то встречает!
С этими словами он сошел на платформу и поискал глазами носильщика, который бы помог ему с багажом. Увы, он был вынужден какое-то время ждать, ибо все носильщики первым делом бросились к пассажирам первого класса, предоставив горстке «вторых» заботу о себе самих.
Пока Руперт терпеливо ждал, он обратил внимание на высокую даму в длинном плаще, которая всматривалась в лица толпы. Явно расстроенная, она зашагала было мимо него к другой группе пассажиров у салон-вагона, расположенного чуть дальше, и их взгляды встретились.
– Смею предположить, – сказал он, делая шаг ей навстречу и поднимая шляпу, – что вы моя кузина Эдит, только повзрослевшая.
– О Руперт! Это вы! – воскликнула она низким, приятным голосом и протянула изящную руку. – Конечно, это я, не просто поврослевшая, а уже совсем взрослая!
– Одну минутку, – перебил ее Руперт. Темный плащ и шляпа говорили о том, что, возможно, дама принесла не самые лучшие известия. – Скажите… как там моя мать?
– О, ей гораздо лучше и она передает вам свой привет, но приехать и встретить вас она, разумеется, не могла.
Выражение тревоги покинула лицо Руперта.
– Слава богу! – воскликнул он, издав вздох облегчения. – Смотрите, вот и носильщик. Давайте займемся моим багажом.
– Я нигде не могла вас найти, хотя вы такой видный, – сказала Эдит, когда они, заручившись помощью носильщика с четырехколесной тележкой, последовали за ним к одному из фургонов. – Скажите, где вы прятались? Я уже решила, что вас вообще нет в этом поезде.
– Нигде. Я стоял почти пять минут рядом с вагонами второго класса.
– Ой, я там даже не искала. Я не думала, что… – она осеклась.
– Эй, вот один из моих! – воскликнул Руперт указывая на видавший виды жестяной ящик на котором было написано «Лейтенант Р. Уллершоу. К. А.»[5].
– Я отлично помню эту жестянку, – сказала Эдит. – Помню, как она стояла в прихожей вашего дома, и ваше имя было написано на ней свежей, белой краской. Я тогда пришла попрощаться с вами, но вас дома не оказалось.
– А вы наблюдательная! – заметил Руперт, с любопытством на нее глядя. – С тех пор этот ящик немало пережил, как и его владелец.
– Да, – скромно согласилась она, – разница лишь в том, что пережитое вами сделало вас лучше.
И она одарила его высокую солдатскую фигуру взглядом, полным восхищения.
– Давайте обойдемся без комплиментов, – ответил Руперт, слегка покраснев, – я к ним не привык. Если же вы будете говорить их мне, я буду вынужден делать то же самое.
– У вас вряд ли что-то получится, – игриво возразила она, – потому что в этом плаще меня почти не видно.
– Отчего же? Например, ваше лицо отлично видно, и оно очень даже хорошенькое, – выпалил он, отчего настала ее очередь покраснеть.
– Ну вот, – неловко продолжал Руперт, когда тележка, с горой нагруженная его багажом, наконец сдвинулась с места. – С вашей стороны верх человеколюбия – приехать и встретить меня, тем более одной и в столь поздний час. Я никогда этого не ожидал и крайне вам благодарен.
– Боже мой, Руперт, и как только вы могли подумать, что я могла поступить иначе? Разве только если бы я сломала ногу или что-то в этом роде! Да я была бы здесь даже в три утра. Для меня это величайшее удовольствие, коего я была лишена длительное время. К тому же, Руперт, я, то есть мы все, так гордимся вами!
– О, прошу вас, полноте, Эдит, – перебил он ее. – Я всего лишь выполнял свой долг, причем, не всегда хорошо, и был награжден совершенно не по заслугам, в то время как куда более достойные люди, нежели я, были обойдены милостями начальства. Наверно потому, что я считался перспективным кадром. Поэтому давайте оставим эту тему, иначе мы поссоримся.
– Ну что, давайте оставим. Мне не хотелось бы с вами ссориться, наоборот, я хотела бы с вами подружиться, ибо друзей у меня совсем немного. Но вы не сердитесь на меня за то, что я все равно горжусь вами. Вы единственный среди нас, кто сделал нечто похвальное и полезное, вместо того чтобы понапрасну прожигать время, силы и деньги на разного рода сомнительные увлечения, вроде скачек и карт.
В ответ Руперт пробормотал, что такого рода увлечения, как правило, плохо кончаются.
– Совершенно верно, – поддакнула Эдит, – и прошу вас не считать меня ханжой за то, что я говорю такие вещи, потому что я и сама недалеко ушла. Хотя мне ужасно за это стыдно. Но недавно мы получили один такой урок, с несчастным Диком, вместе с которым, как вы знаете, я выросла, как сестра, – скандал в газетах и все такие прочее. Не удивительно, что я немного сердита, но также рада, что есть среди нас тот, чье имя упоминается в газетах по совершенно другому поводу.
Когда она говорила эти слова, свет фонаря от проезжавшей мимо кареты упал на ее серьезное лицо и широко раскрытые синие глаза, и Руперт понял, какие они чистые и прекрасные.
Безусловно, даже будь таково ее собственное желание, Эдит не смогла бы найти лучший способ и возможность произвести первое прекрасное впечатление на довольно простой, наивный ум своего кузена Руперта.
Наконец тяжело нагруженный экипаж подкатил к хорошо знакомой двери маленького дома в Риджентс-парке, который он оставил много лет назад.
– Входите, Руперт, не мешкайте, – сказала Эдит. – Ваша матушка будет ужасно рада вас видеть. А я пока заплачу кэбмену.
Руперт сначала заколебался, однако, пробормотав, что это весьма мило с ее стороны, уступил, и не просто поднялся, а взбежал вверх по ступенькам крыльца, а потом влетел в дверь, которую служанка открыла, услышав стук колес по мостовой, а уже в доме – вверх по лестнице в гостиную на втором этаже.
Здесь, сидя в инвалидном кресле, раскинув руки, чтобы заключить его в теплые материнские объятия, со словами радости и благословения на устах его встретила возлюбленная матушка, которую он не видел вот уже много лет.
– А теперь пусть твоя рабыня упокоится с миром, ибо глаза мои узрели… – прошептала она, но осеклась, ибо ее душили слезы.
Руперт поднялся с колен и, отвернувшись, сдавленным голосом сказал, что должен посмотреть, как там идет разгрузка багажа. Спустившись вниз, он застал внизу Эдит и двух служанок. Втроем они вели отчаянное сражение с его вещами, которые вредный кэбмен отказался заносить в дом.
– Довольно, Эдит, – сердито сказал он. – Это не ваше дело. Почему вы не позвали меня?
– Потому, что не хотела вам мешать, – задыхаясь, ответила она. – Но, признайтесь, Руперт, не иначе как вы положили в ваши чемоданы свинец. Или же в них лежат все ваши сбережения?
– Нет, – ответил он, – там лишь парочка каменных стел и большой бронзовый Осирис, я имею в виду египетского бога. Отойдите, барышни, я займусь этим завтра. Мне хватит этой сумки, в которой лежат мои дорожные принадлежности.
И барышни с готовностью ушли, ибо не горели желанием и дальше знакомиться с ящиками полковника – одна в кухню, вторая – с сумкой наверх, – оставив Руперта и Эдит наедине.
– Нет, вы только представьте! – воскликнула та. – Вы только представьте человека, который, вместо личных вещей, путешествует с египетскими богами в чемодане! Руперт, я пожертвовала своими лучшими перчатками, возложив их на алтарь ваших богов, – с этими словами она протянула руку, чтобы показать ему порванную лайковую перчатку.
– Я подарю вам новую пару! – пылко воскликнул он, все еще не оправившись от замешательства, после чего они прошли в столовую, где их уже ждал ужин.
– Боже мой, с непривычки мне даже сделалось жарко, – сказала Эдит и, сбросив сначала длинный плащ, а затем сняв шляпу, встала перед ним в полный рост в свете лампы.
О, как же прекрасна она была! Как восхитительна! По крайней мере, так подумал наш обитатель пустыни, чье сердце и ум от радости и благодарности сделались мягкими, как воск, не говоря уже о том, что он много лет был лишен возможности общаться с англичанками.
Безусловно, его надежды в отношении Эдит оправдались. Молодая, идеально сложенная, изящная и при этом высокая, с прекрасными волосами, блестевшими золотой короной над чистым лбом. А эти огромные синие глаза! Эти правильные, четкие черты лица, чью горделивость смягчала округлость щек и подбородка, эти плавные, размеренные движения! Все из этого было прекрасно само по себе, а вместе взятое делало Эдит в высшей степени привлекательной и грациозной женщиной, если не сказать, настоящей красавицей.
В этот момент ее очарование завладело его сердцем, и хотя сам он еще об этом не догадывался, Руперт в нее влюбился – он, кто со времен юности ни разу не думал так ни о какой женщине. Более того, его ясные глаза тотчас же рассказали ей все.
В течение нескольких секунд они стояли, не сводя глаз друг с друга, а затем она сказала:
– Не желаете ли несколько минут поговорить с вашей матушкой, пока кухарка отнесет наверх суп? Вы должны непременно его отведать, ибо она расстроится, как впрочем, и я, потому что мы готовили его весь день.
И Руперт ушел. Как только дверь за ним закрылась, Эдит устало опустилась в кресло, как человек, наконец-то сбросивший с себя тяжелую ношу, и ее лицо приобрело задумчивое выражение.
– Наконец-то, – сказала она себе, – все произошло даже лучше, чем я ожидала. У него никого нет, в этом я уверена, но остается вопрос, нравится ли он мне? Не думаю, хотя он по-своему хорош собой и, к тому же, мужчина. Между нами по-прежнему стена, как когда-то в детстве, – мы слишком разные. Нет, вряд ли он мне нравится. – И она слегка вздрогнула. – К тому же не следует забывать, что еще есть бедняга Дик. О, Дик! Дик! Если я упущу этот шанс, он будет уже третьим, которым я пренебрегла ради тебя. Дик, мот и распутник Дик, ты единственный мужчина, кто не вселяет в меня дрожь. Но я не уверена. Руперт порядочный. Он имеет награды. Ему наверняка перейдет титул лорда Дэвена. Нищие, как известно, не выбирают. Нет, конечно, у меня еще есть время на раздумья, пока, прежде чем он встретит другую женщину, я постараюсь влюбить его в себя.
Затем дверь открылась, и горничная внесла суп.
Таково было возвращение домой Руперта Уллершоу.
Глава IV. Деловой разговор
Эдит, не любившая вставать рано, завтракала у себя в комнате. В половине десятого утра на следующий день после приезда Руперта горничная как обычно принесла ей поднос с завтраком, газету – «Морнинг Пост» – и три письма. Два из них были ей хорошо знакомы – неоплаченные счета от шляпника, третье же было написано рукой лорда Дэвена, такой же суровой и твердой, как и его лицо. Пожав округлыми плечами, Эдит отбросила прочь счета шляпника и вскрыла конверт от своего титулованного родственника. Письмо, вернее, записка, оказалось коротким и по делу:
«Дорогая Эдит, если сможете, жду вас у себя после завтрака. Буду дома до без четверти одиннадцать и хотел бы поговорить с вами.
Ваш Дэвен».– Не было печали! – воскликнула она, откладывая письмо. – Мне нужно быстро переодеться и поймать кэб! Тогда пусть он мне его оплатит! Интересно, что ему от меня нужно?
Теперь лорд Дэвен жил на Гровнер-сквер. Похоже, даже в умах самых прогрессивных современных агностиков обитают древние суеверия. Вероятно, подобно тому, как африканский дикарь сжигает хижину, в которой кто-то умер, и строит себе новую, точно такое же чувство вынудило лорда Дэвена после трагической смерти первой жены продать дом на Портленд-Плейс, причем гораздо дешевле его реальной стоимости, и купить себе новый. Хотя справедливости ради следует добавить, что в документах в качестве причины продажи дома он назвал состояние канализационных труб. Как бы то ни было, леди Дэвен «Номер Два» никогда не спала в спальне леди Дэвен «Номер Один», где та наложила на себя руки.
Ровно в 10: 46 Эдит расплатилась с кэбменом на широких ступенях особняка на Гровнер-сквер.
– Лорд Дэвен у себя? – спросила она у дворецкого, того же самого молчаливого брюнета, который занимал эту должность еще в доме на Портленд-Плейс.
– Да, мисс Бонниторн, – учтиво ответил тот. – Я только что чистил его шляпу, – и он с сомнением посмотрел на часы.
– Проведите меня к нему, Тэлбот, он желает меня видеть, – сказала она, на что Тэлбот ответил кивком.
Хотя никаких указаний на этот счет он не получал, он давно понял, что желания мисс Бонниторн в этом доме принято выполнять.
Спустя несколько секунд она уже входила в библиотеку, расположенную позади столовой. В самом ее конце, возле окна, сидя за изящным письменным столиком, ее ждал лорд Дэвен, который в данный момент был занят тем, что запечатывал какое-то письмо.
– А, моя дорогая Эдит! – произнес он решительным, четким голосом, когда она медленно подошла к нему. – Вы едва не опоздали. Еще полминуты, и вы бы уже не застали меня.
– Порой полминуты равны целому веку, – ответила она. – За полминуты может многое произойти, кузен Джордж. Например, кто-то может умереть.
– Да, – согласился Дэвен, – или родиться, что еще хуже, или совершить убийство, или дать согласие на брак, или, как вы только что справедливо заметили, сделать очень многое. Жизнь состоит из половинок минут, не так ли, и, как правило, все они плохи. – С этими словами он посмотрел на нее и улыбнулся своей характерной улыбкой, которая, похоже, никогда не покидала его губ.
Приятные по натуре люди обычно улыбаются глазами, другие, иной закваски, словно собака, одними губами, что придает их разнообразному выражению внутренней удовлетворенности легкую саркастическую окраску.
С тех пор как мы в последний раз видели его, лорд Дэвен сильно изменился. Белокурые волосы тронула седина, заостренная бородка тоже стала совсем седой. Морщины на лице сделались резче и глубже, и даже в плохо освещенной библиотеке под его быстрыми, подвижными глазами были заметны «гусиные лапки», линии мелких морщинок. Возраст наложил на него печать, хотя ему было всего шестьдесят три года.
Кроме того, он в известной мере утратил былую надменность, а его железная воля и решительность, похоже, тоже ослабли. Порой он колебался и пытался понять другую сторону в споре, был менее уверен в фактах и менее решителен в применении их к своим частным делам.
– У вас усталый вид, – сказала Эдит, когда он поднялся из-за стола, чтобы поцеловать ее прохладную, розовую щеку.
– О да, еще как! – воскликнул он и, издав нечто похожее на стон, вновь опустился в кресло. – Разве вы не устали бы на моем месте, если не смыкали глаз три ночи подряд? Эдит, я не могу спать, и не знаю, чем все это закончится. Честное слово, не знаю.
Она с беспокойством посмотрела на него, ибо их, несмотря на разницу в поле и возрасте, связывали прочные узы взаимной симпатии, и она искренне расстроилась по поводу его нездоровья.
– О, мне право жаль, – мягко сказала она. – Бессонница – ужасная вещь. Но вы берегите себя, избегайте волнения, и она пройдет.
– Да, – мрачно отозвался лорд Дэвен, – она пройдет, потому что сегодня вечером я точно приму снотворное. Я всегда принимаю его через три ночи на четвертую, хотя и ненавижу это делать.
– Эти лекарства порой ведут к несчастным случаям, кузен Джордж, – ответила Эдит, притворившись, будто рассеянно водит зонтиком по цветочному узору на ковре, но на самом деле пристально следя за его лицом из-под длинных опущенных ресниц.
– Да, порой они ведут к несчастным случаям, – повторил он вслед за ней. – Кому это знать, как не мне. С другой стороны, несчастные случаи порой бывают весьма кстати. Скажу больше, хотя вам, Эдит, жизнь все еще кажется весьма приятной, другие могут думать иначе.
– Только не вы, кузен Джордж, с вашим положением в обществе и богатством.
– Я уже немолод, Эдит, и потому знаю, что положение и богатство, которые вы оцениваете столь высоко, не всегда означают счастье, и даже удовлетворенность. В конце концов, кто я такой? Богатый пэр, при имени которого немолодые женщины и священнослужители, сами не зная почему, обращают свой взор к небу, и которого боятся мужчины, а все потому, что я привык говорить резкости – иными словами, один из толпы богатых пэров, только и всего. Что до моей личной жизни, то мне все неинтересно. Я, как тот римский император, не могу найти себе новое увлечение. Даже скачки и высокие ставки наводят на меня скуку. Дома же – вы сами знаете, как обстоят дела. Скажем так, я не первый мужчина, который, купив корову, обнаружил, что у нее есть рога и она не только бодается, но и громко мычит.
Эдит улыбнулась: ей понравилось его сравнение.
– Как вы знаете, такова моя единственная надежда, – продолжил он почти безучастно, – а если нет, вы уже достаточно взрослая и имеете мозги, чтобы понять. Я хотел иметь сыновей от спокойной, надежной родительницы, сыновей, которые бы нашли достойное применение всем этим богатствам и титулам, чего я сам уже никогда не сделаю, ибо слишком поздно. Мужчин, которые бы несли дальше достойное имя и совершали достойные дела, а не как я когда-то, прожигали зря свою молодость в погоне за удовольствиями, или тем, что я принимал за удовольствия; чтобы они не растрачивали свои лучшие годы на безделье и пустые увлечения, которые никуда не ведут, не стремились к ненужному обогащению, чтобы не провести свою старость в сожалениях и тревогах. Я хотел сыновей. Это была моя единственная мечта, но… – он помахал в воздухе рукой, – где они, мои сыновья?
Эдит знала: в том, что касается его интересов, лорд Дэвен – человек твердый, даже жестокий, в том смысле, в каком обычно понимают это слово, как например его понимала миссис Уллершоу. Например, он любил отпускать язвительные шутки по поводу смертной природы человека и других устоявшихся идей и открыто насмехался над любой формой религии. И все же в этот момент было в его настроении нечто жалкое, даже трагичное, что даже ее сердце, хотя оно и не отличалось мягкостью, заныло, сочувствуя ему.
Эдит прекрасно видела: его холодная, основанная на расчете, система жизни окончательно сломалась, он был крайне несчастен, а если честно, то потерпел полное фиаско. И хотя, как он частенько утверждал, за внешним, видимым миром, частью которого являются наше тело и мозг, ничего нет, это ничто было для него, человека сильного, невыносимо. Над ним одержала победу некая тень, и, по крайней мере, эффект этой тени был очень даже реальным и ощутимым, – то, что некоторые люди называют судьбой, а другие Дланью Господней.
Эта идея тревожила Эдит, она была ей столь же неприятна, как неприятны болезнь и мысль о смерти. Поэтому, следуя своей натуре, она всячески избегала ее, для чего задала первый же вопрос, какой пришел ей в голову.
– Как там сегодня Табита?
Моментально весь пафос, все остатки достоинства, которые в нем были, покинули лорда Дэвена, а его губы скривились в презрительной усмешке.
– Спасибо, эта благородная и возвышенная хаусфрау чувствует себя хорошо. Нанеся свой утренний визит на кухню, она отчитала кухарку за экстравагантность, отчего та, с прискорбием сообщаю вам, заявила, что уходит, и теперь хозяйка дома, сидя в домашнем платье, читает священную немецкую книгу о предопределении, из которой она была так добра перевести мне некоторые абзацы, которые, на ее взгляд, непосредственно касались моей бездуховности. Но я пригласил вас, Эдит, вовсе не за тем, чтобы обсуждать мою супругу и ее гротескные взгляды. Как я понимаю, вернулся Руперт Уллершоу?
Эдит кивнула.
– Расскажите мне о нем. Каков он?
– Высокий, сильный, по-своему красивый, если бы не довольно неопрятная стрижка и морщины на лбу, отчего кажется, будто он вот уже десять лет пытается придумать акростих. Выглядит старше своих лет, неуклюж в манерах и не слишком боек на язык.
– Отличный портрет, – одобрительно произнес лорд, – портрет того, что снаружи. А теперь о том, что внутри.
Эдит потерла лоб, что делала всегда, когда что-то обдумывала.
– А вот это уже трудно, – ответила она, – ибо, как описать то, чего не понимаешь? Но я попытаюсь сделать кое-какие предположения. Мне кажется… мне кажется, он из тех людей, которых вы только что описывали, говоря о сыновьях, если бы те у вас были.
Лорд Дэвен вздрогнул, как будто что-то укололо его.
– Простите меня, – поспешила добавить Эдит, – я хотела сказать, что ему свойственно упорство, сознательность, религиозность и все прочие положительные качества. Нет, вы в это поверите? Прошлой ночью, уже после того, как Руперт отправился спать, он все же спустился вниз в старом плаще и, открыв большую, перевязанную веревкой коробку, достал из нее Библию. Услышав шум, я подумала, что вероятно это захворал кто-то из слуг, и тоже спустилась вниз, чтобы проверить, в чем дело. Так вот, в половине третьего ночи я встретила его на лестнице в этом наряде. Представляю, как странно мы оба, должно быть, смотрелись! Я спросила у него, почему среди ночи ему понадобилось рыться в багаже. На что он совершенно спокойно ответил, что по ошибке положил Библию в сундук, который был в его купе, и поскольку не хотел в столь поздний час беспокоить меня, чтобы попросить одолжить ему Библию, был вынужден спуститься вниз и найти ее среди прочих вещей. С этими словами он показал мне большую, истрепанную книгу, которую, по его словам, он собственноручно вставил в новый переплет из оленьей кожи. После чего со всей серьезностью добавил, что привык на сон грядущий читать отрывок из Писания – так он выразился. Мол, за все эти годы он ни разу не изменил этой своей привычке и не намерен делать это сейчас. На что я ответила ему, что это то, что называют истинной верой, и мы расстались. Я не стала говорить ему, что ужасно рада, что он не стал стучать мне в дверь и просить одолжить ему Библию, ибо, честное слово, не знаю даже, где бы я ее для него нашла.
Лорд Дэвен от души расхохотался ее рассказу, ибо живое ее описание пробудило в нем чувство юмора.
– Вот кому следовало жениться на Табите, – заметил он. – Как говорится, два сапога – пара. Думаю, они прекрасно бы ужились, как… – он осекся, а потом добавил: – Судя по вашему описанию, весьма странный тип, хотя в молодости я бы не назвал его образцом добродетели. В общем, то ли благодаря Библии, то ли вопреки ей, но мастер Руперт весьма преуспел. Перед ним открыта неплохая карьера, в этом даже не приходится сомневаться, и, по всей вероятности, – тут лорд вздохнул, – прочие вещи, ибо бесконечно без сна не проживешь.
Эдит вновь кивнула, однако ничего не сказала, зная, что за этими словами наверняка последуют другие.
– Скажите, наш «военный святой» часом не женат? – спросил лорд.
– О, нет! Конечно же, нет!
– И не помолвлен?
– Насколько мне известно, тоже нет. Я бы предположила, что он вот уже много лет даже словом не перемолвился с женщиной. Мне кажется, будто он…
– Такой невинный, вы хотите сказать? Что ж, оно даже к лучшему. Мой совет вам, Эдит: выходите за него замуж.
Эдит сделала комичное лицо и ответила:
– Это как-то слишком внезапно. Или как там говорят в таких случаях? Но могу я спросить, почему?
– По двум причинам. Во-первых, потому что это в ваших же собственных интересах, а, во-вторых, что гораздо важнее, – таково мое желание.
– Дайте подумать, – сказала Эдит. – Кем мы с вами приходимся друг другу? Если не ошибаюсь, я ваша троюродная племянница?
– Именно так, но более того, мы друзья, – медленно ответил лорд Дэвен с явным нажимом.
– Что ж, имеет ли право троюродный дядя и друг указывать женщине, за кого ей выходить замуж?
– Безусловно, при известных обстоятельствах. Этот Руперт, возможно, станет моим наследником. Я должен принять этот факт, ибо Табита вряд ли избавится от своих привычек, по крайней мере, так считают доктора. Поэтому мне хотелось бы, чтобы он женился на ком-то, кто мне дорог, тем более, что несмотря на его религиозные благоглупости, он производит впечатление человека, который станет хорошим мужем.
– Но что, если доктора ошибаются насчет Табиты? – спокойно ответила Эдит, ибо не в привычках обоих было ходить вокруг да около.
– В таком случае, вы все равно будете неплохо обеспечены, и, моя дорогая Эдит, позвольте мне заметить, что вы уже отнюдь не желторотый цыпленок, но по какой-то причине почему-то так до сих пор не обзавелись мужем.
– Сомневаюсь, что на жалованье Руперта я смогу жить на широкую ногу, – возразила она, – даже будь он готов делиться им со мной.
– Что ж, может, и нет, но в день вашего бракосочетания я положу на счет ваших попечителей 25 тысяч фунтов, а если что-то случится – когда я, наконец, усну, – то, возможно, даже больше.
– Это весьма щедро с вашей стороны, кузен Джордж, – ответила Эдит, совершенно искренне. – Я не знаю, почему вы поступаете таким образом, тем более, ради меня, вашей троюродной племянницы. И почему именно в день нашего с Рупертом бракосочетания?
– Я уже сказал, что таково мое желание. И вообще, чем он вас не устраивает? Он вам не нравится?
Эдит пожала плечами.
– Я не влюблена. Это не в моих привычках.
Лорд посмотрел ей прямо в глаза.
– Нет, – ответил он, – потому что вы всегда были «влюблены», как вы выражаетесь, в этого мерзавца Дика. И пожалуйста, не спорьте со мной, ибо я знаю. Дик бывает очень даже разговорчив, особенно после ужина.
Эдит не стала с ним спорить, лишь сказала, довольно обиженно и слегка покраснев:
– В таком случае, это худшее, что я о нем слышала, что о многом говорит.
– Верно. Никогда не доверяйте мужчине, который хвастает своими победами. Послушайте, Эдит. Я помогаю Дику лишь потому, что он меня развлекает и от него есть польза. Именно поэтому я и хочу протолкнуть его в Парламент. Нет, конечно, я не могу помешать вам выйти за него замуж, если такая глупость взбредет вам в голову, чего, однако, я не могу представить. Но если это все-таки произойдет, я выставлю Дика за порог, а на счет ваших попечителей не ляжет никаких 25 тысяч фунтов.
– То есть вы ставите мне такие жесткие условия, кузен Джордж?
– Отчего же жесткие? Очень даже щадящие, Эдит. Я, насколько это в моих силах, не позволю вам выйти замуж за это ничтожество без гроша за душой. Ради вас самой, ибо вы мне дороги.
– Я никогда не говорила, что хочу за него замуж.
– Нет, но поскольку из-за него вы отказываетесь выйти замуж за кого-то другого, что по сути одно и то же, по крайней мере, что касается вашего будущего.
Эдит на минуту задумалась и, прежде чем ответить, снова потерла лоб.
– Все это сказано довольно ясно и откровенно, но смею предположить, вы не ждете от меня ответа прямо сейчас. К тому же у Руперта вполне могут иметься свои соображения. Он производит впечатление человека, который никогда не женится из принципа. К тому же пока что вы исходите исключительно из моего рассказа о нем, хотя сами в последний раз видели его еще юношей. Когда же вы его увидите своими глазами, возможно, этот ваш… план… перестанет казаться вам столь желанным.
– Совершенно верно, – согласился лорд. – У вас весьма логичный ум. Приводите его сегодня вечером на обед, и мы вновь поговорим об этом через несколько дней.
Эдит встала, чтобы уйти, но лорд ее остановил.
– Как поживает ваш банковский счет? – спросил он.
– Полагаю, что со всех точек зрения он прекратил свое существование, – хмуро ответила она, ибо это было единственное, что ее по-настоящему заботило.
Лорд Дэвен улыбнулся и, достав из ящика стола чековую книжку, выписал ей чек.
– Возьмите, – сказал он, – это поможет какое-то время держать волка на расстоянии от вашей двери. К тому же, полагаю, вам нужны новые платья.
Эдит посмотрела на чек. В нем значилась сумма в 250 фунтов.
– Вы слишком щедры ко мне, – сказала она. – Может, кто-то вас не любит, но только не я. Я вас обожаю…
– Меня или мои деньги? – уточнил Дэвен, выгибая бровь.
– Разумеется, вас, – ответила Эдит, и, поцеловав его, направилась к двери.
– Если не ошибаюсь, – задумчиво произнес лорд Дэвен самому себе, как только дверь за ней закрылась, – впервые за более чем два десятка лет кто-то сказал, что любит меня, причем, совершенно искренне. Она непременно должна выйти замуж за Руперта. Это самый большой шанс ее жизни. И разве не имеет она такое же право на все эти богатства и титулы, как и этот набожный медведь?
Глава V. Званный ужин
Вернувшись домой, Эдит застала Руперта за тем занятием, коим он был занят все утро: распаковкой багажа. Он только что установил обе стелы, которые, объясняю для непосвященных, были погребальными плитами, где древние египтяне записывали события своей жизни или же, иногда, молитвы. Стелы были массивными, в чем Эдит имела возможность убедиться накануне вечером, и лучше всего соответствовали своему первоначальному назначению в гробнице. В крошечной же лондонской гостиной они смотрелись явно не к месту, установленные одна на пианино, а вторая – на верхнюю полку чиппендейловского книжного шкафа.
– Согласись, мама, что они смотрятся прекрасно! – воскликнул Руперт.
– О, да, мой дорогой, – с сомнением в голосе ответила миссис Уллершоу, – правда, на мой взгляд, они тяжеловаты и изрядно попорчены временем.
– Попорчены временем! Пожалуй, ты права, – ответил он. – Одной из них четыре, а второй три тысячи лет, но та, что поновее – нет, не та, где бок о бок сидят муж и жена, а другая – более ценная. Она из Тель-эль-Амарны – как тебе, надеюсь известно, этот город построил фараон-вероотступник Эхнатон – и была установлена в гробнице одной из принцесс. Посмотри на ее портрет на верху плиты, над которым изображен шар солнца. Его лучи оканчиваются руками, которые протянуты над ней в жесте благословения. Если хочешь, я для тебя переведу надпись.
В этот момент раздался зловещий треск, а затем незаметно вошедшая в комнату Эдит, мягко произнесла:
– На вашем месте, Руперт, я бы поставила ее сначала на пол. Потому что… Ой! Я так и знала!
Не успела она договорить, как несчастная верхняя полка книжного шкафа треснула и сломалась, и погребальная стела с грохотом рухнула на пол.
Объятый ужасом, Руперт подскочил к ней и, словно игрушку, поднял в своих сильных руках.
– Слава богу! – воскликнул он. – Она цела!
– Верно, – заметила Эдит, – в отличие от книжного шкафа.
Руперт взялся искать для своего сокровища новое место; на сей раз он внял материнскому совету и поставил стелу на пол. Впрочем, еще оставался Осирис, по-настоящему прекрасная бронзовая фигура примерно в два с половиной фута в высоту, для которой нигде не находилось места.
– Я знаю, – заявил Руперт и, взвалив древнего бога на плечо, зашагал вниз, на первый этаж.
– Как вы думаете, кузина Мэри, – спросила Эдит, проводив взглядом его самого и памятник далекого прошлого, – Руперта можно будет уговорить переместить эти два ужасных могильных камня куда-то еще?
Миссис Уллершоу покачала головой.
– Нет, даже не заводите такой разговор, дорогая. Руперт давно мечтал привезти их домой. По его словам, он долгие годы представлял себе, как прекрасно они будут смотреться в этой комнате. В любом случае, если он их и переместит, то только в столовую.
– В таком случае, пусть уж лучше остаются здесь, – решительно заявила Эдит. – Лично мне не хотелось бы ужинать, глядя на могильные плиты. Надеюсь, он не привез также и мумию.
– Похоже, он хотел ее привезти, но, насколько мне известно, был вынужден оставить, потому что ее отказались грузить на корабль, пока он не заплатит за нее, как он выразился, по «тарифу покойника».
– Всегда найдется нечто такое, за что мы должны быть благодарны, – заметила Эдит, снимая с голову шляпку.
Увы, спустившись вниз к ленчу, она обнаружила огромного бронзового Осириса на серванте в окружении тарелок и блюд. Ее чувство благодарности мгновенно поубавилось, но поскольку Руперт был в полном восторге, воздержалась от комментариев.
Пока они ели, Руперту принесли записку. При виде хорошо знакомого почерка, он тотчас нахмурил и без того изборожденный морщинами лоб.
– От кого она, дорогой? – поинтересовалась миссис Уллершоу, когда он прочел текст.
– От лорда Дэвена, – резко ответил Руперт. – Он хочет, чтобы Эдит и я отужинали с ним сегодня вечером. Он якобы даже пригласил заместителя военного министра, лорда Саутвика, чтобы тот познакомился со мной. Разумеется, я никуда не пойду, ибо мне тогда придется оставить тебя одну в первый же вечер после моего возвращения! Я напишу ему и так и скажу.
– Дай, я сначала взгляну на записку. Эдит, дорогая, прочти мне ее, я забыла надеть очки.
И Эдит прочла:
«Дорогой Руперт, с возвращением домой и, мой дорогой друг, прими сотню поздравлений! Ты отслужил достойно. Я со всех сторон только и слышу похвальные отзывы в твой адрес и потому несказанно горд за тебя. Но я хочу сказать тебе это лично. Приезжайте с Эдит ко мне на ужин в восемь часов. Я только что встретил в клубе Саутвика, заместителя военного министра. Ему хотелось бы побеседовать с тобой в приватной обстановке, прежде чем ты доложишь о своем прибытии официально. Он даже перенес какую-то другую встречу, чтобы познакомиться с тобой. Я взял на себя смелость сказать ему, что он может спокойно это сделать, так как был уверен, что у тебя пока нет никаких других планов. Твой любящий кузен
Дэвен».– По-моему, ты непременно должен туда поехать, – сказала мать.
– Но у меня нет ни малейшего желания, – энергично возразил Руперт. – Ненавижу все эти званые обеды и ужины.
– Дорогой, рано или поздно тебе все равно придется это сделать. Так почему бы не сейчас? К тому же Эдит наверняка расстроится.
– Еще как! – поддакнула та. – Хотелось бы познакомиться с лордом Саутвиком. Говорят, это самый большой зануда во всем Лондоне. В своем роде, он тоже достопримечательность.
И Руперт уступил. Передав лакею свое устное согласие, остаток ленча он просидел такой же молчаливый, как и бронзовый Осирис на серванте.
Для такого человека, как Руперт, званый ужин был воистину тяжким испытанием. Время было бессильно смягчить яркое воспоминание об ужасе прошлого, о котором он до сих пор ежедневно скорбел в самом искреннем раскаянии. С дрожью в сердце он вспомнил его последнюю кошмарную главу. Его не оставляло ощущение, будто книга с некой новой трагедией, в которой ему уготована роль, вот-вот раскроется в роковом обществе лорда Дэвена. Больше всего на свете ему хотелось вновь оказаться в обществе Бахиты или даже шейха Пресных Колодцев, в Судане, или другом пустынном месте, главное, чтобы оно было как можно дальше от Мейфэра. Он даже пожалел о том, что вернулся домой, но как он мог отказать мольбам матери? Увы, избежать встречи с лордом невозможно, значит, придется терпеть, и Руперт, стиснув зубы, приготовился пережить неизбежное.
«Боже мой, что за человек! – подумала про себя Эдит, глядя на его суровое лицо, когда в тот вечер он помогал ей сесть в кэб. – Можно подумать, он едет не на званый ужин, а на казнь».
Дверь – Руперт даже поблагодарил судьбу за то, что это была другая дверь – открылась, и от его благодарности мгновенно не осталось и следа, ибо за спиной у лакея стоял тот самый сухопарый, хмурый человек, что когда-то сообщил ему про смерть Клары. Он нисколько не изменился. Руперт узнал бы его с расстояния в сотню ярдов. Более того, подобострастная улыбка, которой дворецкий приветствовал его, выглядела так, будто увидев его, дворецкий тотчас же кое-что вспомнил. Что, если этот человек?… При этой мысли на спине Руперта выступил холодный пот.
Эдит куда-то испарилась, чтобы снять плащ, и он был вынужден ее ждать, одиноко стоя наедине с темным, улыбающимся демоном.
– Рад вас видеть живым и здоровым, полковник, – сказал тот, принимая его пальто.
– Как жаль, что не могу сказать в ответ то же самое, – машинально буркнул Руперт.
Дворецкий на минуту задумался, ибо загадочный смысл этих слов его озадачил, однако поняв их на свой лад, продолжал:
– А! Похоже, сэр, вы ощутили перемены… в этом доме, я имею в виду. – И он с опаской оглянулся по сторонам, сначала через плечо, а затем на напудренного лакея рядом с дверью. – Я уверен, сэр, что вы меня не выдадите, если я скажу, что мы все их чувствуем. Ее вторая милость, супруга лорда, сэр, совершенно не то, что первая, – сказал лакей и с искренним сожалением вздохнул, ибо большинство слуг в доме действительно любили бедную Клару: та всегда пыталась защитить их от господского гнева и была щедра. – Ее нынешняя милость, сэр, только и знает, что проповедует и наставляет, требует, чтобы мы читали религиозные книжки, – добавил он с особой горечью в голосе. – А ведь как мы любили ее первую милость! – он перешел почти на шепот. – Ничуть не меньше, чем вы, сэр.
В этот момент к великому облегчению Руперта – ибо голова его от этих жутких признаний уже шла кругом – двойные двери широко распахнулись, и в них шагнул прямой и тощий человек с моноклем, как понял Руперт, лорд Саутвик собственной персоной. Дворецкий, за дьявольской внешностью которого скрывалось прекрасное сердце и который был искренне рад видеть Руперта, пусть даже лишь по той причине, что того любила его покойная хозяйка, был вынужден тотчас шагнуть к нему и принять его пальто. Одновременно с этим вернулась Эдит, в черном с серебром платье, и, сверкая улыбкой, сказала:
– Итак, Руперт, я готова.
– Уверен, что и я тоже, – ответил он.
– О, только не надо меня упрекать, я ведь не слишком долго, – произнесла она и пристально посмотрела на его голову.
– С моими волосами что-то не так? – спросил он, внезапно вспомнив о них.
– Не знаю, пока вы не снимите шляпу, – мягко ответила она, а про себя задалась вопросом, как давно ее знаменитый кузен в последний раз был на званом ужине.
Руперт тотчас же сорвал с головы шляпу и сунул ее в руки одному из швейцаров. Тот нехотя ее принял, ибо принимать шляпы не входило в его обязанности. Затем, сопровождаемые другими лакеями, которые сменяли друг друга, мисс Бонниторн и полковник Уллершоу, наконец, услышали, как у входа в огромную гостиную чей-то трубный глас объявил об их прибытии.
В дальнем конце гостиной, опершись на каминную полку, ибо вечер был довольно зябкий и в очаге пылал огонь – стояли двое мужчин. На некотором расстоянии от них, с невозмутимым видом глядя прямо перед собой, на софе в стиле ампир сидела женщина приятной наружности, хотя и довольно дородная. Не отягощенная никакими украшениями, с косами, венком уложенными вокруг головы, она сидела, сложив руки на простом черном платье.
На какой-то миг Руперт узнал мужчин чисто автоматически; его внимание было приковано к великолепной каминной полке, которую он отлично помнил и рядом с которой ему примерещился призрак Клары, ибо та имела обыкновение стоять рядом с ней. Да-да, это была та самая каминная полка из ее будуара, которая по причине ее ценности была перевезена сюда из старого дома. Он никак не мог ошибиться, глядя на статуэтки, которые поддерживали полочку над ней. Его взор затуманился, однако тотчас прояснился, стоило ему увидеть, как к ним, протянув для рукопожатия руку, направляется лорд Дэвен, а подойдя ближе, с искренней симпатией кивнул Эдит.
«Тот же самый человек, – подумал Руперт, – только более седой, да и походка уже не такая твердая». Затем, перед лицом врага – ибо в его глазах лорд Дэвен оставался таковым – к терзаемому угрызениями совести Руперту вернулось мужество, и он решил сыграть свою роль как можно лучше.
Направляясь в их сторону, лорд Дэвен думал следующее: «Эдит, молодчина, отлично его описала – медведь, но праведный, правильный медведь, который на всю жизнь извлек для себя урок». Но вслух произнес, как будто от всей души, другое, хотя никакое притворное гостеприимство не могло полностью заглушить металлические нотки этого столь хорошо знакомого Руперту голоса:
– А, вот и ты, минута в минуту, как и положено солдату! Добро пожаловать, мой дорогой Руперт. Я искренне рад, что ты вернулся живым и здоровым, и не просто вернулся, а с грузом разного рода наград и почестей, – взяв в свою сухую руку крупную, загорелую ладонь Руперта, он энергично ее пожал и добавил: – Да ты стал великан во всех смыслах этого слова! Теперь тебя никакая лошадь не выдержит!
– Спасибо, – просто ответил Руперт, после чего, решив, что для него проще всего продолжить тему своей внешности, добавил: – Боюсь, что жизнь в Египте располагает к полноте. Слишком жарко, слишком мало движения. А как поживаете вы? – спросил он и тут же осекся, ибо к нему обратился другой голос, так же хорошо ему знакомый.
Обернувшись, он увидел своего кузена Дика. Несомненно, Руперт с первого взгляда заметил, – ибо наблюдательность была у него в крови, – что Дик настоящий красавец. И хотя темные, томные глаза его смотрели слегка устало, а лицо утратило свою былую свежесть, все же и оно, и вся его ладная фигура, были приятны взору, по крайней мере, взору женщин.
– Как поживаешь, герой ста сражений? – поинтересовался Дик довольно саркастическим тоном, который неизменно раздражал его кузена в юности. Впрочем, и сегодня тоже.
– Отлично. Спасибо, Дик, – ответил Руперт. – Но я никакой не герой и не участвовал в ста сражениях.
– Ну, почти в ста, – сказал Дик, слегка устало пожимая ему руку. – Человек – то, что о нем думают другие, факты же никому не интересны. Мы уже много лет называем тебя нашим семейным героем, а поскольку других героев в нашей семье нет, то мы имеем полное право гордиться тобой.
– Прошу тебя, прекрати называть меня так, мой дорогой друг, ибо мне это не нравится. Я всего лишь обыкновенный офицер египетской армии.
– Великим свойственна скромность, – ответил Дик. – Кстати, – он устремил взгляд на довольно поношенный парадный мундир своего кузена. – Я надеялся, что ты явишься увешанный наградами. Тебя непременно следует пригласить на официальный обед, чтобы ты был вынужден их надеть.
– Прекрати говорить ерунду, Дик, – резко оборвала его Эдит, заметив, что Руперт начинает сердиться. Не хватило еще, чтобы язвительные замечания кузена вылились в громкую ссору. – К вам уже пожаловал лорд Саутвик и другие гости. Давай, Руперт, я представлю тебя леди Дэвен.
И Руперт был представлен ее милости. Новая супруга лорда Дэвена, стряхнув с себя задумчивость, протянула ему пухлую руку и, посмотрев ему в лицо своими фарфоровыми голубыми глазами, сказала с сильным немецким акцентом:
– А, так вы и есть тот самый полковник Уллершоу, о котором я наслышана! Солдат, что храбро сражался за Англию! Весьма рада познакомиться с вами! Я люблю солдат. Мой отец был солдат, но французы убили его в битве при Гравелоте. Так что я очень рада вас видеть!
Почувствовав, что эта женщина не кривит душой, Руперт отвесил ей поклон. Ее слова приветствия были искренними и шли из глубины сердца. С самой первой минуты он ощутил расположение к этой немецкой пэрессе, – честной, правдивой, верной своим убеждениям. Но тут лорд Дэвен подвел к ним лорда Саутвика и представил сначала Руперту, затем своей супруге. Затем хозяин дома был вынужден уделить внимание другим гостям, и, прежде чем их пригласили к столу, Руперт сумел отойти в сторонку и углубиться в изучение картин на стенах.
К его великому восторгу его дамой за столом оказалась Эдит.
– Я так рад, – застенчиво признался он, когда они вместе спускались по широкой лестнице. – Я даже не надеялся на такую удачу.
Она невинно посмотрела на него и сказала:
– Это какую же?
– Что я буду сидеть рядом с вами, а не с кем-то из посторонних людей.
– Мне приятно слышать от вас такие слова, Руперт, и я это ценю, – ответила она с улыбкой.
– Да, – раздался за их спиной голос Дика, – но, приятель, советую тебе отпускать комплименты шепотом. На лондонских лестницах прекрасная слышимость, – и он, и его партнерша, хорошенькая и пикантная наследница, весело рассмеялись.
– Не обращайте внимания на колкости Дика, – сказала Эдит, когда они вошли в столовую. – Это просто у него такая привычка.
– Которая никогда мне не нравилась, – проворчал Руперт.
Как не нравилась она, если честно, и самой Эдит. Ей было прекрасно известно, что Дик готов взорваться от ревности, и она опасалась, как бы он не зашел слишком далеко и не заявил этого вслух.
За обедом леди Дэвен, сидевшая во главе стола, оказалась по правую руку от Руперта. Напротив него сидел лорд Саутвик, который, разумеется, взял на себя заботы о ней. Рядом с лордом расположилась хорошенькая наследница, а по другую ее сторону Дик, отчего тот оказался почти напротив Эдит. Остальные гости нам просто неинтересны.
Званый ужин прошел, как и все остальные званые ужины в больших домах. Выпив шампанского, Дик принялся беззастенчиво флиртовать с хорошенькой наследницей, которая, похоже, не имела ничего против и отвечала ему тем же. Эдит понимала: он это делает нарочно, чтобы вызвать в ней ревность или хотя бы немного позлить. Леди Дэвен с сильным немецким акцентом вела с лордом Саутвиком разговоры о кулинарии. Было видно, что тема эта ему совершенно не интересна. Эдит же заставила Руперта рассказывать ей про Судан и военные операции, в которых он там участвовал. Эта тема его прекрасно устраивала, и лорд Дэвен, наблюдая за ними с дальнего конца стола, вскоре сделал вывод, что Руперт ведет свой рассказ в манере, которая импонирует ее уму, ибо Эдит слушала его довольно внимательно.
Хотя Руперт этого не знал, лорд Саутвик тоже слушал его, а исчерпав тему закусок, стала слушать также и леди Дэвен.
– Что вы сказали, полковник, о преимуществах маршрута Суакин-Бербер? – поинтересовался лорд Саутвик, глядя на него в монокль.
Руперт повторил свои соображения.
– Хм, – отозвался лорд. – Вулсли был иного мнения.
– Я ни в коем случае не хочу оспаривать мнение лорда Вулсли, милорд, – ответил Руперт. – Это лишь мое личное мнение, которое я озвучил для мисс Бонниторн.
– И весьма разумное, на мой взгляд, – заметил заместитель военного министра в свойственной ему четкой, официальной манере. – Более того, события доказали его правоту. Скажу больше, полковник Уллершоу, ваше мнение заслуживает уважения. Я это точно знаю, ибо услышав, что встречусь с вами на ужине, я ознакомился с вашим личным делом в министерстве и даже прочел приватный меморандум, который, как я надеюсь, вы помните, вы составили для ваших вышестоящих офицеров, хотя, возможно, даже не догадывались о том, что потом он был направлен мне.
Руперт, покраснев, пробормотал, что не слышал об этом.
– Жаль, что к вашему мнению не прислушались, – продолжал лорд Саутвик, – и этим все сказано. Кстати, хотя, возможно, это довольно болезненный для вас вопрос, но вы в курсе, полковник, что однажды вас хотели представить к кресту Виктории? После сражения при Тамаи, в котором вы получили ранение.
Лишившись дара речи, Руперт лишь покачал головой.
– Да-да, именно так. Более того, – продолжал лорд Саутвик с лукавым блеском в глазах. – Вы бы наверняка его получили, не начинайся ваше имя с буквы «У». Видите ли, лица, рекомендованные к одной той же награде или званию, обычно перечисляются в реестре в алфавитном порядке а поскольку количество крестов ограничено, тот, чье имя начиналось на «Т» его получил, а вы – нет. Хочу добавить, что это не моя система, но поскольку человек, ответственный за награждение, уже мертв и с тех пор утекло много воды, я счел возможными рассказать вам эту историю.
– Я весьма рад, – пробормотал Руперт. – Но я не сделал ничего такого, чтобы заслужить эту награду.
Надо сказать, что сей благородный заместитель военного министра, а он был чиновником всю свою жизнь, ибо унаследовал звание пэра лишь по чистой случайности – внешне похожий на шомпол и, как говорили, страшный зануда, – обладал добрым сердцем, умел ценить чужие заслуги и был наделен чувством справедливости. Возможно именно эти качества, или хотя бы одно из них, заставили его сказать следующее:
– Вам это лучше знать, и если это так, значит, алфавитный принцип работает лучше, чем я о нем думал. А теперь выскажите мне свое мнение, и вы, леди Дэвен, вот по какому случаю. Некий офицер выставил на площади заграждение. Площадь подверглась нападению, заграждение было отрезано. Результат нападения был неясен. Враг захватил лишь кусты вокруг площади. Офицер, который выставил заграждение, был довольно глубоко ранен в плечо копьем…
– Прошу вас… – перебил его Руперт, но лорд Саутвик невозмутимо продолжил:
– Ночью на площадь выполз раненый солдат и рассказал, что чудом остался жив, хотя остальные его товарищи были убиты, он же прокрался сквозь вражеские позиции. Он также сказал, что сержант, получивший ранение в ногу, лежит в кустах в шестистах ярдах отсюда, и арабы, занявшие донгу между лагерем и этими кустами, пока его не обнаружили. Поскольку посылать спасательный отряд не имело смысла, раненый офицер надевает на себя джиббу и тюрбан мертвого араба и в таком обличье проходит через донгу, находит раненого товарища и каким-то чудом ведет – вернее, несет, – его в лагерь, причем последние несколько сот ярдов под сильным ружейным огнем, как со стороны арабов, так и своих собственных часовых. А теперь скажите мне: заслужил такой офицер крест Виктории?
– Ach! Mein Gott[6], думаю, что да, – ответила флегматичная леди Дэвен с убежденностью, совершенно не свойственной ее натуре, по крайней мере, как о ней думали окружающие. – Как же звали этого храбреца? Хотелось бы знать его имя.
– Не помню, – ответил лорд Сутвик с каменной усмешкой. – Спросите полковника Уллершоу. Он наверняка помнит этот случай.
– Кто это был, Руперт? – спросила Эдит, и весь длинный стол притих в ожидании ответа.
И тогда ведущий учет его грехов ангел был вынужден добавить к списку прегрешений Руперта еще одно, ибо тот солгал, даже не покраснев.
– Не знаю. Я не уверен. Первый раз об этом слышу, но даже если этот случай и имел место, мне кажется, он сильно преувеличен.
За столом прокатился смешок, гости заулыбались, заместитель военного министра лукаво усмехнулся и сменил тему разговора.
Целых три минуты леди Дэвен пребывала в глубоком раздумье. Затем, когда ее супруг стал рассказывать какую-то историю про охоту на куропаток в шотландском болоте, с которой он недавно вернулся, она внезапно ударила тяжелой ладонью по столу и громко воскликнула:
– Himmel![7] Теперь мне понятно. Лорд Саутвик изволил пошутить. Этот человек – вы, полковник Уллершоу.
Гости разразились хохотом, Руперт же был готов провалиться от стыда сквозь землю.
* * *
Наконец ужин завершился, и лорд Дэвен вышел в холл попрощаться с гостями.
– Итак, – спросила Эдит, когда он помогал ей надеть плащ, – вы его видели. И что вы скажете теперь?
– Превосходно! – воскликнул Дэвен. – Вы должны покорить эту трудную высоту. Должны выйти за него замуж. Если, конечно, сможете, в чем я сильно сомневаюсь.
– Неужели? – удивилась Эдит. – Я же намерена попробовать, спора ради. Доброй вам ночи.
– Разве я не говорил тебе, что он герой, – усмехнулся Дик, провожая ее к кэбу. – Бедняжка Эдит. Мне искренне тебя жаль. Чтобы находиться рядом с таким воином, нужно иметь немалое мужество.
– Пожалуй, ты прав, – согласилась она. – Риск и вправду велик.
Тем временем лорд Саутвик взял Руперта в оборот у входной двери.
– Жду вас, Уллершоу, в военном министерстве, где я хотел бы представить вас статс-секретарю, – произнес он. – Завтра в половине первого вас устроит?
Понимая, что это приказ, Руперт ответил:
– Разумеется, милорд, я там буду.
Глава VI. Руперт влюбился
На следующее утро Руперт посетил военное министерство, где лорд Саутвик действительно представил его статс-секретарю. Разговор с министром был недолгим – не более трех минут. Тем не менее, даже такой на редкость скромный человек, как Руперт, тотчас понял по его тону, что здесь к нему отнеслись благосклонно. Более того, сей высокопоставленный джентльмен не только поздравил Руперта с его былыми заслугами, о которых он был явно хорошо информирован, но и намекнул на блестящее будущее. Статс-секретарь поинтересовался, долго ли он намерен пробыть в отпуске, и когда Руперт ответил, что полгода, с улыбкой заметил, что это слишком долгое безделье для настоящего солдата, и добавил:
– Если мы захотим отправить вас куда-то до истечения этого срока, вы готовы уехать?
– Разумеется, – ответил Руперт с воодушевлением, ибо уже был почти сыт по горло Лондоном. На какой-то миг он даже забыл про мать, забыл про то, что возвращение в строй означает разлуку с Эдит, чье общество доставляло ему немалое удовольствие.
– Отлично, полковник Уллершоу, – ответил статс-секретарь. – Саутвик, надеюсь, вы это запомнили. В Египте и Судане вечно что-то происходит, не одно, так другое, и полковник Уллершоу, возможно, и есть тот, кто положит этому конец. – С этими словами статс-секретарь протянул руку, давая понять, что беседа закончена.
– Я уверен, что вы произвели отличное впечатление, – сказал Руперту лорд Саутвик, когда они вышли в вестибюль. – Но позволю себе дать вам один совет. Наш начальник довольно непредсказуем в своих поступках и ожидает точно такую же быстроту, коей он горд, и от других. Если у него для вас поручение, а так, похоже, и есть, не раздумывайте и не просите время, чтобы все хорошенько взвесить, но тотчас же с ним во всем соглашайтесь. Так для вас будет лучше в будущем, ибо, если вы откажетесь, второй такой оказии возможно уже не будет.
Поблагодарив его за совет, Руперт покинул стены министерства, размышляя на ходу, что вряд ли он услышит об этом снова, тем более что в Египте была масса достойных офицеров, способных с честью выполнить любую задачу, если в том возникнет необходимость. Он совершенно позабыл о том, что его уже считали преуспевшим в жизни; более того, что на данный момент он был и, вероятно, останется в обозримом будущем наследником пэрского титула – короче говоря, тем, кого любит нанимать власть, ибо имеющему будет дано еще[8].
Вскоре Руперт обнаружил, что такое отношение к его персоне, похоже, является правилом. В некотором смысле он превратился в светского льва. В дополнение к другим преимуществам, рассказ лорда Саутвика про крест Виктории, который был положен Руперту за его героизм, пошел гулять по лондонским гостиным, обрастая при этом дополнительными подробностями, и просто не мог не вызывать любопытства, особенно у женщин. Когда народ снова съехался в город, Руперт начал получать приглашения на публичные обеды, на которые, как и предсказывал Дик, он был вынужден надевать свои награды. Первые два или три даже доставили ему удовольствие, но затем был один, когда, к его великому ужасу, ввиду неожиданного отсутствия одного знаменитого генерала, он внезапно был вынужден выступать с благодарственной речью от имени армии. В принципе, он весьма недурственно справился с этой задачей, подтверждением чему служили одобрительные возгласы не слишком критичной аудитории, однако убежденный в том, что ударил лицом в грязь, вернулся домой в подавленном настроении.
– В чем дело? – спросила мать, увидев его хмурое лицо, когда он вошел в их крошечную гостиную, которую, будучи в форме и при наградах, он, казалось, занимал полностью.
– И почему вы вернулись так рано? – добавила Эдит.
– Я ушел, не дожидаясь конца, – мрачно ответил он. – Меня заставили держать речь, и я выставил себя круглым дураком.
Зная Руперта, обе женщины не стали серьезно воспринимать его слова, хотя Эдит, прочтя на следующее утро сообщения в газетах и также наведя кое-какие справки, вздохнула с облегчением, узнав, что на самом деле все прошло не так уж и плохо.
Тем не менее после этого случая Руперт наотрез отказался посещать банкеты, боясь, что в очередной раз начнут превозносить его, хотя ему претило слышать эти ужасные, полные неточностей похвалы в свой адрес, но, что еще страшнее, что его вновь попросят встать и высказаться ни о чем.
Впрочем, он получал немало частных приглашений, а Эдит зорко следила за тем, чтобы он их принимал, хотя, если честно, ей не слишком нравилось, когда к нему проявляли интерес различные молодые леди, не имеющие официальных женихов. При этом, несмотря на строгий указ ее кузена Дэвена, Эдит пока еще не решила для себя, выходить ей замуж на Руперта или нет. Она постоянно размышляла об этом, чем дело и ограничивалось, но при этом дала себе слово, что не допустит, чтобы он женился на ком-то еще. В общем, она его ревновала, но не из любви, а из страха, что ее кто-то может опередить.
Сама она никакой любви к Руперту не испытывала. Более того, чуралась его, большого, сурового мужчину, а его внутреннее «я» и вовсе было для нее загадкой. Он вел с ней беседы на темы египтологии, военного искусства, и другие темы, в том числе иногда и религиозные, кои наводили на нее смертельную скуку. Он был основателен и имел на многие вещи глубокие, серьезные воззрения, причем, основателен до той степени, что порой бывал резок с окружающими, например, упрекал Эдит в том, что та зря тратит время на пустую светскую болтовню. В общем, у них не было ничего общего – их натуры были настолько разными, как не похожи друг на друга журчащий ручей и черный, твердый камень, через который он бежит. Руперт же всегда помнил о том, что любой день пройдет, и за него придется держать ответ; что главные принципы жизни – это долг и самоотречение ради всеобщего блага как высшей ценности человечества.
Разумеется, пока Эдит удавалось прятать от его довольно невинных глаз эти вопиющие различия, хотя время от времени он и сам задавался вопросом, а не мелка ли, не поверхностна ли ее натура.
Она слушала его рассуждения о фараонах, она молча терпела, когда он рисовал ей планы сражений, на которые она обычно смотрела сверху вниз, она даже проявила интерес к его внушающим тревогу взглядам на человеческий долг и его убежденность в том, что искупление может быть заработано лишь путем самопожертвования. Увы, все это стоило Эдит неимоверных усилий, и хотя ей хватало ума не показывать этого в его присутствии, или даже в присутствии его матери, как только он выходил за дверь, она поднималась и от радости, что наконец-то осталась одна, кружилась в танце по комнате. Она даже не возражала, когда Дик, улучив минутку с ней наедине, устраивал ей сцены ревности, ибо ей было приятно иметь рядом с собой родственную душу. Впрочем, ей хватило мудрости не позволять ему ничего больше, чтобы не запятнать себя.
«О! – снова и снова размышляла про себя Эдит. – Если таково зеленое дерево, то что будет с ним, когда оно засохнет?»
Если Руперт был настолько невыносим как кавалер, то что будет, когда он возложит на себя «супружеский долг и обязанности», как он наверняка выразится, в коих ей придется ежедневно играть весьма важную роль?
Пока же ее задача состояла в том, чтобы влюбить его в себя – убедить его, что она само очарование и без нее он не мыслит существования. Надо сказать, что она весьма в этом преуспела. Постепенно Руперт по уши влюбился в нее, пока, наконец, в один прекрасный день, словно внезапная вспышка озарения, до него не дошло, что хотя он и не достоин такого неземного совершенства, это не мешает ему рискнуть и попробовать сделать ее своей женой.
В конце концов, он тоже был человек, к тому, же давно осознавший тот факт, что хотя для душевного здоровья ему больше подходит одиночество, мужчине жить одному нехорошо. За исключением печального опыта ранней юности, он всю свою жизнь избегал женщин, – не потому что он их не любил, не потому, что был женоненавистником, а потому, что считал это правильным. И вот теперь, по зрелому размышлению, он подумал, а не жениться ли ему, как это делают другие мужчины, быть счастливым мужем, оставить после себя потомство, – надо сказать, что детей он любил, – как и другие мужчины? Какая замечательная мысль! А если учесть, что Эдит была с ним рядом, она прочно засела у него в голове. От его внимания ускользнуло даже то, что вообще-то мысль эту ему подбросила Эдит – нет, не словами, конечно, но тысячью разных ужимок и взглядов.
Он взялся со всей серьезностью за ней ухаживать, был страшно с ней обходителен и угодлив. Стоило кому-то в ее присутствии произнести двусмысленное слово, как он тотчас краснел. Когда же другие мужчины смотрели на нее с восхищением, – а такое случалось часто, – то приходил в ярость.
Он также делал ей подарки. Первым был огромный синий скарабей, вставленный в золотую оправу. По его признанию, он собственноручно снял его с груди некоего мертвого тела, где тот мирно покоился три тысячи лет. Скарабей был Эдит омерзителен, как по причине ассоциаций, которые он вызывал, так и потому, что не подходил ни к одному из ее платьев; и наконец, потому, что как бы намекал, что день принятия решения – близок.
И все же время от времени она была вынуждена его носить, пока однажды, как бы случайно, не уронила на тротуар, где тот разбился на мелкие осколки. Эти осколки она показала Руперту, как тому показалось, со слезами на глазах. Он утешал ее, хотя в душе сильно переживал, потому что скарабей был и впрямь хорош. Впрочем, на следующей неделе он подарил ей другого, еще больших размеров!
Таковы были смешные моменты сложившейся ситуации. Трагические, причем по-настоящему, были еще впереди.
Произошло все следующим образом: лорд Дэвен, как ради смены обстановки, так и потому, что ненавидел Рождество и все с ним связанное, уехал из Лондона, как то водилось за ним в это время года, чтобы провести месяц в Неаполе. После его отъезда леди Дэвен, как водилось за ней, отбыла в их поместье в Суссексе. Надо сказать, что хотя владения были и не очень обширными, ибо большая их часть состояла из пары акров земли и построек в Шордиче, угольной шахты и старой пивоварни, просторный дом Дэвенов был великолепен. Жить там одной было тяжелым испытанием даже для флегматичной леди Дэвен, поэтому она просила разных людей, более-менее близких ей взглядов, составить ей компанию. Особенно она настаивала на том, чтобы к ней туда приехали Руперт и его мать, ибо она симпатизировала им обоим, и прежде всего, Руперту. По этой причине ей также пришлось пригласить Эдит, которая ей совершенно не нравилась. Что касается Дика Лермера, тот будет присутствовать там без всякого приглашения в качестве секретаря и мальчика на побегушках.
Руперт поначалу хотел отказаться, хотя охота была великолепна, а он любил пострелять. Даже когда Эдит сказала, что он должен поехать, – ибо в душе она жаждала, чтобы кто-то избавил ее от общества Дика, несмотря на всю его любовь к ней, – Руперт все равно медлил с ответом. Тогда она заметила, что с его стороны довольно жестоко лишать мать возможности развеяться за городом, потому что если он останется в Лондоне, то останется и она. Поэтому, в конце концов, он сдался, поскольку обстоятельства оказались сильнее, хотя и был страшно сердит, что вынужден принять это приглашение. Даже если лорд Дэвен будет отсутствовать, то демонического вида дворецкий, пусть даже дружески настроенный, и множество болезненных воспоминаний никуда не денутся. Давным-давно, когда ему было девятнадцать, Руперт провел Рождество в Дэвене!
Был канун Нового года. Этот день, солнечный и морозный, был посвящен охоте на фазанов в местных лесах, которыми поросли гребни холмов, разделенные небольшими долинами. До этого дня охотники не произвели здесь ни единого выстрела, так что охота удалась. Дамы, которые оставались в доме, в том числе и Эдит, после ленча вышли посмотреть, как идет охота, и в частности, ее завершающий этап, ставший главным событием дня, ибо занял около часа. Если стрелки были хороши, обычно им удавалось подстрелить от трехсот до четырехсот фазанов. Леса здесь доходили до точки, за которой начиналась равнина. Стрелки располагались близко друг к другу на дальней стороне этой равнины в овраге, который вел к лесным зарослям под названием «Дебри». Если бы охотники стояли на его дне, фазаны пролетели бы над их головами вне досягаемости пуль. А так птицы дружно устремились в овраг, направляясь в «Дебри», что в четверти мили отсюда, хотя по-прежнему летели довольно высоко. В это время года только очень меткий стрелок мог сбить одного из трех фазанов, которые летели так смело.
Место Руперта было в центре оврага, где расстояние до птиц было самым большим. Чуть выше его и примерно в двадцати пяти ярдах правее, стоял Дик Лермер, который, конечно же, организовал эту охоту. Выражаясь языком охотников, он был большой «артист» по птицам, если тех гнали на него. Зато отнюдь не так хорош, если к ним нужно было подбираться. В таких случаях он легко уставал и утрачивал меткость. Он нарочно поставил Руперта в самое неудобное место, на всеобщее обозрение у всех остальных стрелков – обычно оно отводилось самому меткому из них, потому что был уверен, что, не имея опыта такой охоты, Руперт выставит себя на посмешище, тем более что у него было лишь одно-единственное ружье, которое наверняка сильно нагреется.
Так случилось, однако, что молодой человек, который нес патроны Руперта, зная это, одолжил ему для левой руки толстую перчатку из собачьего меха и даже рискнул дать ему пару дельных советов: например, бить только петухов, ибо они более заметны, да и то, если летят прямо на него. Руперт поблагодарил юношу и поболтал с Эдит, которая не отходила от него ни на шаг, пока охота не началась. Он сказал, что со стороны Дика красивый жест дать ему такое хорошее место, которое, по идее, должен быть занять человек более достойный.
Между тем фазаны уже взлетели и в неподвижном, морозном воздухе, устремились прямо, как стрелы, в спасительные «Дебри». Первый петух пролетел над головами охотников на недосягаемой высоте.
– Цельтесь на десять ярдов впереди птицы, сэр, – мудро посоветовал юноша. – А потом возьмите чуть назад.
Руперт внял его совету, а поскольку его патроны были заряжены дробью четвертого калибра, то легко подстрелил птицу, которая камнем упала вниз далеко позади него.
– Браво! – воскликнул охотник слева от него. – Отличный выстрел!
Этот неожиданный успех мгновенно поднял Руперту настроение, и он даже решил, что на самом деле охота – не такая уж и сложная вещь.
В принципе так оно и оказалось, потому что он четко следовал совету своего юного наставника целиться на десять ярдов впереди птицы и то, при условии, что это петух, и он летит прямо на него, а в самок или тех петухов, что летят вкруговую, не трогать. В результате, его успех – спасибо также дроби номер четыре – был просто удивительным. В результате, всего одним ружьем он сбил примерно столько же фазанов, как большинство других охотников двумя, к великому восторгу Эдит, которая с самого начала раскусила злокозненные намерения Дика.
А вот Дик был отнюдь не в восторге. Скромный успех соперника его страшно обозлил. Поэтому, пока охота еще не закончилась, он задался целью чем-то его расстроить, причем самым что ни на есть подлым образом. Заметив, что Руперт стреляет лишь в тех петухов, что пролетали над его головой, Дик, не обращая внимания на своих фазанов, коих пролетало множество, принялся стрелять по птицам Руперта и сбил их немалое количество, стреляя по ним прежде, чем Руперт успевал вскинуть свое ружье.
Руперт промолчал, – ибо что он мог сказать? – хотя в душе его это задело. В конце концов, он сказал об этом вслух, вернее, спросил у Эдит, неужели Дику мало своих фазанов? Иначе почему он стреляет в птиц, что пролетают над ним?
– А! – ответила она, пожимая плечами. – Потому что даже во время охоты его мучает ревность.
Вскоре случилось происшествие: один незаконно подстреленный Диком петух, падая, задел плечо Эдит и сбил ее с ног. Потеряв равновесие, она навзничь упала на землю и несколько мгновений лежала неподвижно, затем села, плача и ахая от боли.
– О, как же больно!
И тут Руперта прорвало. Он с криком накинулся на Дика, который притворился, будто не заметил, что произошло.
– Опусти ружье и подойди сюда!
И Дик подошел.
– Посмотри, чем закончились твои подлые, дьявольские уловки! – рявкнул на него Руперт, гневно сверкая глазами. – Ты едва ее не убил!
– Простите, мне ужасно жаль, – ответил Дик почти искренне, – хотя я не понимаю, каким образом я в этом виноват. Похоже, ее ударила ваша птица.
– Это не моя птица, и ты это знаешь. Заряжающий, кто подстрелил этого фазана?
– Мистер Лермер, сэр. Фазан летел над вами очень высоко, но мистер Лермер вас опередил и сбил его.
В этот момент Эдит, бледная, как мел, поднялась на ноги.
– Ступай на свое место, Дик, – сказала она. – Руперт отведет меня домой. Позвольте мне опереться на вашу руку, Руперт.
Бережно поддерживая ее, как когда-то поддерживал раненого солдата, Руперт повел Эдит в дом, до которого было не слишком далеко. По пути, расстроенный до глубины души, он говорил ей нежные слова и, в конце концов, даже назвал «дорогой» и «дражайшей». Эдит ничего не сказала в ответ, так как имела прекрасный предлог молчать, хотя, по правде говоря, она скорее была напугана, нежели ей было больно. С другой стороны, она даже не пыталась убрать его руку, которая, поддерживая, обнимала ее за талию.
Добравшись до своей комнаты, она разделась, втерла в синяк мазь, – вызывать врача она наотрез отказалась – и, сев в кресло перед камином, задумалась. Кризис назрел, и птицы в небе приблизили его. После сказанных Рупертом слов, все уже не может оставаться, как раньше. Он просто обязан сделать ей предложение. Правда, оставался вопрос: примет ли она его?
Она спорила сама с собой по этому поводу все утро и фактически уже дала отрицательный ответ. Несмотря на наставления лорда Дэвена и деньги, поступление которых зависело от ее послушания, в последнее время Руперт так сильно наскучил ей, что ей претила сама мысль о том, что он может быть ее женихом или мужем – столь велико было расстояние между ними, хотя он в своей страсти был к этому слеп. В конце концов, она решила рискнуть и покончить с этим раз и навсегда, сказав ему, что всегда воспринимала его «как друга и родственника», и не больше. Разумеется, в тех обстоятельствах с ее стороны это был бы самый щадящий шаг по отношению к нему, но Эдит такое просто не пришло в голову. Она смотрела на эту ситуацию с точки зрения собственного спокойствия и удобства, и никак иначе.
Таково было принятое ею утром решение. Проблема заключалась в другом – останется ли она верна ему вечером? Вряд ли, казалось ей.
В конце концов, Эдит обладала женским чутьем, случай же на охоте, и в частности, то, что Дик притворился, будто это не он подстрелил злосчастную птицу, добавил в ее глазах к его прочим, уже известным ей, порокам и недостаткам еще один: а именно, то, что он отнюдь не джентльмен. Он также был трус, притворившийся, будто не видит, что сделал ей больно, так как боялся гнева Руперта, хотя Эдит отлично знала: ему наверняка хотелось подбежать к ней. Ведь единственным его достоинством, за которое она могла простить ему все его прегрешения, было то, что он боготворил землю, по которой она ступала.
А вот Руперт был джентльмен до мозга костей – сильный, нежный, верный; такой грудью бы защищал ее всю жизнь. Более того, она могла бы забыть обо всех своих тревогах. Возможно, она получила бы титул пэрессы, стала бы обладательницей высокого положения и богатства, тем более что ей страстно хотелось и того, и другого. Даже в самом худшем случае она жила бы в достатке, будучи женой уважаемого человека, который любил бы ее всей душой и потому был бы готов со многим смириться.
И все же Эдит колебалась, ибо все эти заманчивые вещи можно было купить лишь ценой вечного присутствия рядом с собой Руперта, на долгие и долгие годы, пока их не разлучит смерть. В общем, она была крайне несчастна, не говоря уже о том, что у нее болело плечо. Ей страстно хотелось, чтобы случилось нечто такое, что разрешило бы ее сомнения, взяло ответственность за решение из ее рук.
На ее месте многие девушки наверняка бы искали совета и руководства у силы, которая, как им казалось, направляла их судьбы, но только не Эдит. Идеи лорда Дэвена проникли ей глубоко в душу, отчего в ней не было веры ни во что. Вернее, лишь в огромный, слепой, ужасный, бурный мир, в котором она, рожденная, как ей думалось, исключительно по прихоти плоти, блуждала из одной тьмы в другую.
Горничная принесла ей чай; на подносе также лежало письмо, пришедшее со второй почтой. Оно оказалось от лорда Дэвена и начиналось с саркастического, хотя и довольно смешного описания неаполитанской гостиницы. А вот его конец однозначно свидетельствовал о том, что целью послания было отнюдь не желание лорда развлечь ее. Говорилось же в нем следующее:
«Я слышал, что вы все в Дэвене, включая Героя Семьи, который, как я надеюсь, подстригся и купил себе новую шляпу. Надеюсь, там у вас веселая компания. Напишите мне, сколько из вас посещают утреннюю молитву. Сообщите мне также, моя дорогая Эдит, как ваши дела, ибо это то, что волнует меня в первую очередь. Пора принимать решение, ибо если затянуть с этим делом, то Р. может снова отправиться на другой конец света и мы не услышим о нем еще много лет. Я не стану повторять мои доводы. Ваши интересы для меня превыше всего на свете, и у меня есть все основания желать скорейшего завершения этого дела. Думаю, этого достаточно. Доверьтесь мне, Эдит. Я беру на себя всю ответственность, ибо знаю больше и вижу дальше, чем вы. Не дайте глупым капризам, девичьим слабостям обмануть себя, встать между вами и вашим будущим. Я уже сказал: я умоляю вас прислушаться ко мне и подчиниться.
Любящий вас Дэвен».Эдит со вздохом облегчения положила письмо. Решение было принято за нее, и она была этому рада. Она выйдет замуж за Руперта. Теперь она точно знала, что станет его женой, как того требовал от нее кузен Джордж, а это было именно требование, если не откровенный приказ. Да, она была рада, и, несмотря на ноющее плечо, нарядилась так, чтобы сразить Руперта наповал и покончить с неизвестностью. Чем раньше он сделает ей предложение, тем лучше. Главное, пережить этот момент и забыть его, как дурной сон.
Но если те, кто обитают за пределами видимого мира, обладают неким зрением и знанием, то наверняка ангелы-хранители сделали запись об этом судьбоносном вечере с печальными глазами и тяжелым сердцем.
Глава VII. Помолвка
Не желая встречаться с Диком до тех пор, пока после происшествия на охоте его гнев не уляжется, Руперт до ужина не пошел ни в курительную комнату, ни в бильярдную, а уединился в библиотеке, чтобы провести там те унылые три часа между наступлением зимних сумерек и долгожданным гонгом, три часа, которые приходится терпеть, живя в сельском доме.
Он намеревался прочесть некий комментарий к Корану, если конечно возбужденное состояние ума позволит ему это сделать, ибо он любил приобретать разнообразные знания, особенно, если те касались Востока, его древностей, религии, исторических событий, – что, как мы помним, наводило на Эдит скуку. Увы, его превосходный план по использованию свободного времени был сорван хозяйкой дома: узнав у мрачного дворецкого, возвращавшегося с пустой чашкой, его местонахождение, леди Дэвен пришла расспросить его о причинах имевшего место днем на охоте несчастного случая. Руперт в свойственной ему сухой, деловитой манере изложил факты, постаравшись свести вину Дика до минимума. Впрочем, при всей своей флегматичной внешности, леди Дэвен оказалась догадливой и тотчас поняла, что произошло.
– Ах! – воскликнула она. – Снова этот Дик со своими уловками! Я не люблю Дика. Неприятный тип, тщеславный, падкий до удовольствий, лишь бы только не трудиться. Как это сказать по-английски? Ага, вспомнила: прихлебатель! Он, как та фальшивая монета, которую сразу не отличишь от настоящей; а еще он, как и его светлость, страшный безбожник (она всегда называла своего мужа «его светлость»), но только без его мозгов. И причина его пороков не в силе воле, а в ее слабости.
Руперт посмотрел на нее, не зная, что на это ответить.
– Ах! – продолжала леди Дэвен. – Вижу, вы смотрите на меня. Вы как его родственник наверняка думаете, что я, его жена, жестока к его светлости, но – mein Gott! – кто может быть к нему жесток? Он тверд, как железо, и не привык, чтобы ему перечили. Ужасный человек!
– В таком случае, – спокойно спросил Руперт, – почему вы вышли за него замуж?
Она посмотрела на него, затем на огромную, унылую комнату, уставленную книжными полками, в которую никто никогда не заглядывал, кроме горничных, затем поплотнее закрыла за собой двери и ответила:
– Я скажу вам, Руперт, ибо вы честны, вы думаете так же как и я, и, как и я, верите в Бога и Господне воздаяние. У себя в стране я родилась в хорошей семье, более древней и знатной, нежели любой из вас, что лишь вчера сколотили состояние, торгуя пивом. Но после того как мой отец погиб на войне, мы обеднели, моя мать и я, поэтому когда старая и богатая леди Ходжсон, которая по рождению тоже немка и друг нашей семьи, пригласила меня пожить у нее восемь месяцев в каждом году и даже платила мне за это, я и приехала. Затем я познакомилась с его светлостью. Узнав, что большую часть моего жалованья я отправляю матери, и что в отличие от модных английских дам у меня иные взгляды на многие вещи – например, на детей, он после смерти ее милости начал ко мне присматриваться.
Наконец однажды он сделал мне предложение. Я ответила решительным «нет», ибо всегда сомневалась в этом человеке. О, как же он был умен! Знаете, что он сделал? Зная, что я выросла в религиозной семье, он заявил, что его терзают сомнения, и что единственная причина, почему он хочет на мне жениться, заключается в том, что, по его убеждению, я смогу подарить покой его душе и вернуть его в лоно веры. Да-да, он так и выразился «в лоно веры»! Он, эта черная овца! – возмущенно добавила она.
Руперт невольно рассмеялся.
– А! – продолжала она. – Вижу, вам смешно, но только не мне. – Он уговаривал меня, заявил, что я совершу великий грех, если отвергну кающуюся душу, что своим отказом прогоню ее прочь от врат жизни, и так далее и тому подобное, до тех пор, пока я, овечья голова, не поверила ему. Кроме того, моя мать желала этого брака, я же хотела быть знатной не только в своей стране, но и в вашей. И я вышла за него, и мои глаза открылись. Лоно веры! Врата жизни! О! В лоне его веры обитают лишь черные козы, – к тому же, все как один левши, – а врата, в которые он стучит, это врата ада. Насколько мне известно, он ни во что не верит, когда же я укоряю его, он заявляет, что то была его маленькая шутка – его маленькая шутка, чтобы жениться на мне, ибо он считал, что из меня выйдет хорошая, покорная, домашняя жена и красивая, здоровая мать его детям. Ах, mein Gott, он сказал, что то была лишь маленькая шутка… – Встав со стула, Табита в горе и возмущении вскинула руки и подняла лицо к небу – словно святая, ощутившая первый удар своего мученичества. Это была весьма странная сцена, и она глубоко растрогала Руперта.
– И что же случилось с детьми? – продолжала она, объятая праведным гневом. – Сколько же их у меня было? Шестеро, семеро! О, я выполняю свой долг. Я держу свое слово, но эти дети не живут! Да и как они могут жить, имея такого грешника-отца? Последний ребенок… он немного прожил, и я умоляла покрестить его. Да, я на коленях ползала за мужем по полу и молила позволить мне сделать моего ребенка христианином. Лорд же насмехался надо мной, называл мою веру «глупым суеверием». Он заявил, что никогда этого не допустит, мол, в церкви холодно и ребенок простудится. И моему ребенку действительно холодно, вот только это могильный холод, и его несчастная крошечная душа должна жить вечно, не зная искупления, и возможно даже, страдать из-за грехов этого ужасного, порочного человека.
– Не говорите так, – сказал Руперт, – это слишком суровая вера, и я не поверю ни единому ее слову. Невинные не могу страдать за грешников.
– А, но я так говорю, потому что в это верю. Ибо так меня учили. Я скажу честно, это терзает меня и, Руперт, ни один мой ребенок не будет жить! Вы будете наследником всех этих земель и денег, и пусть они приносят вам радость. Что до меня самой, как бы я хотела быть сейчас там, где и его первая жена. Знаю, говорят, будто он ее убил, бедняжку Клару, или довел до смерти, и я боюсь, что когда у меня больше не будет детей, он то же самое сделает и со мной. Но мне все равно. Я рассказала вам все, как на духу, ибо после смерти матери у меня не было друзей, кроме Бога, и я благодарна вам, что вы терпеливо выслушали мою печальную историю, потому что хочу, чтобы кто-то из вас, когда все это закончится, знал правду – правду о том, что бывает с женщинами, которые ведутся на лживые слова и любовь к положению и богатству. – Она вновь вскинула руки, пару раз всхлипнула, после чего к великому облегчению Руперта повернулась и вышла вон.
Казалось, ему уготовано судьбой выслушивать признания жен лорда Дэвена. Господь свидетель, второе издание этих жалоб ему было не нужно. И все же его сердце обливалось кровью при мысли о несчастной немке, которую обманом заставили занять место, которое при всем его внешнем великолепии, было для нее сродни обитанию в Чистилище, ибо день за днем она видела, как ее сокровенные убеждения самым вопиющим образом попираются и предаются насмешкам. При этом жестокие постулаты ее узкой веры вбили ей в голову убеждение, или даже навязчивую идею о том, что грех их отца ослабляет тела ее детей. Более того, он настолько силен, что продолжает терзать их невинные души на небесах. В некотором смысле ее трагедия была столь же велика, как и трагедия ее предшественницы, несчастной женщины, которая в своем незаконном стремлении избавиться от вечных насмешек и унижений в конечном итоге обрела лишь смерть. Увы, именно он, Руперт, навлек на голову той первой несчастной зло, голову же этой он был бессилен защитить.
Впрочем, если честно, Руперт не горел желанием выслушивать эти болезненные признания и тем самым поощрять вытекающую из них близость. Поэтому он дал себе слово, что при первой же возможности уедет из дома Табиты. Но сначала он должен улучить минутку, чтобы поговорить с Эдит и узнать свою судьбу. Ведь после тех слов, что сорвались с его языка чуть раньше этим днем, он просто обязан был это сделать. Если только этим вечером у него получится все, как он и задумал, у него будет отличный предлог уехать отсюда завтра утром, ибо он получил от одного своего старого товарища по службе телеграмму, в которой тот приглашал его погостить у него в Норфолке. Более того, офицер этот умолял Руперта по возможности перенести дату приезда уже на завтра, вместо какого-то из дней на этой неделе.
* * *
Пока Руперт размышлял над этим, глядя в камин, перед которым стоял, он услышал, как дверь за ним открылась, а потом закрылась снова. Он испуганно обернулся, полагая, что это вернулась леди Дэвен. Но это была не она, а Эдит, уже переодевшаяся к ужину в облегающее платье из мягкой белой ткани, закрытое, чтобы не был видел синяк на плече. На груди – букетик ландышей, пышные золотистые волосы, лежащие волнами по обеим сторонам головы, собраны на затылке в узел. Из украшений – узкое жемчужное ожерелье на шее, недавний подарок лорда Дэвена, и огромный синий скарабей Руперта – единственное цветное пятно на белизне ее платья.
– О! – сказала она. – Я пришла в поисках Табиты. Какое, однако, жуткое имя, оно вечно застревает у меня в горле. (Это был лишь предлог, ибо она только что разминулась с леди Дэвен на лестнице, однако он сделал свое дело.) У меня и в мыслях нет мешать вашим штудиям, дорогой кузен. Не смотрите на меня так испуганно, я сейчас уйду.
– О, прошу вас, не уходите! – ответил он. – Присядьте и согрейтесь. Я всего лишь надеялся увидеть вас, и о, чудо! – вы вошли в эту комнату, словно… словно ангел в сновидении.
– В ответ на молитву святого, осмелюсь предположить, – ответила Эдит. – Право, Руперт, в вас проснулся поэт. У кого вы научились таким метафорам? Готова спорить, что это была женщина.
– Да, – смело ответил он. – И, если не ошибаюсь, ее звали Эдит.
Эдит слегка зарделась, не ожидая от него такой прямоты, однако села в кресло и, устремив в камин взор прекрасных синих глаз, сказала, как будто уводя разговор в другое русло:
– Вы спросили меня о моем плече. Если же нет, то вам следовало это сделать. Так вот, на нем синяк размером с блюдце. Вот здесь, – и она начертила пальцем на платье круг.
– Черт бы его побрал! – пробормотал Руперт.
– Его? Кого именно? Дика или фазана? Впрочем, какая разница. Я согласна, черт побери их обоих!
После этих слов оба умолкли; Руперт крутил руками, как будто мыл их или же страдал от боли. Эдит наблюдала за ним и не могла не отметить, какие они большие и красные в свете пылающего камина. Лучше бы он надел перчатки, подумала она, или хотя бы держал руки в карманах. Так ей было бы легче.
– Я ужасно рад, что вы пришли, – смущенно произнес Руперт, чувствуя, что если и дальше будет молчать, она уйдет. – Потому что я хотел поговорить с вами.
– Поговорить?… Это о чем же? Надеюсь, ничего неприятного. Неужто Табита изливала вам душу? Если да, то прошу вас, только не надо мне ничего рассказывать, ибо ее признания убивают любовь и обесценивают священное таинство брака.
– К черту Табиту! – снова воскликнул Руперт. – И ее признания!
Руперт пребывал в таком смятении, что машинально произнес первые слова, что пришли ему на ум.
– И вновь я соглашусь с вами, но этак мы вскоре проклянем всех наших родственников, поэтому давайте оставим эту тему.
Затем, устав от острот и желая поскорее покончить с этим делом, дабы, наконец, сомнительный этот союз был заключен, скреплен печатью и вручен адресату, Эдит внезапно выпрямилась в кресле и посмотрела на Руперта. Ее синие глаза были широко раскрыты, и в них сиял свет, какого он ни разу не видел раньше – дивный ослепительный свет, как будто кто-то сорвал завесу тьмы, открывая взору спрятанное за ней сияние. В этом сияющем взоре Эдит как будто, наконец, раскрыла перед ним свою душу. Ее лицо тоже стало другим: скрывавшая его маска холодности треснула, как трескается под лучами солнца и дыханием западного ветра лед, открывая – или это только кажется? – реку текущей под ним любви. Пару мгновений он пытался сопротивляться ей, как мотылек сопротивляется притягательности пламени, но не потому, что был готов бросить вызов судьбе, а скорее для того, чтобы волнующее таинство этого внезапного перерождения навсегда запечатлелось в его сердце.
Затем, когда белые веки опустились, гася этот дивный огонь, а тень длинных ресниц упала ей на щеки, он сдавленно и торопливо заговорил.
– Я недостоин, – сказал он. – Я недостоин даже касаться вашей руки, но не могу устоять перед этим соблазном. Я люблю вас, Эдит, и осмелюсь просить… о да, осмелюсь просить вас, чтобы вы подарили мне свою жизнь!
Она сидела, не пошелохнувшись, ни кивка головы, ни вздоха, ни да, ни нет, как будто, прежде чем ответить ему, хотела услышать, что он скажет еще. Но он тоже молчал – не иначе как напуганный ее молчанием, не в силах подобрать новых слов, чтобы облечь в них ту правду, которую он уже высказал, раз и навсегда. И вновь эти белые веки приподнялись, и вновь синие глаза посмотрели на него, только на этот раз не взором сирены, ибо они были полны тревоги и… слез. И пока Руперт гадал, как он должен понимать их немое послание, Эдит медленно встала с кресла и после бесконечной паузы подняла руку и протянула ее ему. И тогда он понял, и взяв эту изящную руку в свою, припал к ней губами, после чего, собрав в кулак всю свою волю, обнял ее за плечи и, притянув к себе, поцеловал в лоб и в губы.
– Мое плечо, – тихо прошептала Эдит, – оно все еще болит…
И он, молча отругав себя, позволил ей снова опуститься в кресло.
– Вы любите меня? Скажите, что вы любите меня, Эдит, – прошептал он, склонившись над ней.
– Разве я вам этого не сказала? – ответила она, глядя на свою руку. – Разве женщины… – она умолкла.
Для Руперта ее слова и заключенный в них смысл были самой прекрасной клятвой, какая только слетала с уст чистой и невинной девы.
Когда слова переполняют сердце, их лучше не произносить. Затем его посетила другая мысль – причем, весьма болезненная – ибо его движения были скованными, а лицо залито краской по самые глаза, вернее, по хмуро надвинутые брови над ними.
– Я должен вам сказать, – наконец произнес он, – что это правильно, и теперь, когда вы меня услышали, за вами окончательное решение, ибо я не намерен начинать нашу помолвку с того, что стану скрывать что-то от вас, той, которую я боготворю. Прошу об одном: не спрашивайте никаких имен.
Она подняла голову и посмотрела на него как будто с упреком, но затем, рассудив, что знать мужские секреты никогда не бывает лишним, передумала. К тому же, ее мучило любопытство. Интересно, какие грехи могли водиться за таким святым, как Руперт?
– Когда-то, – медленно продолжал он, превозмогая себя, – я совершил великий грех. Я вступил в любовную связь с замужней женщиной. Она давно мертва. Так что теперь все это, слава богу, в прошлом. И больше мне вам не в чем признаться.
Эдит сделала вид, что опечалена, хотя на самом деле ей было крайне интересно, – не говоря уже о том, что она никак не ожидала, – что некая женщина смогла завлечь Руперта в affaire galante[9]. Будь на месте Руперта бесстрастный наблюдатель, он бы тотчас раскусил ее притворство.
– Я не хочу читать мораль, – сказала она. – Я слышала, что мужчины совсем не такие, нежели то, чего они ждут от нас. И все же, спасибо вам за то, что рассказали мне, и к этому больше нечего добавить, разве что… – она сжала руки и посмотрела на него, – О, Руперт, я искренне надеюсь, что это не было недавно… ибо мне подумалось, что… мне подумалось…
– Боже упаси! – в ужасе воскликнул он. – Нет, это случилось, когда я был зеленым юнцом, многие годы тому назад!
– О! – ответила она. – Это уже лучше, не правда ли?
– По крайней мере, не так ужасно, – согласился Руперт, – ибо тогда я совершенно лишился рассудка и не понимал, что творю.
– Кто я такая, чтобы судить вас, Руперт? Давайте больше никогда не будем говорить на эту тему.
– Лично мне этого совсем не хочется, – с жаром ответил он. – Но вы, Эдит, такая добрая. Такая хорошая. Скажу честно, я этого не ожидал. Я боялся, что как только я вам признаюсь, вы тотчас отвернетесь от меня.
– Нас учат прощать друг друга, – ответила она с легкой улыбкой, дрожащей в уголках ее рта, и вновь протянула руку – на сей раз левую, и позволила ему поцеловать ее.
На самом же деле он сделал большее: сняв с пальца единственное кольцо, какое когда-либо носил, золотое кольцо со странной гравировкой, – это было тронное имя фараона, которое сам фараон продолжал «носить» на пальце более трех тысяч лет, лежа в своей гробнице, – Руперт надел его ей на средний палец в знак своей вечной любви.
«Еще одна из этих злосчастных вещиц, снятых с мумии, – заметила про себя Эдит. – Как же мне надоели эти египтяне и все, что с ними связано! Такое впечатление, будто они меня преследуют».
Но вслух она этого не сказала, лишь приподняла кольцо и коснулась его губами – картина эта наверняка удивила дух покойного фараона.
– Руперт, – сказала она, – прошу вас, никому не говорите об этом сегодня, разве только вашей матушке. Как вы понимаете, характер у Дика крайне вспыльчивый, – добавила она с особым нажимом, – Надеюсь, вам также понятно, что у меня нет для вас никаких признаний ни о чем, ни о ком-то еще. Если даже он и ухаживал за мной, я не давала ему для этого никаких поводов.
– Теперь ему самое время оставить свои ухаживания, – проворчал Руперт, – иначе его ждут неприятности.
– Согласна. И, говоря по правде, я не сомневаюсь, что он их оставит, когда все узнает. А еще лучше, если он это сделает, пока вы здесь. Мне ни к чему бурные сцены.
– Как скажете, моя дорогая, – ответил Руперт, – я могу уехать завтра утром, даже если мне этого не хочется, а через несколько дней мы встретимся в Лондоне. – И он рассказал ей о полученном от друга приглашении.
– Кстати, весьма разумно, – сказала Эдит с облегчением. – Хотя, как вы сами сказали, и ужасно в данных обстоятельствах. К тому же, чтобы успеть на тот поезд с ливерпульского вокзала, вам придется уехать завтра утром еще до восьми часов. Возвращайтесь в Лондон в субботу, и мы прекрасно проведем время. О боже, посмотрите на часы, гонг к ужину прозвучит через пару минут, а вы еще даже не переоделись. Ступайте немедленно, дорогой, иначе все заметят. А нам это не нужно. Ступайте, дорогой, мой возлюбленный, который станет моим мужем, ступайте.
И Руперт ушел.
«Все прошло не так уж и плохо. Могло быть и хуже, – подумала Эдит, вытирая лицо кружевным платком, когда дверь за ним закрылась. – В принципе он очень даже милый. Ну почему он мне не нравится больше? Тогда мы могли бы быть по-настоящему счастливы, а так, я не знаю. Подумать только, он рассказал мне свою историю! Какой странный человек! Не иначе, как то была Клара. Я что-то такое слышала. Дик тоже на это намекал, но я тогда решила, что это просто сплетни. Так вот почему кузен Джордж так его ненавидит, а он его точно ненавидит, хотя и настаивает, чтобы я вышла за него замуж. Да, теперь мне все понятно. Я помню, что она была очень красивая и очень глупая женщина. Бедный, невинный Руперт!»
Когда спустя десять минут Руперт спустился к ужину, все уже сидели за столом. Пока подавали рыбное блюдо, он сел на единственный свободный стул рядом с леди Дэвен, которой нравилось, когда он сидел от нее по правую руку. Он также с горечью отметил про себя, что Эдит сидит довольно далеко от него, между двумя гостями-охотниками, и через три стула от Дика, который занимал дальний конец стола.
– Ах, мой дорогой Руперт! – сказала леди Дэвен. – Вы ужасно опоздали. Я уже начала волноваться, ибо так недолго разбаловать кухарку. В наказание я оставляю вас без супа! Что? Или вы уснули над тем вашим толстым томом в библиотеке?
Пробормотав что-то в свое оправдание, Руперт молча взялся за рыбу, или только сделал вид, что взялся. Учитывая возбужденное состояние его ума, это великолепное и довольно продолжительное новогоднее пиршество стало для него весьма странным развлечением. Все вокруг как будто было подернуто флером нереальности. Неужели после той прекрасной, удивительной вещи, что только что произошла с ним, вещи, навсегда изменившей ход его жизни, сделавшей ее грандиозной и благородной, как те колонны в Карнаке под полной луной, он по-прежнему тот самый Руперт, что сегодня утром ушел на охоту? А эта дородная, флегматичная немка, что сидит с ним рядом, увлеченно обсуждая подаваемые блюда, та самая терзаемая страстью, обреченная женщина, которая только что поведала ему, что ползала на коленях перед эгоистом-мужем, умоляя спасти душу ее новорожденного ребенка? Не была ли перед ним еще одна прекрасная Клара, которую он так хорошо помнил сидящей на этом же самом стуле, с ее чудесными, несчастными глазами, в которых уже затаилось ощущение близкой смерти и крушения всего и вся? Эти глаза – он до сих пор ощущал на себе их взгляд. Он не знал, откуда, но они до сих пор с упреком смотрели на него, предостерегая от чего-то. Вот только от чего? Этого он не знал.
Была ли эта веселая и красивая женщина, что смеялась и шутила с сидевшими с ней рядом мужчинами, той самой Эдит, которой менее часа назад он признался в любви? Наверно да, ибо на ее пальце поблескивало его золотое кольцо, и, более того, Дик явно его заметил, ибо смотрел на нее, нахмурив брови.
И почему, не мог понять Руперт, в данный момент перед его глазами упорно возникала другая картина – храм в Абу-Симбеле, омытый вечерним светом, окрасившим воды Нила в кроваво-красный цвет, и гигантские, улыбающиеся статуи великих царей прошлого, чье кольцо сейчас украшает палец Эдит в знак его вечной любви. А еще перед его глазами почему-то возникла темная, седая фигура Бахиты, о которой он ни разу не вспомнил вот уже много дней. Стоя среди скал, она кричала ему, что они встретятся вновь, а также что-то кричала Дику и Эдит, правда, он так и не смог разобрать ее слов, а затем повернулась и заговорила с какой-то тенью за ее спиной.
* * *
Наконец ужин завершился, и как то было заведено в этом доме, все гости, и мужчины, и женщины, вместе поднялись из-за стола и перешли в огромный зал, украшенный остролистом и омелой, где будет играть музыка и будут танцы, и при желании можно курить. На праздник были также приглашены еще несколько гостей со стороны, – дочери сельского пастора и две соседских семьи, так что всего в доме собралось два, если не три десятка человек. Разумеется, была здесь и миссис Уллершоу, которая, поужинав у себя в комнате, спустилась вниз, чтобы проводить старый год.
Руперт сидел рядом с матерью – некая странная робость удерживала его на расстоянии от Эдит. Положив свою руку поверх его руки, мать, с улыбкой, делавшей ее старое, морщинистое лицо прекрасным, сказала, что после долгих лет одиночества она впервые чувствует себя счастливой, присутствуя при рождении очередного года вместе с ним, даже если год этот окажется для нее последним.
– Не говори так, мама, – ответил он, – мне это больно слышать.
– Да, мой дорогой, – мягко ответила она, – но вся жизнь полна боли, полон отречений и жизненный путь с прощаниями вместо верстовых столбов. И когда нам кажется, что мы на седьмом небе от счастья, как я сегодня, мы должны помнить эти истины даже лучше, нежели в иные мгновения. Мгновение – это все, что у нас есть, дорогой, ибо далее простирается воля Божья и то, что мы никогда не назовем нашим.
Руперт ничего не ответил, ибо слова ее показались ему частью тех фантастический видений, что явились к нему, пока он сидел за столом, печальной музыкой, сопровождавшей эти картины. Однако он вспомнил, что однажды мать уже говорила ему об отречении, когда он, еще юношей, слёг после смерти Клары. Он также вспомнил, что с того дня и по день сегодняшний он строго придерживался этой суровой заповеди, посвятив себя исполнению долга и следуя дорогой веры. Тогда почему, в этот праздничный вечер, в ночь, когда он заново родился к истинной любви, мать вновь проповедует ему этот суровый закон отречения?
Тем более что собравшееся в гостиной общество в этот закон явно не верило. Все вокруг него были веселы, как будто в мире не было таких вещей, как горе, болезнь и смерть, или горькое разочарование, что подчас страшнее смерти? Послушайте! Играет музыка. Взгляните! Все танцуют. Дик вальсировал с Эдит и, несмотря на ее больное плечо, довольно тесно прижимал ее к себе. Надо сказать, что танцевали они прекрасно, как одно существо, а их тела двигались как единое целое. Почему его это должно задевать, если теперь она его, и только его? Почему его должна терзать ревность, если он, посвятив себя суровой армейской жизни, так и не научился танцевать?
Чу! В зал, заглушая собой музыку, торжественно вплыл колокольный звон соседней церкви. Старый год умирал, и нарождался год новый. Эдит прекратила вальсировать и направилась к Руперту – высокая, стройная фигура в белом на огромном пространстве полированного пола. Столь грациозны были ее медленные движения, что она напомнила Руперту парящую в воздухе чайку или скользящего по воде лебедя. Нежно улыбаясь, она подошла к нему, а когда часы на церковной колокольне начали отбивать полночь, шепнула ему на ухо:
– Вы подарили мне счастье, Руперт, и я, в свою очередь, желаю вам счастливого Нового года – вместе со мной. – И, сказав эти слова, она сделала легкий книксен.
Поскольку все вокруг поздравляли друг друга, никто не расслышал тихих ее слов, лишь мать Руперта заметила и книксен, и странное выражение лица Эдит. Разумеется, Руперт этого не видел, ибо повернулся к ней спиной. Мать же задалась вопросом, что все это значит, и ее сердце наполнилось тревогой. Неужели?… И если да, то почему это должно беспокоить ее? И все же это, несомненно, ее беспокоило, причем, в такой степени, что царящее вокруг нее веселье сделалось ей неприятно, и она стала ждать возможности встать и тихонько уйти отсюда.
Руперт же пребывал в полном восторге. От счастья он в буквальном смысле лишился дара речи и в ответ на ее приветствие лишь пробормотал «спасибо, спасибо». Иные слова не шли к нему, опуститься же перед ней на колени, что в его глазах было единственным подобающим ответом на ее любовь, было невозможно. Видя его замешательство, Эдит улыбнулась, и подумала про себя, что сообразительный, бойкий на язык Дик, чье общество она только что покинула, повел бы себя совершенно иначе, а затем продолжила:
– Ваша матушка приготовилась покинуть нас, думаю, вам лучше пойти с ней. Доброй ночи, мой дорогой, ибо я тоже устала и скоро тоже пойду к себе. Я уже считаю дни до нашей встречи в Лондоне. Еще раз доброй ночи, доброй ночи, – и, легонько коснувшись его руки, она оставила его и зашагала прочь.
Глава VIII. Смятые ландыши Эдит
– Руперт, – сказала его мать, – дай мне опереться на твою руку и проводи меня в мою комнату. Я хочу лечь спать.
– Разумеется, – ответил он, – но погоди одну минутку, дорогая, я должен завтра утром уехать восьмичасовым поездом. А поскольку я больше не вернусь сюда, то должен попрощаться с Табитой.
Миссис Уллершоу вздохнула чуть свободнее. Будь между ним и Эдит действительно что-то серьезное, вряд ли бы он уехал этим ранним поездом.
– Иди, – сказала она, – я подожду.
Леди Дэвен сидела одна в огромном дубовом кресле на небольшом возвышении в конце зала, не замечаемая никем из веселой толпы молодых людей. Она нарочно устроилась подальше от камина и радиаторов отопления, ибо не переносила жары. Шагая к ней, даже Руперт, хотя его мысли и были заняты другими вещами, невольно отметил, сколь внушительно она выглядела в своем простом черном платье, резко контрастировавшем с ее золотистыми волосами и массивным белым лицом. Поставив локоть на колени и подперев подбородок ладонью, она возвышалась над гостями, и ее голубые глаза смотрели куда-то в пространство над их головами. На самом деле эта несчастная женщина тоже встречала Новый год, правда, на свой манер, – не весельем и смехом, а раскаянием за грехи, совершенные ею в ушедшем году, и молитвой даровать ей стойкость, что бы ни ждало ее в году новом.
– Ах, Руперт! – воскликнула она, поднимаясь к нему с приятной улыбкой, как делала всегда. – Как благородно с вашей стороны оставить молодежь с их шутками и весельем и прийти поговорить с немецкой фрау, как они называют меня между собой, что, собственно, так и есть.
– Боюсь, – произнес он, – я пришел пожелать вам доброй ночи, вернее, попрощаться, ибо завтра рано утром должен вернуться в Лондон.
Она вопросительно посмотрела на него.
– Как я понимаю, вас прогнала прочь история моих бед? Я так и знала. Вы мудро поступаете, покидая этот дом, в котором поселилось несчастье, как мертвое, так и живое, ибо ничего хорошего не может произойти в его стенах, и ничего хорошего не может выйти из него…
– Вообще-то, – прервал ее Руперт, – мой отъезд вызван иной причиной. – И он рассказал ей о данном им другу обещании.
– Вы не умеете лгать так хорошо, как все остальные здесь, Руперт. Причина явно в ином. Я вижу это по вашему лицу. Похоже, что она связана с этим ужасным Диком и его… – как это сказать по-английски? – пассией Эдит. Неужели она и вам вскружила голову? Если так, то остерегайтесь ее. Говорю вам, она опасная женщина. Она, как и его светлость, приносит в этот мир одни неприятности.
Услышав такие слова, Руперт страшно рассердился, однако стоило ему посмотреть на это спокойное, отрешенное лицо, которое еще несколько часов назад пылало такой страстью, как его гнев тотчас остыл, сменившись страхом, сковавшим его с головы до пят. Ему казалось, будто эта задумчивая, одинокая женщина обладала даром предвидения, возможно, рожденным из ее собственных бесконечных страданий, и потому могла заглянуть глубоко в суть вещей. Он, кто понимал ее, кто сочувствовал ей, даже если не разделял ее суровых религиозных взглядов, кто знал, что молитва и страдание – это родители истинного знания, был уверен, что она этим знанием обладала. По крайней мере, так ему казалось несколько мгновений, но затем эта неприятная убежденность прошла, ибо может ли тьма долго выстоять в свете розового оптимизма недавно родившейся взаимной любви?
– Вы в дурном настроении, – сказал он, – хотя я уверен, что вам самой это не нравится, ибо это делает вас несправедливой и вынуждает выносить резкие суждения.
– Что верно, то верно, – ответила Табита со вздохом, – и спасибо вам, что назвали мне мои недостатки. Да, Руперт, я в дурном настроении и выношу резкие суждения, ибо сама вынуждена их терпеть. – И она склонила свою величественную, увенчанную короной золотых волос голову, как то было несколько минут назад, затем протянула руку и просто сказала: – Прощайте, Руперт. Не думаю, что вы вернетесь, чтобы проведать меня снова, ибо зачем это вам? И все же, если вы это сделаете, вам всегда будут рады, ибо в ваш адрес я не выношу резких суждений и никогда не буду этого делать, чтобы мне о вас ни сказали.
И он пожал ей руку и опечаленный пошел прочь.
Дав матери руку, ибо та была очень слаба, Руперт тихо вывел ее из зала через боковую дверь и длинными коридорами повел в ее комнату, рядом с его собственной, находившейся в самом конце дома. Поскольку ей было тяжело подниматься по лестнице, мать спала на первом этаже, он же на всякий случай всегда был с ней рядом.
– Мама, – сказал он, усадив ее в кресло и поворошив угли в камине. – Я должен тебе что-то сказать.
Она тотчас подняла глаза, ибо тревога вернулась к ней, и спросила:
– Что случилось, Руперт?
– Не пугайся, моя дорогая, – ответил он, – ничего плохого, честное слово, наоборот, только хорошее. Я обручился с Эдит и пришел просить для меня твоего благословения, вернее, для нас обоих, ибо теперь она часть меня.
– О, Руперт, мое благословение всегда с тобой, – ответила мать, откидываясь на спинку кресла, – но я удивлена.
– Это почему же? – спросил он с легким раздражением, ибо ожидал от нее поток воодушевления, столь же бурный, что и его собственный, а не это холодное недоумение.
– Потому, разумеется, никто мне этого не говорил, но мне всегда казалось, что Эдит нравится Дик Лермер, отчего я даже подумать не могла, что она возьмется кружить тебе голову.
И вновь Руперт был ошарашен. Дик, вечно этот Дик, сначала из уст леди Дэвен, теперь его родной матери. Что все это может значить? Но затем жизнелюбие вновь пришло ему на подмогу, и он убедил себя, что Дик для Эдит ничего не значит.
– На этот раз ты ошиблась, мама, – сказал он с веселой усмешкой. – Я с самого начала знал ее мнение о Дике, потому что она серьезно разговаривала со мной о нем и его выходках, чего она наверняка бы не стала бы делать, будь в этой глупой идее хотя бы толика правды.
– Женщины часто говорят серьезно о дурном поведении мужчин, которые им нравятся, особенно тем, на кого они рассчитывают повлиять, – ответила мать с задумчивой улыбкой, которая неизменно появлялась на ее губах, когда она думала о собственной глубокой любви к мужчине, который ее не заслуживал.
– Возможно, – ответил Руперт, – скажу лишь одно: даже если между ними что-то и было, – а я твердо знаю, что между ними не было ничего, – то это что-то мертво, как и прошлое полнолуние.
Это сравнение с луной, которая то идет на убыль, то растет, показалось миссис Уллершоу крайне неудачным, хотя вслух она говорить этого не стала.
– Рада это слышать, – сказала она, – и, вне всякого сомнения, это была ошибка, ибо будь у нее такое желание, она давно уже вышла бы замуж за Дика, еще до того, как ты появился в ее жизни. В общем, мой дорогой, могу лишь пожелать тебе счастья и буду молиться о том, чтобы она оказалась тебе такой же хорошей женой, каким хорошим мужем будешь для нее ты. Да, она хороша собой, – продолжала она, как будто перечисляя положительные качества Эдит. – Таких красавиц, как она она, редко встретишь. Кроме того, она по-своему очень умна, хотя ей, конечно, до тебя далеко. А также вдумчива и наблюдательна. Честолюбива. И должна стать отличной женой для мужчины с карьерой. Она также, насколько я могу судить, покладиста и добра. По крайней мере, все эти годы, пока мы с ней жили под одной крышей, мы отлично ладили. Да, считай, что тебе крупно повезло, Руперт.
– Это все положительные качества. А каковы ее недостатки? – проницательно спросил он, чувствуя, что мать что-то от него утаивает. – Хотя, должен признаться, в моих глазах таковых у нее нет.
– Так и должно быть, но я скажу тебе со всей откровенностью, Руперт, чтобы ты остерегался их, если вдруг я окажусь права. Эдит обожает удовольствия и роскошь, что в принципе естественно, она экстравагантна, что при известных обстоятельствах не играет роли. Опять-таки, я надеюсь, что ты никогда не заболеешь, ибо сиделка из нее никакая, не потому что она черства и бездушна, а потому что болезни и уродства внушают ей ужас. Я видела, как она побледнела, увидев калеку, и я сомневаюсь, что ей нравилось сидеть со мной после того, как со мной случился удар, особенно когда это изуродовало мне лицо и у меня отвисло нижнее веко.
– У нас у всех есть недостатки, против которых мы бессильны, – ответил Руперт, – врожденные антипатии, с которыми мы появились на свет, и я рад, что на данный момент мое здоровье в порядке. Поэтому, мама, я не хочу задумываться о черном списке. Тебе есть, что еще к нему добавить?
Подумав немного, мать сказала:
– Лишь одна вещь, мой дорогой. Лично мне кажется странным, что такая девушка, как Эдит, так сильно привязана к мужчинам вроде Дика Лермера или лорда Дэвена, а она действительно привязана к ним обоим.
– Думаю, это потому, что они родственники, а последний всегда был очень добр к ней. С ее стороны это проявление благодарности.
– О да, еще как добр! Более того, до ее совершеннолетия он был ее опекуном и материально поддерживал ее все эти годы. Но благодарность здесь ни при чем, это взаимная симпатия. Они копия друг друга – как по уму и характеру, так и… внешне.
Руперт расхохотался. Ибо сравнить цветущую Эдит с увядшим, морщинистым лордом Дэвеном, и даже ее остроумие, способное мягко высмеять людей и вещи, с его откровенным цинизмом, который резал по живому, после чего втаптывал в грязь останки своих жертв, было верхом абсурда.
– Лично я не вижу никакого сходства, – сказал он. – Боюсь, что в твоем возрасте, мама, у тебя разыгралось воображение.
Она посмотрела на него, чтобы ответить, затем на миг задумалась и сказала:
– Пожалуй, Руперт, ты прав – все это плод моего воображения. Только, мой дорогой мальчик, сделай так, чтобы время от времени она ходила в церковь, еще ни одной женщине это не приносило вреда. Ну, все, на этом мои критические замечания исчерпаны, и если я их сделала, ты уж прости меня. Это лишь потому, что мне сложно представить себе женщину, достойную тебя. Ведь даже самые лучшие из нас не идеальны, разве только в глазах тех, кто нас любит. В целом же, мне, пожалуй, следует поздравить тебя, что я и делаю от всего сердца. Да благослови Господь вас обоих, тебя, мой сын, и Эдит, мою дочь, ибо отныне она мне дочь. А теперь, мой дорогой, доброй ночи, ибо я устала. Позвони в колокольчик и вызови горничную, хорошо?
Что он и сделал, а после короткого раздумья сказал:
– Ты помнишь, что я должен уехать? Ты ведь поговоришь с Эдит, не так ли?
– Разумеется, мой дорогой, когда Эдит поговорит со мной, – ответила старая леди с чувством собственного достоинства. – Но скажи, зачем тебе уезжать, тем более, сейчас?
В этот момент в комнату вошла горничная, поэтому Руперт ничего не ответил, ограничившись несколькими соображениями о том, как ей лучше вернуться в город, и поцеловал ее на прощанье.
Когда горничная снова ушла, миссис Уллершоу, как это делала всегда, произнесла молитву, обратившись к небесам с длинной и серьезной просьбой ниспослать всех благ ее возлюбленному и единственному сыну, и чтобы та женщина, которую он выбрал себе в жены, стала для него благословением.
Увы, молитва эта не принесла ей душевного комфорта. Слова падали ей на голову, словно тяжелые камни, отринутые или неуслышанные, она не знала. Она часто думала о том, как была бы счастлива, если бы Руперт пришел к ней и сказал, что выбрал себе жену. И вот он выбрал, она же, мать, совсем несчастлива.
О, она скажет правду собственному сердцу, ибо та не должна покинуть ее уст! Она не доверяла этой красивой, светской женщине, считая ее безбожной, приземленной искательницей удовольствий. По ее мнению, Эдит дала согласие Руперту не потому, что любила его, а лишь потому, что тот был наследником пэрского титула и огромного состояния, а также снискал себе воинскую славу. Да, ее сын тоже был Уллершоу, а она ненавидела ту их ветвь, от которой происходила Эдит. Ибо ей было хорошо известно, что начиная с самого первого Уллершоу, того, кто заложил огромное состояние их семьи, все они как один так или иначе были порочны, и в жилах Эдит, она в этом ничуть не сомневалась, текла та же испорченная кровь. Как показало его юношеское приключение, она присутствовала даже в Руперте, и лишь самодисциплиной и самоотречением он смог перебороть свою натуру. Увы, Эдит и самоотречение были совершенно разные вещи. Да, холодная тень упала на ее молитвы. И тень эту отбрасывало прекрасное тело Эдит – той самой Эдит, которая теперь держала в своих руках судьбу ее сына.
В нескольких футах от нее Руперт также возносил свою молитву, вернее, хвалебную песнь и благодарность за то счастье, которое небеса ниспослали на его смертную голову, ибо чистая и прекрасная любовь, которую он обрел, должна освещать его жизненный путь и даже в смерти стать его путеводной звездой.
* * *
Спустя какое-то время после того, как Руперт ушел, примерно через полчаса, Эдит, заметив, что Дика в зале нет, – не иначе как, решила она, тот вышел проводить отъезжающих гостей, – воспользовалась этой возможностью, чтобы незаметно уйти к себе, ибо этим вечером больше не желала его видеть. Увы, этому не суждено было случиться, так как проходя на пути к лестнице мимо библиотеки, той самой комнаты, в которой Руперт сделал ей предложение, она обнаружила у ее дверей Дика.
– О! – произнес он. – Я тебя искал. Просто войдем внутрь, и ты скажешь мне, твоя эта вещь это или нет. Мне кажется, ее забыла ты.
Беззаботно, не подозревая никакого подвоха, она вошла в комнату. Дик тотчас же закрыл дверь и как будто случайно встал между ней и Эдит.
– И что же это? – спросила она, снедаемая любопытством. Не иначе, как она что-то уронила, разговаривая с Рупертом. – Где оно? Что такое я потеряла?
– Именно это я и хотел у тебя спросить, – ответил Дик с плохо скрываемой презрительной усмешкой. – Уж не то ли, что ты привыкла называть своим сердцем?
– Извини, ты о чем? – недоуменно спросила Эдит.
– В целом, у тебя наверняка имеется причина так поступить. Давай, признавайся, какие могут быть секреты у старых друзей. Почему у тебя на пальце это кольцо? Утром оно было на пальце у Руперта Уллершоу.
Она на минуту задумалась, а затем со свойственным ей мужеством решила, что лучше всего сказать ему правду. Тот самый инстинкт, который подсказал ей обручиться с Рупертом в ближайшие полчаса после того, как она приняла для себя такое решение, подтолкнул ее воспользоваться этой возможностью и раз и навсегда порвать со своим злым гением Диком.
– А, это? – спокойно отозвалась она. – Разве я тебе не сказала? Ах, да, я хотела сделать это в холле! По обычной причине, по какой люди носят кольца на этом пальце – потому что я с ним помолвлена.
Дик побелел, как мел, черные глаза его горели на лице, как тлеющие угли.
– Ты, лживая…
Она в упреждающем жесте подняла руку, и он умолк.
– Не говори того, о чем впоследствии можешь пожалеть, я же буду об этом помнить. Но поскольку ты принудил меня к этому, выслушай меня, после чего мы пожелаем друг другу доброй ночи или попрощаемся навсегда, как тебе больше нравится. Я все эти годы была верна глупому обещанию, силой вырванному у меня в юности. Я упускала возможность за возможностью в надежде на то, что ты исправишься, умоляя тебя исправиться, ты же… ты прекрасно знаешь, как ты обращался со мной, и кто ты такой сегодня – запятнавший свое имя прихлебатель лорда Дэвена, живущий за его счет лишь потому, что от тебя пока что есть польза. И все же я по глупости цеплялась за тебя и еще этим утром приняла решение отказать также и Руперту. Затем во время охоты ты сыграл свою злую шутку, а потом притворился, будто не видишь, что мне больно, притворился, будто стрелял не ты. А все потому, что ты малодушен и боишься Руперта. Говорю тебе, что еще сидя там, на земле, я мгновенно раскусила твою жалкую сущность, увидела тебя таким, каков ты есть, и порвала с тобой. Сравни себя с Рупертом, и ты тоже это поймешь. А теперь отойди от двери и дай мне уйти.
– Я отлично понимаю, что Руперт – наследник титула, а я нет, – ответил Дик; будучи обезоружен, он понял, что лучшая защита – это нападение, и поспешил перейти в атаку. – Ты продала себя, Эдит, ты продала себя человеку, которого ты не любишь. – Он щелкнул пальцами. – О, только не лги мне, ты сама это прекрасно знаешь. Ты также знаешь, что это знаю я. Ты ради себя превратила его в глупца, как ты умеешь делать это с большинством мужчин, и хотя я терпеть не могу этого напыщенного, благочестивого ханжу, честное слово, мне его, бедолагу, по-своему жалко.
– У тебя все? – спокойно спросила Эдит.
– Еще нет. Ты насмехаешься надо мной и закатываешь глаза – да-да, не отрицай! – потому что я не святой, чтобы быть в одной упряжке с Рупертом, потому что, не будучи наследником первой очереди на титул и состояние, я, в отличие от него, не увешал себя с головы до ног наградами за то, что убивал в Судане бедных дикарей, потому, что я тоже должен на что-то существовать, и поэтому работаю на Дэвена. А ты, моя безупречная Эдит, скажи, на что существуешь ты? Кто заплатил за это красивое платье, что сейчас на тебе, за это жемчужное ожерелье? Насколько я понимаю, не Руперт? Откуда у тебя взялись деньги, которыми ты один раз меня выручила? Я очень хотел бы это знать, потому что я ни разу не видел, чтобы ты работала. Я был бы не прочь узнать секрет, как, ничего не имея, можно жить, ни в чем себе не отказывая.
– Дик, какой толк задавать эти вопросы, ответы на которые тебе прекрасно известны? Разумеется, мне помог Джордж. Почему бы и нет, если он может себе это позволить, тем более будучи главой семьи? Теперь же я намерена помогать себе единственным доступным женщине приличным способом, а именно, выйдя замуж. Кстати, так и быть, скажу тебе по секрету: я делаю это с одобрения и даже по настоянию самого Джорджа.
– Боже праведный! – горько усмехнулся Дик. – Как же он должен его не любить, что заставляет тебя выйти за него замуж! Теперь я не сомневаюсь, что в старых слухах об этом святом в его юности и несчастной красавице-Кларе есть доля правды. И теперь прошу тебя уделить мне всего три минуты. Было бы жаль испортить этот разговор. Тебе когда-нибудь приходило в голову, моя добродетельная Эдит, что кем бы я ни был, – а я отлично знаю, кто я такой, – в этом есть и твоя вина. Ты вселяла в меня надежду, а потом в очередной раз капризно бросала, как перчатку, ты, которая по каким-то своим корыстным соображениям никогда бы не вышла за меня замуж и даже не обручилась бы со мной, хотя всегда уверяла, что любишь меня…
– Этого я никогда не говорила, – перебила его Эдит, сбрасывая с себя в ответ на его тираду притворное безразличие. – Я никогда не говорила, что люблю тебя, на что у меня имелись причины. Потому что я никогда не любила и не люблю ни тебя, ни другого мужчину. Я не могу… пока… хотя однажды наверно смогу, и тогда… Возможно, я говорила, что ты мне нравишься. Мне, той, что стоит перед тобой, а не моему сердцу, ибо оно – это не я, как должно быть известно таким, как ты.
– Такие, как я, могут судить о чувствах лишь по их внешнему проявлению. Даже если они не верят словам женщины, они склонны считать, что ее поступки говорят сами за себя. Вернемся к тому, что я уже сказал: на тебе лежит вина. На тебе, а не ком-то другом. Если бы ты мне позволила, я бы женился на тебе и изменил своим привычкам, но, хотя я тебе «нравился», ты никогда бы этого не сделала, ибо это означало бы жизнь в бедности. Ты сама бросала меня в объятья к другим, а потом, если такова была твоя прихоть, вновь возвращала назад, все глубже и глубже погружая меня в грязь, пока окончательно не растоптала.
– Разве я уже не сказала тебе, Дик, что ты трус, хотя никогда не думала, что, не пройдет и пяти минут, и ты докажешь это своими собственными устами? Только трусы способны перекладывать бремя своих пороков на плечи других. Нет, я не растаптывала тебя, а пыталась спасти. Ты говоришь, будто я играла с тобой, но это неправда. Правда в том, что время от времени я общалась с тобой, в тщетной надежде на то, что ты исправишься. Имей я основания верить, что ты готов начать жизнь с чистого листа, думаю, я бы рискнула выйти за тебя замуж, но, спасибо Господу, он уберег меня от этого шага. А теперь между нами все кончено. Иди своим путем, я же пойду своим.
– Все кончено? Боюсь, что не совсем. Старая симпатия никуда не делась, а для большинства женщин это значит отвращение к другим мужчинам. Сейчас проверим! – Внезапно, не давая никаких намеков относительно своих намерений, он заключил ее в объятья и страстно поцеловал. – Ну вот, – сказал он, отпуская ее, – думаю, ты простишь старого возлюбленного, хотя и обручена теперь с новым?
– Дик, – тихо произнесла Эдит, – послушай меня и запомни. Если ты еще раз прикоснешься ко мне, я пойду прямиком к Руперту и, думаю, что он тебя убьет. Поскольку я не настолько сильна, чтобы постоять за себя, я буду вынуждена найти того, кто это сделает. Более того, ты говоришь так, будто в моих привычках бросаться в твои объятья. Подозреваю, ты ищешь поводы для шантажа. Но каковы факты? Восемь или девять лет назад я дала глупое обещание, а ты поцеловал меня и с тех пор ни разу этого не делал до настоящего момента. Дик, ты трус! И я рада, что, не считая той глупой влюбленности, я никогда не испытывала к тебе глубоких чувств. А теперь открой дверь или же я позвоню в колокольчик и пошлю за полковником Уллершоу!
И Дик открыл дверь. Не говоря ни слова, Эдит вышла мимо него вон.
К себе она вернулась страшно расстроенная, чего с ней не бывало со дня смерти ее матери. Войдя в комнату, она села и расплакалась. Как и у всех людей, у нее имелись свои положительные черты. Когда же верх над ней брали самые худшие, это было вопреки ее собственному характеру, ибо обстоятельства оказывались сильнее ее. В том, что ей нравился Дик, – в этой ее, как она выразилась, «глупой влюбленности», – Эдит трудно было упрекнуть, ибо они росли вместе. Более того, его естественные, врожденные слабости вызывали в ней желание взять его под свое крыло, как часто бывает с женщинами и находит свое окончательное выражение в радостях и страхах материнства.
Каждое сказанное ею слово было правдой. Будучи юной девушкой, поддавшись натиску его страсти, она дала Дику некое туманное обещание в будущем выйти за него замуж. Тогда, в первый и до сегодняшнего вечера в последний раз, он поцеловал ее. Она делала все для того, чтобы сдерживать его дурные наклонности, что было нелегкой задачей, ибо он от рождения был склонен к пороку, и в тех случаях, когда казалось, что он встал на путь исправления, она одаривала его своей благосклонностью. Только сегодня она окончательно убедила себя, что он неисправим. Результат чего нам известен.
И вот теперь он возмутительно повел себя, оскорбил ее, как только мог, своим язвительным языком, а затем, воспользовавшись преимуществом своего физического превосходства, сделал то, что сделал.
Увы, худшее заключалось в другом: она была не в силах сердиться на него так, как, по идее, должна была, ибо знала, что и его возмутительные слова и возмутительный поступок проистекали из одной постоянной черты в его ветреном характере – его любви к ней. Увы, любовь эта была самого удручающего свойства. Она не подталкивала его к честности, или хотя бы к воздержанию от подлости, во всех ее смыслах. И все же она существовала, и с ней нужно было считаться, да и сама Эдит, предмет этой любви, была не из тех, кто слишком строго смотрит на подобные крайности. При желании она могла бы погубить Дика. Одного слова лорду Дэвену и другого – Руперту было бы достаточно, чтобы этот молодой повеса пошел по миру и этак через полгода либо сидел бы на козлах дорогого экипажа, либо валялся на койке в приюте Армии Спасения. И все же она знала, что никогда не произнесет этих слов, и он тоже это знал. Увы, даже эти наглые поцелуи скорее вселяли в нее гнев, нежели возмущение. После них она не стала вытирать лицо платком, как уже один раз сделала несколькими часами раньше.
Опять-таки не ее вина, что она шарахалась от Руперта, которого она, по идее, должна была обожать. Причиной была ее кровь, а она не была хозяйкой собственной крови, ибо несмотря на всю ее силу и волю, она была лишь легким перышком, гонимым ветром, и пока не нашла того груза, который помог бы ей ему противостоять. И все же ее решимость не дрогнула. Она приняла решение выйти замуж за Руперта – да, и стать для него хорошей женой. И она ею станет. А пока впереди ее подстерегали опасности. Кто-то мог видеть, как она почти в час ночи вошла в библиотеку с Диком. Дик и сам был любитель делать намеки. Был он способен и на худшее. Так что меры предосторожности не помешают. Пару мгновений подумав, Эдит подошла к столу, взяла лист бумаги и написала на нем следующее:
«1 января, 2 часа ночи – Руперту
Обещание для Нового года и воспоминание о старом от той, что любит его больше всего на свете.
Э.»Затем она нашла конверт и написала на нем, что его следует вручить полковнику Уллершоу до его отъезда, затем взяла с груди ландыши, которые, она была уверена, Руперт узнает, чтобы положить их вместе с письмом. Увы, пытаясь вырваться из объятий Дика, она смяла их, и теперь они представляли собой бесформенную массу. Эдит едва не расплакалась от досады, потому что не могла придумать, что еще можно послать, и слишком устала, чтобы сочинять новое письмо. Затем она вспомнила, что это были не все ландыши, которые прислал ей садовник. В стакане стоял их остаток. Подойдя к букетику, она аккуратно отсчитала нужное количество стебельков и листьев, связала их такой же ниткой и, выбросив смятые цветы в камин, положила в конверт свежие.
– Руперт не заметит разницы, – прошептала она себе под нос с коварной улыбкой. – Ибо тот, кто влюблен, не способен отличить фальшь от правды.
Глава IX. Руперт принимает миссию
Промежуток между первым января и тринадцатым апреля, днем их с Эдит бракосочетания, можно описать вкратце. Все актеры на сцене, кроме тех, что должны появиться из суданской пустыни, и их характеры и цели известны. Остается лишь следовать развитию человеческих сил, которые пришли в движение ради некоего неизбежного конца, каким бы тот ни был.
Выбор даты, 13 апреля, которая к тому же выпадала на пятницу, был одной из черных шуток лорда Дэвена, в чьем доме должна была состояться свадьба: публичный вызов вульгарным суевериям со стороны того, кто всей душой презирал подобные вещи.
Руперт, человек простой и прямой, веривший, что его жизнь направляется свыше, был менее других подвержен подобным вещам, хотя даже он, будь у него выбор, наверняка постарался бы избежать того, что навевало дурные мысли.
А вот Эдит, хотя и была безразлична к любой форме религии, ощущала эти древние, таинственные флюиды и попыталась протестовать, но тщетно. Кузен заявил, что дата его устраивает. К тому же имелись причины, почему брак нельзя было заключить раньше. В субботу, 14 апреля, он должен был на две недели отбыть в Ланкашир, чтобы присутствовать на судебном заседании, которое наверняка затянется и должно рассматриваться на месте, ибо дело касалось угольных шахт. И Эдит сдалась. Приглашения были разосланы на пятницу 13 апреля.
Пока все шло, как и предполагалось. Руперт был в руках Эдит и улыбался ей день напролет, даже не догадываясь, несчастный слепец, что порой своим занудством доводил ее едва ли не до исступления. Однако она прекрасно играла свою роль, отвечая словом на его слово, улыбкой – на улыбку, пусть даже не нежностью – на нежность.
Миссис Уллершоу, отринув свои первоначальные сомнения и страхи, была весела и вдохновлена счастьем своего сына, и при каждом случае заявляла, что полностью довольна его выбором. Лорд Дэвен, судя по всему, тоже был доволен, – а так оно и было, – и не упускал возможности похвалить Руперта за то, какой тот образцовый жених. Несчастный Руперт лишь морщился и передергивался от его сарказма.
Так однажды – это было после одного из ужинов в доме на Гровнер-сквер, которые Руперт ненавидел всеми фибрами души – лорду подвернулась возможность отпустить очередную остроту. Руперт, как обычно, сидел вместе с Эдит в углу комнаты, откуда при всем желании она не могла сбежать, отчего оба служили предметом внимания всей компании.
– Вы только посмотрите на них, – с улыбкой сказал лорд Дэвен, неожиданно входя, и помахал рукой в их сторону.
Все тотчас рассмеялись, и в особенности Дик, который находил эту пару комичной.
– Руперт, встаньте, – сказала Эдит. – Они смеются над нами.
– В таком случае, пусть себе смеются, – проворчал он, однако послушался и вслед за ней покорно направился к середине комнаты.
Пока они шли, чья-то очередная шутка, которой они не расслышали, спровоцировала очередной приступ хохота.
– Что вас так забавляет? – сердито спросил Руперт.
– Ах, Руперт, – ответила леди Дэвен, – они смеются, потому что вы любите сидеть в обществе своей нареченной. Но я не смеюсь. Я наоборот считаю, что так и должно быть.
– Табита высказалась не совсем точно, – вмешался в их разговор лорд Дэвен. – Мы не смеемся над красотой и доблестью, которые так прелестно дополняют друг друга в дальнем углу, мы лишь воздаем им дань нашего веселого и уважительного восхищения. Скажу честно, меня, человека пожилого и циничного, приводит в восторг, когда я вижу людей, столь поглощенных обществом друг друга. Это потому, мой дорогой Руперт, что ты еще не пресыщен жизнью. Француз в этом случае сказал бы следующее: «J'aime éperdument et pour toujours car je n'ai jamais éparpillé mon coeur; le parfait amour c'est la couronne de la vertu»[10]. Теперь ты пожинаешь богатый урожай вознаграждения за свою безупречную, как я предполагаю, юность. Счастлив тот мужчина, который, отвергнув соблазн или будучи сам от него отвергнут, сохраняет свою первую большую страсть для своей супруги.
Ответом на этот изощренный сарказм стали новые смешки, ибо все поняли намек, и тем более Руперт, который покраснел до ушей. На помощь ему пришла только леди Дэвен, которая попыталась смягчить его конфуз.
– Ба! – воскликнула она. – Твое остроумие, Джордж, попахивает серой и носит на своем хвосте острое жало. Почему ты насмехаешься над этими молодыми людьми, потому что они честны и не стесняются того, что любят друг друга, как это и должно быть? Не обращайте на него внимания и возвращайтесь в свой уголок, мои дорогие, и я приду и посижу перед вами. Или, по крайней мере, скажите им, что это им должно быть стыдно, ибо они не могут сказать, что не растеряли свои сердца, если я правильно поняла эти французские слова.
Затем во всеобщем веселье, вызванном смешанными метафорами леди Дэвен и ее странным предложением своими пышными формами загородить наших голубков от посторонних глаз, шутка перелетела от них к ней, как она на то и надеялась, и вскоре забылась. А вот ни Руперт, ни Эдит не забыли ее. И больше никогда не сидели вместе в гостиной дома на Гровнер-сквер, даже в отсутствие лорда Дэвена, за что Эдит, ненавидевшая публичные проявления чувств, была искренне благодарна.
Какое-то время после официального объявления о помолвке Руперт и Дик старались по возможности избегать друг друга. Руперт – потому что он так и не простил Дику его поведение на охоте, которое врезалось в его ум сильнее любых туманных намеков об отношениях Лермера и Эдит в прошлом. Кстати, этим намекам он никогда не верил и вскоре, будучи начисто лишен подозрительности, совершенно выбросил их из головы. Что касается Дика, у того имелись собственные причины избегать встреч со своим удачливым соперником, которому все вокруг воздавали почести.
Постепенно, однако, Эдит, жившая в постоянном страхе очередной вспышки страсти со стороны Дика, сумела сгладить различия между ними, по крайней мере внешне, ибо бездна, разделявшая их, была так глубока, что ее вряд ли можно было преодолеть. Более того, ее усилия в этом направлении едва не привели к тому, чего она больше всего хотела избежать, а именно – к открытой ссоре.
Случилось же это вот как. Произошло то, чего давно ожидали: член парламента от округа, в котором жил лорд Дэвен, подал в отставку, и Дик решил бороться за освободившееся место против сильного и популярного кандидата от консервативной партии. Его шансы на успех были не так уж и плохи, потому что этот округ давно был известен своей непредсказуемостью, а общество в целом не слишком благосклонно настроено к партии тори. Лорд Дэвен, который, будучи пэром, не мог принимать активное участие в избирательной кампании, любым доступным ему законным способом использовал свое богатство и влияние, чтобы протолкнуть в парламент своего кандидата.
Когда предвыборная гонка, в подробности которой нам нет необходимости вдаваться, близилась к концу, Дик сам предложил, что ему помогло бы, если бы на одной из встреч с избирателями Руперт выступил и рассказал про Египет и арабов, с которым ему довелось сражаться. Он отлично знал, что хотя сельские жители и ходят на политические дебаты и даже криками поддерживают ту или иную сторону – в зависимости от того, где, по их мнению, лежит их личная выгода, – на самом деле большинству из них куда интереснее волнующие истории из уст того, кого они уважают, нежели политическая полемика кандидатов.
Когда предложение это было озвучено, понятное дело, что Руперт тотчас же отклонил его. Теоретически он был либералом. Вернее, как и большинство честных и серьезных людей, он искренне желал процветания народу и принятия всех мер, которые этому способствуют. С другой стороны, он не был настроен столь радикально, как лорд Дэвен, для которого главным было произвести как можно больше политического шума. А еще он был тем, кого нынче принято называть империалистом: твердо верил в особую миссию Британии среди других народов земли и всей душой желал укрепления мощи империи, ибо это означало справедливость, мир и личную безопасность; освобождало раба и парализовало руки грабителю, давало пшенице возможность расти, а ребенку – смеяться.
Руперт считал, что попав в парламент, Дик вряд ли станет продвигать эти цели, а будет лишь выполнять роль рупора лорда Дэвена. Но тут вмешалась Эдит и попросила Руперта выступить не ради Дика, а ради нее самой. Она пояснила, что для блага семьи было бы полезно, если бы Дик выиграл это место. Это не только открыло для Руперта новые карьерные перспективы, в которых он, к сожалению, нуждался, но и сам Дик был бы ему за это благодарен.
В конце концов, Руперт уступил, забыв или не зная о том, что, будучи офицером в отпуске, он не имел права выступать от имени любой партии, о чем Дик не счел нужным его предупредить.
Встреча с избирателями, последняя в данной кампании, состоялась в зале собраний маленького сельского городка. Зал был набит до отказа, причем среди присутствующих были как сторонники Дика, так и внушительный контингент его противников. Сам кандидат произнес свою речь гладко и довольно убедительно – Эдит и другие не раз убеждались в том, что в карман он за словом не лез – под одобрительные крики сторонников и стоны врагов. На самом деле речь была самая заурядная, если не сказать, пустая, и представляла собой набор избитых фраз, призванных тронуть сердца присутствующих, однако произнесенная гладко и с большим чувством.
Вторым выступал тяжеловесный и нудный член парламента, который, еще до завершения своей речи, был освистан, а некоторые из сидящих на задних скамьях даже начали петь и топать ногами. Затем председатель, зажиточный местный производитель, встал и сказал, что сейчас выступит полковник Уллершоу, кавалер ордена Бани, кавалер ордена за Безупречную службу и турецкого ордена Меджидие (он произнес это как «Джи-джи»), а также множества разных медалей, не говоря уже о том, что он родственник и наследник их самого уважаемого друга и соседа, благородного лорда Дэвена, и потому близок им всем. Доблестный полковник не станет произносить политических речей, ибо на сегодня с них хватит политики (в ответ на это публика разразилась одобрительными криками «Слушайте! Слушайте!»), но расскажет им про войны в Египте, и хотя многие из присутствующих не одобряют войн, об этом им все равно будет интересно услышать, так как в любом случае они заплатили за них из своего кармана. (И вновь «Слушайте! Слушайте!».) Да, он назвал Руперта доблестным воином, в чем они убедятся, когда он расскажет им одну историю, и к великому ужасу Руперта, который буквально извивался на стуле, сидя позади этого ужасного человека, и к веселью Эдит, сидевшей с ним рядом, председатель поведал присутствующим приукрашенную версию подвига, за которую он не получил крест Виктории, а когда закончил, чей-то голос крикнул: «Все верно. Я был там. И видел, как полковник вынес этого солдата!» (И снова раздались бурные одобрительные возгласы.)
Что делать? Под гром рукоплесканий Руперт поднялся с места. Он был не любитель произносить публичных речей, и хотя голос его был громким и звучным, ему в самом начале плохо удавалось завладеть вниманием публики. Первые минут пять Дик и его агент, решив, что это полный провал, начали совещаться, решая, как увести его с трибуны. Эдит буквально сжалась от унижения. Внезапно, когда Руперт пустился в длинные, научные объяснения египетских военных кампаний, кто-то из зала крикнул:
– К черту учебник истории, расскажи нам лучше про Гордона[11].
Руперт тотчас преобразился. Гордон был его любимым героем, человеком, которого он лично знал, любил и уважал. И он начал рассказывать им о Гордоне, о его славной и отчаянной кампании, предпринятой по просьбе правительства, о его мужестве перед лицом численно превосходящего врага, когда он с болью в сердце слишком поздно ожидал посланное подкрепление. О марш-броске, отправленном на его спасение, в котором он, Руперт, принимал участие, рассказал подробности мученической гибели Гордона. Затем, как будто совершенно забыв, зачем он здесь находится и кого пришел поддержать, он разразился красноречивой тирадой в адрес тех, на ком, по его мнению, лежала ответственность за гибель Гордона.
В завершение своей речи, а также в ответ на голос из зала, заявивший, что на самом деле Гордон жив, Руперт процитировал наизусть несколько знаменитых стихотворных строк:
Он больше не придет, напрасно мы зовем, Он больше не придет, свободный от оков И смертной плоти, и мирских соблазнов, От лжи политиков и королевских ласк.Прочтя их, он внезапно сел под бурю рукоплесканий, смешанных с криками «Позор!», коими наполнился весь зал.
– Боже милостивый! – яростно воскликнул Дик и добавил, обращаясь к своему агенту: – Боюсь, как бы из-за этой речи мы не проиграли выборы!
– Я бы не удивился, – хмуро ответил тот. – Зачем ты вообще привел его сюда? Уж лучше бы нес обычную партийную болтовню.
– Вы хотите, чтобы мы голосовали за этих пустозвонов, мастер? – выкрикнул кто-то из собравшихся в зале.
За этим, как сообщалось в местной газете (к счастью для Руперта его слова были напечатаны только в ней), последовала «невероятная суматоха», вылившаяся во всеобщую драку. Вне себя от ярости, Дик, работая локтями, проложил себе путь в гуще этой потасовки к Руперту и, потрясая кулаком у его лица, крикнул:
– Черт тебя подери, ты сделал это нарочно! Из-за тебя я лишился места в парламенте, но рано или поздно я расквитаюсь с тобой, мерзкий лицемер…
Он не договорил. В следующий миг тяжелая правая рука Руперта с силой опустилась ему на плечо и заставила сесть в кресло:
– Ты сам не знаешь, что говоришь! – рявкнул Руперт. – Но если ты произнесешь хотя бы одно слово в этом духе, клянусь, я сброшу тебя со сцены.
Чувствуя на своем плече тяжесть его руки, Дик промолчал.
На этом можно завершить наш рассказ об этом трагикомическом случае, который в очередной раз подтвердил, что на партийные митинги лучше не приглашать неопытных и слишком честных помощников. Дик воспринял свой провал крайне болезненно, а вот лорд Дэвен, который по идее должен был прийти в ярость, к великому удивлению Эдит, счел этот случай забавным. Более того, он заявил, что понимает это Дик или нет, но одна только эта восхитительная история стоит всей избирательной кампании.
Поняв, что натворил, Руперт глубоко раскаялся и даже написал Дику письмо с извинениями, в котором «сожалел, что в порыве волнения рассказал правду о Гордоне», и даже позволил ему, при необходимости, «опубликовать текст письма». Дик не воспользовался этим великодушным предложением. Но по совету лорда, он написал ответ, в котором саркастически заявил, что виноват во всем сам, ибо ему следовало помнить, что «те, на чьем счету выдающиеся подвиги, обычно обделены даром произносить публичные речи, и от них нельзя ждать понимания партийных дел, которые крайне редко требуют, чтобы кто-то сорвал последнюю завесу с Правды, какой бы чистой и прекрасной та ни была». В конце письма он в свою очередь принес извинения за любые слова, которые могли быть им сказаны «в порыве волнения».
Таким образом, по крайней мере, внешне, их раздор был улажен. И все же Дик не забыл своего обещания рано или поздно расквитаться с Рупертом, а также тяжесть руки соперника на своем плече, каковая давала о себе знать еще много дней.
В конце предвыборной гонки деньги и интересы Дэвенов все же взяли верх. Дик одержал триумфальную победу с небольшим, но достаточным перевесом в пятнадцать голосов, которые при пересчете дали тринадцать. Через несколько дней он занял место в парламенте, где был доброжелательно встречен другими членами партии, для которых исход этих выборов был крайне важен.
Дику не пришлось долго ждать, чтобы расквитаться с Рупертом. Так случилось, что 11 апреля, за два дня до церемонии бракосочетания, в коридорах парламента он встретился с лордом Саутвиком и разговорился с ним.
– Кстати, – произнес тот, – как жаль, однако, что Уллершоу женится. Потому что у нас есть работа как раз для него.
– И какая же? – навострил уши Дик.
– О, нам нужен кто-то, кто хорошо знает повадки этих наглых арабских шейхов, что живут вдоль границы близ Вади-Хальфы. Секретная миссия, цель – без лишнего шума перехитрить их. Как вы понимаете, я не имею права вдаваться в подробности, хотя вы вряд ли выдадите меня кому-то. Офицер, который будет отправлен туда, должен быть досконально знаком с арабами, знать привычки и обычаи местных дикарей. Как только об этом зашел разговор, тотчас было названо имя Уллершоу, но я сказал, что через два дня приглашен на его свадьбу, а так как мы не могли подобрать для этой миссии никого другого, было решено отложить этот вопрос до завтрашнего дня.
– И когда он должен уехать? – спросил Дик.
– Как можно раньше, потому что дело срочное. Поездом, в пятницу, в семь часов вечера. Увы, это как раз тот день, когда у него свадьба. Ужасно жаль, потому что для него это великолепный шанс, да и для нас тоже.
Дик задумался на мгновение, а потом его осенило.
– Мой кузен Уллершоу – странный малый, – сказал он, – и я не совсем уверен, что, если дать ему это поручение, женитьба встанет между ним и долгом. Насколько много времени зайдет эта миссия?
– О, он вернулся бы уже месяца через три. Хотя, как вы понимаете, она сопряжена с определенным риском. Поэтому нам нужен кто-то с железными нервами.
– Уллершоу обожает риск. Можно сказать, это задание как будто скроено по его мерке. Послушайте, лорд Саутвик, почему бы и вправду не дать ему такой шанс? С вашей стороны это был бы щедрый жест. Жаль лишать его такой возможности лишь потому, что он совершает преступление женитьбы, а супружеское блаженство подождет три месяца. Пошлите за ним и спросите его. Во всяком случае, он оценит такое внимание к себе.
– Будь я женат всего час-другой, я бы о себе такого не сказал, – ответил лорд Саутвик. – Однако есть, конечно, вещи и поважнее. Посмотрю, что на это скажет мой начальник. Скажите, по какому адресу я могу отправить ему телеграмму?
Дик назвал адрес, затем, немного подумав, добавил к нему также адрес лорда Дэвена на Гровнер-сквер, где Руперт, скорее всего, будет завтра днем, заметив, что, по его мнению, будет разумно продублировать обе телеграммы.
– Отлично, – сказал заместитель военного министра, записывая адреса. – Завтра днем этот вопрос так или иначе решится, а пока разрешите откланяться, – сказал он и повернулся, чтобы уйти.
– Всего одно слово, – остановил его Дик. – Буду вам крайне благодарен, если вы не станете называть мое имя в связи с данным вопросом. Разумеется, я желаю ему только добра, но кто знает, как воспримет это его супруга. Не хотелось бы, чтобы потом она меня выбранила бы за это.
– Понял, – с усмешкой ответил лорд Саутвик. – И постараюсь не забыть.
«Вряд ли Эдит будет рада провести свой медовый месяц среди дикарей Судана, – размышлял про себя Дик со злорадной улыбкой, шагая коридорами парламента. – „Сопряжено с определенным риском“. Да, дружище Руперт. Гордон отправился с особой миссией в Судан, и так и не вернулся».
* * *
На следующий день в четыре часа пополудни, когда Руперт выходил из дома матери, чтобы проведать Эдит на Гровнер-сквер, где она пока обитала, посыльный сунул ему в руку телеграмму, в которой говорилось следующее:
«Немедленно явитесь в военное министерство. Должен поговорить с вами о важном деле. Буду ждать до пяти. Саутвик».
Недоумевая, зачем он понадобился, Руперт велел кэбмену отвезти его на Пэлл-Мэлл и через полчаса после получения телеграммы вручил свою визитку. Вскоре его провели, но не к заместителю военного министра, а в другой кабинет, где его ждал статс-секретарь, а с ним лорд Саутвик.
– Быстро, очень даже быстро, полковник Уллершоу, – сказал статс-секретарь. – Замечательное качество в офицере. А теперь садитесь, и я кратко изложу вам основные пункты этого дела. Если вы согласитесь, лорд Саутвик введет вас в курс подробностей. Как я понимаю, вы хорошо знаете район Вади-Хальфы, шиллукских арабов и их вождей? А также, насколько мне известно, говорите по-арабски? Более того, у вас имеется дипломатический опыт, не так ли?
– На все ваши вопросы отвечаю утвердительно, – сказал Руперт.
– Отлично. Эти шиллуки давно мутят воду, грабя и убивая людей в окрестностях Абу-Симбела. Согласно нашим отчетам, с которыми вы можете ознакомиться позднее, главный смутьян – некий мерзавец по имени Ибрагим, он же шейх Пресных Колодцев. Знаете такого?
– Да, сэр, – ответил Руперт с легкой усмешкой, – однажды он угрожал убить меня.
– Охотно в это верю. А теперь послушайте. Нам сообщают, что некоторые из этих шиллукских вождей, включая самого влиятельного, устали от Халифы и его мелких подлостей и готовы заключить с нами мир, если только найдется тот, кого они хорошо знают, а им при этом позолотят ручки. По ряду причин правительство Египта не хочет посылать к ним посольство и даже никого из офицеров, которые там сейчас находятся. Дело в том, что это тотчас дойдет до Халифы, и тот может напасть на них. В этом деле нужен посланник, на первый взгляд, путешествующий по своим собственным делам и даже, если такое возможно, переодетый арабом, который бы незаметно добрался до шиллуков и заключил с ними договор. Думаю, мне не нужно говорить о том, что любой, кто сумеет это сделать, может рассчитывать на благодарность египетского правительства, а со временем его труды будут оценены по достоинству. В общем, полковник Уллершоу, мы подумали и решили, что вы и есть тот самый человек, тем более что вам будет сопутствовать наша полная уверенность в вашем успехе.
– Для меня это высокая честь, – ответил Руперт и даже покраснел. – Я с радостью возьмусь за эту миссию, тем более что я понимаю этих людей, а кое-кого могу даже назвать своими друзьями. Скажу больше, самый влиятельный из них сопровождал меня на охоте, и если кто-то может убедить его, то думаю, это буду я.
– Разумеется, это сопряжено с риском, – многозначительно добавил лорд Саутвик, ибо в данный момент его доброе сердце взяло над ним верх.
– Я не боюсь риска. По крайней мере, мне к нему не привыкать, милорд, – спокойно ответил Руперт.
– Есть еще одна вещь, – продолжал лорд. – Допустим, ваша миссия обернется провалом, а мы не можем исключать такую вероятность: в этом случае, может статься, – ибо мы пока не получили на этот счет четких указаний, – что власти сделают вид, будто ничего не произошло или же используют это как предлог, чтобы напасть на них. Короче, вы не получите никаких письменных инструкций, а все необходимые средства будут вам выданы золотом.
– Я понял, – ответил Руперт. – Мне все равно, при условии, что в результате такого развития событий не пострадает моя репутация и я не понесу за это наказания. Скажите только, – добавил он, внезапно вспомнив про предстоящее бракосочетание, – когда я должен отбыть?
– Завтра вечерним поездом, – сообщил статс-секре-тарь, – ибо условия могут измениться, а дело не допускает отлагательств.
У Руперта от удивления отвисла челюсть.
– Но я завтра в половине третьего женюсь, сэр.
Статс-секретарь и лорд Саутвик переглянулись. Затем лорд заговорил:
– Мы в курсе, полковник Уллершоу, тем более что один из нас имеет удовольствие присутствовать на вашем бракосочетании. И все же, поскольку это в ваших собственных интересах, а тем более, как вы понимаете, в интересах страны, мы сочли необходимым вам первому предложить эту деликатную и ответственную миссию. Понимая вашу ситуацию, мы не требуем от вас, чтобы вы непременно согласились, тем более что в случае вашего отказа, за который мы никогда не станем вас упрекать, у нас есть другой офицер, жаждущий занять ваше месте. В то же время, скажу вам со всей откровенностью, я не думаю, что вы откажетесь, ибо, я уверен, что вы из тех людей, которые ставят долг превыше всех прочих соображений. А теперь, хотя мне не хочется вас торопить, ибо такие решения принимают, лишь тщательно взвесив все за и против, я, тем не менее, вынужден просить вас дать мне ответ, поскольку тот второй джентльмен должен иметь хотя бы двадцать четыре часа на сборы.
Руперт встал и дважды прошелся по комнате из конца в конец. Все это время они не сводили с него взгляда, причем, лорд Саутвик – с тревогой. На втором повороте Руперт остановился напротив статс-секретаря.
– Вы употребили слово «долг», сэр, – произнес он. – И посему не оставили мне выбора. Я принимаю возложенную на меня миссию, ибо считаю это честью для себя.
Лорд Саутвик открыл рот, чтобы что-то сказать, но статс-секретарь его опередил:
– Поскольку полковник Уллершоу ответил согласием, думаю, нам нет смысла терять время на дальнейшие разговоры. Полковник Уллершоу, я благодарен вам за проявленную силу духа, в коей я ничуть не сомневался, как ознакомившись с вашим послужным списком, так и на основе собственного суждения о вас, вынесенного из нашей предыдущей беседы. Вы как истинный солдат ставите долг перед Ее Величеством и страной выше личного счастья и благополучия. Я верю, – нет, скорее, я убежден, – что наша с вами сегодняшняя договоренность станет не просто исходным пунктом, в этом никто не сомневается, но огромным шагом в великой и славной карьере. Всего хорошего. Желаю вам всяческих успехов. Лорд Саутвик сейчас пригласит вас к себе в кабинет, где ознакомит с подробностями дела.
– Это довольно жестоко, – сказал лорд Саутвик, когда дверь за Рупертом закрылась, – все-таки, это день его женитьбы и все такое прочее. Допустим, его убьют, а скорее всего, так и будет…
– Много солдат, столь же доблестных, если не лучше, погибли, исполняя свой долг, – ответил его начальник, напыщенный тип, привыкший брать пример со спартанцев, по крайней мере, когда это касалось других людей. – Как и все остальные, он должен рискнуть. Если у него все получится, присвойте ему звание рыцаря-коммандера ордена Бани или что-то в этом роде.
– Мертвым от орденов никакой пользы, как, впрочем, и их вдовам, – проворчал лорд Саутвик. – Наверно зря мы заговорили с ним о долге. Видите ли, в нем есть нечто от Дон Кихота, а так как ему даже не светит повышение, ни о каком долге не может быть и речи. Он лишь наша последняя надежда и нужен исключительно для того, чтобы проложить путь для подкупа или для нового наступления, о чем, разумеется, ни слова. Не говоря уже о том, что в случае неудачи от него наверняка открестятся, заявив, что он де превысил свои полномочия.
– Послушайте, Саутвик, – натянуто сказал его начальник, – жаль, что это не пришло вам в голову до того, как вы предложили ему эту миссию, кстати, как я понял, с подачи его родственника. В любом случае, решение принято, и назад дороги нет. К тому же, с государственной точки зрения, нам крупно повезло с Уллершоу, так как он – единственная подходящая нам кандидатура, а этот майор, как его там по имени, невежественный и заносчивый тип, в пользу которого можно сказать лишь то, что он знает арабский. Этот бы точно все провалил. Имея перед собой пример того, что случилось несколько лет назад, мы не можем публично брать на себя ответственность. Если его убьют, значит, его убьют, но мы здесь ни при чем. Если останется жив, станет рыцарем-командором ордена Бани и насладится медовым месяцем. А пока выкинем его из головы. У вас есть что-то еще? Нет? В таком случае, позвольте откланяться. Меня ждут дела в Парламенте.
Глава X. Супруги
Руперт покинул стены военного министерства в задумчивости. Он провел с лордом Саутвиком около часа, обсуждая детали миссии, опасность и сложность которой он только теперь осознал, миссии из разряда тех фантастических посольств, которые кажутся легкими лишь тем, кто сидит дома и кому не надо выполнять их лично. Впрочем, он не возражал, ибо любил приключения. Более того, лелеял в душе надежду, что доведет дело до успешного конца, и отлично понимал его важность, а именно, подготовить условия для наступления на Халифу и помочь усмирить Османа Дигну, вождя, который в последнее время развил в окрестностях Суакима слишком бурную деятельность.
Но что скажет Эдит? И главное, в день их свадьбы? Поймет ли она его? Он приехал на Гровнер-сквер, однако Эдит примеряла свадебное платье и не захотела его видеть. Лишь прислала ему записку, что, мол, это ужасно обидно, добавив, что она прождала его полтора часа, но, в конце концов, все же была вынуждена спуститься вниз, так как портниха спешила по другим делам.
Поэтому он вернулся домой, так как должен был переодеться и отвезти мать на Гровнер-сквер, где, вопреки ее воле, после ужина она должна была заночевать. Лишь когда они с ней сидели в карете, он, наконец, смог сообщить ей о том, что произошло.
Миссис Уллершоу пришла в ужас и не знала, что сказать. Но разве она могла винить его? Она сказала лишь то, что по ее мнению, это весьма прискорбно, однако предположила, что вместо Парижа Эдит захочет сопровождать его в Египет. Когда же они прибыли на Гровнер-сквер, дальнейший разговор стал невозможен.
Они приехали рано, и Руперт послал Эдит записку, что хотел бы поговорить с ней в будуаре леди Дэвен. Вскоре она появилась, в роскошном платье, и принялась упрекать его за то, что он даже не навестил ее днем, как обещал.
– Ты простишь меня, когда узнаешь, почему, – ответил он и быстро поведал ей свою историю.
Эдит в растерянности выслушала его, затем сказала:
– То есть ты уезжаешь в Судан уже завтра, через три часа после нашей свадьбы, я правильно поняла?
– Да, моя дорогая, у меня нет выбора. Мне преподнесли это как мой долг, более того, это сделал сам статс-секретарь. К тому же, откажись я, так рано или поздно это бы мне припомнили. Ты же знаешь, как для меня важно продвигаться по службе ради тебя.
– Мне казалось, что первейший долг мужчин – это их жены, – ответила Эдит, хотя и довольно мягко, ибо его ремарка про карьеру была ей приятна.
Он был прав. В глазах Эдит его карьера была крайне важным делом.
Более того, подумав, она решила, что эта быстрая и внезапная разлука не станет для нее слишком болезненным ударом. Последнее время она виделась с Рупертом почти каждый день и была не против отложить более постоянные и интимные отношения с ним, в которых, собственно, и состоит суть брака. Будь она влюблена в него, все, конечно, было бы иначе, но, увы, в груди Эдит не пылало пламя любви, ей хватало того огня, который горел в душе Руперта. Очевидный вывод был таков: из Судана супругу можно уважать и любить, и даже сочувствовать ей, не меньше, чем живя в Лондоне. Затем, когда она уже приготовилась признать, пусть даже через силу, что возможно, это даже к лучшему, как бы это ни разрывало ее чувств, ей в голову пришла новая мысль. Что, если Руперт ждет, что она согласится сопровождать его туда?
– Как это ужасно, расстаться сразу после свадьбы! – сказала она и даже всхлипнула. – Как я понимаю, ты не возьмешь меня с собой?
Руперт тотчас просиял.
– В принципе, ты могла бы поехать, – ответил он. – Но есть определенные трудности. Мало времени на сборы, в Египте начинается жаркое время года, в Каире и Александрии вспышка холеры, а я буду вынужден оставить тебя в одном из этих городов.
– Не стану притворяться, дорогой Руперт, будто я люблю жару или с радостью заболею холерой, а так наверно и будет, потому что ко мне вечно что-то цепляется. И все же, – произнесла Эдит, глядя на него с нежностью, – я полностью готова пойти на риск, если ты считаешь, что от меня тебе будет хоть какая-то душевная поддержка и польза.
– Душевная поддержка, да. Польза – нет, – пробормотал он, скорее себе самому, нежели ей.
В его душе шла борьба. Он с болью думал о том, что расстанется с женой едва ли не на пороге церкви. Какое горькое разочарование! Так вероятно бывает со всеми, кто женится по любви. От этой мысли у него начинало болеть сердце. Вместе с тем он знал, что Эдит будет страдать от жары, так как мать уже сказала ему об этом. Из письма, полученного из Каира, ему было известно, что холера была такой заразной, что все живущие там, а также в Александрии и Порт-Саиде европейцы, особенно, женщины и дети, которые могли позволить себе уехать из страны, уже это сделали. Имеет ли он право из эгоизма брать туда с собой в начале жаркого сезона не привыкшую к египетскому зною жену-англичанку, да еще во время эпидемии? Что, если она заболеет? Что, если с ней что-то случится? При одной только мысли об этом он побледнел и сказал:
– Эдит, я не хочу тебя расстраивать. Но мне кажется, тебе лучше подождать до конца лета, да и эпидемия к тому времени закончится. Тогда ты сможешь приехать ко мне в Каир. Или даже я смогу вернуться в Англию и забрать тебя.
– Как скажешь, дорогой, – ответила она со вздохом. – Ибо я не хочу спорить с тобой. Я бы предложила поехать вместе с тобой, по крайней мере, до Египта, но я не хочу стать для тебя обузой. Из меня скверная путешественница: в поезде меня укачивает, что уж говорить про корабль! Придется возвращаться, причем одной, да и кто позаботится в твое отсутствие о твоей матери? И все же, как ты думаешь, может, мне стоит рискнуть?
– Да, то есть, нет! Это просто абсурд! Черт бы побрал статс-секретаря и лорда Саутвика, а с ними заодно и все военное министерство до самых подвалов, куда бы я бросил все эти шиллукские племена! О, прости меня, я не должен говорить таких вещей в твоем присутствии, но честное слово, тут волей-неволей выйдешь из себя! – И в кои-то веки уступив порыву своей честной страсти, Руперт заключил ее в объятия и страстно поцеловал.
Эдит не сопротивлялась. Наоборот, даже улыбнулась и вернула ему один процент его ласк. Но даже столь бурное завершение их разговора не породило в ней желания оспорить соглашение, которого они достигли. Скорее, наоборот. Но хуже всего было другое – внезапное осознание этого наполнило ее чувством стыда, – что будь на месте Руперта Дик и получи он внезапный приказ отправиться в Египет, ни море, ни зной, ни вспышка холеры, которая внушала ей отвращение и страх, не остановили бы ее от того, чтобы сопровождать его туда.
За ужином стало известно о миссии Руперта, правда, за исключением подробностей, которые держались в секрете. Не скажу, что это добавило присутствующим веселья. Хотя аппетит Дика, похоже, не пострадал, он выразил без пяти минут новобрачным свое сочувствие, особенно Эдит. Лорд Дэвид был немногословен, но вид у него был раздраженный. Что тогда говорить о его чувствах! Эдит сидела подавленная и молчаливая. Руперт был мрачен. Миссис Уллершоу, которая расстроилась как за себя, так и за сына, была готова расплакаться. Лишь Табита была полна сочувствия и возмущения, однако все другие не решались обсуждать эту тему. Как и Руперт, она отругала военное министерство, и в первую очередь того, кто бы это ни был, кому пришло в голову отправить Руперта с этой миссией в Египет в день его женитьбы.
– Бездушный сухарь, человек без стыда и совести, – кипятилась она, как обычно переводя свои мысли с немецкого.
Надо сказать, она попала в самую точку, не говоря уже про убежденность, с какой было высказано это мнение. Дику оставалось лишь надеяться, что лорд Саутвик не забудет свое обещание не разглашать его личное, но весьма важное участие в этом назначении.
– Ах, моя дорогая Эдит, – продолжала она, – как же это неудобно и для вас тоже, ведь, как я понимаю, вы готовы отправиться на Восток завтра вечером?
Ее слова стали сродни взрыву бомбы. Взрыв этот потряс Эдит до такой степени, что она растеряла остатки самообладания.
– Я никуда не еду, – неуверенно сказала она. – Дик…
– Дик? А при чем здесь Дик? – воскликнула леди Дэвен, набросившись на нее как кошка на мышь.
– Ни при чем, уверяю вас, – испуганно поспешил вмешаться сам Дик, – она имела в виду Руперта.
– А, рада слышать. Мне почему-то кажется, что рядом с Эдит всегда слишком много Дика, даже сейчас, когда она выходит замуж. Да, и также везде!
«Пожалуй, Табита права. Действительно, Дика слишком много», – подумал ее супруг, но вслух ничего не сказал, лишь продолжал пить шампанское, наблюдая за развитием событий.
Вот и Дик, хотя и смотрел хмуро, тоже промолчал, ибо побаивался леди Дэвен и по-своему ценил проницательность, которая таилась за ее дородной, непробиваемой внешностью. Тогда, со свойственной ему галантностью проигнорировав ее заявление насчет Дика, Руперт пришел Эдит на выручку, пояснив, что это он, и никто другой, настоял на том, чтобы она осталась в Англии и изложил причины, которые нам уже хорошо известны.
Пока он путано излагал свою историю, леди Дэвен, как обычно, терпеливо выслушала его, а когда он закончил, Эдит, сумевшая за это время вернуть себе самообладание, заявила слегка оскорбленным тоном:
– Теперь вы понимаете, Табита, что были несправедливы ко мне. Я… я хотела поехать.
Увы, уже в следующий момент она пожалела о том, что не смолчала, ибо леди Дэвен с убийственным спокойствием парировала:
– Вот как? Неужели? Тогда мне вас искренне жаль, что вы не в состоянии на него повлиять. Было бы лучше, если бы вы поехали. Зачем вы сказали ему, что плохо переносите жару и боитесь заразиться холерой? Лично он об этом даже не думал, ибо ничего не боится. Но довольно, это слишком неприятная тема. Давайте лучше поднимемся наверх и обсудим свадебные подарки.
Так и поступили, хотя и с опозданием, ибо терзаемая сомнениями, гневом и больной совестью, Эдит была на грани слез.
Тем вечером, после того как Руперт уехал домой, между Эдит и лордом Дэвеном в библиотеке состоялся разговор.
– В чем смысл всего этого? – спросил он ее. – Признайся честно, кто придумал для Руперта эту миссию? Неужели вы?
– Боже упаси! – со всей страстью ответила она, в кои-то веки с чистой совестью. – Как вы можете меня в этом обвинять?
– Рад это слышать, – ответил лорд, отметив про себя ее возмущение. – В таком случае, это наверняка Дик. Тсс, ни слова, сначала выслушайте меня. Предложение послать Руперта в Египет было сделано более недели назад. Услышав об этом в палате лордов, я тотчас ответил категоричным «нет». Мне доподлинно известно, что Дик виделся вчера с лордом Саутвиком, ибо последний сообщил мне об этом в своей записке, после чего эта идея получила вторую жизнь. Можете сделать собственные выводы.
– Не верю! – вскричала Эдит. – Неужели он способен на такую низость?
– Вы слишком высокого мнения о своем кузене. А вот я, со своей стороны, даже не сомневаюсь. Способен, еще как способен! Впрочем, ничего не поделаешь, как говорится, что случилось, то случилось. Разумеется, Табита была права. Уважаю ее способность видеть суть вещей. Что бы ни произошло между вами, это вы, Эдит, отказались ехать в Египет, а не Руперт запретил вам это делать. Вы прекрасно знаете, что легко могли уговорить его взять вас с собой. Вы могли бы заявить, что ни за что не останетесь здесь одна. Вы же завели разговор про морскую болезнь, жару и холеру, как он то поведал нам за столом.
Эдит сидела молча. Как и многие другие женщины до нее, она понимала всю тщетность попыток спорить с этим холодным, безжалостным человеком, тем более что правда была на его стороне.
– А теперь скажите мне, – продолжал он, – почему вы отказались поехать вместе с ним? Только прошу вас, будьте честны, мне не нужны отговорки. Я вас сразу раскушу. Как сказала Табита, потому, что вокруг вас по-прежнему слишком много Дика. Вы не любите мужчину, за которого собралась замуж. Вы чураетесь его. Я видел, как вы сжимаете кулаки и поджимаете губы, когда он прикасается к вам. Вы рады возможности отложить супружескую жизнь. Вам даже подумалось, – с этими словами лорд Дэвен нагнулся над ней и заглянул ей в глаза, – что с таких миссий, как эта, не возвращаются, точно так же, как об этом подумал Дик. Такие люди уходят в сиянии славы и обретают бессмертие, как Гордон, либо исчезают тихо и незаметно, и вскоре о них уже никто не вспоминает, как это случилось со многими, хотя они почти не уступали ему в храбрости.
Не в силах это больше слышать, Эдит с криком «Довольно! Довольно!» вскочила на ноги.
– Ну, хорошо, а как тогда насчет всего остального?
– Если и да, то неужели это только моя вина? – ответила она. – Я сама принимала решение, или кто-то принудил меня к этому браку?
– Прошу вас, поймите меня, Эдит. Я нисколько не укоряю вас за то, что Руперт вам неприятен. Более того, я отлично вас понимаю и всем сердцем вам сочувствую. Ибо если он кому и неприятен, то в первую очередь мне, причем, по куда более веской причине. Что до всего остального, то я предложил вам выйти за него замуж, но отнюдь не принуждал к этому браку. И я по-прежнему стою на этой точке зрения по ряду серьезных причин, которые перевешивают такие вещи, как личная симпатия или антипатия, но, повторюсь, я отнюдь не принуждаю вас. Если хотите, можете использовать его миссию как предлог, чтобы перенести бракосочетание на более поздний срок, после чего о нем постепенно забудут. Но только помните, что документ, который я подписал сегодня, полетит в огонь, вернее, два документа, мой вам денежный дар и завещание. Помните, что Дик покинет стены этого дома и, как следствие, стены Палаты общин, и окажется в сточной канаве, украшать которую ему предписано самой природой. И наконец, помните, что отныне вы заботитесь о себе сама и сама зарабатываете на хлеб насущный и прочие необходимые вам вещи. Думаю, теперь вам понятно, что я ни к чему вас не принуждаю, ибо, когда речь идет о бесценном органе, которое именуют сердцем, умные женщины – а вы, надеюсь, из их числа – не позволяют материальным пустякам давить на них.
Эдит застыла, словно статуя. Затем, вытащив из-за корсажа розу, она принялась отрывать лепесток за лепестком. Лорд Дэвен закурил сигарету и дождался, когда от розы останется одна только чашечка.
– Итак, – спросил он, – что там сказал оракул? Думаю, что как и всегда, он и на сей раз оказался прав. – И он посмотрел на лепестки на полу и стебель в ее руке.
– Почему вы так жестоки ко мне? – со стоном спросила Эдит, тем самым признавая его превосходство над собой, и выпустила из рук стебель розы. – Мужчине не подобает насмехаться над беззащитной женщиной, на которую свалилось сразу столько бед.
По холодному лицу лорда промелькнуло нечто похожее на раскаяние и даже любовь.
– Простите, – произнес он, – я не хотел вас обидеть, но мы с вами взрослые люди, и должны иметь дело с фактами, а не с чувствами и увлечениями. Я всего лишь четко излагаю факты, не более того.
– И каковы ваши факты? – задала новый вопрос Эдит. – Я влюблена в Дика Лермера? Я это отрицаю. Не влюблена сейчас и никогда не была, хотя, согласна, что по-своему он притягивал к себе какую-то часть меня, даже когда другая часть ненавидела и презирала его. Что я не люблю Руперта, за которого выхожу замуж. Это я тоже отрицаю, но верно и то, что какая-то часть меня избегает его, хотя другая ценит его и уважает, ибо он выше всех нас вместе взятых, за исключением разве что Табиты. Будь он моим отцом или братом, я бы обожала Руперта Уллершоу. Вы наверняка думаете, что я выхожу за него из-за денег или его карьеры, или потому что боюсь навлечь на себя ваш гнев. Это тоже неправда. Не знаю, поймете ли вы меня, и смогу ли я объяснить это вам. Но я говорю вам, что хотя это погубило бы меня, ибо знаю, что вы сдержите слово, я бы поступила так, как вы предлагаете, а именно, перенесла бы заключение брака, чтобы впоследствии вообще расторгнуть помолвку, если бы не одна вещь. И вот какая. Я чувствую, что это мое личное отвращение лишь временное, что настанет время, а оно непременно настанет, когда от этого чувства не останется и следа, и что я полюблю его так, как желаю его любить, всем сердцем, душой и телом.
Лорд Дэвен пристально посмотрел на нее.
– Любопытно, весьма любопытно, – произнес он. – Нет-нет, я не смеюсь над вами, Эдит. Более того, я вам верю и не исключаю того, так оно и будет, хотя, возможно, слишком поздно. А пока, дабы покончить со злом дня нынешнего, скажите, вы отправитесь вместе с ним в Египет или будете ждать, когда оно произойдет, это внутренне перерождение внутренней женщины?
Похоже, у Эдит не осталось духа отвечать на этот усеянный колючками вопрос, потому что она лишь сказала:
– Я еще раз предложу поехать вместе с ним в Египет. Более того, теперь я желаю уехать, подальше от всех вас. А еще я хотела бы там умереть, пусть даже от этой жуткой холеры, – пылко добавила она. – Но я говорю вам, я знаю Руперта и теперь, как вы сказали, уже поздно. После этой кошмарной сцены за столом он не возьмет меня с собой, ибо будет думать, что, поступив так, он бросит на меня тень, что это будет своего рода признанием в том, что это я не хотела сопровождать его, а не он – брать меня с собой.
– Возможно, – ответил лорд Дэвен. – Я всегда считал, что нет ничего сложнее, нежели развязывать узлы. Поэтому мудро поступают те, кто их не затягивает.
После этих слов, сломленная духом и с болью в сердце, Эдит, пошатываясь, направилась к себе в комнату. Когда она ушла, лорд Дэвен выкурил еще две сигареты. После чего сел и с великим тщанием составил письмо, которое затем переписал набело и, адресовав полковнику Уллершоу, спрятал в стол.
Далее мы можем сказать, что Эдит была совершенно права. Хотя Руперт отдал бы все на свете, чтобы взять ее с собой, когда это было сказано ему на следующий день в присутствии лорда Дэвена, несмотря на все доводы и мольбы Эдит, он наотрез отказался взять ее в Египет, причем, именно по тем причинам, что она и предвидела. Он был слишком порядочен, чтобы решиться на любой шаг, способный, по его мнению, опорочить ее имя. Поэтому когда вмешался лорд Дэвен, Руперт довольно высокомерно ответил, что лишь ему и никому другому решать, что будет лучше для его супруги.
Таким образом, вопрос был окончательно решен.
* * *
День женитьбы запомнился Руперту как нечто туманное и суматошное. Большую часть утра он был вынужден провести в военном министерстве, уточняя детали предстоящей миссии. Оттуда он помчался домой, чтобы собрать вещи, переодеться и отправить багаж на вокзал Черинг-Кросс. В результате он успел в церковь Святого Георгия на Ганновер-сквер лишь за несколько минут до прибытия невесты.
Шафер, его старый друг по службе в Индии, к которому он ездил в гости на следующий день после помолвки, отчитал его за опоздание и, усадив на скамью, велел надеть перчатки, а также спросил, куда он подевал кольцо. Последнее нашлось, но лишь после усердных поисков. Краем глаза заметив, что церковь полна модно одетой публики, Руперт решил, что все неодобрительно смотрят на него по причине его неряшливого вида, что так и было. Затем зазвучал орган, и вся эта нарядная конгрегация повернулась и устремила взгляды в проход. Друг наступил Руперту на ногу, ткнул локтем в ребра и громким шепотом велел просыпаться, так как к нему идет невеста.
Обернувшись, Руперт увидел, что сопровождаемая свитой подружек, высокая, бледная и прекрасная в белизне блестящего атласа и жемчуга по проходу к нему, словно этакое небесное видение, плывет Эдит. С этого момента он не видел больше ничего, даже лорда Дэвена, который вел ее под руку. Модно одетая конгрегация, епископ в мантии и другие священнослужители, суетливый, вездесущий шафер, сияющие улыбками подружки невесты, каменное лицо лорда Саутвика – все это исчезло. Не осталось ничего, кроме бледного, серьезного лица Эдит, на котором ее глаза сияли как звезды на рассвете. Он ничего не слышал вокруг себя, кроме ее «Согласна».
Потом все завершилось. Он запомнил лишь, как расписался в церковной книге, как поцеловал жену и мать, как они с Эдит в богатой карете отправились на Гровнер-сквер. Она спросила у него, доставил ли он на вокзал весь свой багаж, но не успел он ответить, как они уже остановились перед домом, где полицейские сдерживали зевак, чтобы те не мешали проходу. Помогая Эдит выйти из кареты, он услышал, как какая-то старуха сказала:
– Бедняга, он даже не знает, во что ввязался!
Эти слова показались ему верхом жестокости.
Затем состоялся свадебный раут, бесконечно долгая церемония, запомнившаяся Руперту множеством не известных ему лиц, а также комнатой, где были выставлены «многочисленные и дорогие» подарки. Гости пили шампанское. Лорд Саутвик предложил тост за здоровье невесты, назвав ее одной из самых красивых и очаровательных юных лондонских леди. Его предложение было встречено дружными возгласами, ибо все были с ним согласны. Закончил он свою речь панегириком в адрес Руперта. Коротко перечислив места, где тот служил, и полученные им за доблестную службу награды, лорд добавил, что убежден в том, что впереди нашего героя ждут новые, гораздо более почетные. И наконец, выразил сожаление по поводу того, что зов долга, которому наш доблестный офицер всегда был верен, вынуждает его оставить молодую красавицу-жену, правда, к счастью, ненадолго.
В ответ Руперт поблагодарил лорда Саутвика и всех присутствующих за их добрые пожелания. Он также добавил, что всем мужчинам выпадают неожиданные испытания, и эта ранняя и внезапная разлука – пожалуй, самое большое из тех, что выпадали на его долю, тем более что он был вынужден отказать супруге в ее самой первой просьбе, а именно, позволить ей сопровождать его в Египет. Вынудило же его на этот отказ то прискорбное обстоятельство, что сейчас там свирепствует чума.
Когда он умолк, Эдит с искренней улыбкой поблагодарила его за его слова, а гости начали потихоньку расходиться. Но тут к ним подошел расфранченный Дик и сочувственно заметил, что до отхода поезда в их распоряжении остается всего три часа, а также довольно громко, чтобы его услышали окружающие, спросил, где они в конечном итоге решили провести медовый месяц.
Сохранив невозмутимость, Эдит громко ответила:
– Здесь, в Лондоне, когда Руперт вернется из Судана, или, может быть, в Египте.
После этого публичного заявления и пока они не оказались вместе в карете, которая отвезла его на вокзал, Руперт был лишен возможности переброситься с ней даже словом наедине. Подлый Дик в очередной раз сумел добавить еще один кирпичик в стену, которую он задумал возвести между Рупертом и его женой.
Но одна вещь врезалась Руперту в память, четко вырисовываясь над серой пеленой суматохи того дня, словно черная вершина горы из вечернего тумана, – это его прощание с матерью. Пока он готовился к отъезду, заметив, что Эдит с ним нет, она робко вошла к нему в комнату и села с ним рядом. Миссис Уллершоу была печальна, однако пыталась победить свое настроение или хотя бы его спрятать. Она бодро заговорила о том, какую честь ему оказало правительство, и какие привилегии это наверняка принесет ему в будущем. Руперт тоже старался не показывать вида, хотя давивший на него груз дурного предчувствия обдавал его своим холодом, больно сжимал сердце и убивал радость. Почувствовав это, несчастная женщина не выдержала и, охваченная горем, расплакалась.
– Почему Эдит не едет с тобой? – спросила она. – Мне тяжело думать о том, что ты едешь туда один, да еще через три часа после женитьбы. Будь мне, несмотря на мою старческую немощь, отпущено чуть больше времени, я бы с радостью поехала с тобой до Каира, ибо, мой дорогой мальчик, откуда мне знать, увижу ли я тебя снова?
И тогда Руперт в свойственной ему манере повернулся и взглянул на ситуацию прямо и просто.
– Никто не может этого знать, дорогая мама, – сказал он, – ни ты, ни я. Но так ли это важно? Рано или поздно эта разлука наступит, но к счастью, мы оба знаем, что она будет последней. Даже сегодня, когда мне положено быть счастливым, я не могу притворяться, что этот мир удовлетворяет меня. Более того, он кажется мне как никогда полным боли и несчастий, ибо все пошло не так, и мои тревоги лишь умножились. Очень скоро этот мир исчезнет из-под наших ног, и тогда, как ты меня учила, я уверен, начнется истинная жизнь. Я обещаю тебе, как обещал много лет назад, что пока я жив, я буду стараться быть таким же честным и правильным, как и ты, чтобы в конце концов нам с тобой снова быть вместе. Если ты уйдешь первой, жди меня. Если первым уйду я, значит, я буду ждать тебя.
Она подняла к нему заплаканное лицо и улыбнулась. Было в ее улыбке нечто такое, что одновременно напугало и восхитило его, ибо было это нечто не от мира сего.
– Я знаю, – прошептала она. – Так и будет. И я благодарю Господа, который навечно связал нас вместе. Тебя зовут, Руперт, ступай. Нет, я не выйду, не хочу, чтобы эти люди видели мое горе. Ступай, и да пребудет с тобой благословение божье и мое тоже!
Руперт опустился перед ней на колени, и мать в благословляющем жесте возложила дрожащую руку ему на голову.
Затем он поцеловал ее, и они расстались.
В холле его уже все ждали. Эдит была в очаровательном дорожном платье, которое она придумала для своего свадебного путешествия. Он попрощался со всеми. Лорд Дэвен с улыбкой заметил, что, должно быть, Руперт уже проникся пониманием того, что хотя и говорят, будто браки заключаются на небесах, его женитьба – вещь далеко не безоблачная. Дик тепло поздравил его непонятно с чем и пожелал ему удачи, которая, по его мнению, принесет ему всяческие блага, на что леди Дэвен пробормотала «Unberufen!»[12] и с возмущением посмотрела на Эдит.
Демонического вида дворецкий, искренне симпатизировавший Руперту, оттолкнув в сторону лакея, проводил его до экипажа и пробормотал, что очень надеется «по возвращении из тех диких мест увидеть его живым».
Дверь кареты захлопнулась, лакей со свадебной бутоньеркой в петлице прикоснулся к полям шляпы и запрыгнул на облучок. Кэбмен взмахнул украшенным белыми лентами кнутом, и лошади рысью устремились вперед, в темноту, ибо шел проливной дождь. Наконец Руперт получил возможность побыть наедине с Эдит – целых десять минут.
Она с любовью взяла его руку, ибо на большее вряд ли бы была способна, так как прохожие пялили глаза на украшенную гербом аристократическую карету, лошадей и слуг со свадебными бутоньерками в петлицах. Она напомнила ему, как они вместе ехали с вокзала, когда он вернулся с Востока, сказала, что ей с трудом верится, что сейчас она снова провожает его на Восток, но уже как жена. Она говорила больше чем он, чье сердце было переполнено печалью и в нем не находилось места для слов. Сколько месяцев он мечтал о другом отъезде, вместе с молодой женой! Внезапно он вспомнил, что забыл ей дать свой каирский адрес, и всю оставшуюся часть их короткой поездки до вокзала был занят тем, что, несмотря на постоянные толчки кареты, старался записать его как можно разборчивее.
Затем последовала вокзальная суматоха. Носильщики, решив, что перед ними отъезжающая в свадебное путешествие пара, и выяснив у кэбмена его имя, увязались за ним с криками «полковник!», а иногда даже «милорд!». Каково же было их удивление, когда выяснилось, что он путешествует один почтовым поездом до Бриндизи. Наконец все было улажено, и наша пара одиноко стояла у двери вагона для курящих, в котором кроме Руперта было еще двое пассажиров.
Когда проводник велел всем занять свои места, лакей шагнул вперед и, в очередной раз коснувшись полей шляпы, вручил Руперту письмо лорда Дэвена и сказал, что ответ не требуется. Роберт сунул его в карман плаща и обнял жену, которая, платочком вытерев слезы, вымучила улыбку, а спустя минуту, показавшуюся ему вечностью, огромный локомотив свистнул и, пыхтя паром, потащил за собой состав в дождь и ночь.
Руперт какое-то время сидел неподвижно, видя перед собой застывшую на платформе Эдит. Но затем ее образ постепенно начал тускнеть, а его мысли – проясняться. Тогда он сунул руку в карман за трубкой – скорее по привычке, нежели из желания закурить, но вместо трубки обнаружил в кармане нечто другое – письмо лорда Дэвена, о котором он уже забыл.
– Интересно, что он мне пишет? – удивился Руперт, взломав на конверте печать, и начал читать. И вот что он прочитал:
«Мой дорогой Руперт,
Когда вы сказали мне, что застраховали свою жизнь на 10 000 фунтов и завещали эту сумму Эдит, я сказал вам, что также предложил ей свадебный подарок в виде денежной суммы. („Так и было, – подумал Руперт, – у меня совершенно вылетело из головы“.) И сейчас я пишу вам, чтобы сказать, что я выполнил свое обещание, а именно перевел ее попечителям для ее личного пользования сумму в 25 000 фунтов, проценты с которой будут выплачиваться ей ежеквартально. Она также имеет право по своему усмотрению распорядиться основной суммой, завещав ее любому, как сочтет нужным. Однако в случае, если у нее будут дети, после ее смерти эта сумма будет разделена в равных долях между ними всеми».
«Это много, – подумал про себя Руперт, – интересно, почему он дал ей столько? Но, по крайней мере, она не будет ни в чем нуждаться».
Затем он принялся читать письмо дальше и нашел ответ на свой вопрос.
«Возможно, вы удивлены, откуда во мне такая щедрость. Наверно, есть смысл сразу открыть карты, хотя, наверно, вы уже и сами догадались. А именно, хотя она об этом не подозревает, вы же рано или поздно об этом узнаете: Эдит – моя дочь».
Эти слова обескуражили Руперта. Он ощутил силу удара, хотя и не сразу понял его последствия. Он трижды перечитал слова лорда. Затем, когда их смысл дошел до него окончательно, он понял, что должен держать себя в руках, и не имеет права давать выход своим чувствам, ибо два других пассажира в вагоне, явно терзаемые любопытством, исподтишка наблюдали за ним поверх страниц своих газет. Ладно, он дочитает письмо, а потом уже подумает.
«Вполне возможно, что моя покойная жена Клара, с которой, как вы наверняка помните, вы были дружны в вашей юности, выражала вам, как это она делала в разговорах с другими, свою ревность и даже ненависть к Мариан Бонниторн. У нее имелись на то веские причины, хотя Клара, с которой до ее смерти мы много лет фактически жили раздельно, не имела реальных причин для своих жалоб. Равно как и Бонниторн, который в конце концов ушел в монастырь, оставив жену без средств к существованию. Вряд ли вам нужны подробности, ибо мои нынешние действия убедят вас в том, что я говорю правду. Я также не ищу себе оправданий. Я смотрю на свои близкие отношения с Мариан Бонниторн, которую я искренне любил и которая любила меня, как на самый приятный эпизод в моей жизни, которую, несмотря на весь внешний успех, я бы не назвал завидной. Я крайне рад, что у нас родилась Эдит, тем более, что ей, похоже, суждено быть единственным моим отпрыском. То, что она незаконнорожденная, ничуть меня не расстраивает, ибо я невысокого мнения об институте брака. Я отношусь к Эдит со всей теплотой и любовью, с какими бы я относился к ней, будь она моим законным ребенком. Я с великой радостью публично объявил бы ее своей дочерью, но воздерживаюсь от этого шага ради нее самой.
И вновь о наших делах. Теперь вам наверняка ясно, почему я всячески содействовал браку между вами и моей дочерью, а также почему я скрыл правду от вас обоих, опасаясь, что стань она вам известна, как вам в голову пришла бы какая-нибудь абсурдная мысль, – к чему вы, увы, по моим наблюдениям, склонны, – которая бы вынудила вас разорвать помолвку.
У меня нет оснований, Руперт, думать о вас иначе. Об одном деле я умолчу, хотя, пусть даже непреднамеренно – не знаю, каковы были ваши намерения в те дни – вы оказали мне огромную услугу. Я не держу на вас зла, как полагаю, и вы на меня, когда дочитаете это письмо. Но есть и иная причина для нашей взаимной антипатии. Я искренне желал иметь собственных сыновей. Признаюсь честно, с годами это вполне понятное желание превратилась едва ли не в навязчивую идею, но стоит мне подумать об этих сыновьях, как на их месте я вижу в а с. Вы унаследуете титул и внушительное состояние, которое должно было перейти им. Поэтому вполне естественно, что я сделал все для того, чтобы единственный ребенок получил свою законную долю, а после нее, в свою очередь, и ее дети.
И еще кое-что. Я уважаю вас. Думаю, что, возмужав, вы стали хорошим человеком и верны вашим принципам, хотя я и не разделяю их. Вы сделали то, чего не сделал ни один из нас, а именно, собственными трудами снискали себе положение в обществе и доброе имя. Поэтому я со спокойной душой и уверенностью вручаю Эдит в ваши руки, тем более что вы искренне привязались к ней. Иначе она с большой вероятностью угодила бы в другие – а именно, этого мота и проходимца Дика Лермера, которого я рекомендовал бы вам остерегаться.
Искренне ваш,
Дэвен.
P.S. Я весьма сожалею, что именно в этот момент вашей жизни вы получили приказ вернуться в Египет. Вам следовало настоять на том, чтобы Эдит сопровождала вас, ибо carpe diem[13] и связанные с ним радости – прекрасный девиз. Глупо оставлять жену одну, пусть даже это жена только по имени. Но, как обычно, тут сказались ваше собственное упрямство и донкихотовские замашки, ибо этим утром Эдит предлагала поехать с вами. Вы же, в моем присутствии, отказали ей в этом желании. Я не стал вмешиваться, и теперь вы несете всю ответственность за ваше решение. Поверьте, ради вас обоих я искренне желаю вашего скорейшего возвращения.
Д.».Руперт вернул письмо в конверт, который, в свою очередь, сунул в карман. Что он мог сказать, а тем более сделать? Судьба поймала его в свои сети. Да, но чем все это кончится? Он спрашивал это у ночи, он спрашивал у собственного сердца, но ответа так и не услышал. Лишь стук колес, уносивших его вдаль, как будто превратился в слова, говоря ему:
– Ты женился на дочери Дэвена! Несчастный! Несчастный! Несчастный!
Колеса поезда пели ему эту песню, пока он ехал по Англии, Франции и Италии. Затем груз этой песни принял винт судна, и она преследовала его до тех пор, пока перед ним не возникли берега Египта, и он вновь посмотрел в лицо своему долгу.
Глава XI. Подношение богам
Примерно через шесть недель после того, как он на вокзале Черинг-Кросс попрощался с Эдит, Руперт вновь стоял на берегах Нила, глядя при свете полной луны на каменных колоссов на фасаде храма в Абу-Симбеле. Сколько же событий произошло с ним с тех пор, как он смотрел на их кроткие каменные улыбки. Не удивительно, что их неизменность не только показалась ему странной, но даже слегка раздражала. Почему-то он ожидал, что они тоже изменятся.
Безусловно, сам Руперт изменился, причем, настолько, что обладай эти статуи памятью, они бы вряд ли узнали его, ибо теперь на нем были длинные одеяния арабского шейха. Впрочем, он отдавал себе отчет в том, что они бессильны скрыть его европейское происхождение. И все же он надеялся, что в этой жаркой, опустошенной войной земле, по которой редко кто путешествовал, они помогут ему избежать подозрительных взглядов бродячих арабов, или даже шпионов, следящих за его небольшим караваном из зарослей чахлого кустарника или с вершины бархана в паре миль отсюда.
Для остальных, если его разоблачат, он намеревался объявить себя европейцем немецкой крови, который пришел в эти места, чтобы продать свои товары неким шейхам, которые изъявили желание их у него приобрести по хорошей цене. С этой целью он имел при себе лицензию на ведение торговли, выданную каирскими властями на имя некоего Мухаммеда, немца, принявшего мусульманство, чье европейское имя было Карл Готтшалк. Его товары, нагруженные на восьмерых верблюдов, состояли из хлопка, сахара, медной проволоки и, что довольно странно, нескольких ружей и боеприпасов к ним. Но еще более странно было то, что сей торговец зачем-то имел при себе тысячу фунтов золотом. Наверно, не стоит объяснять, что все эти вещи на самом деле были ни чем иным, как подарками, призванными переманить на свою сторону колеблющихся приграничных вождей, к коим он собственно и держал путь, заручиться их помощью и поддержкой в наступлении, которое должно было стать первым шагом в повторном завоевании Судана.
Он выехал несколько дней назад из Дерра, что напротив Короско, с караваном из примерно трех десятков верблюдов и двадцатью пятью преданными воинами, в основном суданцами; все они имели опыт участия в военных операциях, хотя и были одеты погонщиками и слугами. В Абу-Симбеле Руперт должен был получить отчеты лазутчиков, которых заранее отправили собирать информацию, после чего двинуться через пустыню для выполнения цели своей миссии.
Чтобы спокойно обдумать и взвесить опасные стороны порученного ему дела, – ибо даже ночью ему мешало фырканье верблюдов в лагере, который он разбил в нескольких сотнях ярдах отсюда, – Руперт вошел в гипостиль высеченного в скале храма. Здесь он сел на нанесенный внутрь сухой песок и прислонился спиной к третьей в северном ряду огромной статуе Рамзеса II, изображавшей фараона в обличье Осириса, с крюком и бичом в руках. Царившую в храме темноту прорезал лишь слабый луч луны, ползший по торжественному центральному проходу. Вокруг стояла гробовая тишина.
Просидев так около получаса и устав от мыслей, Руперт задремал, однако внезапно был разбужен звуком чьих-то шагов по песку. Подняв взгляд, он увидел, как мимо него почти бесшумно прошли две фигуры, одна чуть выше другой, и вскоре исчезли в дальних закоулках храма, тихо, словно призраки древних молящихся. Какое-то время он продолжал сидеть неподвижно, гадая, кто это мог быть, и что они делали в таком месте в полночь, когда всем людям положено спать.
Сначала Руперт подумал, что следует спуститься следом за ними, однако затем вспомнил, что он здесь не ради приключений и ему незачем вмешиваться в их дела, покуда они не вмешиваются в его. Поэтому, окончательно проснувшись, он продолжил свои размышления, намереваясь вскоре встать и вернуться в лагерь, где лечь спать. Спустя несколько минут, окинув взглядом огромный храм, Руперт заметил вдалеке крошечную звездочку света. С того места, где он стоял, свет ее был таким же слабым, как и свет далекой планеты на облачном небе или же огонек светлячка среди высокой травы на берегу Нила. Свет этот разбудил в Руперте любопытство. Ему почему-то подумалось, что он неким образом связан с проскользнувшими мимо него фигурами. «Возможно, это искатели сокровищ, – размышлял он, – которые ночью копают в святилище храма, чего они не осмелились бы делать в дневное время». Возможно, они обнаружили тайную крипту, которая, как он всегда подозревал, существовала под Абу-Симбелом, и где от посторонних глаз были спрятаны клады золота и серебра. Эта мысль взбудоражила его, ибо он, как в том успела убедиться Эдит, был страстным египтологом.
Пару мгновений Руперт колебался, но затем вспомнив, что их всего двое, а он вооружен, поддался импульсу или же давлению судьбы и начал крадучись пробираться к источнику света. Он наощупь двигался вдоль длинного зала, от колонны к колонне, затем через дверной проем нырнул в зал меньших размеров и далее, ведомый загадочным огоньком, в узкую перпендикулярную комнату, в которой располагался вход в центральное святилище и залы по обеим его сторонам. При входе в священное место он остановился и осторожно выглянул из-за скального выступа, который когда-то поддерживал массивную дверь. Затем – ибо это святилище было небольшим – его глазам предстала весьма странная и любопытная сцена.
На внушительном квадратном алтаре, где более тысячи лет подряд приносились дары богам Египта, в том числе и великому Рамзесу, который вырубил в скале этот храм, стояла лампа. Позади нее был обломок обвалившегося с потолка камня, а сама она была поставлена боком, чтобы отбрасывать большую часть света вперед. Свет этот падал на разбитые изваяния четырех сидящих богов, которым здесь поклонялись и чьи взгляды были до сих пор устремлены на этот заброшенный алтарь – Птаха, Аммона-Ра, самого Рамзеса и бога зари Гармахиса, увенчанного изображением солнечного диска. Лучи лампы также высвечивали нечто куда более удивительное, нежели изваяния богов, – а именно, фигуры двух женщин. Стоя лицом друг к другу по обеим сторонам череды богов, они как будто обращались к ним с молитвой.
Одну из них Руперт узнал сразу – это была старая цыганка Бахита, о которой он все эти месяцы ни разу не вспомнил, по крайней мере, с вечера их с Эдит помолки, когда она отбросила свою первую тень на собравшееся в загородном доме Дэвенов по случаю Нового года общество. Проходя сегодня мимо ее дома, он заметил привязанных возле него нескольких прекрасных дромадеров. Сейчас на ней было темное, облегающее платье с капюшоном, скрывавшим ее прическу. Наряд этот придавал ей сходство со жрицей, коей, как он угадал, она и была. Впрочем, взгляд Руперта не задержался на ней долго, ибо скользнул к ее спутнице и там остановился.
То была молодая женщина лет двадцати двух-двадцати трех, или, от силы еще на год старше, невысокая, хрупкая, изящная, на редкость красивая и такая светлокожая, что вполне сошла бы за белую. Вместо платья она была укутана в кусок ткани, столь тонкой, что сквозь нее были видны ее округлые формы, и столь белой, что казалось, будто они сверкают, как снег. На талии у нее был серебряный пояс, а на темных, вьющихся волосах, ниспадавших ей на плечи, словно у египетской царицы, сияла золотая диадема, увенчанная символом солнечного диска, а впереди – головой кобры.
Увидев эти вещи, Руперт ахнул. Еще бы, ведь если только глаза не обманывали его или это не было сновидением, его взору предстало то, что ни один человек не видел на протяжении более тысячи лет, а именно, представительницу царского дома Египта, делающую подношение своим богам. В этом не было ни малейших сомнений. Платье, хотя и упрощенное, но определенно царское, урей над ее челом – а знак этот не осмелился бы надеть никто, кроме членов семейства фараона или его законной супруги – говорили сами за себя. Более того, в одной руке она держала стеклянную чашу, а в другой – алебастровый кувшин, и, сделав из кувшина в чашу возлияние, предложила ее Гармахису, нежно и по-арабски произнося слова, которые подсказывала ей Бахита.
– Умоляю тебя, о, ты, облаченный в солнце, которое есть символ духа, даруй мне, по крови последней жрице, и этой женщине, моей родственнице, что поклоняется тебе, безопасное путешествие!
Говоря эти слова, она повернула голову, и свет лампы упал на ее лицо. Оно было прекрасно, как цветок, восхитительное той красотой, что была нова Руперту, ибо он никогда не видел ей подобной. Огромные темные глаза, влажные и блестящие. Широкий, благородный лоб, типично восточные губы, чуть полноватые и алые. Красивый нос, чуть широкий в ноздрях. По-детски округлые щеки, твердый, но с ямочкой подбородок. Всю эту красоту, словно рама картину, обрамляла масса курчавых волос. По отдельности в ее чертах не было ничего особенного, но вместе взятые, подсвеченные и оживленные ее нежной, задумчивой улыбкой и загадочным взглядом гордых и вместе с тем умоляющих глаз, – ах! – им на всем свете не было равных!
Объятый желанием стать свидетелем этого удивительного зрелища, Руперт устремился вперед. Так получилось, что рука, поддерживавшая вес его тела, скользнула вниз, и перстень царапнул по камню. В гробовой тишине подземелья этот звук разлетелся громким эхом.
Бахита, чей слух был острее, чем у лисы, услышав его, резко развернулась, подбежала к лампе и, схватив ее с алтаря, бросилась к дверному проходу. Руперт попытался отступить через коридор, чтобы укрыться в одном из боковых залов, чьи двери открывались во внутренний вестибюль. Увы, слишком поздно. Бахита уже набросилась на него. Поняв грозившую ему сзади опасность, Руперт повернулся, и они встретились лицом к лицу.
– Бахита, это я, – сказал он, ибо в ее руке уже блеснул нож.
Она опустила руку и окинула его взглядом.
– Руперт-бей! – воскликнула она. – Ты вернулся. Что ж, я уже об этом слышала и знала, что ты придешь. Но что ты делаешь здесь, переодетый арабским шейхом? Почему подглядываешь за нашими ритуалами? О, скажу честно, не будь ты Руперт-беем, ты бы уже был мертв!
Между тем молодая женщина, которая бросилась вслед за Бахитой, не зная причин шума, в буквальном смысле налетела на Руперта, затем отскочила и растерянно застыла на месте. При этом она машинально опустила руку, и содержимое чаши, которую она по-прежнему держала в руках, выплеснулось на каменный пол.
Это было довольно забавное зрелище: высокий англичанин в арабских одеждах, застывший, словно статуя, дабы любое проявление страха не закончилось для него ударом ножа, и красивая восточная женщина в священном, но полупрозрачном одеянии, увенчанная солнечным диском и царским египетским уреем, невольно изливающая к своим ногам ритуальную воду. Обстановка тоже была довольно странной. Их окружали гигантские колонны и резные стены, а из-за алтаря на них взирали полуразрушенные, но все еще ужасные боги.
– Убери свой нож, – сказал Руперт Бахите. – Давай зайдем в боковую комнату, и я все тебе расскажу.
Та наклонилась и, подняв с пола, где он лежал рядом с алтарем, темный плащ из верблюжьей шерсти, накинула его на плечи своей юной спутницы и низко натянула ей на лицо капюшон. Затем, взяв ее за руку, обернулась к Руперту.
– Иди первым! – приказала она и прошла между колонн к первой комнате, вход в которую открывался справа от них.
Это было довольно неуютное место. В прошлом оно, вероятно, служило чем-то вроде храмовой кладовой. Теперь же в нем обитали полчища летучих мышей, беспрестанно сновавших туда-сюда и оглашавших его своды своими пронзительными криками. Поставив лампу не то на каменную скамью, не то на стол, что стояли здесь по обеим сторонам, Бахита сказала:
– Мы твои служанки, Руперт-бей, – и с мрачной улыбкой добавила: – Разве мы не совершили на тебя возлияния? – и она посмотрела на его ноги, мокрые от содержимого стеклянной чаши.
– Вы пришли совершить возлияние, но только не мне, – с усмешкой ответил он. – А теперь скажи мне, мой друг, что делала здесь эта юная леди? – и он кивком указал на ее спутницу. – Ибо меня ни разу в жизни еще не мучило столь сильное любопытство.
– Сначала скажи нам, что здесь делал ты, Руперт-бей? Нет, не о своих делах, о них нам все известно, а почему ты проследовал за нами в святилище?
– По той же причине, по какой вы проследовали за мной в храм – по чистой случайности. Я сидел у ног одной из колонн, когда вы прошли мимо меня, хотя я вас и не узнал. Потом заметил свет и пошел взглянуть. Такова моя история. Теперь хочу услышать вашу.
– Меа, – сказала Бахита, – расскажи ему, что сочтешь нужным. Он все видел. Но он верный человек и, если с него взять слово, он умеет хранить тайны. Тем более что ему прекрасно известно, что если он этого не сделает, я непременно его убью.
Руперт рассмеялся, ибо угрозы Бахиты его не пугали. Между тем особа по имени Меа своими огромными глазами пристально разглядывала его лицо, а затем заговорила низким, бархатистым голосом. Причем, заговорила по-английски, а не по-арабски.
– Ты обещаешь быть мне верным, джентльмен? – спросила она, употребив довольно странный оборот речи, причем с сильным акцентом.
– Если ты имеешь в виду, что я должен хранить твои секреты, то да, конечно же, – с улыбкой ответил он.
– Мои секреты, они такие крошечные, совсем как младенцы, – сказала она и поднесла ладонь к полу. – Видишь ли, бей, я живу далеко в пустыне, и мой народ и я, мы по-прежнему древние египтяне, хотя и не можем читать их письмена, а лишь помним кое-что – совсем немножко – про богов, и что те означают. Так вот, одетая, как и мои матери, когда они молятся, я пришла сегодня сюда с Бахитой, моей теткой и твоим другом, делать подношение богу с солнцем на голове, ибо я в опасности и хотела просить его помочь мне живой и невредимой вернуться домой.
– А где он, твой дом, юная леди?
– Мой дом? Я пришла из миссионерской школы в Луксоре. Я устала жить в темноте невежества и поэтому два года назад я идти туда узнать все про белых людей и английский язык и, – добавила она с видимым триумфом, – как ты слышишь, я его выучила.
– Да, – ответил Руперт, – ты очень хорошо его выучила. А чему еще ты научилась?
– Многому. Читать, писать, арифметике, географии, истории США, Британской империи и Древнего Египта, потому что я тоже египтянка, хотя они этого не знают и думают, что я обыкновенная девушка. Никто не знает, кроме тебя, бей, потому что ты поймал меня за молитвой. Я также изучаю религию, и думаю, что она так же хороша, что и моя, только другая.
– Значит, ты христианка? – снова спросил Руперт.
Девушка покачала головой, и солнечный диск и венчавшая ее небольшая змея блеснули в свете лампы.
– Нет, не совсем христианка, только наполовину, не крещенная. Мне страшно, что если покрещусь, то старые боги, – она указала на четверку богов в святилище, – разгневаются и навлекут на меня беды.
– Мне кажется, ты слишком суеверна, – сказал Руперт скорее самому себе.
Она недоуменно посмотрела на него, затем ее лицо прояснилось, как будто смысл последнего слова дошел до нее.
– Нет, – сказала она, – не суеверна, как эти свирепые магометане, лишь боюсь. Вот почему я пришла сюда в неприличной ночной сорочке, – и она выставила напоказ свою маленькую ножку, обутую в сандалию, и вновь покачала головой, как будто сожалея о том, что многое, увы, не в ее власти.
Руперт громко рассмеялся, отчего летучие мыши, которые было устроились под потолком, вновь принялись летать туда-сюда. Меа, которая была натурой веселой, присоединилась к его смеху. А вот старую Бахиту это рассердило, и она сурово упрекнула их обоих.
– Немедленно прекратите смех, – сказала она по-арабски, – здесь, в доме богов не смеются, хотя для одного из вас они не боги, да и вторая похоже уже ступила на тот же самый путь. – С этими словами она укоризненно посмотрела на Меа. – Послушай, бей, у меня к тебе просьба, хотя прошу я не ради себя, ибо уже стара и безобразна, а ради этой юной особы. До меня дошли слухи, что завтра вечером ты уезжаешь. Дело в том, что наш путь – это твой путь, ибо я знаю шейхов, к которым ты едешь. Позволь нам и двум нашим слугам поехать вместе с тобой. У нас имеются свои хорошие верблюды, – добавила она и пристально посмотрела на него.
– Скажи, почему ты хочешь поехать со мной и куда? – спросил с сомнением Руперт.
– Почему? По этой причине. Ты помнишь шейха Ибрагима, хозяина Пресных Колодцев? По глазам вижу, что помнишь. Так вот, он заклятый враг нашего дома. Он просил эту девушку, что стоит рядом со мной, себе в жены, но получил отказ. Да, этот пес однажды имел наглость возжелать ее, ибо, к несчастью, увидев ее, был пленен ее красотой. Теперь он откуда-то прознал, что мы собираемся в путешествие, и вознамерился похитить ее, как уже пытался сделать это в Луксоре. Но если мы будем с тобой, он не осмелится на такой шаг, ибо в твое отсутствие он пал ниц перед губернатором, и теперь не посмеет даже пальцем тронуть тебя, его посланника, даже если ты и выдаешь себя за магометанина и одет, как араб.
– Знаешь, я бы не стал ручаться, – ответил Руперт. – Друг Ибрагим не любит меня.
– Нет, но он тебя боится, что даже лучше. Так что с тобой мы будем в безопасности.
– И как долго вы намерены путешествовать со мной?
– Только два дня, пока ты не достигнешь гор Джебал Марру. Дальше твой путь будет лежать вдоль гор, мы же пересечем их и войдем в пустыню, которая называется Тебу, и будем идти по ней, пока не достигнем других гор и тайного оазиса в них, который мы называем Тама, где еще не ступала нога белого человека. Помнишь, бей, некоторое время назад ты спросил у меня про заброшенный храм. Он стоит там, где наш дом, и я обещаю тебе – главное, позволь нам ехать вместе с тобой, – что как только у тебя найдется свободное время, я непременно тебе его покажу. Да, его и чудеса царских гробниц в пустыне, в которых похоронены цари, некогда правившие там и чей далекий отпрыск, леди Тама, сейчас стоит рядом с тобой. Ответишь отказом, и я клянусь, что твои глаза этого никогда не увидят.
– Звучит соблазнительно, – ответил Руперт, – одна беда, я не беру взяток.
– Нет, – ответила она, – ибо ты их даешь, иначе зачем в твоих тюках ты везешь так много золота? Вот видишь, какие у меня хорошие соглядатаи!
– Настолько хорошие, что в данном случае они ввели тебя в заблуждение, – ответил Руперт, ибо был уверен, что это всего лишь ее догадка. – Но вообще, – добавил он, – меня не нужно подкупать, ибо, как ни приятно мне общество вас обеих, мне предстоит охота за другой добычей.
Меа резко выпрямилось и, несмотря на свой невысокий рост, приняв царственный вид, сказала по-арабски:
– Тетя, нам отказано в нашей просьбе. И нам не к лицу просить снова. Мы спустимся вниз вдоль течения Нила, а там спрячемся и переждем, пока наши гонцы не приведут нам сопровождение. Давай попрощаемся с этим беем, ибо, похоже, что он уже хочет спать.
– Возможно, бей еще не закончил говорить, – возразила Бахита, видя, что Руперт умолк лишь на минуту.
– Ты, как всегда, права, мать, – продолжил он, – и тебе известно столько, что я не против рассказать тебе чуть больше. Да, я путешествую в обличье купца. Более того, – добавил он, – торговать мне нравится куда больше, нежели воевать, ибо это дело куда более прибыльное.
Бахита в ответ лишь махнула рукой, давая понять, что ему не нужно пускать пыль ей в глаза, поскольку это только напрасная потеря времени, и Руперт с улыбкой продолжил:
– Купцы частенько берут с собой женщин, называя их своими дочерьми и женами, имея целью продать их или подарить великим эмирам или султанам, а вот солдаты этого никогда не делают. Поэтому, если я возьму вас с собой, я должен больше походить на купца. Если вы не против, так и быть, я возьму вас с собой. Нет-нет, не кланяйтесь мне, я это делаю не ради вас, а ради себя самого, тем более, что мы не уверены, где пролегает путь к Джебал Марру, вы же, я в этом уверен, можете нам его указать. Так что ничего не бойтесь. Все, что я видел и слышал, останется тайной, хотя я надеюсь, что в один прекрасный день вы покажете мне тот храм в оазисе. Я отправляюсь в путь завтра, как только взойдет луна, ибо хочу миновать Пресные Колодцы следующей ночью, когда все спят. Вы и двое ваших слуг можете встретить меня за холмом, там, где тропа соединяется с дорогой.
Бахита схватила его руку и поцеловала. С ее плеч явно свалилось тяжелое бремя, за что она была искренне благодарна Руперту. Опасаясь, как бы ее юная спутница не последовала ее примеру, Руперт, не любивший таких бурных проявлений чувств, сказал ей:
– Теперь, когда мы уладили этот вопрос, ты не желаешь закончить свои возлияния к ногам вон того бога?
Mea покачала головой.
– Этого я сделать не могу, – ответила она, – так как вся вода вылилась к ногам человека. Надеюсь, бог не станет – как это говорится? – ревновать и не отплатит тебе за это, – и сказав это, она подняла алебастровый кувшин и перевернула вверх донышком, чтобы показать, что он пуст.
– В таком случае, я желаю вам доброй ночи, – сказал Руперт. – Будет лучше, если мы выйдем отсюда раздельно. Завтра, через полчаса после восхода луны, – на перекрестке дорог, если только вы не передумаете и не отправитесь в путь одни. Помните, что я не могу ждать. – И, поклонившись девушке, он вышел из комнаты и наощупь двинулся по проходу к тусклому свету, мерцавшему в дверях храма.
Когда он ушел, женщины переглянулись.
– Тетя, – сказала девушка, – надеюсь, мы поступили правильно? Не навлекли ли мы на голову бея опасность со стороны проклятого Ибрагима?
– Возможно, – хладнокровно ответила Бахита. – Если так, то он берет нас с собой ради себя, а не ради нас. Ты слышала его слова.
– Да, но не поверила ему. Он это делает ради тебя, потому что считает тебя своим другом. Если Ибрагим узнает, что мы с ним, он непременно нападет на него, и тогда…
– И тогда, – ответила Бахита, – я слышала, что Руперт-бей – доблестный воин, а его люди храбры и хорошо подготовлены к схваткам. Нам же с тобой в любом случае нужен сопровождающий. Если бы ты пришла, когда обещала, сотни твоих соплеменников перевели бы тебя через пустыню. Но поскольку ты испугалась, что Ибрагим похитит тебя в Луксоре, ты предпочла поступить иначе, и вот теперь тебе небезопасно здесь оставаться, пока мы не сможем послать за подмогой. Если же ты отказываешься отправиться в путь с этим англичанином, то надень голубое платье и яшмак и приди завтра к нему в палатку, как будто с тем, чтобы продать ему зерно, и скажи ему сама, ибо я этого делать не собираюсь.
Меа на минуту задумалась, затем подняла глаза и сказала:
– Нет, я желаю отправиться в путь вместе с ним, ибо судьба заставила меня вылить священную жидкость к его ногам вместо бога, и потому я готова путешествовать вместе с этим человеком.
Глава XII. Бродячие музыканты
Взошла луна. Облаченный в арабские одежды, Руперт верхом на верблюде ехал во главе каравана, держа путь в округ под названием Шеб, где были расположены Пресные Колодцы. В нескольких милях от Абу-Симбела, там, где пересекались две дороги, его адъютант, сержант по имени Абдулла, привлек его внимание к четырем фигурам на белых верблюдах, которые, похоже, поджидали их, и спросил, не выехать ли ему вперед, чтобы узнать, кто это такие и что им нужно. Руперт ответил, что в этом нет необходимости, ибо это лишь две женщины и их слуги, которых он обещал проводить до Джебал Марру. Абдулла отдал честь и ничего не сказал. Вскоре четверка присоединилась к каравану. Две закутанные в покрывала женщины, в которых было невозможно узнать Бахиту и Меа, поехали рядом с Рупертом, мужчины – позади них.
– Значит, вы все-таки пришли, – сказал Руперт, приветствуя их.
– Да, бей, мы пришли, – ответила Бахита. – Или ты не ожидал?
И, не проронив больше ни слова, они поехали дальше через пустыню.
Вскоре посреди этого звенящего молчания, сначала где-то далеко-далеко, послышались звуки странной, диковатой музыки, которые по мере приближения с каждой минутой слышались все громче. Это была очень бурная музыка, пронзительная и громкая, сопровождаемая барабанной дробью.
– Что это? – спросил Руперт у Бахиты.
– Это бродячие музыканты, – ответила та. – Только их нам не хватало!
– Это почему же?
– Потому, что они приносят несчастья, бей.
– Чушь! – воскликнул он. – Ты хочешь сказать, что им нужен бакшиш?
– Тогда предложи его им, и увидишь сам, – сказала она.
Сейчас они ехали в низине между двумя барханами и на гребне того, что справа от них, Руперт увидел бродячих музыкантов. Их было пятеро. Они сидели на песке, закутанные с головы до ног, отчего их лица было невозможно разглядеть, по крайней мере, в тусклом свете. Трое из них, сидевшие лицом к каравану, играли на дудках, а другие двое, сидя перед ними на корточках, с удивительной скоростью отбивали барабанный ритм. По мере приближения каравана их дикая музыка сделалась еще более странной и чарующей. Да что там, один раз услышав, ее было уже невозможно забыть! Она как будто стенала и завывала, и вместе с тем в ней слышались на удивление приятные нежные ноты.
– Дай этим людям десять пиастров за их труды, – сказал Руперт Абдулле.
Тот, что-то пробормотав себе под нос, направил к ним своего верблюда и предложил им деньги.
Но музыканты его как будто не заметили. Наоборот, их музыка сделалась еще более пронзительной. Не выдержав, Абдулла бросил монеты на песок и поехал прочь.
– Сдается мне, что это не люди, а призраки, – доложил он Руперту. – Ибо в этой стране не найти людей, которые отказались бы от бакшиша.
– Созревший плод не остается висеть на ветке, – ответил Руперт словами арабской пословицы, – а упавший подбирают дети.
И все же, он пожалел, что не взглянул на этих людей сам, хотя бы ради того, чтобы узнать, из какого племени происходят столь замечательные музыканты. Их караван двинулся дальше, и какое-то время пронзительное завывание дудок и четкая барабанная дробь как будто звучали в такт покачивающемуся шагу их верблюдов, пока постепенно не сделались тише и, наконец, смолкли вдали.
Когда луна зашла за горизонт, примерно за три часа до рассвета, они сделали привал у колодца и спали до наступления дня: Бахита и Меа – в небольшом шатре, который, чуть в отдалении, поставили для них слуги. Верблюдов отправили пастись, и те подкреплялись побегами колючего кустарника. Пока небо было все еще серым, Руперт выпил кофе, который ему сварили, а также велел адъютанту отнести две кружки и печенье в палатку женщинам. Одну они приняли, вторую вернули, даже не притронувшись.
– Кто отказался от кофе? – поинтересовался Руперт.
– Бахита, бей. По ее словам, она не пьет напитков белого человека.
– Так, значит, ты ее знаешь? – удивился Руперт.
– О да, бей, – хмуро ответил адъютант. – Мы все узнаем ее лучше, прежде чем с ней расстанемся, ибо она цыганка из далекой пустыни и у нее недобрый глаз. Когда мы встретились прошлой ночью, у меня по спине пробежал холодок, похолоднее того, когда эти призраки из могилы заиграли свою музыку.
– Те, кто молчат, не говорят глупостей, – ответил Руперт еще одной пословицей и отпустил его.
Затем они снова двинулись в путь и сделали привал лишь во второй половине дня, чтобы дождаться, когда снова взойдет луна. Той ночью, примерно в час пополуночи, они подошли к Пресным Колодцам и снова сделали остановку, – напоить верблюдов и наполнить водой мехи. Руперт нарочно пришел сюда ночью, в расчете на то, что в это время суток шейх Ибрагим будет спать и не станет препятствовать их проходу. По этой же причине он держался как можно дальше от города, если поселение это можно было считать городом. Однако вскоре он заметил, что за их караваном следят, ибо на барханах и в тени колючих деревьев сидели какие-то люди. Более того, один из них внезапно возник перед ними и спросил, кто они такие и почему идут через земли его вождя, не предложив никаких подарков.
По распоряжению Руперта Абдулла ответил, что они торговцы и надеялись увидеться с Ибрагимом на обратном пути, когда смогут сделать ему достойный подарок. Абдулла не стал говорить, что Руперт намеренно избегал встречи со свирепым и вероломным вождем, пока не перетянет на сторону правительства влиятельных шейхов, живших дальше, по ту сторону владений Ибрагима, ибо тогда у него не будет причин опасаться козней вождя Пресных Колодцев и горстки его головорезов.
Часовой ответил, что это хорошо, тем более что Ибрагима им все равно сейчас не увидеть, ибо тот не далее как в этот день, взяв с собой часть племени, отбыл в Вади-Хальфу. Затем, посмотрев на двух завернутых в покрывала женщин, спросил, не путешествуют ли вместе с ними цыганка Бахита и ее дочь. Абдулла поспешил заверить его, что нет, и добавил, что эти женщины – его родственницы, которых он везет навестить их семьи.
Больше часовой ничего не спросил, и, отдав обычное приветствие, их караван двинулся дальше.
– Почему ты это сказал, Абдулла? – спросила Руперт.
– Потому, бей, что узнай он, кто на самом деле эти женщины, приносящие неудачу, вскоре вокруг нас собралось бы все племя. Повсюду только и слышно, что Ибрагим вознамерился взять себе в жены младшую из них, ибо она древнего и славного рода, более того, он поклялся, что обязательно это сделает.
– Ложь, как камень, что падает на голову его бросившего, – ответил Руперт, ибо теперь им владела тревога, и он искренне пожалел, что не отказал Бахите и ее прекрасной племяннице, что делала подношения египетским богам в их просьбе помочь им переправиться через пустыню.
Он послал за Бахитой и девушкой, и цыганка направила к нему их верблюдов.
– Скажи мне, – обратился он к ней, – что это за история про эту юную особу и шейха Ибрагима, который, как я понял, выслеживает ее?
– Та, которую я тебе рассказала, – ответила Бахита. – В старые времена племя Ибрагима было сильнее. Наш народ сражался с ним и отогнал через горы Джебал Марру. Это было более ста лет назад. Два года назад, когда моя хозяйка Тамы и я, в сопровождении многочисленных слуг, совершали путь от нашего дома к Нилу, мы остановились у Пресных Колодцев и приняли у шейха Ибрагима в дар пищу. Утром, прежде чем нам снова отправиться в путь, он вновь навестил нас и, к сожалению, увидел лицо Меа, ибо она была без покрывала. Он тотчас же воспылал страстью к ее красоте и даже сказал, что желает взять ее в жены, этот пес, что молится своему пророку. Поскольку с нами были наши воины, я ответила ему то, чего он заслуживал. Получив из моих уст отказ, он, рассвирепев, заявил, мол, то, что не было подарено ему добровольно, может быть отнято силой, но поскольку мы ели его соль, он сделает это в другой раз. И мы расстались, потому что он не осмелился напасть на нас.
Затем, через своих соглядатаев в Луксоре и на берегах Нила он узнал, что Меа возвращается, а она поспешила это сделать, когда он менее всего этого ожидал, потому что он пытался похитить ее в самом Луксоре. Так получилось, что у меня не было никого, кто бы сопровождал ее. Я также не осмелилась сделать остановку в Абу-Симбеле, ибо слышала, что Ибрагим намеревался напасть на нас там, как только ты отправишься в путь, и не было никакого судна, на котором она бы могла снова спуститься по Нилу. Люди же Ибрагима следили за его берегами. Потому мы и просили тебя взять нас под свое крыло.
– Думаю, пока эта история не завершится, без моей защиты вам не обойтись, – ответил Руперт, – и будь я тем, за кого себя выдаю, это не было бы мне обузой, но теперь я остерегаюсь.
– Давай оставим бея и будь, что будет, – обратилась к тетке по-арабски Меа. – Мы не имеем права навлекать на него опасности. Я с самого начала говорила тебе это.
– Да, – согласилась Бахита, – если бей не против.
Руперт посмотрел на девушку. Та убрала от лица покрывало, наверно, с тем, чтобы лучше его видеть. На ее прекрасном лице играл лунный свет, и он увидел, что ее дивные глаза полны страха. Похоже, она и в самом деле страшно боялась шейха, ибо тот отлично знал, что в этой стране, где царит беззаконие, где всегда прав сильный, ему ничего не стоит схватить ее и, не спрашивая ее желания, силой поместить в свой гарем.
– Бей против, – ответил он. – Вы со мной, со мной и оставайтесь. Очень часто то, чего мы больше всего боимся, не происходит, о, хозяйка Тамы.
Одарив его благодарным взглядом и облегченно вздохнув, Меа вновь опустила покрывало, и они с Бахитой заняли свои обычные места в караване. На следующем привале Руперт отметил, что как только его верблюд напился воды и пощипал колючек, один из двух сопровождавших Бахиту слуг вновь уселся на своего горбатого скакуна и рысью затрусил прочь. Руперт вновь послал за Бахитой и спросил у нее, куда это он отправился. На что Бахита ответила, что она послала его в качестве гонца к их племени, в надежде, что в одиночку он быстрее целым и невредимым преодолеет горы. Если ему это удастся, гонец получил приказ как можно скорее собрать сотню воинов, чтобы те выехали навстречу их повелительнице.
Правда, тотчас выяснилось, что, даже путешествуя на самом быстром верблюде, оазиса, в котором жила Меа, невозможно было достичь за несколько дней пути. Впрочем, Руперт выбросил это из головы. Лишь Абдулла ворчал, утверждая, что де этот человек шпион и выехал вперед, чтобы им навредить. А все потому, что вскоре после того, как их караван отправился в путь, Абдулла выяснил, что Бахита и трое ее спутников – не христиане и не магометане, и потому был полон подозрений, тем более что и он, и большинство остальных были убеждены, что старуха – ведьма и у нее дурной глаз, и, возможно, даже подкуплена Халифой. Такова была ее репутация в Абу-Симбеле, в чем немалую роль сыграло знание ею событий, как исторических, так и личных, а также ее зоркий глаз и потрясающая наблюдательность.
Следующей ночью их караван сделал остановку у источника у подножия сурового, голого хребта, известного как Джебал Марру, в самом начале перевала, через который пролегала единственная дорога. Этой дорогой, пусть и редко, пользовались путешественники, чей путь лежал из одной пустыни в другую. В самом начале эта тропа была крайне узкой, скорее расщелина в скалах шириной около пятидесяти футов, по обеим сторонам которой высились отвесные утесы. Здесь Руперт и Бахита должны были расстаться, ибо дорога к деревне первого шейха, к которому он направлялся, тянулась вдоль подножия гор; им же предстояло их преодолеть. Они снялись с места с первыми лучами зари, так как не смогли сделать этого раньше, ибо в темноте двигаться по коварной горной тропе было просто опасно. Убедившись, что караван готов отправиться дальше в путь, Руперт пошел попрощаться с Бахитой и ее племянницей.
Пока они долго благодарили его витиеватыми фразами, принятыми у жителей Востока, в данном случае, вполне искренними, к ним подбежал Абдулла и с тревогой в голосе объявил, что к ним скачет отряд вооруженных воинов, числом около ста человек, верхом на верблюдах и лошадях. Он также добавил, что, по его мнению, это шейх Ибрагим и его люди. Руперт тотчас распорядился, чтобы всех верблюдов отогнали в устье перевала, а солдаты, взяв винтовки и запас патронов, спрятались за разбросанными вокруг валунами, на тот случай, если Ибрагим решит на них напасть. Отдав это распоряжение, он повернулся к Бахите и быстро сказал:
– Ваши верблюды сытые и отдохнувшие. Мой вам совет: уезжайте отсюда поскорее. Мы же попытаемся их задержать.
На что Бахита ответила, что совет его мудр, и приказала верблюду, на котором уже сидела, встать. А вот девушка колебалась. Шагнув в Руперту, который уже повернулся, чтобы уйти, она схватила его руку и, прижав ее себе ко лбу, прошептала на своем забавном английском:
– Это не моя вина, это вина старой Бахиты, которая ни о ком не думает, кроме меня, а о тебе – не думает совсем. Я же все время думаю о тебе, и мое сердце болит, и я уже выплакала глаза. Прощай. Благослови тебя Бог и да будет проклят Ибрагим.
Руперт невольно улыбнулся этим высокопарным прощальным словам. В этот момент к нему подошел и обратился какой-то солдат. Когда же он вновь обернулся к ним, Бахита, Меа и их единственный слуга уже исчезали за поворотом горной дороги. Не желая показывать своего страха, он приказал солдатам усесться кругом, сделав вид, будто они устроили привал, однако держать ружья наготове, а сам, в сопровождении Абдуллы и еще одного солдата подошел к большому камню напротив, сел на него и, закурив трубку, принялся ждать.
К этому моменту отряд был уже совсем рядом и остановился. Вскоре от него отделились два всадника, в одном из которых Руперт узнал своего старого знакомого Ибрагима, а в другом – часового, с которым они разговаривали у Пресных Колодцев. Подъехав ближе, Ибрагим с расстояния спросил, встретил ли его здесь мир.
– Приносящие мир находят его, – ответил Руперт.
Тогда Ибрагим спешился и, оставив лошадь на попечении слуги, в одиночку зашагал им навстречу. Руперт сделал то же самое. Подойдя друг к другу, они обменялись приветствиями.
– Бей, – произнес Ибрагим, рассматривая одеяния Руперта, – смотрю, с тех пор, как мы разговаривали с тобой на том холме над Абу-Симбелом, ты сменил платье. Скажи, изменил ли ты и свое сердце и стал ли слугой Пророка, и теперь я могу приветствовать тебя как брата?
– В Абу-Симбеле у тебя нашлись для меня и другие имена, – уклончиво ответил Руперт. – Скажи лучше, шейх Ибрагим, какое у тебя дело к купцу Магомеду, который, кстати, предлагает тебе свои поздравления, ибо узнал, что теперь ты тоже служишь правительству.
– Мое дело, бей, – ответил араб, – не имеет ничего общего ни с правительством, ни с тобой лично. Я слышал, что с твоим караваном путешествовали две женщины, которые являются моей собственностью. Передай их мне.
– Да, две женщины путешествовали с моим караваном, шейх, но я не могу их тебе передать, ибо они покинули меня.
– И куда же они направились? – спросил Ибрагим.
– Если честно, не знаю; это их личное дело, – спокойно ответил Руперт.
Услышав такой ответ, шейх дал волю своему дурному характеру.
– Ты лжешь! – заявил он. – Я велю обыскать лагерь, ибо ты наверняка их где-то прячешь.
– Если хочешь найти ружейные пули, обыскивай, – предостерег его Руперт. – Послушай, Ибрагим. Я здесь стою лагерем и останусь стоять, пока ты не уйдешь, так как не доверяю тебе и не хочу подставлять тебе на дороге мою спину. Если ты попробуешь применить силу, вполне возможно, что перевес будет на твоей стороне, ибо моя миссия мирная и у меня с собой мало солдат. Но потом хедив, который стоит над тобой, уничтожит и тебя, и твое племя, и тогда на земле одним вероломным и опасным человеком станет меньше. Я все сказал, а теперь ступай с миром.
– Клянусь аллахом, нет! – воскликнул Ибрагим. – Я пришел с войной. Ибо помимо тех двух женщин, я хотел бы свести с тобой старые счеты. Из-за тебя правительство Египта напало на мой город. Моих женщин обесчестили, мои стада увели прочь. Выбирай сам. Или ты сейчас передаешь мне своих верблюдов, свой товар и свое оружие, и я, так и быть, смилуюсь над тобой и отпущу с миром. Но если откажешься, я отниму все это силой, а тебе, неверный, предложу выбор – между смертью и исламом.
– Пустые барабаны – самые громкие, – презрительно ответил Руперт.
В ответ на его слова араб поднял копье, которое держал в руках, и швырнул его в Руперта. Тот отскочил в сторону, и копье пролетело от него на расстоянии волоса.
– А теперь, – сказал он, – мне ничто не мешает пристрелить тебя. Но я не забуду свою честь, только потому что ты позабыл свою. Мерзкий пес, Бог отомстит тебе за твое вероломство!
– Клянусь моей бородой! – взревел Ибрагим. – Ты у меня ответишь перед Аллахом. Помяни мое слово, твои неверные губы будут целовать его священное имя!
Руперт же направился к своим солдатам, которые уже бежали ему на помощь.
– Назад! – крикнул он им. – И спрячьтесь за камнями. Ибрагим собрался напасть на нас.
И они вернулись, ибо вступать в поединок было бессмысленно, и, привязав верблюдов в углублении скал, вне досягаемости ружейного огня, сами залегли за камнями. Здесь Руперт обратился к ним и поведал, что произошло, добавив, что они или должны стрелять, или их ограбят и возьмут в плен, что означает верную смерть. Ибрагим вряд ли станет оставлять кого-то в живых, ибо, когда его призовут к ответу за содеянное им преступление, ему не нужны те, кто сможет свидетельствовать против него. Поэтому, хотя их и было мало и даже на верблюдах они не могли убежать от наездников на лошадях, в их же собственных интересах было попытаться дать отпор врагу.
Солдаты, а все они без исключения были храбрецами, ответил, что так и поступят. Что хотя их мало, они будут сражаться и попытаются одолеть арабов. Только Абдулла был не в духе и сказал, что все эти неприятности свалились на них из-за тех женщин, которых следовало отдать Ибрагиму.
– Ты бы поступил так, будь они твоими женами и дочерьми? – презрительно спросил у него Руперт. – Как я мог их выдать после того, как они ели мой хлеб и соль? Теперь же их вообще с нами нет. Но если тебе страшно, Абдулла, бери своего верблюда и поезжай за ними. Мы же общими усилиями будем удерживать перевал, чтобы ты смог уехать как можно дальше.
После этих слов некоторые слуги начали насмехаться над Абдуллой и называть его женщиной и трусом. Он же устыдился и заявил, что покажет им, что храбрости ему не занимать. Затем, просвистев над его головой, в скалу за его спиной впилась ружейная пуля, очевидно, выпущенная в Руперта, который, стоя во весь рост, обращался к солдатам. Бой начался.
Руперт заметил стрелявшего: тот выпустил пулю из-за спины верблюда, примерно в двухстах ярдах от него, потому что над ним все еще висело облачко дыма. Схватив свою автоматическую винтовку «винчестер», он быстро прицелился и тоже выстрелил. Он был метким стрелком, как по дичи, так и по мишени, и его зоркий глаз и твердая рука не подвели его. Раздался хлопок выстрела, и в следующий миг араб – тот самый часовой, с которым они разговаривали у Пресных Колодцев – вскинул руки и тяжело повалился из седла на землю.
Узрев в этом добрый знак, солдаты тотчас же открыли огонь и убили или ранили нескольких врагов. Арабы тотчас поспешили укрыться, а лошадей и верблюдов отвели подальше, вне досягаемости пуль.
Вход в горное ущелье был усеян большими камнями. Крадучись от одного к другому, арабы медленно продвигались вперед, поливая солдат Руперта ружейным огнем. Тем не менее, это не нанесло большого ущерба, так как его солдаты сидели в хорошем укрытии и смогли убить нескольких арабов. Так продолжалось около часа. Неожиданно ближайший к Руперту солдат, по неосторожности подставивший себя под пули, дернул головой и повалился ничком на камни. Пуля пробила ему мозг и вышла навылет. Сразу после этого один из его товарищей, полагая, что он всего лишь ранен, встал, чтобы его поднять и тотчас получил пулю в плечо.
Перестрелка продолжилась весь день. Раненых больше не было; после первого сурового урока никто не осмелился высунуть из-за камней даже носа. А пока они не поднимали головы, враг не стрелял. И они продолжали лежать там, скорчившись за камнями под палящим солнцем. Пищи у них было в избытке; что же касается воды, то ее было мало, ибо почти всю ее они израсходовали прошлой ночью, рассчитывая пополнить ее запасы в колодце, расположенном чуть дальше вдоль дороги. Хотя ее расходовали бережно, вскоре была выпита последняя капля, так что ближе к вечеру весь их отряд мучила жажда.
Наконец солнце село и стало темно.
Глава XIII. Конец схватки
В течение всех этих унылых часов Руперт советовался сам с собой. Будучи искушен в арабской тактике ведения войны, он догадывался, что Ибрагим вряд ли станет нападать на них при свете дня, ибо это может ему дорого стоить: в лучшем случае он потеряет много воинов, в худшем будет разгромлен. А вот подобраться к нему под покровом ночи или рано на рассвете – это куда вероятнее.
Численный перевес был на стороне врага, и такой шаг со стороны Ибрагима означал бы для них верную смерть, полное уничтожение. Впрочем, оставалась и вероятность того, что этот шаг не будет сделан; зная, что Руперту ждать подкрепления неоткуда, арабы продолжат старую тактику, и рано или поздно свое дело за них сделает жажда. Так что, похоже, выбирать ему придется из двух зол – сдаться на милость врагу или отступить. Тогда он собрал своих солдат и в темноте обратился к ним с речью, не став скрывать от них всю тяжесть положения, в котором они оказались.
В данных обстоятельствах, как сказал он, если они пожелают сложить оружие, он не станет им препятствовать, единственное, он уверен в том, что несмотря на все обещания сохранить им жизнь, арабы их все равно убьют или в лучшем случае продадут в рабство Халифе или его эмирам, с которыми этот Ибрагим наверняка заодно. Что до него самого, то он сдаваться не намерен, но выбрав место поудобнее, готов отстреливаться до конца, пока не будет убит, как Гордон.
Солдаты в один голос заявили, что этого не допустят. Их дело – умереть вместе со своим командиром, а не бросить его в беде. Ведь они суданцы и солдаты, а не какие-то там феллахи.
Руперт просто поблагодарил их и предложил им второй выбор – отступление. Перевал у них за спиной был открыт, хотя никто из них ни разу не ходил через него. На карте он показал им источник, расположенный в пустыне, милях в тридцати отсюда, до которого они могли добраться. Или же, выйдя из ущелья, они могли свернуть в сторону и двинуться вдоль гор, в надежде найти воду или безопасность. Или же они могут попытаться пробиться назад к Вали-Хальфа, что, однако, лично ему представляется делом безнадежным, поскольку, оказавшись в открытой пустыне, они станут легкой добычей врага, который атакует их со всех сторон и, взяв в кольцо, уничтожит.
Обсудив все это между собой, солдаты объявили ему свое решение: они предпочитают бегство. Что до всего остального, то они готовы встретить ek Mektub, что в переводе означает «то, что написано», иными словами, свою судьбу. Руперт произвел перекличку, чтобы проверить, все ли на месте. Двое не откликнулись на свое имя – мертвый солдат и сержант Абдулла. Сначала все подумали, что тот тоже убит, однако затем кто-то вспомнил, что он днем пошел накормить верблюдов, и с тех пор его никто не видел. Позднее они узнали, что предвидя план своего командира, он уже покинул место боя, причем, на лучшем верблюде – акт трусости, который, как мы увидим, имел самые серьезные последствия для Руперта, особенно, в том, что касается его карьеры. А пока скажем лишь то, что, обогнув горы, Абдулла целый и невредимый вернулся к берегам Нила. Думаю, понятно без всяких слов, что там он явился к властям с донесением, которое, увы, некому было опровергнуть.
И вот теперь, приняв решение, небольшой отряд задался целью как можно быстрее его выполнить, ибо никто не мог сказать, когда последует новая атака. Сначала они собрали все, что смогли найти, и развели костер, дабы арабы подумали, что они решили остаться здесь лагерем. Затем, произнеся над мертвым товарищем молитвы, они усадили его за камень, так, чтобы из-за того торчала его рука с ружьем, а на них падали отблески костра. Они также оставили двух самых худших верблюдов, в надежде, что их рев введет врага в заблуждение и Ибрагим решит, что караван не сдвинулся с места. Покончив с приготовлениями, они как можно тише двинулись в путь. Правда, вскоре оказалось, что эта задача гораздо сложнее, чем они думали.
Ночь была безлунной, и в ущелье царила тьма, как говорится, хоть глаз выколи. Более того, на пути им то и дело попадались валуны и вымытые водой колдобины, в одной из которых один верблюд вскоре сломал ногу, и его пришлось прирезать и бросить вместе с его ценной поклажей. Примерно через полмили еще один верблюд сорвался не то с берега, не то с обрыва и пропал; один солдат подвернул лодыжку, а другой, споткнувшись, ударился лбом о камень и получил глубокую ссадину. После этих случаев Руперт распорядился сделать остановку и дождаться, когда взойдет луна, потому что в темноте идти дальше было практически невозможно.
Наконец луна взошла, однако небо было облачным, а ночное светило – на исходе, так что в узком ущелье стало ненамного светлее. И все же, они шли вперед, молясь, чтобы поскорее наступило утро, и утешая себя тем, что если арабы пустились за ними в погоню, им придется ничем не лучше.
Наконец небо начало сереть; пришел долгожданный рассвет. А затем, с пугающей внезапностью, так хорошо известной всем, кто путешествует по египетской пустыне, встало солнце, и в его лучах, они устремились вперед. Примерно с милю все было хорошо, пока отряд не дошел до устья ущелья, где оно расширялось, и вместо каменных, отвесных стен его усеянные валунами стороны поросли кустарником.
Внезапно из-за одного из этих валунов прогремел ружейный выстрел. В нескольких ярдах впереди, в центре долины виднелся невысокий холм, также усеянный огромными камнями. Мгновенно поняв, что случилось, а именно, что арабы, предвидя их отступление, заранее отправили основную часть своего войска через горы, чтобы подстеречь их при выходе из ущелья, Руперт приказал своим солдатам идти к холму и постараться удержать его.
Что они и сделали под яростным огнем врага. Впрочем, стрелки из арабов были никудышные, а дно долины окутывал утренний туман, поэтому обошлось без потерь. Как оказалось, на холме засели два или три вражеских снайпера, но их удалось легко обезвредить. Затем, заняв по возможности лучшие позиции, крошечный отряд, прежде чем встретить собственную смерть, приготовился нанести врагу как можно больший урон. Хотя время от времени замертво падал то один, то другой солдат, они смогли продержаться несколько часов, пока, наконец, из ущелья не показалась остальная часть арабов.
Вот тогда-то и завязалось ожесточенное сражение. Такие вещи кажутся героизмом, когда о них рассказывают, – отчаянное сопротивление горстки храбрецов перед лицом численно превосходящего врага, – но в жизни это самый неприглядный кошмар. Ибо что есть слава? Не более чем осадок, оставленный на стенках их кипящего кровью котла ужаса с такими мощными реагентами, как расстояние, романтика и время.
Так и этот последний, отчаянный бой горстки усталых солдат против многочисленного врага кажется благородным, когда о нем читаешь, хотя на самом деле он был попросту омерзителен. Эти черные суданцы показали чудеса храбрости, ибо, когда их ведет за собой тот, кому они верят и кого уважают, они не сдаются, даже если потеряют большинство своих товарищей убитыми и ранеными. Так и сейчас, больше ни слова не было сказано про капитуляцию. Ибо кто станет думать о таких вещах, видя, как рядом с вами раненый в живот солдат, то сыпля проклятиями, то вознося молитвы, корчится от боли на земле, но все равно заряжает ружье и в промежутках между приступами стреляет, убивая врагов. Когда от жажды язык вываливается изо рта, когда лоб пульсирует усталостью и болью, а сердце готово разорваться от ярости и горя о тех, кого вам больше никогда не увидеть живыми, а также от предчувствия собственного ужасного конца… Скажите, кто в таких обстоятельствах станет думать о чаше и венцах славы и пустых побрякушках доблести и чести?
По крайней мере, Руперт о них не думал. Сражаясь с мрачной решимостью, он лишь делал свое дело. И даже отбил две атаки, когда арабы, видя, что их огонь слабеет, попытались прикончить их копьями. В промежутке между двумя этими атаками Руперт думал об Эдит. Интересно, что она сейчас делает? Затем подумал, что, скорее всего, сейчас она в постели, спит, и даже если ей что-то снится, то конечно не он и не его отчаянное положение. Затем его посетил другой вопрос: если он погибнет – а это случится с минуты на минуты, проснется ли она, когда душа покинет его тело, или же будет и дальше мирно спать? Затем он вспомнил другую женщину, странную местную девушку знатных кровей, и ему подумалось, что как бы крепко она ни спала, она наверняка проснется, и его смерть будет отомщена, и это будет свирепая, кровавая месть пустыни. Впрочем, он тотчас выбросил все эти мысли из головы и пожал руку умирающего солдата.
– Кисмет![14] – произнес тот с жутковатой улыбкой. – Мы убили их больше, чем они могут убить нас. Вода в Пресных Колодцах на какое-то время станет горькой. Аллах добр, а рай приятен. Ты ранен, бей?
– Пока нет, – ответил он, – но, погоди, я скоро тоже туда приду. Ага, попал еще в одного!
– Не надо, не приходи, – ответил солдат – Живи, покуда жив. Тот, кому отпущены долгие годы, видит многое, и среди прочих вещей отмщение своим врагам. Живи, и ты увидишь, как шейх Ибрагим будет болтаться на суку колючего дерева!
Сказав это, солдат простонал, перекатился лицом вниз и умер.
* * *
Из-за камней поднимались клубы дыма, на солнце сверкали копья, хриплые голоса возвещали о том, чему никто не противоречил, – что Аллах велик и Магомет пророк его. То там, то здесь люди падали, кто навзничь, кто ниц, все так же заявляя, что Аллах велик, и тотчас оставляли свои тела, чтобы проверить верность этого утверждения. Кровь бежала тонкими, черными ручейками и тотчас впитывалась благодарной почвой. Люди умирали от рук своих же собратьев-людей, как то испокон веков было заведено в этом дьявольском мире и наверняка будет до самого его конца. Хранимый от ран неким чудом, Руперт продолжал сражаться. Магазин его винтовки был пуст. Только что последним выстрелом он убил высокого, бородатого араба. Затем почти рядом с собой он увидел Ибрагима и, вспомнив про револьвер, уже его вытащил, когда внезапно тяжелый удар сзади свалил его на землю.
Спустя какое-то время он снова пришел в себя и постепенно понял, что он не мертв, ибо лежал там же, где и упал, а вокруг него валялись тела мертвых и раненых. Рядом также стояли двое его солдат – пленники, поскольку их руки были связаны сзади. Шейх Ибрагим допрашивал их, обещая, что сохранит им жизнь, если они скажут ему, где они спрятали цыганку Бахиту и ее спутницу, юную Меа. На что пленники ответили ему, что принимают его условия и с удовольствием их выполнят. Мол, женщины спрятались в пустыне, куда они отбыли еще до начала сражения, и если они ему нужны, то пусть он отправится на их поиски.
Их ответ, похоже, привел шейха в ярость. Он тотчас подозвал к себе своих людей и велел им «убить этих псов». Те пришли, и тогда оба пленника, опустив головы, боднули их, словно бараны и даже, сбив одного из них с ног, запрыгнули на него и принялись топать ему по лицу ногами, пока жестокие сабли не сделали свое дело, и они не расстались с жизнью. Затем наступила очередь раненых, которых тоже убили, и вскоре из всего их отряда в живых остался один только Руперт.
Тогда его схватили и тоже начали расспрашивать про женщин. Однако он притворился, будто жажда мешает ему говорить, и стал указывать пальцем на горло и рот. Уловка сработала, ибо ему принесли воды, которая в тот момент была для него спасением. Чаша была большая, но он выпил ее всю и тотчас ощутил, как силы вернулись к нему. Тогда к нему обратился Ибрагим:
– Неверный пес, – произнес он, – как ты сам видишь, и твоя хитрость, и твоя храбрость бессильны перед волей Аллаха, который уничтожил весь твой отряд!
– Если это так, – ответил Руперт, – то почему он также уничтожил так много твоих воинов? Я уже насчитал двадцать мертвых и тридцать раненых. Аллах справедлив, и берет жизнь за жизнь.
– Не богохульствуй, пес. Об Аллахе я поговорю с тобой позже. А пока скажи мне, где эти женщины?
– Эти храбрые воины, которых ты убил, хотя сам же обещал сохранить им жизнь, уже сказали тебе: они в пустыне. Иди и поищи их там. Давай, ибо я устал от этой болтовни. Убей заодно и меня, а сам уходи, дабы встретить то, что Господь уготовил тебе, изменнику и лжецу, в этом мире и в мире грядущем.
– Значит, ты тоже желаешь умереть? – спросил Ибрагим, поднимая копье.
– Да. Почему бы нет? Мои солдаты убиты. Я хочу разделить их судьбу. Кроме того, я должен доложить на небесах о тебе, чтобы там приготовили для тебя место.
Араб опустил копье. Похоже, слова Руперта напугали его.
– Не так быстро, – сказал он. – Свяжите его и посадите на верблюда. Пусть он увидит, как мы поймаем этих женщин, и тогда поступим с ним, как велит нам закон.
И они связали Руперта веревками и посадили на его же собственного верблюда. Вскоре он выехал в путь вместе с арабами, коих было человек сорок. Остальные были или мертвы, или ранены, или же остались, чтобы доставить последних и богатую добычу, включая тысячу фунтов золотом, назад, к Пресным Колодцам. В устье ущелья, в нескольких милях от места схватки, они осмотрели мягкую землю и нашли следы верблюдов, на которых ехали Бахита, Меа и их слуга. Увидев, что следы ведут в пустыню, устремились за ними в погоню. Они ехали весь день, пока не достигли отмеченного на карте колодца, и здесь, измученные яростной схваткой и долгой дорогой, отказались двигаться дальше, хотя шейх Ибрагим и заставлял их. Они устроили рядом с колодцем привал, где поели фиников и лепешек, и даже поделились едой с Рупертом.
Пока воины Ибрагима ели, из кустов рядом с источником, в которых они прятались, к ним выползли бродяги, старик и две женщины, одна из них слепая, и попросили у них пищи. Их просьбу исполнили, и когда все трое насытились, Ибрагим спросил, не видели ли они двух женщин и мужчину верхом на верблюдах, которые проезжали мимо них.
На что те ответили, что да, видели, около тридцати часов назад. Но к этому времени они уже наверняка ушли далеко, так как, сделав лишь короткий привал, чтобы напоить верблюдов и самим поесть, они тотчас же отправились в путь.
Ибрагим понял, что добыча ускользнула от него. Более того, арабы отказались преследовать их по пустыне, где, как они опасались, их может поджидать засада соплеменников Меа, и тогда они умрут, как и их братья, в горном ущелье. Ярость Ибрагима не знала границ, ибо он отлично понимал: даже та богатая добыча, которую ему удалось захватить, не восполнит ему гибели лучших его воинов. Более того, то, что они погибли в личной ссоре, не встретит одобрения у его племени, особенно, у женщин. Он также не сомневался, что, как предрекал ему Руперт, правительство отомстит ему за эту резню, направив против него экспедицию, чего можно избежать лишь одним способом, а именно – уйти с остатками отряда к Халифе.
И, наконец, все его усилия оказались напрасными, ибо эта женщина, которую он желал со всей необузданной страстью, столь характерной для обитателей Судана, беспрепятственно вернулась к себе в Таму, которая была слишком хорошо защищена, чтобы на нее напасть.
Эти и другие напасти, как размышлял Ибрагим, свалились на его голову по вине его заклятого врага, английского бея, взявшего Меа под свою защиту и стойко защищавшего со своим крошечным отрядом горный проход, тем самым помешав ему, Ибрагиму, броситься за ней в погоню и поймать. Черное и жестокое сердце Ибрагима кипело ненавистью к этому неверному псу. Правда, затем, он с внезапной радостью вспомнил, что, по крайней мере, может отомстить англичанину за все свои несчастья.
И он отдал приказ привести к нему пленника. И Руперта привели туда, где в тени старого, развесистого тернового дерева рядом с костром сидел Ибрагим.
– Зачем я понадобился тебе, шейх? – спокойно спросил Руперт. – Или пробил мой урочный час? Если так, то не тяни, ибо я устал и хочу спать.
– Еще нет, пес, – ответил Ибрагим. – А возможно, что не настанет вовсе, ибо я хорошо помню пословицу «Милостив тот, кто прощает». Ты же, хотя и неверный, но храбрец.
– Я не прошу твоего прощения. Это ты должен просить его у меня, ибо это ты нарушил клятву верности, которую давал хедиву, и без всякой причины убил моих людей, – гордо ответил Руперт.
– Я его тебе и не предлагаю, – сказал Ибрагим, – Предлагает Аллах, я же всего лишь его слуга. Однажды – надеюсь, ты помнишь – я пообещал тебе, что настанет день, когда тебе придется выбирать между смертью и исламом. И вот он настал. Выбирай. Прими веру на глазах у всех, что тебе будет сделать совсем несложно, ибо на тебе наши одежды и ты путешествуешь под священным именем Пророка. Напиши в письме своим начальникам в Каире, что ты отказываешься от них и теперь стал одним из нас, и что ко мне у тебя нет никаких претензий, и можешь идти на все четыре стороны. Или откажись и умри неверным. Я все сказал.
Руперт рассмеялся ему в лицо.
– Довольно, я устал слушать твои пустые речи, – ответил он. – Или я, по-твоему, ребенок или женщина, чтобы мне бояться смерти, которой я, начиная со вчерашнего дня, смотрел в лицо не раз? Предатель Ибрагим, ты можешь связать мое тело, но не мой дух. Я сделал свой выбор.
Сказав эти слова, он замер в ожидании смерти. Но та не пришла. Ибрагим повернулся к своим воинам и, посовещавшись с ними, с жестокой улыбкой сказал:
– Даже не пытайся рассердить меня. Я проявлю милосердие и дам твоему упрямому духу время для покаяния, дабы не лишать его райских услад. Бросьте его на землю.
Воины подчинились. Лежа на спине и глядя сквозь ветви дерева на нежное небо над собой, Руперт увидел, как один араб, который, как он слышал, говорил о себе, что по своему первому ремеслу он мясник, вытащил свой меч, а другой – нагрел в пламени костра широкое лезвие своего копья. Впервые в жизни ему стало страшно. Нет, он испугался не смерти, ему было страшно превратиться в калеку!
* * *
Четырнадцать часов спустя Руперт был все еще жив. Да, хотя ему отсекли правую ступню, а утром, когда он снова отказался принять Коран, выкололи левый глаз и обожгли щеку раскаленным железом, будучи человеком сильным, он все еще был жив. Он сидел в седле верблюда под терновым деревом, вокруг его шеи была накинута петля, а конец веревки был перекинут через одну из ветвей. Арабы приготовились повесить его, но сначала, опять-таки из соображений милосердия, дали ему немного времени подумать и принять их веру.
Муки, которым подвергались его душа и тело, были велики, но Руперт продолжал гордо сидеть, – теперь уже калека, – но при этом ни единой жалобы не слетело с его губ, ни единой мольбы о пощаде. Лишь в сердце своем он задавался робким вопросом, за что судьба ниспослала ему такие мучения. Затем он вспомнил, что здесь, в залитом кровью Судане, обиталище фанатизма и дьявольщины, много людей, даже куда более достойных, чем он – не только мужчин, но и женщин, приняли куда более страшные муки, и в знак покорности судьбе склонил свою истерзанную голову. Ни разу за все долгие часы пыток он не попытался купить себе избавление, хотя для этого было достаточно одного его слова. Нет, он не гордился собой за эту стойкость, ибо вера и гордость слишком глубоко укоренились в его душе, чтобы ему хотя бы раз пришла такая мысль.
Этот мир кончился для него. Никто никогда не узнает, каким мерзким образом он распрощался с солнцем. Теперь им владело всего одно желание: не показать своим мучителям, что ему больно и страшно, чтобы отойти в мир иной храбрым и верным до последнего вздоха. Даже эти бессердечные дикари дивились его стойкости и по-своему стыдились черных своих дел. Они с радостью отпустили бы его, но Ибрагим сказал «нет». Слишком поздно. Он должен умереть, если им дорога собственная жизнь. Тем более что даже прояви Руперт слабость и прими он ислам, Ибрагим не собирался оставлять его в живых. Просто, прежде чем его убить, шейх мечтал сломить его дух, точно так же, как он уже искалечил его тело.
Мучители на какое-то время оставили Руперта в покое, зная что он не в состоянии даже пошевелиться, а сами взялись седлать своих верблюдов. И вот теперь они вернулись, все до одного, и встали перед ним, с любопытством на него глядя. Слава богу, конец был близок, вскоре боль и мучения оставят его. Так они стояли перед ним, хмурые и молчаливые, в душе жалея его – все, за исключением Ибрагима, который решил напоследок преподать своей жертве основы учения Корана, чтобы Руперт понял, какие мучения ожидают его в аду, ведь именно туда он и направится после смерти.
Руперт ничего не ответил, продолжая смотреть поверх голов своих мучителей единственным глазом, который у него оставался, на невысокий склон напротив, чей гребень протянулся не более чем в ста ярдах от него. Уж не сошел ли он с ума или же вообще ослеп и теперь в своей слепоте видит разные видения? Если же нет, то через гребень холма скакали вооруженные копьями всадники и среди них женщина, также с копьем в руке. Они остановились, обвели взглядом пустыню, разомкнули свои ряды, однако убийцы, чьи взгляды были прикованы к лицу умирающего, не услышали их, ибо стук копыт поглощал мягкий песок, а обжигающий ветер пустыни дул в противоположную сторону.
– Бесполезно, – произнес Ибрагим. – Этот неверный пес отвергает чашу нашего милосердия. Так пусть же он умрет, собаке собачья смерть! – с этими словами он схватил веревку.
– Один момент, – выдавил из себя Руперт. – Эта твоя последняя мысль, шейх, затронула мой разум. На меня с высоты снизошел свет. Прошу тебя, повтори свои последние слова.
Лицо Ибрагима осветилось жестокой улыбкой. Он торжествовал: этот доблестный англичанин наконец-то проявил себя трусом. И он начал повторять свои последние слова.
Всадники налетели на них полукругом, их было не меньше сотни, по крайней мере, Руперту так примерещилось. Или нет? О боже, это никакое не наваждение, это явь. Под топот лошадиных копыт его уши пронзил боевой клич «Тама! Тама!» – это на них на всем скаку неслись всадники пустыни. Арабы ипуганно обернулись и тотчас поняли, что их ждет. С криками ужаса они бросились врассыпную, к своим верблюдам. Ибрагим на бегу метнул в Руперта копье, но в очередной раз лишь слегка оцарапал ему голову.
Затем арабов настигла быстрая и внезапная месть. Некоторых зарубили на месте, некоторых захватили в плен, в том числе, и Ибрагима. Через пару минут все закончилось. Почти напротив Руперта остановилась лошадь, и с нее на землю спрыгнула женщина. Это была Меа. Бросив на песок свое копье, она подбежала к нему и, обняв, поцеловала в лоб. Увидев же, что с ним сделал Ибрагим и его головорезы, горько расплакалась и принялась сыпать английскими и арабскими проклятиями. Внезапно ее нежные глаза блеснули свирепым блеском. Она повернулась и крикнула:
– Приведите их всех сюда, тех, кто еще живы!
И их привели, около двух десятков человек, если не больше. Приволокли даже умирающих. Забрызганных кровью, в рваной одежде, потерявших свои головные платки, их поставили перед ней.
– А теперь, – процедила Меа сквозь зубы ледяным тоном, – сделайте с ними то, что они сделали с английским господином. Ибрагиму, прежде чем повесить его на дереве, отрубите обе руки и ступни.
Несчастные пали перед ней ниц, умоляя пощадить их. Даже Ибрагим, и тот распростерся перед ней и умолял, чтобы его зарубили на месте. С тем же успехом он мог умолять каменного идола. Ибо, выпрямившись во весь рост, дрожа каждым нервом своего тела, с горящим взглядом, полным ярости и ужаса, Меа скорее походила на богиню мести, нежели на смертную женщину.
– Пощади их, Меа, – прохрипел Руперт, – они лишь фанатичные варвары. Пощади их ради меня.
Меа резко повернулась к нему.
– Молчи, бей, – довольно грубо ответила она. – Как я могу не мстить за того, который принял ради меня такие муки?
Затем он, в конце концов, лишился сознания, а когда примерно через час пришел в себя, то понял, что голова его покоится на коленях у Меа, а Бахита тем временем мазями обрабатывает ему раны и перевязывает их. Увидел он также и то, что жуткий приказ Меа был исполнен, ибо на деревьях болтались тела арабов, всех до единого.
Глава XIV. Меа делает предложение
Это жуткое зрелище – свисающие с ветвей терновых деревьев трупы его мучителей – было последним, представшим глазам Руперта в течение многих дней. Ибо, что касалось его дальнейшей памяти, то на протяжении нескольких недель он большую часть времени оставался без сознания. Он был без сознания, когда его на носилках несли через пустыню к Черному Перевалу в дальних горах, где еще ни разу не ступала нога белого человека, а затем через эти горы к спрятанному в них оазису, вокруг которого они застыли, словно часовые. Здесь, у источников, под сенью пальм и рядом с высокими пилонами полуразрушенного храма, стоял город Тама, чьей владычицей по праву своего происхождения была Меа. Это был небольшой город, ибо само племя тоже было небольшим, не более четырехсот мужчин, способных носить оружие, ибо гордые своей древней кровью и ненавидящие чужеземцев, они не брали себе жен из других племен, и со временем их древняя раса шла на убыль. Однако земля их была плодородна, дома построены крепко, запасов пищи хватало, ибо, будучи немногочисленными, дети Тамы не знали голода и бедности.
Меа принесла Руперта в свой собственным дом, – большой и удобный, он был построен из камня, взятого из развалин храма, и стоял в окружении садов. Здесь они с Бахитой выхаживали его, как никакого другого воина до него. В племени имелись лекари, которые, как это нередко бывает среди африканских туземцев, имели зачаточные познания в хирургии.
Эти лекари натянули обожженную плоть на отсеченную кость, и в чистом воздухе, а также благодаря обеззараживающей мази, та не омертвела и без каких-либо других осложнений, быстро зажила. Пытались лечить местные знахари и его голову, но в таких сложных вещах их умений явно не хватало, как не смогли они предотвратить распространение воспаления на его единственный целый глаз. И хотя со временем оно прошло, зрение его пострадало, и когда, наконец, Руперт очнулся от своих блужданий, он решил, что сейчас ночь, ибо, подобно покрывалу, тьма застилала ему взор.
Долгое время он не мог вспомнить или даже угадать, где находится, но постепенно память вернулась к нему. Правда, сначала он решил, что это был просто ночной кошмар.
Лишь голос Меа открыл ему двери к понимаю того, что с ним случилось. Заметив изменения в его лице, она вся задрожала от надежды, полагая, что сознание, наконец, вернулось к нему. Какое-то время она наблюдала за тем, как его руки ощупывают все вокруг, пока не поняла, что произошло то, чего она больше всего опасалась: он был слеп. Наконец, не в силах больше терпеть неизвестность, она обратилась к нему на своем странном английском:
– Ты спал очень долго, Руперт-бей. Сейчас ты проснулся, да?
Он повернул голову, внимательно ее слушая, затем сказал:
– Это разве не голос Меа, той самой, что совершала возлияния богам в храме Абу-Симбела?
– Да-да, – с жаром ответила она, – конечно же, это ее голос. Такого больше ни у кого нет. Все остальные глупы и не говорят по-английски, но… – продолжила она, пристально на него глядя, ибо хотела знать, многое ли он помнит. – Я вылила ту чащу не на бога, а тебе на ноги, и Бахита говорит, что из-за этого все пошло не так, и ты потерял свою бедную ногу.
Когда она произносила эти слова, ее голос дрожал, и, лишь сделав над собой усилие, она добавила:
– Но, по-моему, Бахита – лишь глупая старуха, которая говорит всякую ерунду. Боги – лишь старые камни, и то, что я тогда опрокинула чашу, никак не связано с судьбой.
В ответ на ее слова Руперт рассмеялся. О, как же она была счастлива слышать его смех! Но затем его изуродованное лицо вновь сделалось серьезным, и он сказал:
– Расскажи мне, Меа, все про мою ногу и глаз, и про то, что случилось. Не бойся, теперь я могу это выслушать.
И она взяла его за руку и рассказала ему все. Говорила она по-арабски, ибо того английского, который она знала, для этого было мало, и лишь родной язык позволял описать все, что случилось. Впрочем, суть ее рассказа была коротка. Она, Бахита и их слуга без приключений преодолели проход в горах Джебал Марру и, как и сказали старые бродяги, на большой скорости – ибо в пустыне их верблюды были хороши – поскакали дальше, делая лишь небольшие остановки у колодцев. Недалеко от Черных Ворот, как называется ущелье, что ведет в их оазис, к их радости им повстречалась сотня воинов их племени, которых им навстречу выслал отправленный вперед гонец.
Они тотчас же повернули назад по своим следам. Бахита и эмиры просили, чтобы Меа прямиком отправилась домой, но она наотрез отказалась. Более того, взяв на себя командование, она, почти не давая лошадям передышки, устремилась через пустыню назад и успела вовремя. Их отряд увидел дым костра, на котором арабы готовили себе пищу, и это позволило им бесшумно подкрасться к их стоянке. Меа также описала Руперту свои чувства, когда увидела, что он, изуродованный, сидит в седле на спине верблюда с петлей на шее.
– Во мне как будто вспыхнуло пламя. Воздух сделался красным, песок пустыни пропах кровью, и я поклялась, что или отомщу за себя, или умру. И я отомстила, Руперт-бей. Ни один из них не ушел оттуда живым, и моя рука копьем пронзила сердце этого подлого пса Ибрагима. Да, я оставила ему его глаза, чтобы он видел этот удар. Он признался мне, что даже силой не смог вырвать у тебя ни единого слова. Он же кричал, моля меня о пощаде, и это было самое лучшее. Он молил меня о пощаде, и получил удар копья.
Руперт стряхнул ее руку.
– Ты поступила неправильно, – ответил он. – Тебе следовало проявить милосердие. Ибо сказано: возлюбите врагов своих. Но я забыл, ты этих слов не читала.
– Отчего же, читала, – ответила Меа. – Но как я могла пощадить его, если он хотел силой взять меня, властительницу племени Тама (она произнесла это слово с ударением на втором слоге), меня, рожденную от древней крови, в свой мерзкий гарем? Возможно, я бы и простила его, но увидев тебя, Руперт-бей, с веревкой на шее, слепого и с отрубленной ногой – и все это из-за меня, чужого тебе человека, не дочери, не матери, не родственницы… О! Такого я простить не могла. Более того, будь у него сотня жизней, я бы с радостью забрала их все, да-да, не сердись на меня, мною до сих пор владеет это желание. Нет, во мне нет злобы. Спроси любого из моего племени, убила ли я… да что там, просто наказала ли хоть кого из них без всякой причины? Но то зрелище превратило меня в самку леопарда, чьих детенышей убили у нее на глазах. Не думай обо мне плохо. Я покаюсь, я постараюсь быть лучше, но как же я рада, что вогнала копье в сердце подлому Ибрагиму и он умер у меня на глазах! И запомни, что Бахита хуже, чем я, ибо она хотела предать его медленной смерти.
– Что сделано, то сделано, – ответил Руперт. – Пустыня – жестокое место, и да простит нам всем Господь наши грехи.
Затем он умолк и не стал сопротивляться, когда она робко снова взяла его руку в свою, ибо понял: она взяла на свою душу грех убийства ради него.
– Скажи мне, Меа, – произнес он, – я навсегда останусь слепым калекой?
– Не знаю, – ответила она, всхлипнув. – Наши доктора не знают. Но я молюсь за тебя. О, будь Ибрагим снова живым, я бы ослепила его, дабы ему до конца его дней не видеть солнечный свет. Прости мне эти слова, но он сотворил с тобой зло, а все потому, что ты отказался молиться его проклятому пророку, по крайней мере, он так мне сказал, хотя у него были и другие причины. А пока отдыхай, Руперт-бей. Не напрягай себя разговорами. Я же буду сидеть рядом с тобой и отгонять от твоего лица мух. Отдыхай, и я спою тебе колыбельную, – и она, словно мать над больным ребенком, запела над ним какую-то древнюю песню, которая дошла до наших дней еще со времен фараонов.
* * *
Так началась жизнь Руперта в Таме. Постепенно силы вернулись к нему, но в течение трех месяцев он оставался совершенно слеп, и рука Меа редко отпускала его руку. С помощью собачки, которую он держал на веревке, она водила его туда-сюда, кормила его и выхаживала, охраняла его сон. Он укорял ее, более того, гневался, а затем на какое-то время ее сменила Бахита, и он остался с ней и с собачкой. Но на следующее утро в его руке вновь была мягкая рука Меа, а не костлявые пальцы Бахиты. В течение долгого времени он не придавал всему этому большого значения. Даже будучи в добром здравии, Руперт был чужд тщеславия, но сломленный, изуродованный, весь в шрамах, слепой – вроде тех жутких калек, что просят милостыню на улицах Каира – он и помыслить не мог, что такая красивая женщина, как Меа, более того, занимающая в своем мире столь высокое положение, будет воспринимать его не только как друга, которому она благодарна за то, что он для нее сделал. И все же вскоре его начали терзать сомнения. Нет, видеть он ее не мог, но когда она обращалась к нему, в ее голосе звучала некая новая нота, а когда она брала его руку, было в ее прикосновении нечто похожее на ласку, что не могло не тревожить его.
Воспользовавшись случаем, он рассказал ей о жене, что осталась в Англии, и даже показал ей миниатюрный портрет Эдит, сделанный на слоновой кости, вставленной в золотой медальон. Внимательно его рассмотрев, Меа сказала, что женщина хорошенькая, но холодна, как зимний рассвет, а потом спросила, действительно ли это его жена или же он просто ее так называет, – как она выразилась, если перевести ее слова с арабского на английский, «по политическим соображениям».
– Конечно, – ответил Руперт, – а почему ты спрашиваешь?
– Потому что если она твоя жена, то почему она в Англии, а не в Египте? Ведь она не больна и у нее нет маленьких детей, разве не так?
Руперт был вынужден сказать в ответ, что насколько ему известно, Эдит пребывает в добром здравии и, конечно же, у нее нет детей. А в качестве причины ее отсутствия, добавил, что она плохо переносит жару.
– А! – загадочно воскликнула Меа и сказала по-английски. – В холодной стране – холодная жена, в теплой стране – добрая жена. Все правильно.
Затем, не зная, что ему еще сказать, Руперт подозвал к себе собачонку и попросил Меа отвести его на прогулку. И она с нежностью повела его по саду.
Как только его общее здоровье в целом восстановилось, Руперт, поскольку все еще был незряч и не мог писать сам, продиктовал ей письмо, адресованное правительству в Каире, в котором описал печальный конец своей миссии. Это письмо было отправлено с нарочным в Вади-Хальфа, вместе с еще одним, также написанным рукой Меа и адресованным Эдит. Когда, в более поздние дни он увидел добавленный ею постскриптум, который она, однако, не сочла нужным ему прочесть, он слегка удивился. Говорилось же в нем следующее:
«Белой жене Руперта-бея от Меа, хозяйки Тамы.
Не беспокойся о своем господине, ибо я хорошо о нем забочусь и люблю его всем сердцем. Почему нет? Он сражался и ранен из-за меня. Надеюсь, мы не поссоримся, когда встретимся. В Англии ты голова. В Судане я голова. Это хороший план, всем хорошо. Передаю свой привет и кланяюсь тебе.
Твоя сестра Меа».Так случилось, что эти послания не дошли до своих адресатов. Ибо не прошло и недели, как гонец вернулся со словами, что вся местность по ту сторону Джебал Марру пребывает в волнении. Похоже, что сержант Руперта, Абдулла, который сумел выбраться живым, доложил, что Руперт и все его люди убиты. Услышав это, правительство отправило против остатков племени Ибрагима, шейха Пресных Колодцев, карательную экспедицию. Будучи предупреждены о том, что их ждет, арабы обратились за помощью к Халифе. В результате им в поддержку были отправлены несколько тысяч его приверженцев под предводительством эмира, хотя откуда они были – из окрестностей Суакима или с севера, этого Руперт не знал. Как бы то ни было, их было слишком много, чтобы правительственная экспедиция могла вступить с ними в схватку, поэтому какое-то время территория между Джебал Марру и Нилом находилась в их руках.
Поначалу Руперт был склонен думать, что Меа сочинила эту историю по каким-то своим соображениям, но Бахита заверила его, что это все правда. Более того, по ее словам, воины их племени денно и нощно охраняют Черный Перевал, единственный путь, по которому можно попасть в их оазис, если вдруг туда нагрянут те, кто захотят отомстить за смерть Ибрагима, и все делается для того, чтобы в случае нападения стоять до конца. Впрочем, никто так и не напал, ибо среди местных племен оазис пользовался дурной славой места, населенного духами, а его обитатели считались неверными чародеями на службе у самого дьявола. То, какая судьба постигла отряд Ибрагима, который был найден повешенным на деревьях, и в особенности, судьба самого шейха, лишь укрепило арабов в их мнении.
Позднее письма были отправлены снова, на сей раз с двумя гонцами. Спустя какое-то время один из них в очередной раз привез их назад. По его словам, он наткнулся на дозор махдистов и едва смог унести ноги. В отличие от него, его товарищу не повезло. Того поймали и пронзили копьем.
После этого Руперт оставил все попытки восстановить связь с цивилизацией. Погруженный в кромешную тьму телом и разумом, он проводил свои дни в печали. Он провалил порученную миссию, а те вожди, которых он рассчитывал подкупить, теперь были ярыми сторонниками Халифы. Его военная карьера закончилась, ибо он потерял ногу и зрение, и, что хуже всего, жена наверняка считала его мертвым. Его сердце обливалось кровью при мысли о том, сколь велико ее горе, а также горе его матери, но, увы, что он мог поделать? Лишь покорно склонить голову перед силой, по воле которой все это произошло, и молиться, что рано или поздно хотя бы часть этого тяжкого бремени будет снята с его плеч.
Ибо он не мертв, и, похоже, в ближайшее время не умрет. Меа, которая невольно навлекла на него все эти беды, своей нежной заботой спасла ему жизнь, а ее решимость и свирепая храбрость уберегли его от петли. Руперт считал, что своим разумом тоже обязан ей, потому что в самом начале, когда груз всех эти жутких несчастий давил ему на мозг, грозя сокрушить его, ему порой казалось, что рассудок изменяет ему. Она же, не спускавшая с него глаз, все видела и понимала. А поскольку обычаи Востока всегда одинаковы, как «когда дух злой от Бога снизошел на Саула, взял арфу Давид и играл рукою своей, и Саул встал освеженный и здоровый, и дух злой покинул его»[15], так и Меа взяла в руки арфу и играла Руперту и пела над ним своим звонким, нежным голосом старые-престарые песни Египта, часть которых не понимала даже она сама, пока, наконец, он на какое-то время забыл свои печали и освежился. Более того, вскоре его ожидало одно счастье, ибо зрение вернулось к нему.
Как-то раз в полуденный зной он лежал на ангарибе, местном топчане, в большой прохладной комнате, которая была отведена ему, ибо если он долго сидел, изуродованная нога причиняла ему боль. Меа устроилась рядом с ним на табурете. Она уже сыграла и спела ему, и теперь ее похожий на арфу инструмент лежал рядом с ней. Подперев подбородок рукой, она молча смотрела на Руперта. Он тоже знал, что она смотрит на него, ибо чувствовал на себе ее взгляд и развлекал себя тем, что старался вспомнить черты ее лица, которе он видел всего трижды – в храме Абу-Симбела, когда она прощалась с ним в горном проходе, и, наконец, когда она появилась перед ним во главе своего отряда и навлекла гибель на Ибрагима и его разбойников.
Впрочем, последний раз не в счет, ибо тогда она была не похожа на себя, напоминая скорее валькирию или воплощение мести, а не женщину. И вот теперь он развлекал себя тем, что пытался соединить эти два лица, что оба принадлежали ей, в одно, и ломал голову над тем, которое из них у нее сегодня. Бесполезное занятие, которому он предавался по привычке, глядя на нее сквозь кромешную, приводящую его в бешенство тьму, что, словно стена, зажала его со всех сторон.
Он снова поднял глаза и, о чудо! Он прозрел! На фоне кромешной тьмы возникло нечто мягкое и похожее на облако, и он понял, что это женские волосы. Затем в рамке этих волос возникло призрачное лицо, а на нем горящие глаза, из которых по щекам катились слезы. Само же лицо было исполнено такой нежности, какой он ни разу в жизни не видел. О, как же оно было прекрасно! Нет, оно было бы прекрасно всегда, но для того, кто провел долгие недели в полной слепоте, увидеть перед собой это лицо было сродни чудесному небесному видению. А этот взгляд! Он также был позаимствован у какого-нибудь скорбящего небесного ангела! Руперт отвернул голову, затем посмотрел снова, думая, что лицо исчезнет, но нет, оно оставалось, где и было. Более того, ему была видна и рука, подпирающая подбородок, и подрагивающие губы, которые едва-едва сдерживали рвущиеся наружу рыдания.
– Меа, – спросил он по-английски, – почему ты плачешь?
Она вздрогнула и поспешила тыльной стороной ладони вытереть с лица слезы.
– Я не плачу, – ответила она веселым голосом. – Бей, ты не мог слышать, как я плачу.
– Нет, Меа, но я видел. Твоя щека была вся мокрая, а ты сидела, подперев подбородок рукой.
Она по-арабски издала крик радости, затем сорвала со своей головы покрывало и набросила ему на лицо.
– Больше не смотри, – сказала она, – для твоего глаза пока вредно смотреть слишком долго, иначе он снова ослепнет. Кроме того, – добавила она со счастливым смехом, – нехорошо подглядывать за женщиной, когда она этого не подозревает. Ты должен сначала предупредить ее, чтобы она успела придать лицу приличное выражение.
– Мне не нужно никакое другое, – мягко ответил Руперт, – сначала я подумал, что это мне пригрезилось, что передо мной ангел. Вот только ангелы не плачут.
– А по-моему, ангелы всегда плачут, когда смотрят вниз, на землю, ибо здесь есть над чем плакать, Руперт-бей.
С этими словами она попыталась взять себя в руки, но потерпела неудачу и разрыдалась. Затем бросилась на колени подле него и сказала:
– Ты спрашиваешь меня, почему я плачу (всхлип), и я скажу тебе (всхлип) всю правду. Потому что ты стал таким из-за меня, и я не могу этого вынести, ибо сердце мое тебя любит. Ты был готов умереть ради меня. Я же хочу ради тебя жить.
Руперт сел на своем топчане и сбросил с головы белый платок. Испугавшись за его новорожденное зрение, Меа машинально положила ему на глаза свою маленькую руку, заслоняя их от яркого света. Кризис наступил. Руперт это знал. Не знал он другого – что ему с этим делать.
– Не надо, моя дорогая Меа, – произнес он с легкой тревогой. – Если ты считаешь, что свет может мне навредить, завяжи мне глаза платком. И тогда мы поговорим.
И она послушалась и, обойдя, встала за его спиной. Он же чувствовал, как ее горячие слезы падают ему на волосы. Это был ужасный момент, но он сидел неподвижно, держась рукой за топчан, и не произнес ни одного их тех нежных слов, что были готовы сорваться с его губ.
– А теперь, Меа, – сказала он, – садись, но не на ангариб, а на табурет.
– Я села, – покорно ответила она. – Говори.
– Меа, – сделав над собой усилие, продолжил он. – Так дело не пойдет. Ты жалеешь меня, переживаешь и поэтому говоришь слова, которых не должна говорить. Пойми, Меа, я женат.
Он умолк. Она тоже молчала. «Интересно, – задался вопросом Руперт, – что она сейчас делает? Неужели вообще ушла, оставив меня одного, как я на то надеялся?» Не в силах больше терпеть неизвестность, он убрал со лба повязку. Нет, девушка по-прежнему сидела рядом с ним, молча, с печальным лицом.
– Я женат, – повторил он, не зная, что еще сказать.
Тогда она подняла глаза и спросила:
– Ты ненавидишь меня, Руперт-бей?
– Нет, конечно! – возмущенно воскликнул он. – Совсем наоборот!
– Спасибо. Тогда, наверно, я тебе не нравлюсь? Ты считаешь меня уродливой?
– Нет, конечно. Такую красивую женщину, как ты, еще нужно поискать.
– Спасибо, – снова сказала она. – Мне приятно это слышать, хотя ты так не думаешь. Ты сердит на меня потому, что ты лишился ноги и глаз, а твоих людей убили. Но это вина старой Бахиты, а вовсе не моя.
– Прошу тебя, Меа, не говорил так. Ни ты, ни Бахита не виноваты. Это то, что вы называете кисмет.
– Да, наверно и кисмет тоже. Кисмет везде. Кисмет вот здесь, – и она положила руку себе на грудь. – Значит, ты не ненавидишь, не считаешь уродливой и не сердишься, а я – о, я люблю! – Меа вложила в это слово столько нежности, что ею, казалось, наполнилась вся комната. – А еще я у себя, в моей Таме, я знатная женщина, а не родилась в грязи. Так почему ты отказываешься взять меня? Взгляни! – и она встала перед ним и медленно повернулась вокруг. – Я не такая красавица, как ты говоришь, слишком мала, слишком худа, но я не плоха! Я буду тебе хорошей женой, я подарю тебе детей. Я буду всегда тебя любить, пока не умру. Мой народ не жалует чужестранцев, но они будут рады, если ты возьмешь меня в жены, ибо тоже тебя любят. Они хвалят тебя, они считают, что ты самый храбрый воин на всей земле. Мои эмиры спрашивали меня этим утром, не взяла ли я тебя уже в мужья, и если да, то хотели устроить по этому поводу праздник.
Руперт снова натянул на глаза повязку, – так ему было удобнее, – а в оправдание пробормотал, что де свет режет ему глаза.
– Меа, – с отчаянием в голосе произнес он, – неужели тебе не понятно, что я уже женат?
– Разве это так важно? – спросила она. – У мужчины может быть две жены, даже четыре, если он захочет.
– Нет, – ответил Руперт. – Прошу тебя, оставим этот разговор. Говорить такие вещи нехорошо, это выше моих сил. По нашим английским законам можно иметь только одну жену, и больше никого – никого. Ты наверняка это знаешь.
– Да, я знаю. Я слышала об этом в Луксоре, но, по-моему, это все пустые разговоры миссионеров. Белые люди делают много такого, чего, по их словам, они не должны делать. Я это вижу и замечаю. Кто знает, сколько у тебя жен? Но если ты не хочешь меня – что ж, тогда mafeesh[16]. Я больше не стану беспокоить тебя. Я уйду и умру, вот и все.
– Если только ты не замолчишь, то уйду и умру я, – слабо произнес он. – Меа, с твоей стороны, жестоко говорить такие вещи. Выслушай меня и не сердись, и даже не думай, будто я плохо к тебе отношусь. Да, мой самый дорогой друг, сядь и выслушай меня!
И, оставив английский, ибо она знала его неважно и вряд ли бы поняла его доводы, Руперт обратился к ней на арабском и попытался объяснить западные доктрины и втолковать ей, что то, что в ее глазах было законным и правильным, на Западе считается преступлением; что, дав слово, он не может его нарушить, и скорее умрет, чем это сделает; что на этом зиждится его честь, и что если он ею поступится, его душа будет изуродована точно так же, как сейчас его тело.
Меа внимательно слушала его и, похоже, начала понимать.
– Скажи, теперь ты сердита на меня? – спросил он. – Или ты по-прежнему захочешь, чтобы я остался, когда я скажу тебе, что между нами больше не должно быть никаких разговоров про любовь, ибо это в конечном итоге может привести меня к гибели? Если эта моя просьба слишком велика для тебя, то завтра я уйду отсюда в пустыню и… – он не договорил.
– Нет, – ответила Меа по-арабски, – я не сердита на тебя, Руперт-бей. Я сердита на себя, ибо пыталась соблазнить тебя нарушить твои законы. Ты хороший человек, лучший из всех, кого я только знала, и я научусь быть такой, как ты – только не приказывай мне разлюбить тебя, ибо этого я не могу сделать. А также не говори, что уйдешь отсюда в пустыню, чтобы там умереть, ибо тогда я тоже умру. Нет, оставайся здесь и, коль ты не можешь стать моим мужем, будь мне другом и братом. Оставайся, и прости меня, невежду, у которой иные обычаи, а твоих я не знаю. Скажи мне, что ты остаешься.
– Да, – ответил он хрипло, ибо ее слова затронули его сердце глубже, чем он мог показать. – Я останусь здесь, пока не найду возможности вернуться домой. И еще, Меа, только не думай, что я о тебе низкого мнения. Я чту тебя, как чту жену и мать, и ты для меня дороже всех на свете. И покуда я жив, я останусь твоим другом. А это знак моей дружбы, – с этими словами он подался вперед и, нащупав ее руку, сначала поднес ко лбу, а затем прикоснулся к ней губами. В следующий миг он услышал шорох одежд – это Меа вышла из комнаты.
Таким образом, Руперт сдержал слово, данное им матери много лет назад и с честью вышел из этой весьма щекотливой ситуации. А в сумерках души Меа засияла звезда – далекая, холодная звезда, которой в будущем предстояло привести ее к чудесным вершинам, откуда путь плоти казался очень далек, зато путь духа очень близок.
Глава XV. Руперт дает клятву
В течение трех дней после описанной выше страстной сцены Руперт больше не видел Меа. Когда он, не без тревоги спросил о ней, Бахита, которая заняла место няньки, сообщила ему, что Меа уехала в дальнюю часть оазиса, узнать, какой там урожай, а также уладить спор между двумя семьями по поводу участка земли. Сам не зная почему, он хотел, чтобы она поскорее вернулась назад, ибо в дни ее отсутствия Бахита была крайне резка с ним, если не сказать, что порой даже груба.
– Знаю, ты сердита на меня, – сказал он, не выдержав, – но ты, которая мудра и знаешь наши законы, ты должна меня понять.
– Я понимаю лишь то, что ты глупец, Руперт-бей, как и многие белые люди, считающие себя правильными и умными. Лучше бы ты никогда не приезжал в Таму, ибо теперь моя племянница останется незамужней и наша древняя раса вымрет.
– Но ведь это не моя вина, – робко возразил Руперт. – А твоя, Бахита, ибо ты сопровождала меня против моей воли и таким образом навлекла на всех несчастья.
– Неправда, – сердито ответила она, – это все ты! Кто, как не ты, подглядывал за нами в храме Абу-Симбела? Это из-за тебя возлияние вместо бога попало на твои ноги. С того момента Тама стала твоей рабыней. Бог же проникся ревностью и навлек на всех нас зло, и в особенности, на тебя, Руперт-бей.
Руперт усмехнулся ее словам и сказал:
– Но ведь ты сама в это не веришь, скажи честно, Бахита? Эти древние боги мертвы вот уже много веков.
– Я сама точно не знаю, во что я верю, – ответила Бахита, – но верования прошедших веков по-прежнему живы в крови тех, чьи отцы в них верили. Древние боги живы, только в других формах. Сегодня нашему молюсь одна только я. Ибо Меа отвернулась от него к тебе, а люди уже давно его забыли. Я была уверена, что зло настигнет тебя, и оно настигло. И все же я не виню тебя, Руперт-бей, ибо ты храбр и честен, и благородно поступил с ней, хотя мог предать ее и уйти. Кроме того, – добавила она с неожиданной убежденностью, – я вовсе не уверена, что все должно кончиться плохо. Ты как-то раз сказал нам, что дух сильнее плоти, и что те, кто следуют его путем, в конечном итоге побеждают. Хотя ты и похож на глупца, Руперт-бей, возможно, что ты прав. Мне так порой кажется. Подумай сам. Я ведь тоже отреклась от плоти и всю мою жизнь следовала дорогой духа. Благодаря чему многое узнала, ведь не зря же меня называют мудрой и прозорливой? Вот только, – задумчиво добавила она, – возможно, я следовала путем ложного духа, ты же следуешь путем духа истинного. Возможно, древние боги и впрямь мертвы, а миром правят новые. Но если так, то в Судане они дьяволы. А пока, Руперт-бей, обходись бережно с цветком, чей стебель ты надломил своими неуклюжими руками, иначе вскоре воздух лишится его нежного аромата.
На третий день Меа появилась снова, бледная, с красными глазами, но, по крайней мере внешне, вполне бодрая и веселая. Ни тогда, ни потом она даже слова не сказала Руперту по поводу их жаркого спора о морали Востока и Запада. Ездила ли она проверять урожай, или же проплакала эти дни, лежа в своей постели, но, похоже, она одержала над собой победу и была исполнена решимости приспособить свою жизнь к тем условиям, на которые они молча согласились. Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что зрение вернулось к Руперту, и этот радостный факт сотворил с ними обоими чудеса. Например, сидя верхом на послушном муле, которого вел слуга, а впереди, сзади и по бокам бежали другие, он совершал прогулки по оазису, которые устраивала для него по своим владениям Меа, ехавшая верхом с ним рядом.
Надо сказать, что размеры оазиса были довольно велики – около тридцати миль в длину и пятнадцати в ширину – и он вполне был способен прокормить большое население, что когда-то так и было, ибо его почва, смываемая с горных склонов, отличалась особым плодородием и хорошо орошалась. Увы, местные методы обработки земли были примитивные, а торговля с внешним миром – скудной, отчего у местных жителей не было потребности производить больше, чем они могли потребить.
– Эх, если бы мне дали этот оазис лет на десять, – сказал Руперт Меа после того, как осмотрел большую его часть. – Я бы сделал тебя самой богатой женщиной во всем Судане.
– В таком случае оставайся и сделай, – с улыбкой ответила она.
Однако ему показалось, что ее интересует вовсе не богатство.
Его же еще больше интересовали руины великого храма, который, судя по всему, в древности был посвящен богу Ра, то есть солнцу, как символу божественного начала. Построен он был в поздний период, скорее всего, при Птолемеях, и не отличался тонкостью мастерства. Судя же по различным фразам в настенных надписях, заложил его некий египетский принц тридцатой династии, который бежал сюда после вторичного завоевания Египта персами. Было также похоже, что его потомки в течение многих поколений правили в этом затерянном в пустыне оазисе, где никто не собирался на них нападать. Более того, на саркофаге одного из них, который умер в период правления римского императора Феодосия в четвертом веке от Рождества Христова, имелась надпись, в которой покойный помпезно именовался «Возлюбленным Ра, царем Тамы и Верхнего и Нижнего Египта».
Самой внушительной частью храма был мавзолей правителей оазиса, именовавших себя царями. Возможно потому, что они не могли позволить себе отдельные великие гробницы, на манер Долины Царей в Фивах, они вырубили в скале под храмом гигантский склеп, из которого открывались внешние камеры, подобные тем, что были в Серапеоне, месте захоронения священных быков в Мемфисе. В дальней части склепа застыла огромная статуя Осириса, завернутого в саван, но в короне и перьях Амона-Ра, а у входа был устроен большой подземный бассейн, через который мертвые тела на лодке доставлялись на другую сторону, по всей видимости, в подражание последнему путешествию через Нил. Некоторые из боковых камер были заложены кирпичом, другие же либо никогда не были запечатаны, либо были позднее вскрыты, и в их, в саркофагах спали вечным сном мертвые цари.
В прошлые века некоторые из гранитных плит и деревянных крышек были сняты, однако сами мумии оставались нетронутыми, даже их золотые украшения. Так, например, украшения юной царицы, или вернее, предводительницы племени, умершей за несколько лет до рождения Христа, отличала дивная красота и огромная ценность: комплект состоял из короны из золотой филиграни и эмалированных цветов тончайшей работы, инкрустированного нагрудного медальона, браслетов и скипетра, увенчанного хрустальным символом солнца. Сняв царские регалии с мертвого тела, Меа примерила их на себя и встала перед Рупертом – египетская царица, какой он увидел ее в святилище храма в Абу-Симбеле. Освещенная лишь лампой в этом полном благоговейной тишины месте она была воистину божественна.
– Что ты делаешь? – спросил Руперт, несмотря на всю красоту ее украшений, ибо ему было не по себе видеть на ней эти знаки смерти.
– Я просто примеряю их, Руперт-бей, – ответила Меа. – Сейчас мы больше не умеем делать такие вещи. Поэтому я прошу эту царицу, мою пра-пра-пра-пра-пра-бабку отдать их мне, чтобы меня в них похоронили. Пойдем, я покажу тебе мою могилу.
И она повела его мимо замурованных камер, в которых, по ее словам, без всяких гробов покоились ее непосредственные предки, к нише, в которой стоял великолепный алебастровый саркофаг. Он был весь покрыт обычными письменами из Книги Мертвых, но также имел и свои особенности. Так, например, в нем были предусмотрены места для двух тел, разделенные невысокой алебастровой перегородкой. Он был пуст, а его массивная крышка стояла рядом и, похоже, давно. Кроме того, на нем оставались пустые места для имени или имен, из чего напрашивался вывод, что те, для кого этот саркофаг был изготовлен, были захоронены где-то еще.
– Где они? – спросил Руперт, и, опираясь на руку Меа и костыль, спустился с каменной ступени.
– Не знаю, – ответила она, – наверно, умерли где-то еще или погибли от рук врага. А может, поссорились и не захотели, чтобы их похоронили вместе. Так что когда настанет мой час, я займу их дом. Он как будто для меня сделан.
– В таком случае, твой супруг тоже должен лечь в него? – не подумав, выпалил Руперт.
Держа в руке лампу, Меа повернулась и пристально посмотрела на него.
– Пойми, Руперт-бей, – ответила она, – у меня нет мужа, и не будет. Весь день я работаю одна, а когда приходит ночь, сплю одна. Затем мой народ замурует это место – все, все, ибо я последняя, и никто больше никогда сюда не придет. Да-да, замурует камнями, взятыми от храма, и сделает крепким, как гора, ибо я хочу спать долго, никем не потревоженная.
Таков был оазис Тама, таковы были его древности. О его людях почти нечего сказать, разве только, что они были серьезны, довольно светлокожи и красивы внешне, особенно женщины. Иными словами, они и впрямь производили впечатление потомков древней, цивилизованной расы. Мужчинам, которые, как мы уже видели, оказались весьма храбрыми воинами, была свойственна замкнутость и подозрительность. Дома же они были ленивы и работали ровно столько, сколько нужно было, чтобы прокормить себя и семью, потому что к торговле их душа совсем не лежала.
Их обычаи в том, что касалось брака и прочих дел, были схожи с обычаями Нубии и Судана. Они также постоянно поминали имя Аллаха, не будучи при этом магометанами, и если чему-то и поклонялись, то Богу в образе Солнца. Это все, что осталось от древней веры их далеких предков, помимо некоторых праздников и дней поминовения, чьи истоки они уже не помнили. Несколько очень старых женщин накануне свадьбы, похорон или иных важных событий время от времени спускались в склеп, дабы совершить там возлияние к ногам статуи Осириса, увенчанного короной и перьями Амона-Ра, как в час опасности Бахита заставила сделать это Меа в храме Абу-Симбела.
Существование этого обычая было довольно любопытно, однако Руперт так и не сумел выяснить, является ли ритуал наследием прошлого, или же жители оазиса переняли его у статуй храма, или же из настенных росписей, на которых усопшие правители, их жены и челядь совершали возлияния перед этой же самой статуей. По крайней мере, от древней религии больше ничего не осталось, и никто в Таме не умел читать иероглифы. Именно стремление обрести это и другое знание, познакомиться с другими людьми и чудесным внешним миром, о котором в ее уединенный оазис доползали слухи, и подтолкнуло Меа к тому, чтобы под чужой личиной провести два года в школе в Луксоре. Хотя к ее великому разочарованию выяснилось, что читать иероглифы здесь не учат, она, тем не менее, приобрела разнообразные знания о людях и вещах, включая поверхностное знакомство с английским языком, на котором любила разговаривать.
Теперь же она настояла на том, чтобы Руперт продолжил ее образование. А поскольку в их распоряжении была всего одна книга, их уроки приняли форму лекций по истории, литературе, искусстве и прочим вещам под солнцем, какие только были ему известны. Было довольно забавно видеть их в одной из просторных комнат ее дома: сидящая за столом Меа и неуклюже расхаживающий на своем костыле туда-сюда Руперт, рассуждающий о таких вещах, мирских и Божественных, как египтология, в которой он неплохо разбирался, современная политическая история, в частности, история Африки, и религия. Последняя играла, пожалуй, самую главную роль в этих уроках, в числе тех немногих личных его вещей, которые уцелели в седельных сумках его верблюда, была и его Библия, тот самый том в кожаном переплете, который вызывал у Эдит такой восторг и интерес. Поэтому именно из этой Библии он и просил Меа почитать ему, в результате она вынесла для себя из книги гораздо больше, нежели просто новые для нее слова, что, собственно, и было его целью. Вскоре она также начала ценить дух этой книги, а в его свете лучше понимать то, что раньше ставило ее в тупик в поведении Руперта по отношению к ней и другим людям. Однако это знание не научило ее любить его меньше, скорее наоборот – еще больше его уважать.
Так тянулись недели, и хотя условия жизни Руперта были довольно странными, нельзя сказать, что он был несчастлив. Пока что он не мог покинуть оазис по причинам, о которых говорилось выше; иногда же он, к своему великому стыду, просыпаясь, ловил себя на том, что пребывание здесь его не тяготит, как это было в самом начале, и теперь он не рвется поскорее отсюда уехать. Разумеется, истина заключалась в том, что мы все в известной мере – чада нашего непосредственного окружения, и потому размеренная, спокойная атмосфера его нового дома проникла в него, даруя если не удовлетворенность, то хотя бы умиротворение. Он столько настрадался, как душой, так и телом, и вот теперь страдания оставили его. Столь бережно Меа обращалась с ним, столь умело прятала свое сердце под покровами учтивости и дружбы, что он почти перестал тревожиться по поводу ее чувств.
Он пытался забыть ту страстную сцену; когда же он все-таки думал о ней, скромность заставляла его поверить в то, что на самом деле она мало что значила. Он знал, что восточные женщины импульсивны и переменчивы в своем настроении. Возможно, хотя на тот момент Меа этого и не знала, ею двигала не преданность к несчастному калеке, коим он теперь был, а как она призналась в самом начале, жалость к его печальному состоянию, причиной которого, пусть и косвенной, она была. По крайней мере, он надеялся, что все так и было, мы же, как известно, со временем проникаемся верой в то, на что надеемся. Так что переживания оставили его, или, по крайней мере, не слишком о себе напоминали.
Что до всего остального, то пальмы, горные вершины, журчащие ручьи и зеленые поля, руины древнего храма и его высокие пилоны затмили собой парки и улицы Лондона и, главное, ненавистный дом на Гровнер-сквер, где, облокотившись на мраморную каминную полку, лорд Дэвен стоял, глядя на него с язвительной усмешкой. Если бы не Эдит и его мать, тем более, что теперь на военной карьере был поставлен крест, Руперт был не против сказать «прощай» внешнему миру и до конца своих дней остаться в Таме. Но эти две женщины – жена, которая, по всей видимости, считает себя вдовой, и мать, уверенная в том, что потеряла сына! Он всей душой мечтал увидеть их снова. И ради них он ждал того дня, когда ему подвернется возможность бежать из Тамы.
И, наконец, такая возможность ему подвернулась.
– Руперт-бей, – однажды утром тихо сказала по-арабски Меа, когда они сели за свой обычной урок. – У меня для тебя хорошие новости. К этому времени завтра ты, возможно, уже уедешь отсюда. – И притворившись, что смотрит вниз, на пергамент, на котором она писала сделанным из тростника стилом, как это делали ее предки двадцать столетий назад, поскольку бумага была для них редкостью, она из-под длинных ресниц следила за его реакцией.
Это новость слегка его ошарашила, помешав – что, пожалуй, даже к лучшему, – бурно выразить свою радость. Руперт лишь ответил словами арабской пословицы:
– После затишья – буря, после мира – война…
Его ответ, похоже, удовлетворил Меа, хотя ей и был известен конец этой пословицы – «а после смерти – или рай, или ад».
– Но каким образом? – уточник Руперт.
– Выше Вади-Хальфа, чтобы потом через Нубийскую пустыню пройти к берегам Красного моря, дальше той земли, которую держит в своих руках Осман Дигна, через Нил должен переправиться большой караван, слишком сильный, чтобы на него кто-то отважился напасть. Его вождь, человек надежный и хорошо известный нашему народу, совершает паломничество в Мекку. Я отправила к нему гонцов. Он не возражает, если ты присоединишься к нему. Одно условие: ты не должен говорить, кто ты такой, и если им на пути встретятся белые люди, обещай, что ты не станешь заговаривать с ними. Иначе ты навлечешь на его голову беды за то, что он предоставил защиту христианину.
– Это я обещаю, – ответил Руперт.
– Отлично! Ты отправишься в путь завтра на рассвете. А теперь давай начнем наш урок, мой последний.
Урок этот оказался весьма поверхностным и состоял главным образом из составленного Рупертом списка книг, которые Меа, как только у нее появится такая возможность, должна была заказать в Египте, чтобы продолжить свое образование самостоятельно. Но та, похоже, утратила интерес к дальнейшему обогащению своего ума.
Какой толк учиться, заявила она, если ей будет не с кем поговорить о том, что она узнала? Бахите эти вещи были неинтересны, другие же о них вообще не слышали. И все же, она взяла список и сказала, что как только в стране установится мир, она при первой же возможности, пошлет за книгами.
Наконец этот унылый день подошел к концу. Обед и ужин были съедены без всякого аппетита. Нужно было также подготовить верблюда и собрать все необходимое для далекого путешествия. Меа настаивала, чтобы Руперт взял деньги, которые – а это несколько тысяч фунтов – были у нее припрятаны на черный день. Это была ее доля от продажи лошадей и зерна, которыми племя Тамы время от времени торговало с бродячими купцами. Последние же, купив товар почти даром, затем перепродавали его втридорога египетскому правительству или другим покупателям. Однако Руперт наотрез отказался принять их у нее, тем более, что в этом не было необходимости, ибо в одеждах, что были на нем, когда он попал в плен, было зашито около ста фунтов, как золотом, так и ассигнациями, и он рассчитывал, что их ему хватит, чтобы добраться до Англии.
* * *
Наступила ночь. Все было готово. Руперт попрощался с эмирами и вождями, которые были весьма опечалены его отъездом. Меа куда-то исчезла, и он не знал, увидит ли он ее снова до того, как на заре отправится в путь. Луна светила ярко; следом за Рупертом увязалась местная собачка, та самая, что была его поводырем, когда он был слеп. Она сильно к нему привязалась, и, как свойственно ее собратьям, неким внутренним чутьем почувствовав предстоящую разлуку, весь день не отходила от него ни на шаг. Опираясь на костыль, Руперт прошел через пилон храма, отчасти в надежде встретить там Меа, отчасти для того, чтобы еще раз увидеть его при полной луне, когда руины выглядели особенно живописно.
Опираясь на костыль, он прошел через гипостиль, где среди огромных колонн летали совы, пока не дошел до входа в огромный склеп, к широкому каменному пандусу, по которому в былые времена вниз стаскивали тяжелые саркофаги. Здесь он остановился и, присев на голову упавшей статуи, погрузился в задумчивость, из которой его пробудило ворчанье собаки – та беспокойно бегала туда-сюда по пандусу, постоянно возвращаясь к нему, как будто хотела привлечь к чему-то его внимание.
Наконец в нем тоже проснулось любопытство и, следом за собачкой, Руперт спустился по пандусу вниз, к подземному бассейну. Он еще не дошел до самого низа, когда увидел свет, и, тихо подкравшись ближе, увидел в его лучах Бахиту и Меа. Первая склонилась над водой, вторая, завернувшись в темный плащ, сидела на местный манер у края бассейна. Догадавшись, что старая цыганка исполняла один из своих дневных ритуалов, Руперт поманил к себе собачку и замер, пристально наблюдая за обеими женщинами.
Вскоре он увидел, как Бахита оттолкнула от края бассейна лодку, примерно тех же размеров, какие мальчишки пускают в прудах лондонских парков. Это была уменьшенная копия древнеегипетской погребальной ладьи, с полупалубой впереди, на которой лежало что-то вроде крошечной мумии, и всего одним парусом. Бахита как можно сильнее толкнула ее, и она поплыла на середину бассейна, который был размером с большой пруд. Затем сила толчка сошла на нет, и ладья застыла на месте. Тогда Бахита взмахнула жезлом, который держала в одной руке, и произнесла нечто вроде заклинания, чьи слова Руперт сумел расслышать и понять:
– Ладья, ладья, ты, что несешь то, что принадлежало ему, выполни мое повеление. Плыви на север, плыви на юг, плыви на восток, плыви на запад, куда поведут его стопы, а там, где они остановятся, остановись и ты. Ладья, ладья, пусть твоим парусом управляет его Двойник, ладья, пусть его Дух наполняет твой парус. Ладья, ладья, именем Ра, повелителя жизни, и именем Осириса, повелителя смерти, я заклинаю тебя доставить то, что было его, на север, юг, восток или запад, где он решил, наконец, остановиться. Ладья, ладья, слушайся меня[17].
Она умолкла, глядя на маленькую лампу, горевшую на носу ладьи перед чем-то, что напоминало игрушечную мумию. Меа поднялась во весь рост, провожая ладью взглядом. Руперт и собачка также наблюдали из темноты. Какое-то время ладья оставалась неподвижной, затем один из бесчисленных сквозняков, продувавших эти подземные камеры, наполнил ее парус, и она поплыла через воду.
– Она плывет на запад, – прошептала Меа.
– Да, – ответила Бахита, – так же, как и он. Но останется ли она на западе?
– Лишь бы нет, – отозвалась Меа. – Ибо издревле запад был страной смерти, и потому гробницы лежат к западу от этих вод. Там, где солнце садится за западный берег Нила, наш народ на протяжении тысячелетий хоронил своих мертвых. Нет, ладья, только не неси его на запад, где царит Осирис, на холодный и скорбный запад. Возвращайся к дому Ра и остановись в его свете.
Так она шептала, как будто на восточный манер сочиняя себе под нос песню, и все это время взгляд ее был устремлен на крошечную лампу, что показывала положение ладьи. Достигнув западного края бассейна, та на несколько мгновений замерла там. Увидев это, Меа повернулась к Бахите, чтобы ее отругать.
– Зачем, – спросила она, – ты привела меня сюда играть в эти детские игры?
Неужели Бахита считает, что она, Меа, получившая образование в Луксоре и огромное число уроков у бея, поверит в ее глупую магию? В то, что игрушечная ладья, пусть даже та везет человеческую ногу, завернутую, словно мумия, способна предсказать, куда судьба занесет ее владельца?
– Если ладья поплывет правильно, то ты поверишь. Если же нет – ты не поверишь. Я так и думала, и так и должно быть, – сухо ответила Бахита. В этот момент с маленькой лампой, стоявшей перед ногой-мумией, что-то случилось, ибо она погасла.
Теперь Меа не на шутку рассердилась и наговорила Бахите резких слов, и про ее методы предсказания, и про примитивное и непросвещенное состояние ее ума в целом.
– Если принять предсказание твоей лодки, – заявила она, – я должна поверить в то, что он не только останется на западе, но и умрет там, ибо, посмотри, свет погас.
– Умирают не только человеческие тела, – ответила Бахита в свойственной ей резкой манере, – а также их надежды, мечты и даже удача. Кто скажет, что именно?
Пока она это говорила, откуда-то из темноты бассейна в круг света лампы, которую она держала в руках, вернулась их волшебная ладья. Порыв ветра из гробниц по ту сторону бассейна, задувший лампу, одновременно наполнил ее парус и вернул ее назад, наполовину наполненную водой, которую она зачерпнула при повороте, причем вернул быстро и прямо к тому месту, где Меа на коленях стояла у края воды. Увидев это, она вскрикнула от радости и, наклонившись над водой, протянула руки и поймала ладью, прежде чем той утонуть, и прижала ее к груди.
– Положи ее, – приказала Бахита, – ты ведь в нее не веришь. К тому же она мокрая, и ты испортишь свое платье. Нет, нога бея – моя, а не твоя. Это я привезла ее от колодцев.
И они принялись ссориться из-за несчастной мумифицированной конечности, которую Руперт в последний раз видел много дней назад, когда пытался отступить через горы. Древние заклинания Бахиты, как обычно, были весьма любопытны, хотя теперь, когда в них был задействован потерянный фрагмент его тела, Руперт нашел их не слишком приятными. Сам он в такие вещи совершенно не верил. Они интересовали его скорее с исторической или даже духовной точки зрения. Но больше всего его тронуло то, какую роль играла в этом ритуале Меа. Было видно, что ее интерес к будущему нисколько не ослаб. Более того, Руперт чувствовал, что еще не скоро забудет лицо этой красивой, хотя и странноватой девушки, обитательницы пустыни и наследницы древней династии, когда она выхватила из воды тонущую лодку и ее малоприятный груз и, словно ребенка, прижала к своей груди. Эта картина ничуть не облегчила его расставание с ней.
Когда, наконец, Руперт вернулся домой – ковылять, опираясь на костыль, среди камней храма было делом нелегким – он сел на ступени, уверенный в том, что Меа захочет увидеть его и ему придется пережить эти мгновения. Вскоре собака рядом с ним залаяла, а в следующее мгновение он увидел, как она медленно идет по дорожке к его дому. Плащ на ней был распахнут, платье все еще мокрое там, где она прижимала к груди лодку, с которой капала вода. Руперт попытался встать ей навстречу.
– Сиди, Руперт-бей, – сказала она. – Сиди. Зачем тебе вставать ради меня?
– Я не могу сидеть, пока ты стоишь, – ответил он.
– Тогда я тоже сяду, по другую сторону от пса. Ведь, правда, он похож на того бога на стене, как ты называл его, Анубис, брат Осириса? Нет, только не рычи на меня. Анубис. Я не обижу твоего хозяина. Ты, злобный божок мертвых.
– Где ты была, что платье на тебе мокрое? – спросил Руперт.
– Спроси Анубиса. Он мудр и знает не меньше своего хозяина. Я была в склепе и наклонилась над водой, чтобы посмотреть, не сделалась ли я уродливее, чем обычно.
– Вздор! – ответил Руперт.
– Ты мне не веришь? Тогда, значит, меня мучила жажда, и я решила сделать глоток воды. Когда много плачешь, очень хочется пить. Все еще не веришь? Тогда, наверно, я посмотрела в воду и увидела там картины.
– Какие же картины ты могла увидеть в таком темном месте?
– О, разные, и темнота не помеха. Можно видеть картины внутри, как ты, когда был слепым. Я скажу тебе, что я вижу. Я вижу, что ты возвращаешься сюда и я больше не плачу. Я… я счастлива. Пусть этот пес перейдет на другую сторону. Он хочет меня укусить, он ревнует, потому что ты смотришь на меня, а не на него.
Возмущенный Анубис был пересажен на другую сторону, однако даже с безопасного расстояния он продолжал рычать и скалить зубы.
– Очередная чушь Бахиты, как я понимаю, – произнес Руперт. – Мне казалось, ты перестала верить в ее байки и знамения.
– Что означают байки и знамения? Ничего. Бахита – выжившая из ума старуха, боги – старые камни, я в них не верю. Раз ты так говоришь, значит, так оно и есть. Я верю тебе и себе – тому, что говорит мне мое сердце. А мое сердце говорит мне, что ты вернешься. Поэтому я счастлива.
– В таком случае, Меа, боюсь, что твоему сердцу известно больше, чем мне.
– Да, – ответила она, – оно думает больше, чувствует больше и знает больше. И это правильно. Ты чего ожидал? – и внезапно оставив свой ломаный английский, Меа заговорила с ним на своем богатом, родном арабском. – Послушай, Руперт, гость моего дома, гость моего сердца, спаситель моего тела, проливший ради меня свою кровь. Ты считаешь меня глупой, греющей руки на болотных огнях, срывающей цветы, которые вянут, верящей, будто это бессмертные звезды, упавшие, чтобы украсить ее грудь и волосы. И все же она находит в болотном огне тепло, а у мертвого цветка – сердце. Я думаю, что ты вернешься, как и почему, неважно, но на всякий случай ты дашь мне клятву, ты поклянешься мне именем своего Иисуса, чтобы никогда ее не нарушить.
– Что за клятва? – с тревогой спросил Руперт.
– Вот эту: иногда лампы гаснут, и там, где нам казалось, был свет, воцаряется тьма. Иногда надежда изменяет нам, а смерть подстерегает там, где должна быть жизнь. Это может случиться с тобой, Руперт-бей, в твоей холодной, западной стране заходящего солнца.
– Ты хочешь сказать, что я найду свою жену мертвой? – спросил он дрогнувшим голосом. – Что, ты видела в воде такую картину?
– Нет, этого я не видела и не знаю. Думаю, она жива, и с ней все хорошо. Но смерть бывает разной. Может умереть вера, может умереть надежда, может умереть любовь. Говорю тебе, я не знаю. Я не владею волшебством. Я не верю в пророчества. Я верю лишь в то, что говорит мне мое сердце, и возможно, оно ошибается. И все же я прошу тебя поклясться мне. Если то, что произойдет с тобой там, больше не будет удерживать тебя на Западе, если тебе понадобится обрести новую веру, новую надежду и новую любовь, в таком случае возвращайся в Таму и ко мне. Поклянись мне именем твоего бога, Иисуса. Чтобы я была уверена, что ты сдержишь свое слово.
– Я не клянусь его именем, – ответил Руперт. – Да и вообще, зачем мне клясться?
– Ради меня, Руперт-бей, ради меня. Выслушай, что я скажу, и решай. Говорю тебе, что если ты не вернешься, я умру. Я не прошу быть твоей женой, для меня это не главное, но я хочу видеть тебя каждый день. Если я не буду тебя видеть, я умру.
– Но, Меа, это невозможно, – возразил он. – И ты знаешь, почему.
– Если это невозможно, что ж, пусть так и будет. Я умру. Так будет даже лучше. Возможно, я убью себя. Не знаю, во всяком случае, я уйду отсюда. Я не прошу тебя обещать мне вернуться, если тем самым ты нарушишь клятвы, данные другим, а лишь в том случае, если ты больше не будешь связан никакими другими клятвами. А теперь выбирай, Руперт-бей. Дай мне жизнь или дай мне смерть, на твое усмотрение. Изреки свой приказ. Я не стану на тебя сердиться. Объяви свою волю, и я, твоя рабыня, ее исполню, – с этими словами она встала перед ним, покорно склонив голову и сложив на груди руки.
Руперт посмотрел на нее. Он нисколько не сомневался, что она говорит серьезно. Меа всегда говорила то, что думала и поэтому заявила, что если он не исполнит это странное ее желание, если откажет ей в надежде на его возвращение, то она умрет. По крайней мере, он так ее понял. Одно было ясно: если у нее будет надежда, она не умрет и не запятнает своей кровью его душу.
Руперт вновь посмотрел на нее, стоящую в лунном свете наподобие статуи, этакое воплощение смирения, и его дух дрогнул. Изувеченное лицо залила краска стыда, стыда за то, что эта честная, преданная, порядочная женщина вынуждена обнажать перед ним свою душу, говоря ему, что сердце ее умрет от голода, если он не утолит его крошками утешения, как она о том его просит. И колебания оставили его.
– Меа, – произнес он, добрым и приятным голосом, в котором, пожалуй, заключалось его самое главное обаяние. – Меа, мой закон говорит «Не клянись вовсе»[18]. Я совсем недавно читал его тебе. Скажи, Меа, неужели одного моего слова тебе недостаточно?
– Слово моего господина как клятвы других мужчин, – ответила она, приподнимая смиренно потупленный взор.
Тогда он, преклонив одно колено, наклонился вперед, но не в знак покорности, а потому что ему было трудно стоять без посторонней помощи, и вытянув руку, убрал скрещенные руки с ее груди и, прижав их к своему лбу, поклонился сам, тем самым показывая, что отныне он ее раб. Это был древний жест признания своей покорности, который полагался господину или победителю, и Меа, дитя Востока, прекрасно его поняла.
– Моя благородная Тама, – продолжал Руперт, – кроме моей жены, моя новая жизнь – твоя, ибо ты вернула ее мне. После нее и моей матери ни одну женщину я не чту так, как чту тебя, мою повелительницу и друга. Поэтому, Меа, коль ты того желаешь и считаешь, что это сделает тебя счастливее, если вдруг я останусь один – хотя Боже упаси! – я обещаю тебе, что вернусь и проведу с тобой всю мою жизнь, пока не наскучу тебе, но не как муж, который, по твоим словам, тебе не нужен, и что может оказаться невозможным, но как брат и друг. Ты это хотела от меня услышать? – он выпустил ее руку и, вытянув свои, еще раз поклонился ей на восточный манер, чтобы его пальцы коснулись ее ног, после чего поднялся вновь.
– О, да! – взволнованно ответила она, – Да, да! Даже более, чем я надеялась. Теперь я не умру. Я буду жить! Да, я буду хранить мою жизнь как бесценный алмаз, потому что теперь я знаю: даже если ты не вернешься, это все равно может когда-нибудь случиться, а если ты не вернешься никогда, ты все равно, будь у тебя такая возможность, это сделал бы. Что болотный огонек – это настоящий огонь, а цветок в один прекрасный день станет звездой. Ибо рано или поздно мы встретимся снова, Руперт-бей! Только ты не должен был падать ниц передо мной, ибо я этого не достойна. Но я буду трудиться, буду учиться, чтобы быть достойной. И не забудь про дар, мой господин. Оставь мне свою священную книгу, дабы я изучала ее и проникалась твоей верой.
И он проковылял в дом и принес ей старую потрепанную Библию в кожаном переплете.
– Ты при всем желании не могла попросить у меня более ценную вещь, Меа, – сказал он, – ибо книга эта была подарена мне еще в детстве, и по этой причине я рад подарить ее тебе. Только читай ее ради себя, а не ради меня, и верь, но только ради истины, а не затем, чтобы ублажить меня.
– Слушаю и повинуюсь, – ответила она, беря у него книгу и пряча ее на груди под свободными одеждами.
Несколько мгновений они молча стояли лицом друг к другу. Затем, ибо слова не шли к ней, Меа подняла руки и какое-то время держала их над ним, как будто благословляя, затем повернулась и растворилась в темноте ночи.
Больше он ее не видел.
Глава XVI. Тем временем
Был последний день старого года. Вряд ли во всем Лондоне нашелся хотя бы кто-то, кто обратил внимание, что среди других, куда более импозантных судов, возвращающихся из большого плавания по морям или же держащих курс на них, вверх по Темзе, подталкиваемый приливом, ползет черный, грязный пароход, из числа тех, что обычно доставляют на Восток уголь. Над рекой висел легкий, но маслянистый туман. Он затруднял навигацию и смазывал очертания зданий на берегу, и сквозь него, поскольку это было воскресенье, плыл звон церковных колоколов, приглушенный так, как будто в знак скорби по кончине кого-то из великих мира сего их языки обмотали ветошью.
В своей каюте – после знойного солнца Судана зимний ветер пронизывал его до костей – сидел Руперт Уллершоу, одетый в дешевый костюм горчичного цвета, который был ему слегка тесноват и в целом скверно скроен и сшит, а куплен был у какого-то моряка. Физически он пребывал в добром здравии, а вот душевное его состояние, порожденное неделями и даже месяцами неизвестности, пожалуй, лучше всего описать словами «раздражительность и нервозность». Какие известия ожидают его дома, гадал он, и будут ли там рады видеть его, запятнавшего себя позором, изуродованного калеку?
В том, что он запятнал себя позором, он не сомневался, ибо нашел на борту корабля старую газету и, как только ее открыл, так ему в глаза тотчас бросилось собственное имя. Кто-то задал в парламенте вопрос о нем и его миссии – каковы были ее цели, на каких фактах зиждились слухи о ее провале, правда ли то, что причиной катастрофы стали действия возглавлявшего ее подполковника Уллершоу, позволившего втянуть себя в племенную вражду из-за местной женщины, и какой денежный ущерб был тем самым причинен стране? Ниже был напечатан ответ статс-секретаря, того самого, кто принудил Руперта взять на себя это рискованное дело, взывая к его чувству долга и патриотизму. Из его слов следовало, что полковник Уллершоу был отправлен для ведения неких конфиденциальных переговоров с местными шейхами на границе Судана. Что по донесению, полученному от египетских властей, сопровождавший его некий туземный сержант по имени Абдулла прибыл в Каир и сообщил, что члены миссии, переодетые торговцами, подверглись нападению мелкого местного племенного вождя по имени Ибрагим и были убиты. Он, Абдулла, единственный, кто спасся. Из слов единственного уцелевшего участника миссии следовало, что нападение было совершено отнюдь не по политическим мотивам; причиной явилось недальновидное решение полковника Уллершоу взять под свою защиту двух местных женщин, ехавших вместе с его караваном, одну из которых, молодую и довольно высокого происхождения, шейх Ибрагим считал своей женой. Что до ущерба стране, а точнее, правительству Египта, то он составил около двух тысяч фунтов, из них половина суммы наличными.
За этим последовал другой вопрос, с целью доконать правительство мелочами, как то: верно ли, что выбор пал на полковника Уллершоу, потому что его влиятельные родственники оказывали на военное министерство давление, хотя имелись и другие, более подходящие кандидатуры? В ответ на это было сказано, что покойный офицер имел безупречный послужной список и был выбран по причине опыта в дипломатических делах, знания арабского языка и личного знакомства с шейхами, с которыми ему предстояло вступить в контакт. А также, как наверняка хорошо известно уважаемым парламентариям, влияние его семьи, как в парламенте, так и в других местах, вряд ли способно оказать давление на нынешних советников Ее Величества, в лице которых заинтересованные джентльмены имели сильных и способных противников (смех в зале).
Поскольку его жажда информации была не удовлетворена, некий представитель Ирландии спросил, верно ли, что с целью убийства вождя, чью жену якобы украл полковник Уллершоу (смех), была отправлена карательная экспедиция, а также, что теперь правительство сожалеет о том, что возложило руководство миссией на полковника Уллершоу?
Ответ: да, такая экспедиция была отправлена, но, похоже, что полковник Уллершоу и его отряд, прежде чем были убиты, оказали шейху стойкое сопротивление, и что или он сам, или же, по словам некоторых туземцев, вышеназванная дама, с которой он познакомился, с помощью ее соплеменников уже убили шейха Ибрагима и большинство его солдат, чьи трупы были обнаружены висящими на деревьях. Да, правительство признает, что данные события свидетельствуют о том, что выбор был сделан неудачно, однако он сам как статс-секретарь возмущен тем, что на основании скудной информации очерняется память храброго и преданного служителя отечеству (одобрительные возгласы), чьи ошибки, какими бы они ни были, проистекали из его галантной, благородной натуры (смешок).
Еще один представитель Ирландии: «Правда ли, что полковник Уллершоу женился в тот самый день, когда оставил Англию для выполнения порученной ему миссии?»
Спикер: «Призываю к порядку. Это заседание не имеет никакого отношения к личной жизни покойного полковника Уллершоу».
Представитель Ирландии извинился за свой вопрос, заметив в свое оправдание, что Англия или Египет вынуждены платить жизнями и деньгами за личную жизнь полковника Уллершоу, которую тот вел в песках пустыни (смех и призывы к порядку). А еще он позволит себе задать вопрос многоуважаемому статс-секретарю, уверен ли тот, что галантный полковник (снова смех) на самом деле мертв?
Статс-секретарь военного министерства: «Боюсь, что в этом нет никаких сомнений».
После чего тема была исчерпана.
* * *
Рассеянно перевернув страницы, – ибо жестокость и несправедливость вопросов и инсинуаций, походя сделанных с корыстными партийными целями, ранили его в самое сердце, – Руперт наткнулся еще на одну статью, в которой эти же вещи обсуждались тоном напыщенного невежества.
Поскольку газета была органом оппозиции, автор исходил из того, что факты были перечислены верно, что своими необдуманными действиями, настолько глупыми, что он покрыл себя несмываемым позором, ибо в них «к великому прискорбию прослеживается вечная рука женского влияния», злосчастный офицер погубил и порученное ему дело, и самого себя. Автор статьи также добавил, что хотя и глубоко скорбит по поводу смерти человека, который в прошлом преданно и доблестно служил Отечеству, возможно, это лучшее, что могло случиться с полковником Уллершоу, ибо в любом случае на его военной карьере можно поставить крест.
По завершении чтения этого репортажа и комментария к нему, здравый смысл и знание политических хитросплетений подсказали Руперту, что, по всей видимости, он конченый человек. Нет, на обвинения в том, что он де позволил себе увлечься некой местной жительницей, у него нашелся бы ответ, однако невозможно было отрицать, что злосчастное присутствие Бахиты и Меа в его караване явилось прямой причиной провала порученной ему миссии, не говоря уже о том, что потом он несколько месяцев пребывал у них в качестве гостя. Но кроме этих деталей главную, сокрушительную роль играл тот факт, что он, тот, от кого ожидали успеха, полностью провалил порученное ему дело, и тем самым подставил тех, кто его ему поручил, под огонь критики и малоприятных инсинуаций. И наконец, то обстоятельство, что теперь он был безнадежным калекой, послужит благовидным предлогом, чтобы окончательно списать его со счетов.
Он настолько был убежден в безнадежном характере своего положения, что даже не стал предлагать египетскому правительству никаких оправданий. Ему казалось, что его единственный шанс заключается в том, чтобы убедить в своей невиновности лондонское начальство, чтобы оно распорядилось провести в Египте местное расследование. Кроме того, ему не терпелось вернуться домой, хотя он и знал: стоит поднять этот вопрос в Каире, как он застрянет там на многие месяцы, более того, на время расследования может попасть под арест.
Путешествие Руперта через пустыню было долгим, однако обошлось без всяких неприятностей или опасностей, ибо их караван обошел орды Османа Динги стороной, двигаясь через местность, практически безлюдную, и встретив на своем пути лишь нескольких туземцев и ни одного белого. Что касается самого Руперта, то он перенес переход через пустыню довольно легко, поскольку после того, как караван вышел из окрестностей Тамы, он, к своему удивлению, обнаружил, что Меа снабдила его охраной численностью в двадцать человек своих лучших воинов, которые также везли палатку и внушительные запасы провианта. Руперт велел им вернуться, однако они отказались, сказав, что им было приказано ехать вместе с ним до Красного моря, в качестве охраны пса Анубиса, который увязался вслед за Рупертом, когда тот вышел из города, с тем, чтобы, дойдя до воды, они благополучно вернули пса назад в Таму. Затем, поняв, какова была цель этой хитрой восточной уловки с псом, а также опасаясь обидеть своим упрямством чувства Меа, Руперт согласился на то, чтобы воины сопровождали его до моря. Был в этом и свой плюс: на протяжении всего перехода с ним обращались как с особо важной персоной.
Наконец они достигли небольшого порта на Красном море, откуда пилигримы в Мекку должны были отправиться морем в Суэц, и, на счастье Руперта, там стоял углевоз, пополнявший запасы пресной воды. На его борт и взошел Руперт вместе с пилигримами, выдав себя за одного из них, ибо капитан углевоза был рад немного заработать на пассажирах. Последним напоминанием о пустыне стало его расставание со своей свитой. Поцеловав ему руку и с достоинством произнеся слова прощания, воины Тамы повернули своих верблюдов назад, к дому. Несчастный Анубис, несмотря на вой и попытки вырваться, был посажен в корзину, которую, в свою очередь, крепко-накрепко привязали к боку одного из верблюдов. Впрочем, нет, не последним, ибо когда лодка гребла к пароходу, стоявшему на расстоянии от берега, она миновала длинную песчаную косу, служившую защитой для мелководной гавани. Внезапно с мыса косы донеслась дикая, печальная музыка, звуки дудок и барабанов. Руперт мгновенно ее узнал. Это была та же самая музыка, какую он слышал, когда ехал с Бахитой и Меа из Абу-Симбела, музыка бродячих музыкантов, тех самых, что отказались взять бакшиш.
Сейчас, когда утренний туман рассеялся, он сумел их рассмотреть, сидевших на корточках на песке ярдах в двадцати от их углевоза. Пять замотанных по самые макушки фигур: трое дули в дудки, двое, устроившись напротив, отбивали ритм на барабанах. Как и в первый раз, они, казалось, не обращали никакого внимания на проплывавшее мимо судно, разве что их музыка сделалась громче и пронзительнее. Английский матрос крикнул им, чтобы они прекратили играть похоронный марш и вместо этого исполнили что-то веселое, но они даже не подняли голов. В свою очередь матрос заявил, что это весьма странный способ зарабатывать себе на хлеб, играя для птиц и рыб, и, повернувшись к рулю, перестал о них думать. Но даже на борту корабля их меланхолическая музыка была по-прежнему слышна, долетая по воде, хотя сами музыканты были скрыты туманной дымкой. Более того, когда Руперт в старой газете, которую он нашел в палубной каюте, читал отчет о дебатах в палате общин, до него, постепенно стихнув вдали, донеслись последние их звуки.
В Суэце пилигримы сошли на берег, но поскольку лично Руперта судно вполне устраивало, а плата, которую потребовал с него капитан, проделала лишь скромную дыру в его ста фунтах, он признался, что никакой он не пилигрим, а англичанин и купил каюту до Лондона. И вот Лондон уже маячил вдали, под этим темным массивным облаком, и… что ждет его там? Он не стал отправлять домой телеграмм ни из Суэца, ни из Порт-Саида. Ему казалось, что телеграммой все равно ничего не объяснить, да и зачем, если это тотчас станет достоянием прессы? Его считали погибшим. По крайней мере, так явствовало из газеты, так что вряд ли кто-то еще больше опечалится, когда, спустя еще несколько дней выяснится, что он, – или какая-то его часть, – все еще жив. Он страстно мечтал поскорее увидеть Эдит. Днем и ночью он думал о ней, грезя о том, с какой любовью и состраданием она встретит его.
Увы, время от времени его посещали сомнения, ибо Эдит любила успех, он же являл собой откровенного неудачника, чьи несчастья теперь свалятся и на нее. Сможет ли он быть тем же самым Рупертом Уллершоу, который девять месяцев назад покинул вокзал Черинг-Кросс – богатый, знаменитый, избранный для важной миссии, с великой карьерой в будущем? Нет, конечно, это был он, но все эти вещи покинули его. Как и его тело, его будущее было безвозвратно изуродовано, а его настоящее – почти позорно. Ему ничего не осталось, кроме любви жены.
Он утешал себя. Она наверняка одарит его любовью. В природе женщин проявлять неожиданные качества, когда с их близкими и дорогими людьми случаются несчастья. Нет, по этому поводу он может не терзать себя сомнениями, но ведь были и иные случаи.
Должен ли он сообщить Эдит жуткую тайну ее рождения, которая все эти томительные месяцы преследовала его словно навязчивый кошмар? Рано или поздно это придется сделать. Он также должен встретиться с лордом Дэвеном, и если да, то что он скажет ему при встрече? Затем Эдит, безусловно, захочет узнать правду про туземную женщину. Собственно говоря, ее право узнать эту историю во всех подробностях. Нет, в истории этой нет ничего постыдного. Меа – всего лишь его дорогой друг. Более того, последнее время он почти о ней не думал, так как его мысли были заняты другими вещами. И все же ему казалось, что история их отношений, если рассказать ее так, как она случилась, – а иначе он просто не мог, – была открыта самым разным истолкованиям, как и тот факт, что он сопровождал ее и ее тетку через пустыню.
Но Эдит просто должна поверить ему. И даже если она не оценит его поступок столь же высоко, как это сделала Меа, по крайней мере, ей известно, что не в его привычках лгать. Но после того как будут преодолены эти трудности, как ему жить дальше? Он скопил немного денег и, возможно, ему как раненому военному положена небольшая пенсия, за счет которой будет выплачена страховка, частично, а может даже целиком. Затем еще есть сумма, которую выделил Эдит ее отец, – при этой мысли Руперт поморщился, – но, если честно, он скорее умрет с голода, чем прикоснется к этим деньгам. Тем не менее, ему придется поддерживать жену сообразно ее положению. Этот вопрос также был настолько темен, что он выбросил его из головы и вместо этого стал думать о той радости, какую принесет ему встреча с матерью.
По крайней мере, здесь не было никаких «но» и «если». Мать, как никто другой, поймет его и утешит. Его несчастья лишь разбудят в ней еще большую любовь к нему. Что до всего остального, с него довольно тягостных дум. Утро вечера мудренее. Все верно, с него довольно!
* * *
Пока старая посудина ползет вверх по Темзе сквозь серый декабрьский туман и изморось, давайте свернем на несколько минут в сторону и посмотрим, что за это время случилось с другими персонажами нашей истории.
После отъезда мужа Эдит вернулась жить к миссис Уллершоу, ибо это избавляло ее от лишних расходов, и, как она объяснила Дику, было единственно правильным шагом. Она получила от Руперта несколько писем, причем, последнее было написано в Абу-Симбеле накануне его рокового путешествия. На них она написала несколько ответов, которых он, однако, не получил. Затем наступило длительное молчание, а после него – внезапная, ужасная катастрофа, о которой они впервые узнали из телеграммы из Каира в вечерней газете. Руперт был мертв, а она, Эдит, так и не побыв женой, стала вдовой. Этот удар подкосил ее. Карточный домик ее замужества рухнул. Ей никогда не стать спутницей жизни блестящего государственного деятеля и мужа, чьи достоинства она всегда признавала и кем бы всегда гордилась, но который, увы, был украден у нее тьмой затерянной посреди пустыни могилы. А ведь он со временем должен был сделать ее одной из самых богатых пэресс Англии! Да, и вот теперь все эти нарядные платья сменит ужасный вдовий траур. Эдит была вне себя от ярости на судьбу, сыгравшую с ней столь злую шутку. Даже ее слезы скорее были слезами злости, а не горя, хотя она по-своему искренне скорбела о Руперте.
Дик пришел утешить ее, причем пришел слишком рано. Он уже побывал в военном министерстве и знал все подробности лживого рассказа Абдуллы, который он, хотя и неохотно, пересказал Эдит, предоставив ей самой решать, верить этой истории или нет.
– Чушь! – сердито воскликнула она, ибо сердце ее отказывалось верить этим россказням. – Бедный Руперт никогда бы не стал ввязываться в глупую ссору с каким-то туземцем!
– Конечно, чушь, – согласился с ней Дик, – но это не вопрос морали, это вопрос благоразумия. Связавшись с этими женщинами, он не только навлек гибель на весь свой отряд, но и провалил возложенную на него миссию! В некотором смысле оно даже к лучшему, что он погиб, ибо он безвозвратно опозорил себя. Но теперь это уже ничего не значит.
– Да, – тяжело вздохнула Эдит. – Теперь это уже ничего не значит.
И все же, когда Дик как родственник, хотя и член соперничающей политической партии, проконсультировался со статс-секретарем и лордом Саутвиком, прежде чем первый дал ответы в палате общин, он говорил несколько иначе, снисходительным тоном светского человека.
– Что касается фактов, – произнес он, – он знал не больше, чем они. Но конечно, у бедного Уллершоу, как и у других мужчин, имелись свои слабости, – и он улыбнулся, как будто вспомнив нечто забавное. – Пустыня – страшно одинокое место, а, по словам Абдуллы, одна из женщин была молода и красива. Кто стал бы что-то говорить, да и какая разница? – и так далее.
Однако статс-секретарь, человек суровый, который не любил, когда его планы рушились, а сам он по причине таких «слабостей» подвергался нападкам, считал, что это что-то значит, даже многое значит. Отсюда тон его ответов палате общин, поскольку ему и в голову не могло прийти, равно как и лорду Саутвику, что родственник – а Дик был Руперту родственником – позволит себе говорить такие вещи, не будучи в них уверен на сто процентов. Более того, они решили, что в данных обстоятельствах он выдвигает лучшую версию правды и характера покойного Уллершоу. Ибо кто захочет, как размышляли они, бросить тень на репутацию мертвого человека, если его не вынуждает к этому некое знание и уверенность в своей правоте?
Что касается миссис Уллершоу, когда она убедилась, что это жуткое известие соответствует действительности и ее единственный сын мертв, она ограничилась старой пословицей: «Бог дал, Бог взял, да будет благословенно его имя». С этими словами она добрела до постели, с которой больше не встала. Здесь ее хватил второй удар, но она прожила еще много недель в полубессознательном состоянии. В это время Эдит покинула ее дом, заявив, что ее комната нужна сиделкам, и переехала жить в свои собственные удобные апартаменты на Брук-стрит.
Дело, разумеется, было в том, что она просто не могла больше выносить царившую в доме гнетущую атмосферу болезни. Она претила ее натуре; надрывное дыхание свекрови, когда Эдит проходила мимо дверей ее комнаты, разрывало ей сердце, тень надвигающейся смерти угнетала ее дух, который и без того пребывал в подавленном состоянии.
Поэтому она переехала и поселилась одна, на что как молодая вдова имела полное право. Что касается миссис Уллершоу, то она постепенно погрузилась в полную потерю сознания и, не приходя в него, скончалась. За неделю до возвращения Руперта ее похоронили на Бромптонском кладбище рядом с супругом, который так скверно обошелся с нею при жизни.
А чуть раньше произошло одно событие, которое косвенно облегчило материальное разочарование Эдит и взбодрило лорда Дэвена, ибо по своим причинам он был опечален смертью Руперта, которая его весьма расстроила. К удивлению всего мира, одним солнечным осенним утром Табита одарила его на редкость здоровым сыном.
– Этот точно будет жить! – радостно воскликнул доктор, когда лорд Дэвен нежно поцеловал младенца.
Но когда они вместе вышли из комнаты, супруга попросила повитуху показать ей сына, поцеловав которого она печально сказала:
– Ах, мой бедный агнец, боюсь, тебе повезет не больше, чем остальным. Да и возможно ли это с таким отцом, как у тебя, – добавила она по-немецки.
Что касается Дика Лермера, то, несмотря на этого не вовремя родившегося младенца, который теперь стоял между ним и состоянием Дэвенов, карьера его, в отличие от ненавистного ему Руперта, чья карьера, похоже, приказала долго жить, шла вверх. Дик был умен, обладал приятными манерами и даром произносить поверхностные, хотя и весьма забавные речи, которые скорее развлекают слушателя, нежели производят впечатление, но за всем этим не было ни вдумчивости, ни силы характера.
Эти качества вскоре позволили ему сделать себе имя в унылом, чопорном заведении, каким была Палата общин, где веселье любого рода было вещью редкой и ценилось высоко. Не удивительно, что вскоре он уже считался восходящей звездой Парламента, человеком с большим будущим.
Более того, пару раз, выступая в палате общин по какому-то фискальному вопросу, он сумел произвести на других ее членов впечатление человека, обладающего деловыми качествами, что на самом деле отнюдь не соответствовало складу его ума. Это впечатление подкрепила довольно убедительная статья, составленная главным образом из взятых из первоисточников выдержек, которую он опубликовал в одной из ведущих газет. В результате Дик вскоре оказался директором нескольких вполне надежных и пары сомнительных, но на тот момент процветающих, компаний. Помимо жалованья, которое он получал от лорда Дэвена, заплатившего также за его долю голосующих акций, вместе взятые, они приносили ему 1300 фунтов чистого годового дохода.
Таким образом, вечный мот, игрок и паршивая овца семейства, Дик Лермер был окончательно отмыт и реабилитирован в глазах всех знавших о его существовании и теперь считался подающим надежды политиком, достойным внимания партийных боссов и общества в целом.
Глава XVII. Добро пожаловать домой!
Одетый в сшитый на заказ фрак, безукоризненно сидящий на его элегантной фигуре, с черной жемчужиной в галстуке – то был знак его скорби по поводу кончины кузена Руперта – Дик Лермер тет-а-тет обедал с вдовой вышеназванного кузена в то самое воскресенье и тот самый час, когда, сидя в грязной каюте углевоза, Руперт, жуя печенье и запивая его бутылкой стаута, предавался меланхоличным размышлениям, о которых уже говорилось выше. Хозяйка дома на Брук-стрит была отменной кухаркой. Не менее хороша была и бутылка шабли, которую поставила Эдит, а также стакан портвейна, чашка кофе и стакан бренди, который за этим последовали. В небольшой гостиной горел камин, стоя рядом с которым Дик курил сигарету, что тоже было весьма кстати в этот холодный и унылый воскресный день. И, наконец, очаровательная Эдит, одетая в нарядное, со вкусом сшитое траурное одеяние, тоже ласкала взор, сидя напротив него в низком кресле и защищая лицо от огня пышным веером, который она взяла с каминной полки.
Как мы знаем, Дик и прежде искренне восхищался ею, теперь же, не то по причине ленча, не то из-за выпитого портвейна, очаровательного черного платья с белым воротником и манжетами, или же прекрасных голубых глаз и золотистых волос, но она восхищала его еще больше. В их разговоре возникла пауза, во время которой Эдит задумчиво посмотрела на него.
– Ты постепенно превращаешься в жутко респектабельного немолодого джентльмена, Дик, – заметила она. – Это довольно тяжело видеть тем, кто знал тебя в молодости.
– Да, Эдит, я уже не юн, и, разумеется, я респектабелен. Да и как не быть, когда вчера я заседал в управлении общества страхования жизни с пятью другими директорами, каждому из которых не менее семидесяти? Какой интерес они питают к жизни и ее делам, я точно не знаю.
– Возможно, им интересны лишь жизни других людей, или же их жизни интересны другим людям, – беззаботно отозвалась Эдит.
– Кстати, – заметил Дик, – вчера обсуждался вопрос страховки бедного Руперта.
Услышав это имя, Эдит слегка поморщилась и вопросительно посмотрела на Дика.
– Как ты понимаешь, – продолжал тот, – она довольно тяжелая, он же сделал всего один взнос, что для нас не очень хорошо. Ты еще не потребовала те десять тысяч фунтов, и мы обсуждали вчера, следует ли ставить тебя о них в известность. Было решено ничего не предпринимать, и этот старый скелет-председатель заметил с ухмылкой, что впервые в жизни сталкивается с тем, что человек не спешит забирать положенные ему деньги. Почему ты еще их не потребовала? Что ни говори, а десять тысяч фунтов – сумма приличная, – добавил он, пристально на нее глядя.
– Не знаю, – ответила Эдит. – Все в этом уверены, я же ни вижу никаких доказательств того, что Руперт на самом деле мертв.
– Вздор! – сердито воскликнул Дик. – Он мертв, как Юлий Цезарь. Иначе и быть не может. Этот египетский сержант – забыл, как его имя – говорил, что их всех перестреляли у него на глазах, и лишь после этого он бежал.
– Дик, а ты не находишь странным то, что он смог сбежать в таких обстоятельствах? Почему его тоже не пристрелили? Ему либо на редкость повезло, либо у него на редкость быстрые ноги.
– Не знаю, но кое-кому иногда везет. Я недавно сам встречал несколько таких. К тому же в безводной пустыне несколько месяцев не прожить.
– Его могли спасти, например, те же самые женщины. Абдулла этого не сказал, но другие люди говорили, будто шейх Абрахам, или как там его звали, и его солдаты были убиты, так как их видели повешенными на деревьях. Скажи, кто повесил их там? Если Руперт и его солдаты уже были мертвы, то они никак не могли этого сделать. Тем более что это не в его духе.
– Не знаю, – снова ответил Дик, – но я уверен, что он мертв. А ты разве нет?
– Нет, я не уверена, Дик, хотя и не исключаю этого. Но иногда мне кажется, будто он рядом со мной, и, скажу честно, это чувство не слишком приятно.
– Чушь! – воскликнул Дик.
– Я тоже так считаю, поэтому давай поговорим о чем-то другом.
Дик бросил окурок в камин и задумчиво наблюдал за тем, как тот догорал.
– Ты думаешь, это половина сигареты, Эдит? – просил он, указывая на горящий окурок.
– А что еще это может быть? – ответила она. – Но, конечно, он превращается в дым и пепел.
– Тем не менее, это нечто другое, Эдит. Я скажу тебе, это сгорает мое не слишком доброе прошлое, превращаясь, словно подношение на алтаре, в чистый белый пепел и ароматный дым.
– Боже мой, Дик, что с тобой? Откуда в тебе взялась эта поэтическая жилка?
– Думаю, это болезнь сердца, Эдит… Скажи, ты хочешь вечно оставаться вдовой?
– Откуда мне знать, – осторожно ответила она. – Я стала ею совсем недавно.
– Да, но жизнь коротка, и всегда следует смотреть вперед. Кроме того, обстоятельства довольно необычны. Эдит, дорогая, я хочу услышать от тебя, что как только кончится траур, ты выйдешь замуж – за меня. Нет, ничего не говори, дай мне сначала высказаться, даже если потом ты отвергнешь меня. Эдит, ты знаешь, что я с самого детства, еще будучи мальчишкой, любил тебя. Все мои странные поступки, или большая их часть, – они из-за тебя. Ты играла со мной, то приближала к себе, то отталкивала, и я пускался во все тяжкие, лишь бы тебя забыть. Помнишь нашу ссору почти год назад? Я некрасиво себя повел и искренне сожалею, но дело в том, что я был вне себя от ревности. Теперь, когда этого бедняги нет в живых, я могу в этом честно признаться. С того момента, как мне стало известно о его смерти, я старался исправиться. Я пашу, как ломовая лошадь, в парламенте, который мне ненавистен, я узнал кучу вещей, о которых я ничего не хочу знать. Спасибо Дэвену, поддержавшему меня деньгами, я заседаю в советах директоров, и поэтому ни в чем не нуждаюсь. У меня около полутора тысяч годового дохода, и почти столько же будет у тебя. Это не назовешь богатством, но если сложить эти суммы, на первых порах будет очень даже неплохо.
– Да, – согласилась Эдит, – это не богатство, но если не сорить деньгами, то двое могут неплохо на них прожить.
– Ну что ж, – тихо продолжил Дик, – вопрос в том, согласна ли ты со временем попытаться? – и, подавшись вперед, он пристально посмотрел на нее своими красивыми черными глазами.
– Не знаю, – ответила она с сомнением. – Дик, прости меня. Но я не верю тебе, и если мы хотим, чтобы брак был прочным, он должен зиждиться на других вещах, помимо любви и наслаждений. Именно поэтому я и приняла предложение бедного Руперта.
– Почему ты не веришь мне? – просил он.
– Дик, скажи, это правда, что ты нарочно подстроил для Руперта эту миссию, в надежде на то, что произойдет то, что произошло?
– Разумеется, нет! – пылко ответил он. – Я не имел к этой миссии ровным счетом никакого отношения, и даже не думал о таких вещах. Кто вложил это тебе в уши? Лорд Саутвик?
Эдит покачала головой.
– Я не разговаривала с ним об этом. Более того, не видела его после нашей свадьбы. Но я слышала намек.
– Значит, это Дэвен. Такие гадкие шуточки в его духе.
– Так значит, это неправда? – уточнила Эдит.
– Я ведь уже сказал тебе, это чертова ложь!
– Рада это слышать, Дик, в противном случае я бы никогда не простила тебя. Буду с тобой откровенна: я поступила неправильно, отпустив Руперта туда одного, и знай я точно, что все это из-за тебя, что ты поступил так, преследуя свои цели, – а ревнивцы частенько поступали так еще со времен царя Давида, – тогда почему…
– Что тогда почему?
– Дик, давай оставим этот разговор. Я вообще не уверена, что нам с тобой следует говорить. По крайней мере, Руперт был честным человеком и любил меня, и его кровь была бы на твоих руках, а через них – и на моих.
– Если дело только в этом, то они довольно чисты, – ответил Дик с усмешкой, какую многие посчитали бы натяжной, – почти так же, как и твои, Эдит. – С этими словами он протянул руку и положил ей на платье свою ладонь рядом с ее ладонью.
Эдит посмотрела на нее, но не стала убирать ни руки, ни платья.
– Да, она довольно чистая, Дик, – сказала она, – если не считать желтых пятен от сигарет на твоих пальцах. В отличие от тебя, я никогда не курила, и мои пальцы белые.
Дик взял ее руку – тем более что та была приподнята – и, сделав вид, будто рассматривает ее, поднес ее пальцы к губам и поцеловал. Эдит не стала протестовать. Казалось, она не против проявлений нежности с его стороны. Дик же как опытный, искушенный в победных делах генерал не преминул этим воспользоваться. Опустившись перед ней на колени, – что было сделать довольно легко, так как его стул стоял рядом с ее стулом и был не слишком высок, – он заключил ее в объятия и, притянув к себе ее золотую голову, страстно поцеловал.
– Дик, немедленно прекрати! – сказала Эдит, однако сопротивляться не стала. Не было в ее голосе и той злости, какая слышалась в нем в некоем предыдущем случае.
– Отлично, – прошептал он, – поцелуй меня сама, и я перестану.
Она откинула голову назад и посмотрела на него своими дивными голубыми глазами, в которых почему-то читалась нежность.
– Ты же знаешь, Дик, если бы я поцеловала тебя, это значило бы гораздо больше, нежели когда ты целуешь меня.
– Да, Эдит, это значило бы то, что это должно значить – то, что ты любишь меня и выйдешь за меня замуж. Да, моя дорогая, поцелуй меня и давай после всех этих лет наконец-то примем решение.
В течение некоторого времени она смотрела на него, затем вздохнула. Ее грудь поднялась и опала, а глаза наполнились еще большей нежностью.
– Наверно, так и должно быть, – сказала она, – ибо ни к одному мужчине я не испытывала таких чувств, как к тебе, – и, наклонив голову, она поцеловала его, после чего мягко оттолкнула от себя. Дик опустился на свой стул и механически зажег очередную сигарету.
– Ты слишком быстро вернулся к своим старым привычкам, – сказала она, пристально на него глядя. – Нет, не выкидывай ее, потому что пока ты куришь, ты сидишь спокойно. Я же хочу кое-что тебе сказать. Дик, ты не должен никому об этом говорить, по крайней мере, в ближайшие полгода. Ты меня понял? – Он кивнул. – Все это слишком преждевременно, – продолжила она. – Это ты напросился на ленч, а не я. Я же чувствовала себя одинокой и устала от своих собственных мыслей. Похороны миссис Уллершоу расстроили меня. Мне не хотелось на них присутствовать, но я была вынуждена это сделать. Дик, я несчастна. У меня такое чувство, будто между нами возникает некая преграда. Нет, она была всегда, только теперь она толще и выше. Руперт, бывало, много говорил про разницу между плотью и духом. Тогда на меня его речи наводили скуку, ибо я не понимала его. Но мне кажется, что теперь я понимаю. Я, внешняя «я», после всего случившегося, Дик, эта часть меня – твоя. Но внутренняя «я» – та, которой ты не можешь восхищаться, которую не можешь обнять, остается столь же далека от тебя, что и всегда, и я не уверена, что со временем она тебя не возненавидит.
– Эти твои части довольно трудно разделить, Эдит? – рассеянно спросил он; подобные тонкости не слишком волновали его, так как нечто подобное ему уже доводилось от нее слышать. – Во всяком случае, – добавил он, – твое внешнее «я» меня вполне устраивает. – И он с восхищением посмотрел на нее. – Мне остается лишь надеяться, что эта твоя вторая, невидимая половина последует примеру внешней.
– Ты насмехаешься надо мной, – устало произнесла она. – Впрочем, по-своему ты прав. Я надеюсь, что так и будет. А пока уходи, Дик. Я не привыкла к таким эмоциям, и они расстраивают меня. Да, ты можешь вернуться через пару дней. Скажем, во вторник. Нет, больше никаких нежностей. Ты куришь – прощай!
И Дик, ликуя в душе, ушел. Удача была на его стороне, он был искренне счастлив, так как обожал Эдит. Она была единственной, кого он обожал – помимо себя.
* * *
Как только пароход причалил к пирсу, что произошло вскоре после двух часов пополудни, Руперту понадобилось не слишком много времени, чтобы попрощаться с ним. Осмотр его багажа тоже не затянулся долго, ибо тот состоял лишь из грубого саквояжа, в который были набиты его арабские одежды и кое-какие необходимые вещи, которые он, как и костюм, приобрел у матросов или с их помощью.
Портовые чиновники, которым он по причине своей внешности показался довольно странным, если не откровенно подозрительным, сочли нужным вывернуть его саквояж наизнанку, после чего содержимое последнего озадачило их еще больше. Но поскольку среди вещей не было ничего, что облагалось бы пошлинами, то их быстро запихали обратно. Затем, не без затруднений, он нашел кэб и, забравшись в него, велел кэбмену отвезти его к дому его матери в Риджентс-парке. Эта поездка почему-то показалась Руперту даже длиннее всех проведенных в море дней.
Наконец он прибыл по нужному адресу. Расплатившись с возницей, он взял свой саквояж и повернулся, чтобы войти в небольшие железные ворота. Дом не был виден, ибо уже сгущались сумерки и его заслоняла пелена тумана. Тем не менее он показался Руперту подозрительно тихим и даже враждебным. В окне гостиной почему-то не было света, хотя ему там положено быть, ибо, насколько он помнил, свет был виден всегда, даже из-за задернутых штор. Те никогда не смыкались плотно, как он не раз замечал, возвращаясь домой поздно вечером. Его сердце тотчас наполнилось дурным предчувствием, однако он отбросил его и, проковыляв по короткой дорожке и, поднявшись на крыльцо, нашел колокольчик и позвонил. Несколько мгновений было тихо. Затем в коридоре послышались чьи-то шаркающие шаги, и кто-то отомкнул замок и снял с крючка цепочку. Почему-то ему сделалось страшно, однако затем он вспомнил, что, вполне возможно, Эдит и его мать, как и в прошлом году, проводят Новый год в поместье Дэвенов. Это, конечно, было бы весьма обидно, но с другой стороны, у него будет несколько часов на то, чтобы привести себя в презентабельный вид.
Дверь открылась, и перед ним выросла дородная, с тяжелым лицом особа с грязным оловянным подсвечником в руке.
– Что вам угодно? – спросила она, подозрительно оглядывая его неприглядную фигуру, костыль и саквояж, не иначе как решив, что перед ней бродяга.
– Я хочу видеть миссис Уллершоу, – ответил Руперт, и, похоже, его голос слегка ее успокоил.
– Миссис Уллершоу? Которую? Я слышала, что их две, молодая и старая. Я тут у них не работаю, просто экономка уехала на Новый год к родственникам мужа в деревню и по дружбе попросила меня присмотреть за домом.
– Совершенно верно, – ответил Руперт. – Я имел в виду старую миссис Уллершоу.
– В таком случае вам стоит пойти и проведать ее на Бромптонском кладбище, где, насколько мне известно, ее похоронили на прошлой неделе. Боже милостивый, что с вами? – добавила она, когда Руперт выронил из рук саквояж и тяжело привалился к дверному косяку.
– Ничего, – тихо ответил он. – Могу я попросить стакан воды?
Она мудро покачала своей большой головой.
– Даже не думайте играть со мной в эти фокусы со стаканом воды. Пока я пойду за ним, вы набьете себе карманы ценными вещами, которые я здесь стерегу. Но вы можете пройти в эту комнату и, если вам плохо, то даже сесть, потому что с какой стати мне бояться одноногого калеку. – И она открыла ему дверь в столовую.
Руперт проследовал за ней внутрь и опустился на свой собственный стул, так как в комнате стояла мебель. Более того, за рамой зеркала все еще виднелись его визитки, а на серванте стоял бронзовый Осирис, его подарок Эдит. В его воспаленном мозгу тотчас возник склеп в храме Тамы и огромная статуя бога-владыки мертвых, стерегущего мрачное обиталище смерти. Вот и здесь он тоже стережет обиталище смерти.
– И когда же умерла миссис Уллершоу? – спросил он, превозмогая себя.
– Дней за пять до ее похорон. Если не ошибаюсь, это обычный срок.
– А вы не знаете, где сейчас молодая миссис Уллершоу? – помолчав, спросил Руперт.
– Нет, не знаю, но подруга говорила мне, что на всякий случай, если ей придут какие-то письма, на каминной полке, на бумажке есть ее адрес.
Руперт встал и взял бумагу. Это оказался конверт, более того, конверт, в котором пришло его последнее письмо, отправленное им из Абу-Симбела, и под ее именем, миссис Руперт Уллершоу, адрес дома в Риджентс-парке был вычеркнут, а поверх него, почерком его жены, написан другой, на Брук-стрит.
– Спасибо, – сказал Руперт, оставляя себе конверт, – это все, что я хотел знать. А теперь я пойду.
В следующее мгновение он уже был на крыльце и слышал, как за ним заперли дверь. Кэб, на котором он приехал сюда, по-прежнему стоял в нескольких ярдах: после долгой поездки кэбмен решил дать лошади передохнуть. Сев в экипаж, Руперт велел ехать на Брук-стрит. Здесь, внутри кэба, первое потрясение, наконец, прошло, зато нахлынуло горе. Руперт сидел, и по его щекам катились слезы. Как же это все ужасно и как печально! Ну почему его мать не прожила чуть дольше?
Вскоре они доехали до написанного на старом конверте адреса. Вновь, с саквояжем в руке, Руперт позвонил в колокольчик, – вернее, нажал кнопку звонка, потому что тот был электрический, – и задался смутным вопросом, что ждет его за этой дверью. Вскоре ему открыли. На этот раз перед ним стояла деревенского вида девчушка, судя по виду, из младшей прислуги, ибо главный лакей укатил на воскресенье развлечься в обществе личной горничной Эдит.
– Миссис Уллершоу у себя? – спросил Руперт.
– Да, сэр, думаю, что да, – ответила та, делая книксен перед высоким, темным призраком и пряча под фартуком грязные руки.
Руперт вошел в прихожую и спросил, где комната Эдит.
– На втором этаже, сэр, первая дверь направо, – сказала она, памятуя про нагоняй, который недавно получила от Эдит за то, что провела наверх сэра Имярек, закатав рукава выше худых локтей, как это было с ней и сейчас. Отнюдь не желая повторять свою непростительную ошибку, она, быстро все объяснив, закрыла за ним дверь и мгновенно испарилась.
С саквояжем в руке, Руперт вскарабкался по лестнице и проковылял к указанной двери. Поставив саквояж на поднос, который почему-то так и не был унесен после обеда, он постучал.
– Войдите, – раздался голос Эдит, решившей, что это горничная принесла ей горячую воду, о которой совершенно забыла, когда приносила чай.
Руперт повернул дверную ручку и вошел. Эдит стояла к нему спиной на другом конце комнаты у камина, наливая себе чашку чая. Однако услышав стук его костыля о доски пола, так как прежде чем заговорить с ней, он решил подойти ближе, она обернулась, чтобы узнать, что это за стук. Перед ней предстала высокая фигура, одетая в зеленую матросскую куртку и горчичного цвета брюки, опирающаяся на огромную, грубо обтесанную деревянную палку. Картину довершала длинная рыжая борода и такие же длинные всклокоченные волосы, нависающие на лоб.
– Кто вы такой и что вы здесь делаете? – воскликнула она.
– Эдит, – с легкой укоризной произнес он. – Эдит!
Схватив с чайного подноса свечу, она скорее подбежала, нежели подошла к нему и, поднеся ее к самому лицу, присмотрелась. В следующий миг подсвечник со звоном упал на пол, она же отпрянула назад к камину.
– О, боже! – ужаснулась она. – О, боже! Это ты или твой призрак?
– Это я, Руперт, – печально ответил он, – а вовсе не призрак, хотя предпочел бы им быть.
Эдит овладела собой и расправила плечи.
– Ты мертв уже несколько месяцев, по крайней мере, мне сказали, что ты мертв. Добро пожаловать домой, Руперт! – и она как будто в жесте отчаяния протянула ему руку.
И он вновь проковылял вперед, и его костыль, который он лично вырезал карманным ножом, вновь застучал по покрытому ковром полу. Услышав этот стук, Эдит вновь посмотрела вниз и увидела, что одна штанина горчичного цвета брюк пуста. А подняв взгляд, увидела то, чего сначала почти не заметила. Там, где полагалось быть левому глазу, окаймленная красными, воспаленными шрамами, зияла пустая глазница. Правый глаз был тоже воспален и налит кровью, как будто от обильно пролитых слез, что, собственно, так и было.
– Что случилось с тобой? – шепотом спросила она, ибо голос изменил ей, и опустила протянутую было руку. – Твоя нога и твой глаз, что с ними случилась?
– Пытки, – со стоном ответил он. – Я попал в руки к дикарям, которые меня изуродовали. Прости, я вижу, что ты потрясена, – и он замер на месте, тяжело опираясь на костыль. Вся его поза являла собой картину борьбы отчаяния со слабо тлеющей в сердце надеждой. Увы, даже если та и была еще жива, она была обречена на скорую смерть.
Эдит даже не сдвинулась с места. Указав на стоящий рядом с ним стул, сидя на котором Дик только что курил сигареты, она лишь сказала:
– Может, ты сядешь?
Руперт даже не сел, а тяжело повалился на стул, а его костыль со стуком упал на пол с ним рядом.
– Может, ты хочешь чаю? – рассеянно спросила Эдит. – Впрочем, здесь всего одна чашка. Если хочешь, возьми мою.
– Спасибо, – ответил он и махнул рукой. – Я пью из своей собственной чаши и чувствую ее горечь.
На несколько секунд между ними повисло молчание. Чувствуя, что оно сводит ее с ума, Эдит заговорила первой.
– Скажи мне… – начала было она, – скажи мне… дорогой, – это слово застряло у нее в горле и вырвалась наружу чем-то вроде хрипа. – Что это все значит? Видишь ли, я ничего не понимаю. Я думала, что ты мертв. Посмотри на мое платье.
– Только то, что я уже тебе сказал. Мне не повезло. На меня напал численно превосходивший меня враг. Я сражался, как мог, пока почти все мои солдаты не были убиты, но, к сожалению, я был оглушен и попал в плен. После этого мне был дан выбор: ислам или смерть. Я выбрал смерть, но сначала меня подвергли пыткам: отрубили мне ногу и горячим железом выжгли глаз. В конце концов, они собирались повесить меня. Но меня спасли.
– Ислам? – спросила с дрожью Эдит. – Что такое ислам?
– Иными словами, мне предлагали принять магометанскую веру.
– И ты позволил им сделать с тобой все эти ужасные вещи, вместо того, чтобы на несколько дней притвориться, будто теперь ты магометанин?
– Разумеется, – ответил Руперт с мрачной гордостью. – Что еще ты ожидала от меня, Эдит?
– Я? Если честно, не знаю. Просто все это так ужасно. А кто тебя спас?
– Местные женщины, наделенные властью, с которыми я познакомился. Они привели с собой своих соплеменников и перебили арабов. Меня они забрали к себе домой и выходили.
Эдит быстро посмотрела на него.
– Мы о них слышали, – сказала она. – Одна из них была молода и красива. Если, конечно, дикарка может быть красивой. Что скажешь?
– Да, – равнодушно ответил Руперт, – наверно, Меа была красивой, но она не дикарка. Она принадлежит к древней расе, а ее положение гораздо выше твоего. Она властительница Тамы. Я как-нибудь расскажу тебе о ней.
– А! – воскликнула Эдит. – Но вряд ли мне будет интересно про нее слушать.
– Тебе должно быть интересно, – ответил он, – ведь она спасла мне жизнь.
На этом тема была исчерпана.
– А ты знаешь, – спросила Эдит, – ты знаешь про свою мать?
– Да, Эдит, сойдя с корабля, я первым делом поехал в ее дом и там узнал. Именно там я получил твой адрес, – с этими словами он сунул руку в боковой карман своей зеленой куртки и достал из него смятый конверт. – Как я полагаю, ты была с ней? – спросил он.
– Не до конца.
– А кто же тогда?
– Никто, кроме сиделки. С ней случился еще один удар, и она впала в беспамятство. Я переехала сюда две недели назад, потому что помочь ничем не могла, а сиделке требовалась комната.
Впервые в терпеливом сердце Руперта начала закипать злость. Это надо же! Его бедная, несчастная мать была брошена умирать в полном одиночестве!
– Вообще-то, – начал он, и впервые в его голосе послышались суровые нотки, – тебе следовало проявить доброту и остаться. В конце концов, ты моя жена, и твое место было там, рядом с ней.
– Мне казалось, что я больше тебе не жена, Руперт, а всего лишь вдова. К тому же не моя вина, что я не переношу вида болезней и прочих ужасов. Никогда не переносила, – она посмотрела на его изуродованное тело и вздрогнула.
– Тогда молись, чтобы они никогда не выпали на твою долю, – произнес он тем же суровым голосом.
Это напугало ее, и она вновь предпочла сменить тему.
– Ты уже слышал, что дела здесь пошли для тебя крайне скверно? – спросила она. – Во-первых, у лорда Дэвена родился наследник, крепкий, здоровый сын, и теперь все состояние и титул перейдут ему.
– Я искренне рад это слышать, – ответил Руперт. – Пусть дитя живет и здравствует.
Эдит в упор посмотрела на этого удивительного человека, но, не найдя, что ему ответить, чтобы не обидеть его, продолжила:
– Во-вторых, ты почти опозорен, вернее, опозорена твоя память. Говорят, будто ты провалил порученное тебе дело, потому что связался с женщинами.
– Я читал об этом в газетах, – ответил он, – и мне нет необходимости убеждать тебя, что это ложь. Однако я готов признать, что совершил ошибку, позволив этим двум женщинам ехать вместе с моим караваном. Я поступил так отчасти потому, что они были в трудном положении и умоляли меня о помощи, отчасти потому, что с такими караванами, как мой, обычно следуют женщины, и я полагал, что их присутствие будет внушать туземцам меньше подозрений. Кроме того, я уверен, что будь со мной эти женщины или нет, шейх Ибрагим все равно на меня бы напал, чтобы свести со мной старые счеты. Как бы то ни было, мои руки чисты (услышав второй раз за день эти слова, Эдит вздрогнула). Как честный человек, я выполнил свой долг так, как смог, и если на мою долю выпали телесные и душевные муки, – Руперт посмотрел на свою пустую штанину, – значит, на то господня воля и я обязан ее принять.
– Но как ты можешь ее принять? – едва ли не с яростью спросила Эдит. – Дать изуродовать себя, стать калекой, очернить офицерскую честь, знать, что на твоей карьере поставлен крест, а все твои перспективы в жизни разрушены рождением этого ублюдка. Скажи, как ты можешь спокойно к этому относиться? Лично меня все это сводит с ума.
– У нас по-прежнему есть мы с тобой, – печально ответил он.
С жестом, полным отчаяния, она повернулась к нему. Она никогда не любила его, всегда его чуралась и вот теперь… когда поцелуй другого мужчины еще не остыл на ее губах… О, как же она его ненавидела! – ненавидела это уродливое, одноглазое существо, которое могло предложить ей лишь свое опозоренное имя. Она не сможет быть его женой, это сведет ее в могилу. А позор, которым она покроет себя, а злорадство со стороны женщин? Ведь как те завидовали ее красоте и ее счастью, когда она вышла замуж за знаменитого наследника лорда Дэвена!
– Нет, только не это! – простонала она. – Наверно, это звучит жестоко, но я все равно тебе это скажу. Я не могу… я не могу быть твоей женой.
Он вздрогнул, а затем застыл неподвижно.
– Почему, Эдит? – спросил он холодным, неестественным тоном.
– О, ты только посмотри на себя в зеркало и увидишь сам. Это жуткая красная дыра вместо глаза, да и второй глаз тоже весь красный.
– Какое-то время я был совершенно слеп. Мне стыдно в этом признаться, но скорбь по моей матери стала причиной нового воспаления. Оно пройдет. Возможно, врачи смогут что-нибудь с ним сделать.
– Но они не вернут тебе твою ногу, я же не выношу калек. Ты сам это знаешь. К тому же это невозможно, ибо теперь мы нищие.
– В таком случае, скажи, что мне делать? – спросил он.
– Руперт, – ответила она сдавленным шепотом и бросилась перед ним на колени и посмотрела на него безумным, умоляющим взглядом. – Руперт, будь милосерден ко мне, ты мертв. И оставайся им, а меня оставь в покое.
– Тогда скажи мне одну вещь, Эдит, – отозвался он. – Ты когда-нибудь любила меня?
– Нет, наверно не совсем.
– Тогда почему ты вышла за меня замуж? Из-за моей карьеры и перспектив?
– Да, до известной степени. Но я уважала тебя и восхищалась тобой. К тому же лорд Дэвен принуждал меня к этому, хотя я не знаю, почему.
И вновь по телу Руперта пробежала дрожь. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыл. Очевидно, Эдит не знала правды. Но должен ли он рассказать ей про ее собственный позор, тем более что у него не было никакого желания отомстить ей?
– Спасибо, что была откровенна со мной, – тяжело произнес он. – Я рад, что ты сказала мне правду, а поскольку я желаю тебе только добра, это избавит тебя в будущем от мучений, какие ты была бы вынуждена терпеть, будучи женой уродливого калеки, которого ты никогда не любила. Только ради себя самой, Эдит, подумай всего минуту. Это твой последний шанс. Вещи в этом мире имеют обыкновение меняться. Я в этом убедился. Все может измениться снова, ты же пожалеешь о своем поспешном решении. Кроме того, твое положение жены человека, который только считается мертвым, будет весьма уязвимым, ибо в будущем может выясниться, что он все еще жив.
– Я все взвесила, – ответила Эдит, – и готова пойти на риск. Ты ведь не выдашь меня, Руперт?
– Нет, – ответил он голосом полным ледяного презрения. – Я не стану брать с тебя пример. Я не выдам тебя. Бери то немногое, что у меня есть, по наследству или как-то еще. Это убедит всех, что я на самом деле мертв. Но отныне, Эдит, я ненавижу тебя. Нет, не той ненавистью, что жаждет мести, ибо я помню, что мы по-прежнему муж и жена, и я никогда даже пальцем не пошевелю, чтобы нарушить эти узы, которые должны оставаться нерасторжимыми, пока одного из нас не заберет к себе смерть. И все же я говорю тебе, что все мое естество и весь мой дух восстают против тебя. Кто, как не ты, когда-то поклялась мне в своей любви? Я даже кончиками пальцев боялся прикоснуться к твоей красоте. Теперь же я никогда по собственному желанию не заговорю с тобой снова, ни в этом мире, ни в ином. Ступай своим путем, Эдит, я же пойду своим, – сказав это, Руперт встал с низкого стула, подняв с пола свой костыль, и поковылял вон из комнаты, тяжело опираясь на него.
Пока он замешкался у двери, Эдит встала с колен, на которых стояла все это время, и с криком «Руперт!» бросилась за ним следом.
Но он сделал вид, что не слышит, ибо полог разлуки уже упал между ними, уже выросла стена молчания. С тем же успехом она могла взывать к воздуху.
Руперт взял с подноса свой саквояж, затем на лестнице какое-то время раздавались тяжелый шаг единственной ноги и стук костыля. Передняя дверь открылась и закрылась снова. Все было кончено.
* * *
Несколько мгновений Эдит пребывала на грани обморока, однако затем овладела собой, собралась с мыслями и позвонила в колокольчик. На ее звонок пришла горничная, которая уже успела вернуться домой.
– Джейн, – сказала Эдит, – когда ты в следующий раз будешь куда-то уходить, будь добра, скажи этой девчонке Элизе, чтобы она никогда не впускала в дом посторонних людей, не спросив у меня, хочу ли я их видеть. Сегодня днем она впустила сюда какого-то сумасшедшего. Тот принес целый саквояж контрабандных шелков, которые желал мне продать. Я не могла избавиться от него почти целых полчаса, и он до смерти перепугал меня. Нет, я больше не хочу об этом слышать. Забери чайный поднос.
Глава XVIII. Счастливая, счастливая жизнь
Выйдя из дома на Брук-стрит, Руперт бесцельно пошел вдоль нее, затем вдоль Бонд-стрит, через Пикадилли, где в тумане его едва не сбил кэб, затем по Сент-Джеймс-стрит к Пэлл-Мэлл, потом вдоль нее, пока не дошел до Клуба армии и флота, в котором состоял. Здесь он прошел мимо портика, куда его бессознательно привели шаги, но затем, вспомнив, что он мертв, и ему лучше сюда не входить, торопливо развернулся и налетел на дородного генерала, под чьим началом когда-то служил и который как раз собрался подняться по ступенькам клуба.
Будучи человеком холерическим, генерал осыпал его проклятьями, после чего, судя по жалкому внешнему виду Руперта и его костылю, решил, что перед ним нечастный бездомный калека, и, устыдившись, со словами сочувствия сунул ему в руку шестипенсовик.
– Прошу вас, не надо извиняться, генерал, это все моя неловкость, – сказал Руперт и, посмотрев на шестипенсовик в своей руке, добавил. – С вашего позволения я передам его другому. – И, отдав монету голодного вида оборванцу, который остановился рядом с ними, поковылял дальше.
Генерал застыл в растерянности: голос показался ему знакомым, а вот имя его владельца он никак не мог вспомнить.
– Эй! – крикнул генерал вслед удаляющейся фигуре, но Руперт, поняв опасность, быстро зашагал к «Атенеуму» и вскоре исчез в тумане.
– Что за дьявольщина! – воскликнул генерал, поднимаясь по ступенькам. – Чей же это был голос? Вспомнил! Руперта Уллершоу! – и подбежав к будке швейцара, спросил: – Здесь был полковник Уллершоу?
– Нет, генерал, – ответил швейцар, – он больше не состоит в клубе, потому что мертв. Убит в Судане несколько месяцев назад.
– Ах, да, вспомнил! – отозвался генерал. – Он еще провалил порученную ему миссию. Хороший был человек, пока не связался с женщиной. Но провалиться мне на этом месте, я своими глазами только что видел его призрак, без ноги с бородой длиною в ярд! И это точно был его голос. Слышал его на площади в Абу-Клеа. Просто удивительно, да и только!
Еще долгие годы, когда речь заходила о призраках, эта его встреча с искалеченной тенью Руперта Уллершоу была излюбленной историей генерала, особенно, когда позднее всплыли некоторые факты.
Руперт миновал «Атенеум». С известными трудностями, – было скользко, – он поднялся на ступени за статуей герцога Йоркского, затем поспешил дальше мимо казарм Конной гвардии и Министерства иностранных дел, пока, наконец, не пришел к набережной, где, поскольку очень устал, сел отдохнуть на скамейку возле реки. Вскоре к нему подошел полицейский и потревожил его, спросив, что он тут делает. На что Руперт учтиво ответил, что, по его мнению, это общедоступное место. Услышав такой ответ, полицейский уставился на него точно так же, как только что генерал, и пошел дальше. Тем не менее, Руперт поднялся и заковылял дальше, пока не дошел до тенистого места между двумя фонарями, где сгущающийся туман дал ему уединение. Положив рядом с собой саквояж, он облокотился на парапет и стал слушать шепот текущей под ним реки.
Именно здесь, когда усталость от долгой ходьбы отступила, на него всем своим весом обрушилась тяжесть его плачевного положения. Его душа спустилась в ад; он узрел и понял ужасную правду. Калека, с черным пятном позора на имени, брошенный всем миром, омерзительный для Эдит, дочери Дэвена, вышедшей за него замуж лишь ради денег и положения… был ли во всем жестоком Лондоне более одинокий, лишенный всякой надежды изгой, чем он? А ведь всего десять месяцев назад его здесь всячески превозносили и чествовали! Год назад, как вспомнил он, накануне Нового года, он сделал предложение Эдит, и она приняла его. Вспомнил он и слова, сказанные ему тогда леди Дэвен и его матерью, смысл которых в полной мере дошел до него только сейчас, хотя тогда он пропустил их мимо ушей. Те женщины были правы: любовь ослепила его.
Что теперь оставалось ему, пообещавшему «и дальше быть мертвым»? Всплески воды внизу, казалось, нашептывали ответ. Они говорили ему то же самое, что когда-то гул пароходного винта и стук колес, и он прекрасно его понял. Все его надежды лежали похороненные глубоко под этой черной водой смерти, где также покоились его мать и многие боевые друзья и товарищи. Может, ему стоит присоединиться к ним? Эдит будет довольна, ведь в этом случае он и впрямь и дальше будет мертвым. Нет, это было бы проявлением малодушия. Да, но порой обстоятельства перевешивают честь и порядочность, и в данном случае, он вполне мог бы воспользоваться шансом – как Эдит. Если и есть худшее место в этом мире, в котором он, за одним единственным исключением, всегда поступал по совести, то это наверняка оно самое. Бездна, в полном смысле бездонная, и в ней он сейчас пребывал.
Это было бы легко. Можно продеть голову в широкие ручки этого чертова тяжеленного саквояжа, – чем не кирпич на шею отслужившего свою службу пса? Тем более что здесь ни души; он совершенно один в этом унылом, безлюдном месте. Да и кто станет здесь бродить, если есть приюты Армии спасения? Он же пойти туда не мог. Он вообще не мог никуда пойти. Его найдут или опознают. Илистое дно Темзы – лучшая постель для него, валящегося с ног от усталости.
Почти обезумев от стыда и горя, Руперт еще дальше перегнулся через парапет, готовя себя к отчаянному поступку. И вдруг в висевшем над водой плотном сером тумане он увидел нечто такое, что постепенно приобрело очертания женского лица, окруженного облаком пышных волос. Он четко его видел, в том числе и полные нежности и сострадания глаза, из которых текли слезы – видел так отчетливо, что тотчас узнал лицо Меа, как и в тот миг, когда после долгих недель слепоты оно впервые предстало перед его единственным прозревшим глазом. Как и тогда, воссиявшее над слепотой его тела светом новой жизни, сейчас оно воссияло над черной бездной его отчаяния – маяк надежды посреди кораблекрушения, знак неизменной любви, оно все так же сияло над кипящим морем презрения и ненависти.
Внезапно, когда тень миновала, Руперт вспомнил данное ей обещание, когда она предостерегла его, что все может оказаться не так, как он ожидал. Тогда он отнесся к этому несерьезно, поклявшись лишь затем, чтобы угодить ей, и с того дня почти не вспоминал об этой своей клятве. И вот теперь он знал: любовь и преданность наделили ее странным предвидением тех горестей, что свалились на его бедную голову, и тем самым, не предвиденным ни ею, ни им самим, образом открыли для него дверь к бегству из жуткого обиталища, куда его дух был загнан суровой судьбой. Меа с радостью примет его назад, своего друга, у которого во всем мире нет иных друзей. Ведь он поклялся ей, что если все обернется так, как оно обернулось, он вернется.
А значит, если он бросится в реку, он окажется не только трусом, но и лжецом. Нет, никакой реки. Меа уберегла его от греха, при мысли о котором он теперь всегда будет вздрагивать, стыдясь своего малодушия.
И новая жизнь вернулась к Руперту, надежда родилась вновь. И первое ее проявление имело физическую природу. Почти ничего не ев весь день и донельзя измотанный, Руперт почувствовал, что проголодался. Взяв с парапета саквояж, который еще несколько минут назад намеревался использовать в иных, малоприятных целях, он поднял с земли свой костыль и довольно бодро зашагал вдоль набережной, а потом по одному из переулков вышел на Стрэнд. Здесь он нашел скромную харчевню и, войдя, заказал себе ужин. Правда, подавальщик еды, взглянув на него, потребовал плату вперед. Поглощая этот непритязательный ужин, Руперт обдумывал свое положение. На его счастье, рядом с ним лежала газета. Взяв ее, он принялся изучать объявления. И вскоре нашел то, что ему было нужно. На следующее утро, в понедельник, в одиннадцать часов из Ливерпуля в Египет отплывает пароход одной из мелких, малоизвестных судоходных компаний. Руперт попросил железнодорожный справочник. И вновь нашел то, что искал: около половины одиннадцатого вечера с вокзала Юстон отходил поезд, прибывающий в Ливерпуль рано утром.
На этот поезд он и сел, и следующим утром, как только пароходная билетная касса Ливерпуля открылась, под вымышленным именем купил себе билет второго класса до Египта.
* * *
В оазисе Тама была весна, и посевы на полях всходили и росли быстро.
– Бахита, – однажды днем внезапно сказала Меа. – Мне наскучило это место. Завтра утром я еду к Черному Перевалу, взглянуть на пустыню по ту его сторону, ибо прошли дожди. Там, должно быть, полно красивых цветов.
– Отнюдь не цветы ты будешь искать в пустыне, если они вообще там есть, – ответила Бахита с хитроватой улыбкой и покачала седой головой. – Да и не отважишься ты войти в ту пустыню, где, похищая людей, рыщут банды дикарей Халифы, взывающих к Аллаху и убивающих мирных людей. Однако, если таково твое желание – или же если тебе привиделся сон – ты можешь поехать ко входу на Перевал, захватив с собой отряд вооруженных копьями воинов, и любоваться пустыней, пока тебе это не надоест.
– Бахита, которая приходится мне теткой, – сердито ответила Меа, – кто хозяйка этой земли, ты или я?
– Тама, которая приходится мне племянницей, – спокойно возразила Бахита, – когда речь идет о тебе, то хозяйка я. Ты даже ногой не ступишь в пустыню. Только попытайся это сделать, и я прикажу твоему собственному Совету эмиров закрыть тебе рот. Если он захочет, он может отправиться на твои поиски, ты же не можешь искать его.
– Бахита, я говорила с тобой о цветах.
– Да, Меа, о них. Но у «цветка», который тебе нужен, рыжая борода. Кроме того, один араб наступил на него и сильно его изуродовал. Более того, он растет в другой земле. Но даже если бы и в этой, какой прок от него в твоем саду?
– Я устала от этого места и хочу взглянуть на пустыню, – ответила Меа. – Если ты будешь донимать меня и дальше, я проеду через нее и отправлюсь в Египет. Даже в той школе в Луксоре не так скучно, как здесь, в Таме. Ступай. И не смей ослушаться меня.
И Бахита ушла, полная своих мыслей, и приказала эмирам составить свиту из сотни вооруженных копьями воинов, ибо в их хозяйку вселился дьявол, и она не знает, куда это ее приведет. Эмиры возроптали, так как их внимания требовали поля, и спросили, нельзя ли на время отогнать этого дьявола прочь, на что Бахита ответила им так веско, что не успело на следующее утро взойти солнце, как сто конных воинов были уже готовы.
Вместе с Меа они поскакали ко входу в Черный Перевал и встали там лагерем. Весь следующий день Меа всматривалась в пустыню, в которой, кстати, действительно росли редкие цветы. Капитаны ее свиты, опечаленные тем, что их поля зарастают сорняками, спросили, нельзя ли им следующим утром вернуться домой, на что Меа ответила «нет», ибо воздух пустыни благотворно влияет на ее здоровье. На следующий вечер они повторили свой вопрос, и вновь она сказала им «нет». Благодаря воздуху пустыни ее здоровье почти полностью восстановилось, но если они желают уехать домой, пусть уезжают, а она останется здесь. На что они ответили отказом, сказав, что если урожай на их полях пострадает, то это, конечно, плохо, но гораздо хуже, если что-то случится с ней, их повелительницей. В таком случае они запятнают себя позором, и даже собственные жены откажутся иметь с ними дело.
Наступил еще один вечер, как вдруг в свете лучей заходящего солнца вдали появился всадник, сидящий верхом на усталом верблюде. На этой обширной, пустынной равнине, на горизонте которой он маячил, он казался на редкость одиноким.
– Кто этот человек? – спросила Меа у Бахиты странным голосом.
– Наверно, бедуинский вождь, шпион Халифы. Откуда мне знать, кто он такой. Пусть твои воины скачут ему навстречу и выяснят.
– Нет, – ответила Меа. – Мы подождем здесь и посмотрим, что станет делать этот вождь. Пусть воины спрячутся и будут готовы напасть на него.
Вождь или шпион продолжал приближаться к ним. Вскоре его верблюд, похоже, окончательно охромел, и он был вынужден сделать остановку среди скудных зарослей кустарника в полумиле от входа на перевал.
– Ночь сегодня безлунная, так что он просидит там до самого утра, – сказала Бахита, – в темноте его будет гораздо легче поймать.
Ночь опустилась быстро.
– А теперь, – сказала Меа, – приведи пятерых воинов, и пойдем схватим этого шпиона. Анубис, иди сюда, мой песик, мы собираемся схватить шпиона и хромого верблюда, поэтому будь добр, не лай, иначе ты выдашь нас ему.
И они поскакали сквозь ночной мрак, а когда были совсем близко к зарослям кустарника, то спешились и двинулись дальше пешком. Меа вела Анубиса на поводке. Один из воинов, шедший чуть впереди, вернулся и доложил, что шпион развел небольшой костер и повесил над ним чайник, чтобы вскипятить воды. А еще он сидит спиной к огню и при его свете читает какую-то книгу, что, по мнению воина, для шпиона довольно странно.
Меа выслушала его, но ничего не сказала. Ветер дул в их сторону, и теперь Анубис принялся нюхать воздух и заволновался. То ли нарочно, то ли случайно, Меа отпустила один конец сплетенного из травы поводка, на котором она вела пса. Почувствовав свободу, тот со всех ног бросился в кусты, откуда вскоре раздался радостный лай, а также низкий мужской голос.
– Пес совсем не зол, – заметила Бахита.
Меа посмотрела на нее сияющим взглядом, а потом, еще быстрее, чем пес, тоже бросилась вперед, жестом велев воинам оставаться на месте, ибо теперь она знала правду, Бахита устремилась за ней следом и вот что вскоре она увидела. На земле сидел мужчина в арабских одеждах, а рядом с ним лежала книга, а неподалеку пасся охромевший верблюд. На руках у мужчины, заливаясь радостным лаем и так и норовя лизнуть в любую часть его лица, до которой он только мог дотянуться, сидел Анубис, а в тени кустов, пока еще не замеченная странником, сияя восторгом, стояла Меа. Словно греза или призрак, она неслышно вышла из тени и встала между незнакомцем и костром. Почувствовав, что тот больше не греет ему спину, мужчина прекратил гладить пса и обернулся, пытаясь разглядеть, кто стоит за ним, потому что на нее не падал свет. И тогда Меа заговорила своим бархатистым, исполненным любви голосом, который Руперт узнал бы среди тысячи женских голосов. Заговорила на своем забавном, ломаном английском.
– Руперт-бей узнал этого скверного пса Анубиса, который убежал к нему от своей хозяйки, а его хозяйку, Меа, он не узнает.
В следующий миг случился великий переполох. Бедный Анубис скатился с колен Руперта прямо в костер, где обжег себе хвост и теперь, жалобно скуля, лизал его, по прежнему преданно глядя на своего бывшего хозяина. Тот схватил костыль и пытался подняться с земли. Наконец он встал и протянул руки, но затем, как будто что-то вспомнив, вновь опустил, правой рукой схватил руку Меа, прижал ее сначала ко лбу, а потом к губам.
– Какой, однако, болван, – проворчала себе под нос Бахита, – целовать ей пальцы, когда он мог поцеловать ее лицо. Я всегда считала, что эти белые люди безумцы, но этот бей еще и святой. Бедная Меа, это надо же, влюбиться в праведника! Лично я предпочла бы грешника.
Тем временем Меа вернула приветствие «праведника» тем, что поцеловала его пальцы, а про себя подумала: «Та женщина с белоснежным лицом и сапфировыми глазами дурно с ним обошлась. Возможно, это нехорошо, но я желаю ей смерти, потому что тогда он будет не только меня любить, но и открыто в этом признается».
– Ты вернулся! – воскликнула она по-арабски. – О, мой повелитель! Разве я не говорила тебе, что мы встретимся снова, разве я не чувствовала, как ты с каждым днем все ближе ко мне, и потому оторвала моих воинов от их садов и просидела здесь все три последних дня?
– Да, Тама, я вернулся, – ответил он чуть дрогнувшим голосом.
– И это все, что ты хочешь сказать? – удивилась она, с сомнением и на лице, и в голосе. – Надолго ли ты вернулся? Вдруг ты пробудешь здесь всего ночь, или неделю? Быстро отвечай мне, надолго ли ты вернулся?
– Не знаю, – ответил он, – все зависит от тебя. Думаю, что на всю мою жизнь, если ты разрешишь мне остаться в твоем услужении.
Из груди Меа вырвался облегченный вздох.
– О, оставайся на всю эту жизнь, и если хочешь, то и на следующую. Оставайся до тех пор, пока горы не рассыплются и не превратятся в пустыню, а Нил направит свои воды через Таму, главное, чтобы я оставалась с тобой. Но что ты хочешь сказать? Как ты можешь быть мне слугой, если ты кто-то другой? – и она махнула рукой вверх.
– Меа, – произнес он, – ты должна понять. Теперь я бедняк. В этом мире у меня ничего нет, и даже те крохи, какие у меня есть, я не могу получить, так как обещал быть для этого мира мертвым, и попроси я себе мои деньги, как все узнали бы, что я жив. Взгляни, это все, что у меня есть, – и, сунув руку в карман, он извлек оттуда семь с половиной пиастров, – это, пистолет и хромой верблюд. Я должен был отказывать себе во всем, чтобы протянуть на моих деньгах от Лондона до Тамы, и как ты видишь, даже отправился в путь через пустыню в одиночку. Я должен зарабатывать себе на хлеб, но я вспомнил твою доброту и твои слова, что ты всегда рада меня видеть, и подумал: «Я вернусь назад к своей дорогой Меа и попрошу ее, чтобы она разрешила мне взять на себя заботу о ее землях, а взамен дать мне дом, в котором я мог бы жить, и немного пищи, и если благодаря моим стараниям она сможет продать урожай с большей выгодой, чем обычно, то я попрошу себе небольшой процент с выручки и куплю себе книг и новую одежду». Не знаю даже, не слишком ли много я у тебя прошу, – смиренно добавил он.
– Нет, – ответила Меа, – я не думаю, что ты просишь слишком много, ибо ты мог иметь гораздо больше, но мы можем позднее заключить наш договор. А пока, мой слуга, я нанимаю тебя до конца твоих дней, ты же на счастье угостишь меня ужином, который ты готовишь в котелке, ибо я голодна. Впрочем, нет, – добавила она, – я забыла. Это я должна угостить тебя, а Анубис, который любит тебя больше, пусть получает твой ужин.
И она хлопнула в ладоши. Из темноты тотчас же вышли пятеро воинов и подозрительно посмотрели на Руперта. Меа с яростью набросилась на них.
– Кто вы? Камни в пустыне или стволы пальм? – крикнула она. – Что вы стоите неподвижно? Лежать, псы, и принесите клятву верности своему господину, который вернулся, чтобы править вами!
Они не стали мешкать или ждать, чтобы она повторила свой приказ, ибо было в ее глазах нечто такое, что подсказало им, что лучше всего быстро ей подчиниться. Впрочем, эта клятва была им не в тягость, ибо все они любили и почитали Руперта как великого и храброго воина, который спас жизнь их повелительницы и ее честь. Поэтому они распростерлись перед ним на песке и, несмотря на его протесты, положили руки ему на ногу и на восточный манер признали себя его слугами.
– Довольно, – сказала Меа, – пусть один из вас вернется в лагерь и приведет мою кобылу, чтобы моему господину было на чем ехать, и вели эмиру, чтобы тот выслал навстречу своих воинов, дабы приветствовать его.
Воин стремглав бросился выполнять ее распоряжение, другие отошли, чтобы посмотреть, в чем там дело с верблюдом, и повели его в лагерь.
– Меа, Меа, – укоризненно произнес Руперт, – ты ставишь меня в двусмысленное положение. Я всего лишь нищий бродяга, и из семи пиастров, что у меня есть, чем я могу одарить этих людей, которых ты заставляешь оказывать мне знаки почтения, как если бы я был султан?
– Ты можешь подарить им лучший из даров, тот, что ты уже подарил мне, – самого себя. Давай поймем друга, Руперт-бей. Ты, если хочешь, можешь называть себя моим слугой, я не стану с тобой спорить, ибо не могу найти слово лучше. Но со мной ты господин моего народа, ибо, если бы не ты, меня давно бы среди них не было.
– Как такое может быть? – пробормотал он. – Ведь я не могу просить тебя… – выражение его лица поведало ей все остальное. Ее рука слегка дрогнула.
– Она все еще жива? – спросила Меа, в упор на него глядя.
Руперт кивнул.
– И ты по-прежнему считаешь себя связанным с ней узами брака?
– Да, Меа, согласно моему закону и моему обету, ни один из которых не может быть нарушен.
Она шагнула ближе и заглянула ему в лицо.
– Ты по-прежнему ее любишь, Руперт?
– Нет, – коротко ответил он. – Она жестоко обошлась со мной. Для меня она почти что мертва.
– Понятно. И ты любишь другую женщину?
– Да, Меа, – ответил он и кивнул головой.
– Вот как! И как же ее имя?
Руперт огляделся по сторонам, как будто искал глазами путь к бегству, и не найдя такового, ответил:
– Ее имя – твое имя и ничье другое. Но, молю тебя, сжалься над моей слабостью. Помни, что эта одинокая стезя трудна, и не прогоняй меня назад в пустыню.
Она слегка склонила голову, а когда подняла ее снова, в свете костра и звезд над головой он увидел, что лицо ее сияет великой радостью.
– Не бойся, Руперт, – сказала она, – Неужели мой путь настолько легок, что я хочу усеять терниями твой? Я всем довольна. Говорю тебе, я всем довольна. Это лучший, наисчастливейший час в моей жизни, он сияет надо мной, как та звезда. Я отдаю себе отчет в том, что ты велик и благороден, и сердце твое полно любви, но ты отрекаешься от своего сердца. Должна ли я тогда отречься от моего или стану пытаться очернить твою честь в твоих же собственных глазах? Нет, лучше я погибну или – что еще хуже – расстанусь с тобой. Каков был наш уговор? Что мы с тобой будем как брат и сестра, объединенные любовью сотни мужей и сотни жен. Уговор этот останется в силе, я не озлоблюсь и не ожесточусь. Вот только я боюсь себя, Руперт, боюсь, что когда моя красота начнет увядать, ты, привязанный ко мне лишь духом, ты, кому не увидеть меня заново рожденной в детях, можешь устать от этой ревнивой полудикой дочери пустыни, ибо я знаю, что моя ревность никуда не денется.
Наступил его черед сказать свои слова.
– Не бойся, Меа, не бойся. Сломленное тело и сломленный дух вернулись домой вместе, вернулись к тебе, словно ласточка весной, и не станут искать себе другого гнезда.
– Во имя Бога да будет так, – сказала она.
– Во имя Бога так и есть, – ответил он.
Таков был их брак, заключенный среди песков пустыни и под ее звездами, которые были менее вечными, нежели данный ими обет. Как потом показала жизнь, это был самый странный и одновременно самый счастливый и благословенный брак, когда-либо заключенный между мужчиной и женщиной – по крайней мере, им самим так казалось.
Ведь разве не бываем мы слепы и не обманываем себя? Движимые импульсами, порожденными не нами самими, но которые необходимы для нашего рождения, мы следуем за плотью и нередко озлобляемся, а ведь будь наши глаза открыты, мы бы следовали путем духа, познавая куда большую радость, какую дарит только этот путь. Хотя, кто знает, вдруг путь этот не предусмотрен для нас? Что если когда-то, в целях, которые нам неведомы, плоть была сделана нашей властительницей, которая правит нами, подобно тому, как дух будет править в царстве грядущем? Кто скажет?
Точно известно лишь одно: эти двое, хотя и не без трудностей, постоянно оглядываясь назад и ведя борьбу с собой, убежали к границам того царства. Там, до времени, они обитали в такой удовлетворенности, какая дана немногим, глядя вперед, все время глядя вперед, к тому дню, когда, как им казалось, они рука об руку встанут на путь славный и вечный, и из горького семени самоотречения, посеянного в муках и орошенного тайными слезами, они пожнут золотой урожай и увенчают себя белыми, бессмертными цветами, какие жирная почва страсти не способна породить, плоть же не может даже надеяться, что ее быстро вянущие, с удушливым запахом маки способны тягаться с их красотой и тонким ароматом.
Ибо в самый жестокий час его жизни, в час потери близкого человека, в час насмешек и упреков, когда Руперт с тоской смотрел на серые воды реки и те явили ему лицо Меа, хотя сам он тогда этого не знал, в этот час родилась самая чистая радость, какая только была дарована ему в этой жизни. Эдит никогда не была так добра к нему, как в тот момент своей неверности, ибо рядом с ней все лучшее, что было в нем, наверняка увяло бы, а все, что было слабым и мирским, еще громче заявило бы о себе. Оттолкнув его от себя, она отдала его Меа. Она отняла у него мир, в котором он был воспитан, с его фальшивым блеском или более фальшивой цивилизацией, его ядовитым стремлением к победе, купленной ценой крови сердец тех, кто слабее, с его безумной жаждой почестей, богатства и положения, достигнутых любой ценой и удерживаемых любыми средствами, пока, подобно сломанным игрушкам, время не сметет их обладателей в мусорную кучу. Вместо всего этого она подарила ему пустыню и россыпь звезд над головой, подарила ему то, в чем мы все так отчаянно нуждаемся: время задуматься о вечных истинах нашего бытия, время раскаяться в содеянных грехах – до того, как нас призовут отчитаться за них. Да, отняв у Руперта лихорадку земли, Эдит дала отведать ему вкус внутренней гармонии и умиротворения.
* * *
Руперта привели в лагерь у входа на Черный Перевал, где он был встречен с ликованием и почетом: воины потрясали копьями и радостно что-то выкрикивали. Ему невольно подумалось, что это совершенно иной прием, нежели тот, что ждал его в родном городе на берегах Темзы, таком огромном и многолюдном, что даже короли могут проехать сквозь него никем не замеченные, в городе, где даже самые достойные люди мало что значат.
В ту ночь он ужинал вместе с Меа и Бахитой, и когда старуха ушла проследить, как ставят его шатер, он рассказал Меа про свою жизнь от начала и до конца, рассказал, ничего не утаив, даже прегрешения своей юности, ибо считал, что между ними не должно быть никаких тайн и недопонимания. Она слушала молча, пока он не дошел до рассказа о том, что случилось с ним в то жуткое воскресенье в Лондоне, о том, как Эдит отвергла его, умоляя «и дальше оставаться мертвым». Услышав это, Меа не выдержала.
– Я должна поблагодарить ее, – сказала она, – хотя здесь мы бы такую женщину убили. Скажи, Руперт-бей, был ли с ней тот другой мужчина, твой кузен, о котором ты мне говорил?
– Откуда мне знать? – ответил Руперт. – Впрочем, на столе лежала перчатка, вроде тех, что он обычно носил, а до меня в комнате явно кто-то курил.
– Я так и думала, – сказала Меа, – иначе она разговаривала бы с тобой по-другому. Хотя, конечно, ты больше не был ни богат, ни знаменит, что для таких женщин, как она, быстро все меняет.
– Моя жена никогда бы не запятнала себя, – гордо произнес Руперт.
– У твоей жены уже не было мужа; для всех ты был мертв, – возразила Меа.
– Я и сейчас для них мертв.
– Для них – да, для меня нет. Для меня ты жив.
В этот момент Бахита, которая вот уже два часа ждала снаружи на холоде, вошла и саркастически заметила, что палатка Руперта давно готова. Он тотчас понял намек и ушел. Бахита проводила его взглядом, затем повернулась к Меа и спросила:
– Итак, племянница, о чем вы договорились?
Меа рассказала ей, и суровая Бахита расхохоталась.
– Странные дети, однако, вы двое, – сказала она. – Но кто посмеет сказать, что в вашей детскости нет мудрости, ибо вы узнали, что помимо мимолетных чувств есть и другие вещи? По крайней мере, вы, похоже, счастливы… пока.
– Да, пока я счастлива, и буду счастлива в будущем и всегда, – ответила Меа.
– Ну что ж, хорошо, хотя, если ты не переменишь своего решения и не выйдешь замуж за другого мужчину, древняя линия на тебе оборвется.
– Я не выйду замуж за другого мужчину, Бахита.
– Нет, так нет. Почему бы древней линии не оборваться? У всего есть конец, даже у богов Египта. В противном случае, новые вещи просто не могли бы начаться. Это не так уж и важно, главное, чтобы вы были счастливы. Но хотя ты и нашла свою новую веру, больше не смей смеяться над моей древней магией. Разве зачерпнувшая воды лодка не вернулась к тебе той ночью?
– Вернулась, Бахита. И когда она отплывет вновь, моя отплывет вместе с ней. Я не смеюсь ни над чем. Старая вера или новая, все они тени одной истины – для тех, кто в них верит, Бахита.
* * *
О, счастливая, счастливая жизнь началась для этих двоих этой ночью. Вскоре Руперт поселился в небольшом домике недалеко от дома Меа и взял на себя заботу об обширных заброшенных землях. Он трудился от зари до зари, и они расцвели, словно роза, и в оазис Тамы потекло богатство. Затем, по вечерам, когда дневные его труды были окончены, они с Меа делили вечернюю трапезу, разговаривали, читали, что-то вместе изучали, и с каждым днем вместе набирались мудрости. Однако в урочный час они пожимали друг другу руку и расставались, чтобы на следующее утро продолжить эту мирную, благословенную жизнь.
Он был ее миром, ее жизнью, алтарем ее веры, от которого в бесконечном пожертвовании к небу поднимались сладчайшие благовония. Она же была его любовью, его светом, его звездой – все такой же недостижимой, как и положено быть звездам.
Глава XIX. Спустя семь лет
Во вторник после воскресного ленча с Эдит, Дик, как и обещал, приехал к ней на Брук-стрит, на сей раз на чай. Увы, Эдит он застал чем-то расстроенной. Будучи в подавленном настроении, она даже не торопилась отвечать на проявления его чувств. Спросив у нее, в чем дело, он так и не добился от нее внятного ответа. В конце концов, он ушел от нее злой и даже подумал, что из всех его знакомых женщин, Эдит – самая непонятная и непостоянная.
Так тянулось какое-то время, разговоры перемежались с письмами, содержащими довольно откровенные намеки по поводу того, что произошло между ними, пока, наконец, загнанная в угол, Эдит не заявила, что причиной ее странного поведения является сон, в котором ей снилось, что Руперт жив и здоров. Разумеется, Дик посмеялся над ее сном, однако Эдит еще три месяца ссылалась на него, чтобы избегать общения с ним. Наконец настал день, когда увиливать стало невозможно.
Дик заявил, что шесть месяцев молчания, о которых она просила, давно прошли, и потому предложил объявить, как то было принято, об их помолвке.
– Не смей! – воскликнула Эдит, вскакивая со стула. – Я тебе запрещаю. Если ты так поступишь, я дам опровержение и никогда больше не заговорю с тобой.
Терпение Дика лопнуло, и он вышел из себя. Даже для Эдит эта вспышка гнева была в новинку, ибо таким разъяренным она его ни разу не видела. Он кричал на нее, обзывал дурными словами, каких она никогда не слышала в свой адрес. Он заявил, что она продажная женщина, вышедшая замуж за Руперта Уллершоу исключительно ради положения и денег, теперь потехи ради пытается разбить его, Дика Лермера, сердце; что она всегда была его проклятьем, что он надеется, что когда-нибудь она поплатится за это, и далее в том же духе.
Эдит обычно было свойственно завидное самообладание, но на этот раз нервы ее сдали. Грубость Дика превзошла границы ее терпения. Еще бы, ведь ей ни разу не доводилось слышать в свой адрес такого потока угроз и гнусных оскорблений. От испуга она во всем призналась.
– Я не могу выйти за тебя замуж, – сказала она, – что, возможно, даже к лучшему, ибо я не намерена терпеть такое.
– Проклятье! Почему нет? – удивился Дик. – Ты больна или собралась в монастырь?
Она резко обернулась к нему.
– Нет, причина гораздо серьезнее, чем эти две. Потому что женщина не может иметь двух мужей. Руперт жив.
Гнев Дика моментально испарился, он разинул рот и побледнел.
– Откуда ты знаешь? – спросил он.
– Потому, что я видела его здесь. Он пришел сюда примерно через час после того, как ты ушел от меня в воскресенье, 31 декабря.
– Ты имеешь в виду свой сон?
– Нет, я имею в виду Руперта из плоти и крови, с отрубленной ногой и выжженным глазом.
– Тогда где он сейчас? – спросил Дик и даже оглянулся по сторонам, как будто ожидал, что Руперт сейчас появится из-за портьеры.
– Не знаю. Понятия не имею. Может быть, в Англии, может быть, в Египте или на дне морском. Мы… мы не общаемся.
– Думаю, тебе лучше рассказать мне всю правду, – мрачно произнес Дик. – Так будет лучше для нас обоих.
И она рассказала все, почти слово в слово передав их с Рупертом разговор. Дик с его богатым воображением легко нарисовал себе сцену, произошедшую здесь, в этой самой комнате. Он представил, как несчастный, искалеченный Руперт, ковыляя на костыле, выходит в холодную лондонскую ночь, прочь от жестокой женщины, на которой он женился по наивной любви. Эта картина заставила его сердце дрогнуть. Он даже раскаялся в том, что был косвенно причастен к этой печальной истории.
– Бедняга! – воскликнул он. – И чтобы он «и дальше оставался мертвым», ты сказала ему, что помолвлена с другим мужчиной?
– Нет! – возмутилась Эдит. – Только не это! Я бы не выдержала. Мне и так было неприятно смотреть на него. Меня мутило. К тому же, – продолжала она, – что он мог мне предложить? От его репутации ничего не осталось, от положения и денег, на которые я рассчитывала, – тоже.
– А ты откровенна. Но есть ли в этом его вина? – сухо спросил Дик. – Видишь ли, бедняга Руперт всегда был жутким болваном. Я вполне допускаю, что он считал, что ты вышла за него замуж ради него самого. Право слово, это смешная история. Но, Эдит, ты задумывалась о том, что такой человек, как он, должен считать тебя сущим исчадием ада?
– Мне все равно, кем он меня считает, – заявила Эдит, выходя из себя. – Все изменилось, я не могла жить с ним как с мужем, тем более что нам было бы просто не на что жить.
– Тебе кажется, что тебе все равно, но что, если однажды ты изменишь свое мнение? – насмешливо произнес Дик. – Кстати, а что теперь? Должен ли я держать это в секрете?
– Думаю, да, ради себя самого, – ответила Эдит и многозначительно добавила: – Пока Руперт мертв, а я уверена, что он и останется «мертвым», между тобой и многомиллионным наследством стоит лишь жизнь одного ребенка. Если же Руперт жив, это все коренным образом меняет, и наверно тебе нет смысла его «воскрешать».
– Будет видно, – сказал Дик. – Но, разрази меня гром, Эдит, – тебе не занимать хладнокровия, – добавил он и не без восхищения посмотрел на нее. – А теперь скажи мне честно, какие отношения ждут нас с тобой в будущем? Согласись, с моей стороны было бы довольно рискованно стать вторым мужем при первом живом, ибо такие типы, как Руперт, имеют привычку внезапно появляться вновь. Похоже, наш с тобой брак исключается?
– Абсолютно! – ответила Эдит.
– В таком случае, могу я спросить, на что мне можно рассчитывать?
– Ни на что, – решительно ответила Эдит. – Даже не думай, будто я соглашусь на сомнительного рода отношения с неизбежным концом.
– А что за неизбежный конец, моя дорогая?
– В том, что касается мужчин, их неверность и публичный скандал.
– Ты не слишком добра ко мне сегодня, Эдит, хотя, возможно, и права. Все эти тайные интрижки, как правило, кончаются плачевно. Причем, для обеих сторон. А теперь, посмотри, к чему привело твое желание получить все на свете. Ты вышла замуж за Руперта, которого не любила, отказалась быть его женой, потому что ему отрубили ногу, а у Дэвена родился наследник. Ты согласилась стать моей женой, ведь, по крайней мере, до сегодняшнего дня, ты меня любила, но теперь отказываешься, но не из соображений высокой морали, что было бы достойно уважения, а из страха возможных последствий. Сдается мне, есть только один человек, с кем ты готова остаться навсегда, и это твоя собственная бесценная персона. Что ж, желаю тебе не разочароваться в своем выборе, Эдит, но скажу тебе как твой искренний друг: лично мне не известен никто, кто бы держал в руках лучшие карты, нежели, ты, а потом бросил их под стол. Теперь остался лишь стол – прекрасный, полированный стол, в отражении которого ты можешь любоваться на свое хорошенькое личико, пока тебе это не наскучит. И еще одна вещь. Я не стану ревновать, ведь то, что касается меня, касается и любого другого мужчины. Поскольку твой муж недостаточно для тебя хорош, тебе придется обходиться без всех нас. А вот будут ли у тебя причины ревновать меня, это уже другой вопрос. Надеюсь, тебе все понятно, дорогая?
– Дик, ты видишь дверь? – спросила Эдит, указывая на нее.
– О, какой великолепный жест! – насмешливо воскликнул он. – В духе нашей лучшей местной женской трагедии. О, как же я забыл, ты ведь совсем недавно отточила его с беднягой Рупертом! Что ж, спешу последовать его примеру. Прощай, Эдит! – И с учтивым поклоном Дик вышел за дверь.
Сказать, что он оставил Эдит разъяренной, значит, ничего не сказать, ибо выпущенные им ядовитые стрелы и копья привели ее в такую ярость, что единственным облегчением для нее стали слезы.
«Если бы не он, – подумала она, немного успокоившись, – вряд ли бы я выставила Руперта за дверь. И что я получила в награду? Более того, я была круглой дурой. По крайней мере, Руперт – джентльмен, чего не скажешь про Дика. Нынешние доктора с их умениями вполне могли привести Руперта в презентабельный вид. Что касается порученной ему миссии, он вполне мог объяснить министру свою неудачу, ибо я уверена, что он не сделал ничего предосудительного, и, возможно, в конце концов, даже мог бы стать лордом Дэвеном. Вместо этого, где я сейчас? Молодая вдова, которая не может снова выйти замуж и до конца своих дней вынуждена голодать, живя на жалкую тысячу фунтов в год. Ну почему судьба так жестоко обошлась со мной? Не иначе как она точит на меня зуб. О, как же все это печально! Что касается Дика, то я ненавижу его даже сильнее, чем Руперта».
Так она сказала и подумала. И все же в последующие годы, по крайней мере, внешне, эта пара помирилась, как бывало с ними не раз. Эдит оставалась тверда в своем намерении не впутывать себя в сомнительные связи, Дик же, в своей роли светского льва, при любой возможности старался разубедить ее, доказывая, что Руперт наверняка мертв, и они могут безбоязненно пожениться. Увы, твердость Эдит подпитывалась самим Диком, который со временем отнюдь не становился лучше.
Начнем с того, что от броской красоты, которая отличала его в юности, ничего не осталось. Он растолстел, и как частенько бывает с теми, в чьих жилах течет южная кровь, кто любит засиживаться допоздна, кто пьет больше, чем полезно для здоровья, и в целом ведет бурную жизнь, приобрел вид, который лучше всего можно описать словом «потасканный». Цвет лица потускнел, приобретя восковой оттенок, под глазами, некогда столь прекрасными и выразительными, залегли глубокие, темные морщины, волнистые, каштановые волосы потемнели, а на макушке просвечивала лысина. Короче говоря, через семь лет после описанного выше разговора Дик Лермер являл собой немолодого мужчину довольно неприятной наружности, который ни в малейшей степени не отвечал утонченным эстетическим вкусам Эдит. Более того, репутация соответствовала его внешности. В своем стремлении иметь как можно больше денег, чтобы вести вошедший в привычку экстравагантный образ жизни, к тем первоклассным компаниям, в которых он был директором, Дик добавил другие, сомнительного характера, и в связи с одной из них угодил в крупный скандал, выпутаться из которого ему помог лорд Дэвен. В парламенте, членом которого он по-прежнему являлся, вскоре поняли, что Дик – совершенная пустышка, и отвели ему роль заурядного заднескамеечника. И наконец, здоровье его пошатнулось до такой степени, что врачи сочли своим долгом предупредить его, что если только он не изменит образа жизни, то печеночные колики, коими он страдал, выльются в нечто более серьезное. А пока те лишь усугубляли его желчный характер.
* * *
Более семи лет минуло с того дня накануне Нового года, когда, отвергнутый Эдит, Руперт навсегда вытер со своих подошв лондонскую грязь. На лорда Дэвена внезапно обрушился новый удар, погасив последние искры его гордого, хотя и озлобленного духа. Совершенно неожиданно его единственный сын – других детей больше не родилось – славный, красивый мальчик, в котором лорд не чаял души, слег с какой-то болезнью мозга, и та, несмотря на все усилия врачей, в течение недели свела мальчика в могилу. Так получилось, что Руперт, которого считали умершим, вновь стал потенциальным наследником титула и состояния Дэвенов.
Мать мальчика восприняла смерть сына со свойственной ей стойкостью и терпением. Она никогда не рассчитывала, что он проживет долго, и его болезнь не стала для нее неожиданностью. А вот лорда Дэвена этот удар окончательно подкосил. Привычный скепсис оставил его, и он лишился своего последнего утешения. Еще бы, ведь теперь вместе с ним не только умрет титул, но и состояние, которое он не сможет завещать кому-то еще, перейдет в руки этого жалкого червя Дика Лермера. В таких обстоятельствах мысли лорда вновь обратились к его незаконной дочери Эдит. Лорд Дэвен послал за Диком и хотя всей душой презирал и ненавидел этого человека, предложил ему на ней жениться. Истинных причин своей просьбы он, разумеется, называть не стал.
– Сдается мне, тебе пора остепениться и обзавестись семьей, – сказал он, – то же самое касается и Эдит. Сколько можно оставаться вдовой. Когда меня не станет, ты будешь богатым человеком и в этой безгрешной и добродетельной стране легко купишь себе право на старый титул. Пятьдесят тысяч фунтов, благоразумно потраченных на дела партии, помогут вернуть его примерно через год – даже тебе. Что ты на это скажешь?
– Только то, что в течение последних семи лет я пытался жениться на Эдит, но она упорно отвергала меня, – ответил Дик.
– Это почему же? Мне казалось, ты ей нравишься.
– Вы хотите сказать, нравился. Когда-то, может, и да, но только не теперь.
– А, она наверняка наслышана про твою жизнь, как и многие из нас. Но возможно твои новые перспективы… – сказав эти слова, лорд поморщился, – изменят ее отношение.
– Сомневаюсь, – буркнул Дик. – Она вбила себе в голову безумную идею: мол, Руперт все еще жив.
Лорд Дэвен посмотрел на него так пронзительно, что Дик тотчас пожалел, что сказал эти слова.
– Это и впрямь безумная идея, Дик, – согласился лорд, – тем более, после стольких лет. Никогда бы не подумал, что Эдит склонна к таким странностям. Предлагаю тебе постараться переубедить ее. Подумай, что ты можешь сделать, и мы с тобой попозже это обсудим. А пока ступай, я устал.
Когда дверь за Диком закрылась, лорд Дэвен принялся мысленно складывать кусочки разных слухов, которые доходили до него за последнее время, но которые он в своем горе забыл. Например, он прочел в газете о неком белом человеке, якобы бывшем офицере, который много лет назад был объявлен погибшим, но на самом деле жив и теперь правит оазисом посреди пустыни. Что, если этот белый человек – Руперт? Не могло ли случиться так, что письмо, которое он, лорд Дэвен, отправил ему в день свадьбы и в котором рассказал правду о том, кто настоящий отец его жены, насколько расстроило Руперта, что тот решил не возвращаться к ней? Разумеется, это звучит невероятно, и все же… Наверно, ему следует кое-кого расспросить.
И он заказал экипаж и поехал в клуб, где в это время дня часто встречал лорда Саутвика. Ему повезло: в курительной комнате, практически пустой, первым, кого он увидел, был Саутвик. Они не разговаривали со дня смерти его сына, и лорд Саутвик поспешил принести ему свои соболезнования.
– Не говорите об этом, мой дорогой друг, – ответил Дэвен, – с вашей стороны это весьма любезно, но эта тема для меня невыносима. Я возлагал на этого ребенка все мои надежды, и вот теперь они разбиты. Будь жив полковник Уллершоу, я мог бы найти крохи утешения, но полагаю, что и он тоже мертв.
– Что значит, вы полагаете? – резко спросил лорд Саутвик.
– Что ж, если вам интересно знать, последнее время мне в голову приходили кое-какие мысли. Скажите честно, вы ничего не слышали?
– Слышал и даже хотел поговорить с вами на эту тему. Недавно мне стали известны довольно странные вещи. Прежде всего, мы выяснили, что все те россказни, которые Дик Лермер вложил в голову моего покойного начальника, – полная чушь. Несколько месяцев назад тот египетский сержант, Абдулла, получил смертельное ранение и перед смертью признался в своей лжи. На самом деле он сбежал в самом начале схватки Уллершоу с теми арабскими головорезами. Поэтому никак не мог видеть, как того убили.
– Но что за россказни Лермера, которые тот наговорил министру?
– То, что Уллершоу приударил за хорошенькой местной женщиной и даже взял ее в свой караван. Лермер намекнул, что в этом нет ничего удивительного, ибо за Уллершоу водился такой грешок, и мы по наивности поверили ему. Помнится, тогда мой начальник был страшно зол на вашего кузена. Теперь же, из заявления Абдуллы, которое египетские власти отправили нам, добавив, что делают это «с тем, чтобы снять пятно бесчестья с доблестного офицера», следует, что во время путешествия через пустыню Уллершоу лишь взял под свое крыло двух беззащитных женщин, потому что подумал, что их присутствие в караване сделает его «торговую» экспедицию более убедительной.
– Понятно, – сказал лорд Дэвен, и мысленно про себя добавил: «И снова этот Дик! Трусливый, вероломный негодяй! Интересно, есть ли что-то еще?»
– Да. Вероятно, вы помните, что в парламенте говорилось, что эта неудачная экспедиция обошлась казне в две тысячи фунтов. Так вот, в течение предыдущего года ей было возвращено две тысячи фунтов. Источник этих денег мы не смогли проследить, но к чеку прилагалась записка следующего содержания: «Эти деньги призваны компенсировать расходы на отправку дипломатической миссии к неким вождям на границах Судана, на закупку снаряжения и провианта и прочие необходимые траты экспедиции под командованием подполковника Руперта Уллершоу, кавалера ордена Бани. Взнос сделан человеком, который желает снять с его имени пятно, которое легло на него по причине растраты общественных денег». Кто перевел в казну эти деньги, вы или его вдова?
– Боже упаси! – ответил лорд Дэвен не без привычного для него сарказма. – Неужели мы похожи на тех, кто вернет государству долг, который оно не имеет юридических оснований нам предъявить? Откуда поступили эти деньги?
– Из банка, куда, как нам было сказано, они пришли из их филиала в Египте. Далее, до нас дошли донесения о том, что оазисом Тама, который никто не посещал на протяжении нескольких поколений, управляет некий белый мужчина, якобы в прошлом офицер британской армии, хотя номинально главой племени является женщина. Эта женщина, чье имя Меа, или же Тама, как и ее владения, недавно обратилась к правительству Египта, требуя предоставить ей защиту, а взамен обязалась платить налоги. Судя по стилю письма, оно никак не могло быть написано арабкой, поэтому туда отправили чиновника, разведать, что там и как. Прибыв в оазис, командированный обнаружил, что тот представляет собой цветущий сад, кстати, весьма богатый благодаря торговле финиками, солью, лошадьми и другими товарами, которую местные жители ведут с другими племенами. Правда, белого мужчину он так и не увидел, а все вопросы о нем вежливо оставлялись без ответа. Тем не менее, из дошедших до него слухов, известно, что такой человек существует. Это все, что я могу вам рассказать, хотя вам, пожалуй, будет интересно продолжить расследования. Я очень надеюсь, что вы так и поступите, и еще больше – что Уллершоу окажется жив. Если хотите знать мое мнение, с ним жестоко обошлись, и вполне вероятно, что такой честный человек, как он, зная это, не стал защищать себя, а предпочел пропасть без вести.
– Спасибо, я так и поступлю, – ответил лорд Дэвен и, вернувшись домой, написал Эдит записку, в которой велел ей приехать к нему.
Глава XX. Откровения
Так случилось, что Эдит, как назло, на неделю уехала погостить к друзьям в Корнуолл и потому смогла выполнить требование лорда Дэвена лишь по возвращении в Лондон. Приехав в дом к лорду, она пришла в ужас от перемен в его внешности.
– Вы считаете, что у меня больной вид? – спросил он, прочтя ее мысли.
– Боюсь, что да, кузен Джордж, – ответила она, глядя на его белые, как снег, волосы, сгорбленную фигуру и осунувшееся лицо, отмеченное печатью горя и усталости.
– Видите ли, я уже далеко не молод. Недавно мне стукнуло семьдесят. Но это еще не самое худшее. Ко мне вернулась моя немезида-бессонница. Я вот уже шесть ночей почти не смыкал глаз. Последнее несчастье – смерть сына – окончательно добило меня, и теперь мне все равно, сколь скоро я последую за ним в могилу. Думаю, чем раньше, тем лучше. Да-да, чем раньше, тем лучше.
– Не надо так говорить, – мягко сказала Эдит. – Думаю, вы проживете еще много лет.
– Нет, не лет, и даже не месяцев. Мне остались лишь считаные недели, – задумчиво ответил он. – Мой путь практически завершен, чертово колесо скоро остановится. Но… – быстро продолжил он, не давая ей вставить даже слово, – я послал за вами, чтобы поговорить о ваших делах, а не моих. Почему вы отказываетесь выйти замуж за Дика Лермера?
– Вы считаете его достойным женихом, кузен Джордж?
– Нет, конечно. Последнее время он пустился во все тяжкие и не производит впечатления праведника, не так ли? Более того, если вам интересно мое личное мнение как его родственника, который имел честь поддерживать его на протяжении двух десятков лет, должен сказать, что такого редкостного проходимца еще нужно поискать, и я никогда не понимал, что вы в нем нашли.
– Тем не менее вы предлагаете мне выйти за него замуж?
– Как вы знаете, вскоре он станет весьма состоятельным человеком, и вы могли бы иметь свою долю. Но как я понимаю, вы отказываетесь.
– Да, – решительно заявила Эдит, – отказываюсь. Когда-то он мне нравился, но я выросла из этого чувства, и теперь он мне неприятен. Забавно, как мы меняемся в своем мнении. Жаль только, что я не разглядела правду раньше.
– Я тоже сожалею. Случись это раньше, возможно вы бы предпочли поехать в Египет, а не остались бы дома. Что ж, коль вы наотрез отказываетесь совершить грех двоемужества, что, согласен, было бы действительно ужасно, почему бы вам не помириться с Рупертом?
Эдит ахнула и тяжело откинулась на спинку кресла.
– Как вы сме… в смысле, что вам известно? – воскликнула она. – Это Дик рассказал вам?
– Ого! – произнес этот седовласый старец и насупил белоснежные брови. – Выходит, мастер Дик, как говорится, сунул палец и в этот пирог, я прав? То есть, он не только убил Руперта, но и похоронил его?
– Убил!
– А как еще вы бы назвали то, что из-за него Руперта в день женитьбы отправили в Египет с крайне опасной миссией. А когда та провалилась и Руперта сочли погибшим, он воспользовался случаем, чтобы влить в уши его начальства яд и тем самым очернить его память?
– Он действительно все это сделал? – задумчиво спросила Эдит.
– Разумеется. Если хотите, я изложу вам это во всех подробностях. Но вернемся к Руперту. – Он умолк и наугад выпустил стрелу: – Что случилось, когда вы его увидели?
– Значит, Дик рассказал вам, – задумчиво произнесла Эдит. – Если он солгал в одном, то солжет и в другом. Зачем вынуждать меня повторять эту историю?
– Потому, что я хочу услышать ее из первых уст. Что произошло и когда именно?
– Более семи лет назад, – хрипло произнесла Эдит. – Руперт вернулся в воскресенье, накануне Нового года, вскоре после того как Дик приезжал ко мне на ленч. В ужасном грязном платье, с длинными, спутанными волосами, как у дикаря. Местные суданские дикари отрубили ему одну ногу и выкололи левый глаз. Они издевались над ним, потому что он отказался принять их магометанскую веру.
– А! – произнес лорд Дэвен. – Лично я считаю, что магометанская вера имеет свои положительные стороны. Бедняга Руперт, он мог бы иметь много женщин. И что дальше?
– Дальше? Он показался мне ужасным. Я едва выносила его как друга. Но как мужа… ну, вы знаете.
– Мне показалось, вы сказали, Эдит, что до этого у вас в гостях был Дик. Как я понимаю, он предложил вам то, что Совет директоров назвал бы альтернативой?
– Он предложил мне выйти за него замуж, – ответила Эдит, понурив голову.
– Со всеми вытекающими последствиями, как я понимаю, и, вероятно, даже не получил резкий отказ. Ведь он был куда привлекательнее, не так ли? Что ж, не сомневаюсь, что в тех обстоятельствах обыкновенный мученик в одежде с чужого плеча и без ноги показался бы ужасным любой утонченной молодой женщине. Мужья обычно предстают такими в глазах своих жен, которые, следуя неким тонким женским инстинктам, влюбляются в кого-то другого. Но что стало с нашим мучеником? Он сейчас проповедует свет христианства среди темных, непросвещенных магометан?
– Вы жестоки ко мне, – сказала Эдит и всхлипнула.
– В таком случае, дорогая Эдит, берите пример терпения с нашего мученика, который ради чистой совести без жалоб перенес гораздо больше страданий, и отвечайте на мой вопрос.
– Я сказала ему, – еле слышно прошептала она, – что коль он мертв, ему лучше оставаться мертвым и дальше. И он ушел. Я не знаю, что с ним стало, жив он или нет.
– В таком случае, позвольте мне успокоить ваше разбитое сердце. Насколько мне известно, если только я не ошибаюсь, наш храбрый Руперт в настоящее время обитает в оазисе под названием Тама, это где-то в пустыне недалеко от границы с Суданом. Не могу точно сказать вам, где находится это место, но при желании, думаю, можно уточнить. Более того, он преуспел гораздо лучше большинства мучеников, ибо сделал донельзя широкий жест, а именно вернул в казну две тысячи фунтов, которые никому не был должен, причем, довольно глупым, обходным путем. Кстати, надеюсь, вы не требовали выплаты денег по страховке? Нет? Считайте, что вам повезло, иначе вы могли навлечь на себя неприятности. Ладно, живя, как я подозреваю, в свое удовольствие в этом счастливом оазисе, где он помогает его прекрасной правительнице править примитивным племенем, которое выращивает для них финики и производит соль, Руперт, похоже, в известной мере изменил своим железным принципам, коль связал себя морганатическим браком, на что в данных обстоятельствах вы не имеете права жаловаться.
– Я в это не верю, – довольно энергично заявила Эдит. – Не в духе Руперта изменять своему слову.
– Он был бы записным идиотом, если бы этого не сделал. Или вы считаете, что у вас монополия на неверность? – с уничижительным сарказмом ответил лорд Дэвен. – Если хотите знать мое мнение, Эдит, вам лучше поехать туда и убедиться самой. Послушайте меня, – продолжил он, оставляя язвительный тон. – Я никогда не был сторонником добродетели. Я терпеть не могу это слово, которое слышу постоянно. Но я скажу вам, что, по-моему, вы в высшей степени непорядочная женщина. Кто дал вам право так обойтись с мужчиной, за которого вы вышли замуж, лишь потому, что вы крутили амуры с этим мерзавцем Диком, тогда как Руперт потерял ногу и перспективы получить титул? Да, нога вновь не отрастет, а вот титул, похоже, все же достанется ему. Может, вам стоит поспешить, чтобы не упустить его? «Леди Дэвен» звучит лучше, чем миссис Уллершоу, вдова забытого всеми полковника египетской армии. Поверьте, вы будете чувствовать себя куда счастливее в качестве жены уважаемого человека, нежели близкого друга Дика Лермера.
– Я ему не близкий друг, – возмущенно ответила Эдит, – тем более, после того, что вы мне рассказали, ибо нет большей низости, чем очернить репутацию мертвого человека. К тому же он мне совсем не нравится. Его образ жизни и его внешность вызывают у меня омерзение.
– Рад это слышать, – ответил лорд Дэвен.
– Что касается ваших упреков по поводу несчастного Руперта, – продолжала она, – вы почему-то предпочитаете не вспоминать о том, что именно вы принудили меня выйти за него замуж. Я никогда не притворялась, будто люблю его, хотя, признаюсь, сейчас, став старше, я воспринимаю вещи в ином свете и уважаю его больше, чем раньше.
– Вы хотите сказать, что, наконец, вырвались из-под влияния другого мужчины? Ладно, каковы бы ни были причины, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вы обвиняете меня в том, что я, подарив вам двадцать пять тысяч фунтов, «принудил» вас выйти замуж? Хотите знать, почему я это сделал?
– Еще как хочу!
– Не вижу причин скрывать от вас правду. Потому, Эдит, что вы – моя дочь.
Эдит ахнула.
– Так это правда или очередная ваша злая шутка? – спросила она.
– Правда. Не стану долго распространяться на эту тему. Если вам интересно, можете потом сами прочесть признание вашей матери. Впрочем, не вижу причин, чтобы этот факт сильно вас расстроил.
– Еще как расстроил! – с упреком в голосе ответила Эдит. – До сих пор я пребывала в уверенности, что моя мать была порядочной женщиной, а мой отец – хорошим, хотя и глупым человеком. И вот теперь эти иллюзии исчезли, как и многие другие. Теперь понятно, откуда во мне это зло и эта странная антипатия к Руперту. Я унаследовала ее от вас. Кстати, я слышала эту историю от Дика.
Даже такой непробиваемый человек, как лорд Дэвен, поморщился, услышав ее язвительный ответ.
– Мне кажется, моя дорогая Эдит, – сказал он, – что, по крайней мере, дар ядовитых речей целиком и полностью ваш, ибо мой, а многие находят его внушительным, бледнеет по сравнению с вашим.
– Я лишь плачу вам вашей же монетой, вот и все. Вы уже целый час сидите и оскорбляете меня, разносите меня в клочья, втаптываете в грязь и, в конце концов, заявляете, что я… та, кто я есть. А потом удивляетесь, что я отвечаю вам тем же? Кузен, – прошу прощения, но как мне в будущем обращаться к вам? – спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Я рада, что Руперту об этом неизвестно. Помнится, вы как-то раз сказали, что он единственный приличный человек в нашей семье. Думаю, он бы весьма расстроился, случись ему узнать правду.
– Вполне вероятно, что так и было. Помните письмо, которое лакей вручил ему, когда вскоре после вашего бракосочетания он уезжал на вокзал? Не забыли? В этом письме я сообщил ему о наших с вами родственных отношениях, предоставив ему возможность самому решать, говорить вам об этом или нет.
– Он не сказал ни слова! – воскликнула Эдит. – Даже когда мы прощались, хотя мог, так как знал, что мне наверняка будет больно. Как же он не похож на нас, он совсем другой!
– Совершенно верно, именно поэтому я и хотел, чтобы вы вышли за него замуж. Кроме того, тогда, как и сейчас, он должен был унаследовать титул и состояние, и, между прочим, хотя вы и считаете меня исчадием ада, мне хотелось, чтобы часть этого наследства досталась и вам тоже. Кстати, мне хочется этого и сейчас, и потому я прошу и даже умоляю вас помириться с Рупертом, пока он все еще жив. Послушайте, Эдит, – серьезно продолжил он, – вы по-прежнему красивая, достойная восхищения женщина, но, увы, лучшие ваши годы позади и постепенно все ваши поклонники разбегутся. Настоящих друзей у вас нет. Вы же не можете выйти замуж за кого-то еще, чтобы этот кто-то взял на себя заботу о вас. Вот почему я ради вашего же собственного благоденствия предлагаю вам вернуться к мужу, которого вы, по вашему же собственному признанию, уважаете. Эдит, я уже одной ногой стою в могиле. Вполне возможно, что второго такого случая поговорить на эту или иную тему у нас просто не будет. Поэтому как тот, кто дал вам жизнь и кто всей душой болеет за вашу судьбу, я прошу вас пообещать мне, что вы наведете справки и выясните, жив ли Руперт, и если да, то поедете к нему, так как он сам никогда не приедет к вам, и попросите у него прощения. Вы это сделаете?
– Думаю, да, – медленно ответила она, – и все же, после всего, что случилось… как мне это сделать? Как он примет меня?
– Не могу сказать, – ответил лорд Дэвен. – Будь я на его месте, я знаю, как я принял бы вас, – добавил он с мрачной усмешкой. – В отличие от меня, Руперт – человек мягкосердечный. Беда в другом: он наверняка обзавелся новыми связями. Могу дать вам лишь один совет: наберитесь терпения и попробуйте играть на его чувствах, в том числе на чувстве долга. А теперь я сказал все, что хотел, и больше ничего не добавлю, ибо мне нужно подумать над другими вещами. Вы сами, как говорит пословица, постелили себе постель, Эдит, и если не можете перестелить ее заново, ложитесь в ту, какая у вас есть. Вот и все. А пока ступайте.
Она встала и протянула руку.
– Прежде чем уйти, – произнес лорд Дэвен, нервно прочищая горло, – знаю, это покажется вам слабостью, но я хотел бы услышать от вас, что вы меня прощаете, не из-за Руперта, потому что здесь я старался в ваших интересах, а за то, что вообще принес вас в этот мир. Должен признать, что пока что – хотя и не знаю, по чьей вине – вы не слишком в нем преуспели. Как вам хорошо известно, мне чужды любые суеверия нашего века. Что до меня, то я считаю, что все мы обязаны своим существованием случаю. Мы появляемся на свет, словно мошки, рожденные благодаря животворному воздействию солнца, воздуха и влаги из праха, в который со временем мы возвращаемся вновь, чтобы возродиться в новой форме. Наш разум – лишь одно из ее проявлений, не более того. И все же, после многолетних наблюдений, я вынужден признать, что существует некий рок, влияющий на дела людей, и что иногда он карает за их прихоти и ошибки. Если это так, Эдит, то вы можете во всем обвинить этот самый рок, – сказав эти слова, лорд Дэвен посмотрел на нее едва ли не умоляющим взглядом.
– Нет, – холодно ответила Эдит, – Помнится, однажды, когда я еще не знала, что вы мой отец, я сказала, что люблю вас. Полагаю, в тот момент во мне говорила кровь. Теперь же, когда мне известно, насколько близко наше родство, и как оно возникло, – а именно, благодаря позору моей матери при жизни ее законного мужа, – я больше вас не люблю. Нет, я не виню рок, я виню вас – его инструмент, ибо выбор был за вами.
– Что ж, пусть так и будет, – спокойно ответил лорд Дэвен. – Только примените эти слова к своей собственной жизни, Эдит, и пусть о ней судят точно так же, как вы судите обо мне.
На этом они расстались.
* * *
Эдит сдержала свое обещание. Она отправилась к хорошему адвокату, чье умение распутывать сложные случаи снискало ему славу, и рассказала ему о слухах, которые якобы дошли до нее, что ее муж, который на протяжении многих лет считался мертвым, на самом деле жив и обитает в Судане или где-то в приграничной пустыне. Чтобы установить правду, она предложила ему связаться с лордом Саутвиком и египетскими властями и, если необходимо, отправить кого-нибудь в Египет. Адвокат сделал пометки в своих бумагах и сказал, что займется этим вопросом и сообщит ей о результатах расследования. Затем, не желая после их последнего разговора, полного взаимных упреков, видеть человека, которого теперь должна была считать своим отцом, Эдит уехала из Лондона, как обычно делала в августе, и отправилась в Шотландию. Пробыв там почти полтора месяца, она однажды утром получила от леди Дэвен телеграмму, отправленную из дома на Гровнер-сквер, в которой говорилось следующее:
«Приезжайте немедленно. Ваш кузен Джордж умер. Мне нужна ваша помощь».
Потрясенная этим известием, она успела на дневной поезд до Лондона. В Регби ей на глаза попалась вечерняя газета, в которой среди других заголовков, было напечатано: «Печальная кончина знаменитого пэра». Она купила газету и, пробежав глазами страницы, нашла короткий абзац: «С прискорбием сообщаем о том, что сегодня утром в своем доме на Гровнер-сквер был найден мертвым лорд Дэвен. Причина смерти все еще остается неизвестной». Затем следовал ряд биографических фактов и такие слова: «Поскольку несколько месяцев назад лорд Дэвен потерял сына, его титул считается утраченным, однако собственность переходит к его кузену, Ричарду Лермеру, эсквайру, члену парламента».
С вокзала Эдит поехала прямиком на Гровнер-сквер, где в гостиной ее приняла Табита. В черном платье, с печальным лицом, спокойная и внушительная, вдова лорда сидела, словно некое воплощение рока, о котором отец говорил Эдит при их последней встрече. Они обнялись, но без особого тепла, ибо в душе не питали никаких теплых чувств друг к другу.
– Как это случилось? – спросила Эдит.
– Он умер так же, как и его первая супруга, – ответила вдова, – от передозировки хлорала. Последнее время его мучила бессонница.
– А почему он принял дозу больше положенной? – задала новый вопрос Эдит.
– Не знаю, – многозначительно ответила Табита. – Возможно, вам скажут врачи. Не хотите посмотреть на него?
– Нет, – ответила Эдит и передернулась. – Лучше не надо.
– Ах, как же я забыла! – воскликнула леди Дэвен. – Вы всегда чурались больных и боялись мертвых. Это в вашей натуре.
– Вам его жаль? – полюбопытствовала Эдит, чтобы сменить тему разговора.
– Да, мне жаль его душу, которую ждет воздаяние, ибо он не раскаялся перед смертью, хотя ему было в чем каяться. А вот себя мне ничуть не жаль, ибо я выполнила свой долг перед ним. Наконец с моей шеи упали цепи, и Господь даровал мне свободу, чтобы я могла провести отпущенные мне годы в мире и согласии с Ним.
Затем, сказав, что ей нужно поужинать, Эдит поспешила уехать, так как не хотела продолжать этот болезненный разговор.
Если врачи, о которых говорила леди Дэвен, и заподозрили что-то неладное, они не стали высказывать своих подозрений вслух, ограничившись лишь заявлением о том, что лорд Дэвен, в течение многих лет страдавший бессонницей и потому принимавший на ночь хлорал, на этот раз принял чрезмерную дозу: «Смерть в результате несчастного случая от передозировки хлорала. Любопытный факт, что лорд Дэвен и его первая супруга одинаково встретили свой конец, стал предметом многих комментариев».
Завещание лорда, составленное после смерти сына, было на редкость коротким. В частности, в нем ничего не говорилось о закрепленной собственности, права на которую должен был заявить наследник. Вдова покойного наследовала некую сумму, а весь остаток состояния без каких-либо ограничений переходил к Эдит Уллершоу. Все это звучало довольно просто, но на деле оказалось, что Эдит отошло недвижимое и личное имущество на сумму в двести тысяч фунтов. Даже дом на Гровнер-сквер, хотя и оставался в пожизненном распоряжении вдовы, тоже переходил ей. Так что теперь она была весьма богатой женщиной.
– Ах, моя дорогая Эдит! – воскликнула леди Дэвен, узнав, что может и дальше проживать в огромном особняке. – Забирай его себе, причем, немедленно. Ненавижу это место. Две тысячи фунтов годового дохода для меня более чем достаточно. На пятьсот я могу жить, и полторы тысячи жертвовать на благотворительность. Да, наконец, бедные получат назад свои деньги, которые им не доплатили за их труд или же выманили из их карманов в питейных заведениях.
Стоит ли говорить, что на радостях Дик налетел на закрепленное имущество, словно голодный ястреб, требуя, чтобы его объявили законным наследником. Увы, тотчас же возникла одна неприятная помеха, потому что примерно в это же самое время Эдит получила письмо от своих адвокатов, в котором те извещали ее, что получили по телеграфу ответ от агента, отправленного ими в Египет, в котором тот сообщал, что с большой долей вероятности можно утверждать, что белый мужчина, который живет в оазисе Тама, это не кто иной как полковник Руперт Уллершоу, который много лет назад был объявлен убитым. Адвокаты также писали, что от своего имени, а также от имени ее мужа, который, по их мнению, жив и теперь считается лордом Дэвеном, они представили соответствующие бумаги, и теперь никто не имеет права трогать закрепленное имущество, пока этот вопрос не будет окончательно разрешен.
Разумеется, эта невероятная история вскоре проникла в газеты, и на Эдит посыпались самые восторженные поздравления, даже от тех, с кем она практически не была знакома. Тем временем адвокаты вновь связались со своим агентом, который временно поселился в Вади-Хальфа. Человек весьма способный и упорный, агент этот вскоре прислал вторую телеграмму, в которой сообщил, что с большим трудом сумел достичь вышеназванного оазиса и передал полковнику Уллершоу записку, чтобы известить его о наследовании титула, добавив, однако, что в ответ его светлость заявил, что ему не нужен никакой титул и он не намерен покидать это место.
– Такое впечатление, – говорилось далее в письме к Эдит, основанном на содержании каблограммы, – что его светлость слегка пострадал умственно от долгого пребывания среди дикарей, которые, как нам было сказано, отрубили ему одну ногу, чтобы он не сбежал, так как в их глазах он бог, который принес им не виданное ранее процветание, и они боятся, что если он покинет их, то с ним их покинет и удача. Исходя из этого мы рекомендуем вам как можно раньше отбыть в Египет и оказать на него личное воздействие, чтобы вернуть его в Англию. Нам сообщили, что жители оазиса вполне миролюбивы, однако, если потребуется, власти готовы выделить в ваше распоряжение любую необходимую помощь.
Вскоре эта история стала достоянием гласности и предметом разговоров за доброй сотней обеденных столов. Более того, поговаривали, будто несколько лет назад Руперта Уллершоу видели в Лондоне. Генерал, сэр Альфред Оллток, заявил, что встретил его на ступеньках Клуба армии и флота. Пролетел и куда менее приятный слушок: мол, Руперт приехал к жене, но та отказалась даже разговаривать с ним, потому что на тот момент он утратил наследственное право на титул. Эта история, которая, по вполне обоснованному мнению Эдит, была обязана своим появлением бестактным или даже откровенно завистливым высказываниям Дика, ибо тот, лишившись наследства, был в ярости и жаждал мести, вскоре достигла и ее ушей. Разумеется, она ее опровергла, но с другой стороны, ей не оставалось ничего другого, как отправиться в Египет.
– Ах! – сказала вдовствующая леди Дэвен, когда Эдит пожаловалась ей на все трудности и опасности путешествия, которое она должна совершить в одиночку. – Ах, если это все, то я с удовольствием составлю вам компанию. Я ничего не боюсь, более того, я всегда мечтала увидеть страну, где фараоны угнетали израилитов. Мы отправимся на следующей неделе, и через месяц я надеюсь увидеть моего дорогого Руперта, так же, как и ты, – добавила она, искоса посмотрев на Эдит.
Поскольку слова эти были произнесены в присутствии нескольких других людей, Эдит ничего не оставалось, как их подтвердить. Тем более что так оно и было – она тоже желала увидеть Руперта. В последние годы даже в ее каменном сердце шевельнулось раскаяние. Кроме того, одинокая жизнь наскучила ей. Она также надеялась положить конец скандальным домыслам, что постоянно возникали вокруг ее имени. Как она и предвидела, в скором времени все это грозило вылиться в угрозы и преследования со стороны Дика. Более того, он уже начал шантажировать ее, делая скользкие намеки по поводу неких очень личных писем, которые она написала ему после визита Руперта в Лондон, и в которых весьма откровенно говорилось и про этот самый визит и другие дела, свидетельствующие об их близких отношениях. Все это ускорило ее решение отбыть на Восток в обществе леди Дэвен.
До отплытия из Англии она получила пакет от банкиров покойного лорда, который, как ей устно передал доставивший его клерк, было поручено вручить ей не ранее, чем через месяц после его кончины. Вскрыв конверт, она обнаружила в нем заявление, сделанное по поводу ее самой ее матерью – то самое, на которое ссылался лорд Дэвен. Кроме того, там было два его письма, одно адресованное ей и второе – Руперту. Это второе не было запечатано, чтобы она могла его прочесть.
Письмо, адресованное ей самой, было коротким и в нем говорилось следующее:
«Я дал тебе все, что мог. Прими это богатство как компенсацию за то зло, которое я сотворил, став твоим отцом. В своей слабости я надеялся, что узнав от меня этот факт, ты проявишь к одинокому, нечастному старику хотя бы толику душевного тепла. Ты же, не иначе как раздраженная нашим предыдущим довольно язвительным разговором, заняла иную точку зрения.
С горечью вынужден констатировать, что в спорах я никогда не умел сдерживать язык, и, как ты заметила, ты унаследовала от меня эту слабость. По крайней мере, я не рассчитывал получить от тебя отповедь. Я не виню тебя, однако верно и то, что начиная с того дня я принял для себя решение покончить со ставшим мне ненавистным существованием. Если бы его хоть чуть-чуть подсластила любовь той, кто приходится мне дочерью, я, пожалуй, согласился бы и дальше терпеть физические и душевные страдания, ожидая, когда те закончатся естественным образом. Но судьба распорядилась иначе, поэтому как некоторые древние римляне, которыми я так восхищаюсь, я ухожу с ненавистной сцены в кромешную тьму, из которой когда-то пришел. Прощай. Желаю тебе быть счастливее, чем твой отец.
Д.».Как же это ужасно, получить такое письмо от собственного отца! Но к счастью, оно не подействовало на Эдит так, как наверняка подействовало бы на других женщин. Ей виделась во всем этом некая несправедливость. Начать с того, что отец по эгоистичной мужской привычке поймал ее на слове. Она же говорила тогда, будучи крайне раздражена, во-первых, его язвительными замечаниями и сарказмом, во-вторых, тем, что внезапно узнала о себе, что она совершенно не та, кем вот уже более тридцати лет привыкла себя считать. И все же, хотя и с опозданием, Эдит ощутила горечь утраты. Таков был ее удел – ощущать эту горечь с опозданием. Да, она опечалилась, но не более того, хотя других в подобной ситуации наверняка парализовал бы ужас и терзали угрызения совести.
Затем она достала из конверта и прочла письмо, адресованное Руперту. Вот оно:
«Дорогой Дэвен – я обращаюсь к тебе по имени, которое будет твоим, когда ты это прочтешь, если, конечно, это когда-либо произойдет.
Теперь мне известна твоя история, и даже если не целиком, по крайней мере, ее достаточно, чтобы я мог убедиться, сколь точной была моя оценка, сделанная мною в отношении тебя много лет назад. Не помешай тебе судьба, ты стал бы великим человеком, если таковые действительно существуют, в чем я лично сомневаюсь, ибо в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи „великий“ – это лишь популярный перевод вульгарного слова „успешный“.
Я пишу тебе, дабы выразить мою искреннюю надежду, что если ты, как я полагаю, все еще жив, вы с Эдит, забыв свои предыдущие разногласия и многие другие беды и горести, согласитесь жить вместе на привычный, освещенный временем манер, и по возможности оставите после себя детей, которые бы и дальше продолжили наш род. Не то, чтобы он был достоин продолжения, разве что по причине неких ваших личных качеств, однако мы все вынуждены приносить жертвы на алтарь привычки и чувств. Ибо какова может быть иная причина того, что население земли не вымерло? Мне известна только одна: природа (возможно, в своей глуши ты во всей полноте понял смысл этого слова) требует того, что наиболее просвещенные ее чада осуждают как нечто совершенно бесполезное и нежелательное. Возможно, есть в этом некая высшая цель, хотя лично я ее не вижу. Лично мне это представляется частью слепой жесткости положения вещей, которое требует продолжения, пусть даже временного, в высшей степени нервного, избалованного и испорченного животного под названием человек. Рано или поздно он умрет от собственных мук, которые с каждым днем лишь усиливаются, ибо он движется вниз по лестнице прогрессирующего упадка и вырождения, которые именует выспренним словом „цивилизация“. Возможно, природа (которую ты называешь Богом) тогда от души посмеется над всем этим, но коль человеческие слезы не будут больше литься, велика ли разница?
Эдит расскажет тебе о моем конце. О том, как я – окончательно убитый скорбью, одним из худших даров цивилизации, ибо дикарь почти лишен чувств, и телесной немощью, худшим даром нашего первобытного состояния – решил положить конец им обеим, хотя это отнюдь не тот факт, о котором следует трубить на весь мир.
Я вижу, как ты печально поднимаешь глаза и говоришь: „О, поделом! То, к чему он привел ту несчастную женщину, в конце концов, пало на его собственную голову (в данном случае „несчастная“ – это то самое слово, которое ты скажешь, сопроводив его романтическим вздохом, хотя на самом деле бедняжка Клара была весьма заурядной грешницей, чей эгоизм едва не погубил юношу, которого она якобы любила). О, сколь прекрасна месть провидения! Та же самая смерть, то же самое орудие смерти!“
Ты наверняка подумал так, и оказался неправ. Страдаете вы бессонницей или же вас мучает страх разоблачения – неважно. Это не играет никакой роли. Просто люди выбирают самый удобный способ покончить со всем этим, и в данном случае, этот метод оказался одинаков. Нет никакого провидения, никакого возмездия свыше, – ничего! Лишь то, что новеллисты, или, вернее, их критики, называют длинной рукой совпадения.
Прощай! Кстати, чем ты занимался все эти годы в Судане? Было бы интересно услышать твою историю из первых уст. Я уверен, что она того стоит. Но я также убежден, что мне бессмысленно на это надеяться. Лишь одно я знаю точно: нас всех ждет абсолютное небытие.
Поверь мне, мой дорогой Дэвен.
Искренне твой – гораздо более искренний, чем ты думаешь -
Дэвен».«Какое странное письмо, – подумала Эдит, возвращая листок в конверт. – Боюсь, я плохо его понимаю, но мне кажется, что при иных обстоятельствах мой отец был бы совершенно другим человеком. Интересно, в какой мере мы ответственны за наши поступки? Или же за них ответственны обстоятельства? Если так, то кто создает обстоятельства?»
Глава XXI. Захед
Руперта преследовали тяжелые думы. О, он отнюдь не был суеверен. Он настолько вырос духовно, что любые суеверия были ему чужды. Он давно осознал великий факт, по-прежнему недоступный пониманию подавляющего большинства людей, что вселенная и их связь с ней – это великая загадка, в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи недостижимая для разумения человека. Последний склонен полагать, как то полагал и лорд Дэвен, что одна тысячная часть, которая доступна его взору, омытая ярким солнечным светом – это все, что есть. Лишь потому, что одна крошечная грань великого алмаза ловит и отражает свет, людям кажется, что остальные непременно должны быть темны и не представляют никакой ценности. Они смотрят на макушку скалы над океаном, забывая о том, что в его тайных глубинах спрятан целый горный хребет, остров, континент, возможно, целый мир, от которого им виден лишь самый высокий пик.
Что до Руперта, который был не чужд подобных размышлений, то с ним все было иначе. И все же поскольку он помнил, что за каждым внешним проявлением, даже самым тривиальным, несомненно, кроется некая причина, и что возможно то, что мы называем совпадением, на самом деле не существует, он не на шутку встревожился, когда однажды утром, проезжая верхом вместе с Меа через глубокое ущелье в Таме, услышал на утесе справа от них дикую, пронзительную музыку бродячих музыкантов. Подняв взгляд, он увидел их на самом краю утеса, как и раньше замотанных в одежды так, что их лица оставались невидимы. Трое дули в дудки, двое отбивали ритм на барабанах, не иначе, как услаждая слух птиц небесных и земных зверей, ибо поблизости не было ни одного двуногого существа.
Он сердито окликнул их со дна ущелья, но они как будто не заметили его, и еще громче загудели в свои дудки и забарабанили в барабаны. Он попытался добраться до них, однако выяснилось, что для этого ему придется сделать крюк длиною в пять миль. Когда же он, наконец, преодолел это расстояние, оказалось, что они уже ушли, – по всей видимости, соскользнули вниз со склона горы и вернулись в родную пустыню. Позднее Руперту доложили, что вдалеке по пустыне идут какие-то люди в сопровождении двух осликов.
– Чем ты так встревожен, Руперт? – спросила Меа, когда после своих бесплодных поисков они вновь спустились со скал.
– Не знаю, – усмехнулся он. – Но эта музыка вызывает у меня неприятные воспоминания. Как ты помнишь, в первый раз я услышал ее перед тем, как лишился ноги и глаза, а во второй – когда сел на корабль, отплывавший в Англию. Ты знаешь, чем это закончилось. Интересно, зачем они пожаловали сюда снова?
– Не знаю, – ответила Меа с нежной улыбкой. – Но, по крайней мере, мне нет причин их бояться. После первой встречи с ними я спасла тебя, после второй – ты вернулся ко мне.
– А после третьей? – спросил Руперт.
– После третьей, как я уже сказала, не знаю. Но, возможно, это означает, что мы вместе отправимся в далекое путешествие.
– Если это все, то мне не страшно, – ответил он. – Что меня действительно пугает, так это если наши дороги разойдутся.
– Спасибо тебе, – с поклоном ответила Меа. – Твои слова ласкают мне слух, и я благословляю музыкантов, вынудивших тебя их произнести, ибо я уверена, что наши дороги никогда больше не разойдутся.
И они, улыбаясь друг другу, как счастливые дети, поехали дальше. Они посетили солеварню, которую Руперт основал к великому процветанию всех и каждого в оазисе. Миновав рощу молодых финиковых пальм, которые он посадил, они выехали к ферме, на которой разводили верблюдов, мулов и лошадей. Последние успели приобрести у соседних племен громкую славу. Осмотрев производителей, они вернулись назад через орошаемые земли, которые теперь каждый год давали по два урожая вместо прежнего одного.
– Ты сотворил для нас чудеса, Руперт, – сказала Меа, когда они ехали домой. – Тама давно уже не знала такого достатка и процветания, со времен наших предков, называвших себя царями. Теперь, когда Халифа побежден и установился мир, это лишь начало нашего богатства.
– Этого я не знаю, – ответил он с веселым смехом. – Но себя я тоже не обделил. Известно ли тебе, что из своих процентов я больше денег скопил, нежели истратил? И вот теперь я намерен построить больницу и пригласить в нее настоящего врача, ибо я устал исполнять роль лекаря.
– Да, – ответила она, – я уже сама об этом думала, только ничего не говорила, ибо это означает, что сюда приедут белые люди, мы же счастливы и без них. Кроме того, мои соплеменники не жалуют чужестранцев.
– Отлично понимаю, – ответил Руперт, – но европейцам о нас уже известно. Теперь, когда мы платим налоги правительству, мы не можем запретить им приезжать сюда. Помнишь того человека, который несколько месяцев назад приехал, чтобы сообщить мне, что теперь я лорд Дэвен, и что с тех пор, как я им стал, моя жена постоянно делает запросы по поводу меня? Тогда я отказался его принять и отправил его восвояси, но он или другие, вскоре вернутся сюда.
– И тогда ты захочешь уехать вместе с ними, Руперт, и занять свое место на Западе? – с тревогой в голосе спросила Меа.
– Ни за что, – ответил он, – даже предложи они мне стать королем.
– Верно, зачем тебе это? – усмехнулась Меа. – Ведь ты уже король. Вот здесь, – добавила она, прикоснувшись к груди, а затем кивком указала на людей, встречавших его поклонами. – Везде и всюду. – И она взмахнула рукой, имея в виду весь их оазис.
– Лично мне достаточно первой короны, – ответил он.
После чего, не зная, что еще сказать друг другу, эта странная пара, чужие люди для царствия Небесного, однако связанные крепкими супружескими узами, о каких только могут мечтать любой мужчина и любая женщина, ибо их души воистину слились воедино, с нежностью посмотрели друг на друга. С тех пор как мы в последний раз видели их семь лет назад, они слегка изменились, ибо странная их жизнь наложила свой отпечаток на обоих. Лицо Меа слегка осунулось, уголки полных, сочных губ были задумчиво опущены вниз, взгляд огромных выразительных глаз обрел некую духовность, как будто был постоянно обращен куда-то за край мира. Отпечаток некой тайны, какой всегда на себе несли ее черты, углубился. Кроме того, ее тело утратило былую округлость безвозвратно ушедших дней, когда она покрутилась перед Рупертом, дабы тот убедился, что она «неплоха». И все же она была гораздо прекраснее, чем тогда, просто теперь красота ее была иного характера.
А вот Руперт, наоборот, изменился внешне в лучшую сторону. Его единственный глаз остался ясным и зорким, плоть над другим исцелилась, отчего казалось, что он просто закрыт. Шрамы, оставленные на его лице каленым железом, тоже почти исчезли. Палящие лучи солнца вместе с другими причинами изменили цвет его волос с рыжего на серо-стальной, что было ему к лицу. Кроме того, широкая и пышная его борода, увидев которую Эдит мысленно сравнила его с Орсоном, как того изображали в сказках ее детства, была коротко и аккуратно подстрижена[19]. И наконец, его лицо, как и лицо Меа, приобрело утонченность и теперь напоминало лицо аскета, каковым по большому счету он и был. В общем, хотя эти двое были совершенно не похожи, со временем они уподобились друг другу. При известном освещении их, в их арабских одеждах, можно было принять за брата и сестру, как их называли между собой жители оазиса.
В течение длительного времени для этих наивных обитателей пустыни отношения этих двоих оставались великой загадкой. Жители Тамы были не в силах понять, почему мужчина и женщина, которые значат друг для друга все на свете, не хотят пожениться. Сначала они подумали, что Руперт уже взял себе других жен среди женщин дворца, однако узнав, что это не так, по секрету попросили Бахиту просветить их. Та сообщила им, что по причине клятв, которые они дали, а также ради блага их душ, эта пара согласилась принять доктрину Отречения.
Бахита сказала это не без сарказма, но поскольку доктрина эта, по крайней мере, теоретически, была известна на Востоке вот уже тысячи лет, задавшие вопросы довольно быстро уловили суть ее слов и на ее основе дали Руперту новое имя. С тех пор он стал известен как Захед, или Тот, Кто Отрекся – тот, кто, отринув соблазны этого мира, устремил свой взгляд на вещи более возвышенные. Для человека, уже стоящего на таком пьедестале, довольно легко вознестись еще выше, по крайней мере, среди жителей Востока. Прошло не так уж много времени, как Руперта начали почитать как святого, получившего вдохновение от самих небес.
Поскольку видимых пороков за ним не водилось, – он не употреблял спиртных напитков и не курил, так как давно расстался с этой привычкой, поскольку вел очень простую жизнь, – он щедро жертвовал бедным. Он был известен своим искусством врачевания, а также был строг, но справедлив, поскольку упорным трудом превратил Таму в Эдем с реками молока и меда, и, наконец, поскольку благодаря его познаниям в военном деле и фортификации оазис стал практически неуязвим для атак врага, его репутация росла с такой скоростью, что не могла не внушать тревоги. Пожелай он того, Руперт с легкостью мог бы объявить себя Махди и собрать под свои знамена племена, чтобы вести любую войну, какая только ему заблагорассудится.
Стоит ли говорить, что такового желания у него не возникало, ибо с него хватало добрых дел, какими он был занят здесь, в Таме.
Тем не менее вскоре он обнаружил, что в некоторые праздничные дни, что обычно бывали раз в месяц, от него ждут, чтобы он выступил с речью. Воспользовавшись этой возможностью, не называя, правда, ее своим именем, Руперт проповедовал им свою веру, или, по крайней мере, заложенную в ней мораль. После того как он проповедовал им в течение пяти лет, в результате его речей, хотя, разумеется, сами они об этом не догадывались, жители Тамы, будучи коптского происхождения и уже по этой причине склонявшиеся в том направлении, по образу своих мыслей и характеру были практически христианами. Это был великий труд для одного человека, причем за довольно короткое время. И когда Руперт обозревал результаты труда своих рук и сердца, его душа переполнялась тайной гордостью. Казалось, будто свалившиеся на него несчастья вместе взятые работали во благо других людей и его самого. Он чувствовал, что живет не напрасно, и что когда он умрет, посеянное им семя во сто крат принесет свои плоды. Счастлив тот, кто может сказать о себе такое, и число таких людей крайне невелико.
Было новолуние, и согласно заведенному правилу Руперт произносил свою речь. В Таме случилась беда, и не одна. Один человек, на которого после большого богатства свалились неудачи, публично проклял всех богов и наложил на себя руки, а другой, которого жестоко обидели, взял исполнение закона в свои руки и убил своего соседа. На этих двух печальных примерах Руперт и построил свою речь.
Так получилось, что Руперт и Меа, восседавшие в тот день на высоком помосте в зале древнего храма, где они обычно сидели бок о бок, отправляя правосудие или по случаю других публичных дел, не знали о приближении к их оазису группы белых путешественников. Им донесли, что через пустыню едут несколько европейцев, а именно, две женщины, мужчина и их слуги, но поскольку они не поняли, что те держат путь в Таму, Меа ограничилась тем, что приказала при необходимости помочь путникам провиантом или, если нужно, оказать, помощь иного рода, и выбросила это дело из головы.
Ее слуги и стражи Черного Перевала выполнили ее распоряжение; когда же через переводчика путники объяснили, что хотели бы посетить оазис, ибо у них есть дело к местному шейху, стража, решив, что путников в Таме ждут, не только не стала возражать, но и сопроводила их до оазиса. Единственный вопрос, какой задали стражники, был, кого те имеют в виду под шейхом, Захеда или хозяйку Тамы, ибо сам Захед не принимает чужестранцев. Когда путешественники спросили, кто такой Захед, им объяснили значение этого имени: мол, это святой человек, великий hakim, или лекарь, что по рождению он англичанин, которого небеса ниспослали в качестве благословения их племени, и что он «властитель духа» их повелительницы Меа.
Сидя на высоком, длинноногом верблюде, которого она страшно боялась, и который был ей противен, Эдит посмотрела на леди Дэвен. Как обычно, спокойная и невозмутимая – лишь светлая кожа потемнела до цвета красного дерева – она восседала на ослике, держа спину столь же неподвижно и прямо, как будто это был не ослик, а стул в ее гостиной. Даже когда ослик падал без сил, а это случалось с ним довольно часто, она продолжала сидеть, ожидая, что кто-то подойдет и поможет несчастному животному встать на ноги. Табита была превосходной путешественницей. Ничто не раздражало ее и не действовало ей на нервы. И все же она предпочитала верблюду ослика. Это ближе к земле, как объясняла она. Эдит же выбрала верблюда лишь потому, что считала, – и, пожалуй, была права, – что, сидя на нем, она имеет менее глупый вид.
– Табита, – спросила она, – что ты скажешь мне по этому поводу? Похоже, Руперт превратился в пророка и женат на этой женщине.
– Я бы не удивилась, – ответила леди Дэвен, глядя на ее изящную фигуру, восседающую на верблюде. – Думаю, из него получился хороший пророк. Что же касается его женитьбы, говорят, этой женщине он супруг лишь по духу. Кроме того, местные жители называют его Отрекшимся, из чего я делаю вывод, что он вряд ли женат.
Эдит, сделавшая вывод, что вышеназванная особа все еще молода и хороша собой, мрачно покачала головой, ибо уже прониклась ревностью к Меа, хотя, в общем, не имела на это права.
– Мне кажется, это означает, что она заставила его отречься от кого-то другого, – предположила она. – Разумеется, этим дикарям в диковинку, что у мужчины может быть только одна жена.
– Ах, скоро мы это узнаем. По крайней мере, тебе нет повода ворчать. Это вопрос его собственной совести. Как ты можешь его судить после того, как ты сама выставила его за дверь? Ах, Эдит, у тебя не сердце, а камень. Но если тебе хочется узнать больше, вели бедняге Дику выяснить это, а то он отстал, чтобы пропустить очередной стакан виски с содовой.
Эдит раскрыла зонтик, хотя в данный момент солнечные лучи не достигали ее, и отгородилась им от Табиты, давая понять, что их разговор окончен. Откровенность леди Дэвен раздражала ее, тем более что она была вынуждена эту откровенность терпеть вот уже полтора месяца. Не хотелось ей пользоваться и помощью Дика, ибо она точно знала, что тот скажет.
Здесь, пожалуй, следует объяснить, что Дик не получал приглашения сопровождать их в этом путешествии, однако, сев на пароход в Марселе, наши дамы с удивлением обнаружили, что он – их попутчик. Когда же они спросили у него, что он там делает, Дик без тени смущения заявил, что слишком заинтересован в результатах их расследования, и потому никак не может отпустить их в Египет одних. Поскольку воспрепятствовать ему они не могли, то он сопровождал их с немногочисленной собственной свитой.
Остаток путешествия, когда ее не душил жаркий ветер пустыни, преследовавший их даже на перевале, или же когда ей удавалось отвлечься от тряской походки верблюда и тому подобных неудобств, Эдит ехала, погрузившись в собственные мысли. Руперт был здесь, в этом не оставалось никаких сомнений, учитывая же, каким было их расставание, что она скажет ему при встрече? Более того, – и это, пожалуй, было куда важнее, – что он скажет ей? Она по-прежнему была довольно хорошенькой женщиной и его женой. Это были ее единственные козыри. Но как отреагирует Руперт, когда она попробует их разыграть? Ответа у нее не было. Его последние слова, обращенные к ней, дышали ненавистью. Он заявил, что его душа и тело восстают от отвращения к ней. И даже если она поклянется, что любит его, он не прикоснется к ней даже кончиком пальца и никогда по собственной воле не заговорит с ней, ни в этом мире, ни в следующем. Это звучало довольно жестоко и неумолимо. Так может ли она надеяться, что Руперт, терпеливый, упрямый Руперт, который, похоже, пользуется здесь всеобщей любовью, вдруг изменит своему слову, данному более семи лет назад? Боже, и зачем только она отправилась в это безумное путешествие?
Впрочем, что ей еще оставалось? Подлец Дик, которого она теперь до дрожи ненавидела и боялась, и который, увы, знал ее секреты, распространял о ней грязные слухи, и она была вынуждена спасать свою репутацию. Да, она богата и красива, однако приличные люди вряд ли захотят с ней знаться, если вдруг станет известно, что она отвергла и прогнала собственного мужа, к тому же восставшего из мертвых, лишь потому, что он попал в неприятности, был искалечен физически и на какое-то время утратил перспективы обрести титул. Это было бы слишком даже для полного фальши и лжи лицемерного лондонского общества. Но как же ей хотелось перенестись на другой конец мира, даже если ради этого она вынуждена терпеть обжигающий ветер пустыни и этого мерзкого всхрапывающего верблюда!
Дорога, по которой они ехали, сделала поворот, и перед ними возникли руины древнего храма, а за ним – процветающий восточный город в окружении пальмовых рощ и других деревьев. Они ехали между этих деревьев, пока не достигли кирпичной стены храма. Здесь переводчик сказал им, что проводник велит им спешиться, потому что Захед выступает перед народом, и местные жители побьют их, если они помешают ему.
Они подчинились, после чего их обеих, в сопровождении переводчика и Дика, который догнал их, провели через дверь в стене храма в боковую часовню. Примерно посередине своей длины та переходила в просторный гипостиль, полный колонн, по большей части не разрушенных. У входа в часовню, в тени, позади упавшей колонны, откуда они могли наблюдать, не будучи видимы сами, им было велено остановиться. И они остановились, пока что никем не замеченные. Зрелище, открывшееся их взорам, было воистину удивительным.
Огромный зал был полон мужчин, женщин и детей, довольно светлокожих и с тонкими, арабскими чертами лица. Все как один были в чистых, ниспадающих до пола одеждах. Головы мужчин покрывали куфии, цветные головные платки, ниспадавшие им на плечи, а у женщин, чьи лица были открыты, на головах было что-то вроде капюшонов. В дальнем конце зала, на платформе, установленной поверх нескольких разбитых колонн, виднелись две фигуры, мужская и женская, а между ними – серая собачонка, которая, заметив незваных гостей, оскалилась и зарычала, и успокоилась лишь тогда, когда мужчина велел ей сидеть смирно.
Эдит даже вздрогнула, с первого взгляда поняв, что женщина рядом с Рупертом на редкость красива, хотя и не привычной для нее красотой. Жесткие кудрявые волосы, ровно подстриженные и ничем не покрытые, удерживаемые на месте лишь эмблемой ее древнего царского рода, которую Меа до сих пор надевала, – диадемой из тусклого золота, увенчанной царским уреем – головой раскрывшей капюшон змеи. Они густой волной ниспадали ей на плечи, обрамляя ее серьезное, загадочное лицо, на котором сияли огромные, прекрасные глаза. Сидя на возвышении, завернутая в белоснежные одежды, она не производила впечатление низкорослой, наверно, по причине своего царственного облика. Она сидела на троне, сложив руки и прямо держа спину, что добавляло ей внушительности. На коралловых полураскрытых губах ее, как обычно, играла улыбка; в свете солнечных лучей, падавших на нее сквозь открытую крышу, Эдит был виден ряд идеально ровных зубов. Голова женщины была слегка повернута, и она смотрела на своего спутника полным обожания взглядом. Так вот она какая, эта дикарка, о которой ей рассказывали! Прекрасное, внеземное создание с ликом ангела!
Чувствуя, что задыхается, Эдит проследила за взглядом женщины, восхищенно смотревшей на мужчину рядом с собой. Они сидели бок о бок, словно торжественные фигуры супругов на каменной стеле, которую Руперт много лет назад привез из Египта. Да, это, несомненно, был Руперт, но только как же он изменился! Неужели этот благородного вида вождь в ниспадающих белоснежных одеждах, скрывавших его ноги, и в такой же белоснежной накидке на голове, ниспадающей на его широкие плечи, – это то же самое существо в дешевом, скверно сшитом костюме, которое она выгнала из своей лондонской гостиной, ибо один только вид его внушал ей омерзение? Тогда его борода была рыжей и спутанной, теперь же – серо-стальной, квадратной и аккуратно подстриженной, такой же массивной, как его плечи и голова. Тогда его единственный целый глаз был красным и налит кровью, теперь же его взгляд был здоров и светел. Его лицо, как и лицо его спутницы, также приобрело некое внеземное качество, свет омывал его, разглаживая морщины и шрамы. И пусть его нельзя было назвать красавцем, он выглядел тем, кем был: перед Эдит восседал вождь, мудрый, праведный, благородный, пользующийся всеобщей любовью и уважением.
Все это она узрела всего за одно мгновение, и в свете этого озарения впервые за долгие годы ей раскрылась вся глубина совершенной ею ошибки. Перед ней, на высокой платформе, над толпой простолюдинов, обожаемый всеми, рядом со своей прекрасной спутницей сидел ее муж, которого она когда-то вышвырнула за дверь, как грязь, вышвырнула ради этого ничтожества Дика. Кстати, тот что-то нашептывал ей на ухо. Эдит повернула голову и посмотрела на него. Он буквально пожирал Меа плотоядным взглядом. Его желтые щеки свисали жирными складками над недостаточно гладко выбритым подбородком. Не слишком чистым платком он вытирал потную лысину, и от него мерзко пахло виски и сигаретами.
– Ты только взгляни, – произнес он, – эта красотка – просто загляденье. Не удивительно, что наш благочестивый друг решил остаться в Судане. Нет, ты тоже хороша собой, Эдит, но тебе придется потрудиться, чтобы вырвать его из объятий этой гурии. Если ты хочешь спасти лицо, я бы советовал тебе вернуться домой и подать на развод, на том основании, что твой благоверный супруг ушел к другой женщине.
– Молчи, – прошептала она, вернее, почти прошипела, и со злостью посмотрела на него.
Разве может она в такой момент слушать сальные шуточки Дика? Теперь она точно знала: если кто ей и ненавистен, то в первую очередь Дик, а вовсе не Руперт.
Руперт говорил по-арабски, медленно, торжественно, так, чтобы его голос долетал даже в самые отдаленные закоулки огромного зала, подкрепляя слова спокойными, благородными движениями рук. Он говорил, и каждая душа в этой огромной толпе, уважительно склонив в молчании голову, внимала его мудрости.
– Скажи мне, Ахмет, – обратилась к переводчику Табита, ткнув его кончиком своего белого зонтика, – о чем говорит его светлость?
Ахмет прислушался и быстрой скороговоркой и почти шепотом, чтобы никто не услышал и не заметил их присутствия, с паузами стал переводить для нее основной смысл речи Руперта.
– Благородный повелитель Захед, – сообщил он, – говорит о благодарности Богу, о коей некоторые люди забывают. Он учит их быть очень-очень благодарными. Он рассказывает им свою собственную историю.
– Ах, как интересно! – воскликнула леди Дэвен. – Продолжай Ахмет. Мне всегда хотелось услышать его историю.
Ахмет поклонился и продолжил:
– Он говорит своим дорогим детям, что рассказывает им свою историю для того, чтобы они на его примере поняли, как важно, чтобы все люди были благодарны Аллаху. Он говорит, что будучи юношей он много грешил, как возможно, и многие из них, но Бог его спас и обратившись к нему голосом его матери, взял с него слово, что он больше никогда не совершит подобного греха. И он сдержал свое слово, хотя и совершил много других грехов. И тогда Господь из простого человека сделал его важным, и хранил его все время, пока он участвовал в битвах и убивал людей. И хотя он делал это, будучи на службе у своей страны, теперь он в этом раскаивается. После этого он вернулся домой и взял в жены женщину, которую любил, но еще до того, как она вошла в его дом, его вновь отправили в эту страну с миссией, о которой он уже им рассказывал. Шейх Пресных Колодцев напал на его караван и перебил всех, за исключением некоего Абдуллы, их повелительницы Тамы, Бахиты, что сидит ниже, и его самого. Его подвергли пыткам, отрезали ногу и выкололи один глаз, потому что он отказался принять ислам, ибо это фальшивая вера.
– Верно! Верно! – воскликнули присутствующие. – Мы нашли тебя и отомстили им!
– Он говорит, – продолжал Ахмет, – что сейчас расскажет им о мести и прощении. Их повелительница Тама выходила его, и тогда он вновь вернулся в свою страну.
– Я обязана все это выслушивать? – раздраженно спросила Эдит.
– Не хочешь, не надо, – ответила Табита, – можешь выйти отсюда, я же останусь и дослушаю. Продолжай, Ахмет.
Пару мгновений поколебавшись, не зная, как ей поступить, Эдит все же решила остаться, ибо сгорала от любопытства.
– Он вернулся, – продолжил Ахмет, – и по возвращении обнаружил, что опозорен, что он больше не уважаемый человек, а самый ничтожный, ибо все считали, что он пренебрег своим долгом, что по его вине многие погибли, и что он вывалял лицо правительства в грязи. Он также по возвращении обнаружил, что богатство и титул, на которые он имел права как наследник, перешли от него к неожиданно родившемуся младенцу. И, наконец, он понял, что его жена не хочет иметь рядом с собой уродливого калеку, без гроша в кармане и без будущего, при упоминании имени которого другие люди косятся в сторону. Он отправился к матери, но оказалось, что та внезапно умерла, и теперь он совершенно один в целом мире. Это был горький для него час, и ему до сих пор больно о нем вспоминать.
Здесь голос Руперта дрогнул, народ в зале начал перешептываться. Движимая внезапным импульсом, Тама подалась к нему, как будто за тем, чтобы в сочувственном жесте положить свою руку поверх его руки, однако вспомнив, убрала и что-то прошептала. Руперт улыбнулся ей в ответ и заговорил вновь. Ахмет, опытный толмач, продолжил переводить:
– Захед говорит, что его объяла горечь, что вера в Бога оставила его, что одиночество и стыд были столь велики, что ему не хотелось больше жить, и потому он пошел к великой реке, желая утопить в ней себя.
И вновь по залу пробежал шепот, заглушив на пару мгновений голос говорящего. Воспользовавшись этим моментом, Дик шепнул на ухо Эдит:
– Представляю, каково тебе явиться сюда и услышать такое. Впрочем, всегда полезно выслушать и другую сторону.
Эдит ничего не ответила. Лицо ее было подобно лицу каменной статуи, на которую она опиралась. Между тем резкий, равнодушный голос толмача продолжал:
– Захед говорит, что он уже приготовился к смерти в реке, как вдруг в висевшем над водой тумане он увидел лицо их прекрасной повелительницы, и Аллах напомнил ему о данном ей обещании: что если узы долга окажутся порваны, он вернется к ней, чтобы стать ей братом и другом. Таким образом, Аллах не дал совершить великий грех, – грех, какой совершил человек, о котором они говорили, – и он вернулся. И как подтвердят все присутствующие, он, помня обет, который принес жене, которая впоследствии отвергла его, он все это время оставался Таме братом и другом. Что далось ему нелегко, ибо она и все они знают, что он любит ее, и он верит, что и она тоже его любит.
– Да, люблю, – с нежностью в голосе подтвердила Меа. – Люблю больше, чем жизнь, больше всего на свете, любила и буду любить. Да, я люблю его, люблю так же, как он любит меня!
– Да, это так, и мы видим это своими глазами, – воскликнули собравшиеся.
– А теперь он подошел к ореху, что был спрятан в шершавой скорлупе его рассказа. Его жизнь была нелегка. И все здесь сочтут ее нелегкой, ибо по велению долга их повелительница и он сам должны жить так, как они живут, вместе и одновременно врозь, следуя великой доктрине Отречения, не имея ни малейшей надежды оставить после себя потомство.
Аудитория согласилась, что это действительно нелегко.
– Они думали так, и так было поначалу, но потом они подошли к этому, им нравится их состояние, и они не желают его менять, ибо страстно мечтают о других вещах, о жизни, когда праведность, которой они придерживались здесь, сблизит их еще больше. Они совершенно счастливы, ибо проводят свои дни, не ведая ни раскаяния о прошлом, ни страха перед будущим, ибо смерть их не страшит, поскольку они видят в ней врата великой радости, в которые они войдут рука об руку. Это суть его истории. Горькая на вкус, она, однако, содержит в себе зерно жизни. Зерно, которое они посадили в землю, и хотя оно пока еще не дало цветов, тем не менее, выросло в приятное дерево, в тени которого они временно отдыхают и радуются жизни. И пусть все присутствующие здесь впустят этот пример в свои сердца. Пусть они не теряют надежды, когда им кажется, будто Господь к ним несправедлив, как тому несчастному человеку, их собрату, который наложил на себя руки, ибо если все они в той или иной мере будут следовать путем Отречения, каяться, и во имя праведности воздерживаться от греха, им наверняка будет дарована награда.
Некоторые из них говорили о мести, той жажде мести, которая недавно подтолкнула одного из них совершить убийство. Пусть они бегут от такой мысли. Их повелительница отомстила телам тех жестоких арабов, которые убили его людей и мучили его самого, но ни он, ни она не стали от этого счастливее. Кровь этих непросвещенных людей на их руках, ибо если бы они не стали их трогать, вне всякого сомнения, воздаяние нашло бы их само, или, что еще лучше, они бы до конца своих дней жили в раскаянии и искали бы прощения. Прощение заповедано нам от милосердного Бога, кто прощает всех, кто просит Его, и в прощении не следует отказывать никому, ибо даже самые лучшие из них наверняка нуждаются в нем.
– А ты простил бы эту свою женщину, что бросила тебя, Захед? – выкрикнула снизу Бахита.
– Разумеется, я прощаю ее, – ответил Руперт. – Было бы странно, если бы я этого не сделал, ибо поступив так, она сделала меня счастливее. Таких счастливых людей, как я, наверняка мир еще не знал, – добавил он и с улыбкой повернулся к Меа, которая улыбнулась ему в ответ.
Тогда в зале поднялся старый слепой учитель, мистик, искушенный в знании законов. Некогда он был любим народом за свою мудрость и добрые дела, хотя возможно в душе ревновал нового пророка, которому в последнее время внимали его соплеменники.
– Послушай, Захед, – сказал он, – я вместе с другими выслушал твою речь и одобряю ее дух и осуждаю упомянутые в ней преступления. Тем не менее, мне кажется, что ты упускаешь корень вопроса. Ответь мне, если я не прав. Бог угнетал тебя. Он по каким-то собственным причинам испытывал тебя. Он вывалял тебя в грязи. Он привел твою душу в ад. Твоя жена бросила тебя посреди твоих бед и несчастий и нанесла удар, на какой способна только женщина. Она сказала «Нищий, уходи, избавь меня от твоего рубища и уродства. Я найду себе нового, богатого мужа». И ты ушел, и что ты сделал? Ты не склонил головы перед волею Бога, ты не сказал: «Я радуюсь буре так же, как и солнечному свету. Я признаю, что я все это заслужил и теперь благодарен за то, что мой рот пуст, как был благодарен, когда он был полон». Нет, ты сказал – не сердись на меня, Захед, ибо дух в моих устах, и я говорю ради твоего просвещения. Ты сказал: «Я отказываюсь терпеть эту боль. Моя душа раскалена, она шипит. Я должен остудить ее в водах смерти. Я опою себя смертельным зельем. Я отправлюсь в объятия сна, потому что мой творец Бог был жесток со мной».
И тогда твой творец Бог склонился к тебе и заговорил с тобой с небес, заговорил через свои чары. Он показал тебе лицо на воде, лицо той, которая тебя по-прежнему любила, и тем самым оставил тебя в живых. Ты приехал, и ты нашел лицо, которое улыбалось тебе. Ты сохранил букву обета, данного той вероломной женщине, но ты нарушил его дух. Ты любил ее, нашу повелительницу Таму, а она любила тебя. Ты сам сказал, вы оба сказали: «Мы отрекаемся, потому что любим. Мы праведны, чтобы, когда настанет наш час, грех не разлучил нас». Дабы получить много, вы дали мало, вы, чьи глаза открыты и вы видите часть истины, вы, которые знают, что по сравнению со звездами над головой, теми самыми звездами, к которым вы однажды устремитесь, эта жизнь – не более чем оазис Тамы.
Послушай меня, Захед, я говорю это ради твоего просвещения. Я ни в чем не обвиняю тебя, как ни в чем тебя не обвинит Бог, сотворивший тебя из праха под своими ногами, а не из света над его головой. Он будет милостив. Он скажет: «Прах, ты прожил праведную жизнь – как прах». Но сегодня я говорю от его имени, ибо он поручил мне быть Его голосом. Ответь Ему, если можешь, на один вопрос. Если же нет, молчи, ибо ты все еще прах. Ты все еще считаешь себя привязанным к этой вероломной женщине, которая достойна быть битой палками? Ты открыто признаешь, что не станешь брать себе другой жены? Ты призываешь нас всех к прощению, не так ли? Ты говоришь, что прощаешь ее. Почему? Нет-нет, пока молчи, Глас Бога сейчас в моих устах, а не в твоих. Сначала выслушай, потом говори. Ты прощаешь ее, потому что своим вероломством она принесла тебе благо. Потому что, если бы не она, ты бы не обрел любви и уважения среди людей.
А теперь слушай и отвечай. Если бы эта проклятая женщина, эта дочь сатаны явилась бы сюда сегодня и сказала бы тебе: «Я, что поступила неправедно, теперь каюсь. Я, которая ненавидела, теперь люблю. Напоминаю тебе про обет, который ты дал. Я требую, чтобы ты оставил эту прекрасную женщину, что сидит рядом с тобой, и народ, который боготворит тебя, и сады, которые ты взрастил, и колодцы, которые выкопал, и вернулся со мной в ад улиц, на которых никогда не светит солнце, чтобы я могла подарить тебе детей, которые стали бы опорой твоему дому, чтобы мне обрести величие в твоей тени».
Ответь нам сейчас, что ты ответил бы ей? Сказал бы ты: «Не меня ли называют Захед? Поэтому я иду, иду тотчас же» и тем самым показал бы нам, что ты воистину само совершенство? Или бы ты сказал: «Женщина, ты возвела стену, ты порушила мосты, выкопала канаву. Я хром и не могу перелезть через стену; боюсь, я не осмелюсь плыть, у меня нет крыльев, и я не умею летать. Я прощаю тебя, пока ты далеко от меня, но я не прощаю тебя рядом со мной. Я люблю тебя и все человечество, но я не дотронусь до твоей руки. Я даю тебе развод». Произнес бы ты эти слова и тем самым показал бы всем нам, что ты по-прежнему человек из праха? А теперь отвечай на вопрос, который Бог задает тебе моими устами, Захед. Если же ты не можешь ответить, то ты, тот, кто проповедует Отречение и Прощение, – прах, тогда намажь себе им лоб и молчи.
Меа слушала эту длинную речь с нарастающим возмущением, ибо слепец произносил ее лишь за тем, чтобы высветить одно из столь любимых восточной религиозной мыслью и методами противоречий и заставить святого человека признать, что и он тоже полон заблуждений.
– На этот вопрос отвечу я, – вмешалась она прежде, чем Руперт успел произнести хоть слово. – Кто этот завистливый, седой глупец, который, словно ветер пустыни, наполняет воздух песком, кто загрязняет прозрачный водоем илом, кто уверяет нас, будто Бог говорит его устами, хотя эти уста родят лишь ветер и пустоту, кто желает убедить нас в грехе там, где греха нет, и указать тому, кто в тысячу раз превосходит его в праведности, новый путь к небесам? Неужели Бог повелел, чтобы тот, кого вываляли в грязи, но кто эту грязь с себя смыл, вновь в нее вернулся по приказанию той, что осквернила его? Неужели Бог повелел, чтобы человек этот покинул тех, с кем живет в невинности, чтобы разделить жилище с той, которая предала его и которая ему ненавистна? Неужели это зло можно назвать добродетелью? Неужели праведно облачиться в одежды чужого греха? Отвечай мне, старый, заносчивый болтун, который надеется снискать себе уважение тем, что затмит своего повелителя речами, словно новым платьем. Сядь на свою гордость, как на овечью шкуру, и скажи, с каких это пор истиной должно жертвовать ради лжи? С каких это пор мое сердце должно овдоветь, а та, что посеяла колючий чертополох, собирать благоуханные цветы?
Тогда старый учитель дернул себя за бороду и с гневом произнес:
– Неужели я, ученый муж, который провел долгие годы, постигая знания и предаваясь размышлениям, пришел сюда, чтобы спорить с голодной женщиной, которая жаждет вкусить запретный плод, которого ей не дано отведать…
– Молчите! – громогласно прорычал Руперт. – Молчите оба! Тама, не поддавайся гневу, он тебе не к лицу, а ты, мой критик и друг, больше не смей произнести даже слова против той, кого ты в душе любишь и чтишь. Когда же случится то, о чем ты только что говорил, хотя я и молю, чтобы этого никогда не произошло, тогда я спрошу совета у моей совести и поступлю так, как она мне повелит. Я все сказал.
Затем Руперт повернулся к Меа, чтобы успокоить ее, ибо такой разгневанной он не видел ее много лет. Речи старого проповедника не на шутку ее рассердили, и случись это в иные времена, как он бы дорого за них поплатился. Люди в зале принялись обсуждать слова старца и спорить между собой и так увлеклись, все до единого, что даже не заметили, как, набросив на голову шаль, какая-то женщина проложила себе путь в толпе и встала перед помостом.
Глава XXII. Эдит и Меа
Эдит все это слышала. Безжалостный переводчик не сгладил ни одно резкое слово, ни одну язвительную фразу. Она слышала, как ее назвали той, кого «следует побить палками» и «дочерью сатаны». Она своими ушами слышала, как Дик мерзко усмехается за ее спиной. Видела, как Табита пытается сдержать улыбку, неблагочестивую, по ее мнению, когда ее, Эдит, сравнили с грязью, выкатавшись в которой, человек больше никогда не будет чист, с той, что сеет ядовитые семена, и все эти и прочие оскорбления из уст этой ненавистной женщины, околдовавшей ее мужа своей красотой.
Терпеть это дальше было выше ее сил. В кои-то веки гнев наполнил ее едва ли не героизмом. Она сейчас подойдет к ним и, встав перед ними, потребует ответа на вопрос, заданный с такой силой насмешливым слепым арабом, обожавшим срывать с других покровы святости. Спрятавшись под шалью, она, работая локтями, проложила себе путь сквозь толпу и, встав перед помостом, резко сдернула с себя шаль.
Меа заметила ее первой. Движимая некой инстинктивной антипатией, она оглянулась по сторонам и встретилась взглядом с соперницей. Она тотчас же застыла в напряженной позе, какую принимала, когда будучи судьей, выносила приговор преступнику. Затем, заговорив по-английски, задала вопрос, хотя сердце ее уже знало ответ, ибо она хорошо помнила портрет в медальоне, что когда-то висел на шее Руперта.
– Незнакомка, кто ты такая, что без спросу вторгаешься в мой дом? И что тебе надо в нем?
Услышав ее голос, Руперт тоже оглянулся. В следующий миг, боясь не упасть, он крепко вцепился в подлокотники кресла, а на лице его возникло выражение немого ужаса, как если бы он увидел перед собой ненавистного призрака, явившегося, чтобы увести его за собой в ад. Его сердце остановилось, в глазах потемнело, на лбу выступил холодный пот.
– Я леди Дэвен, – ответила Эдит, – и явилась сюда, чтобы найти моего мужа, лорда Дэвена, который сидит с тобой рядом.
К этому моменту Меа уже пришла в себя. Ей стало ясно, что в ее жизни настал кризис, и ее дух смело восстал ему навстречу. Она притихла, пытаясь придумать, что ей делать дальше.
– Неужели? – спросила она. – Тогда этот старый учитель не иначе как пророк, или как там вы называете, таких, как он. Или же он слышал, как ты вошла сюда? Ты ищешь лорда Дэвена, на которого наплевала, когда он был беем Рупертом Уллершоу? Я права? Не похоже, чтобы Захед горел желанием уйти с тобой. Взгляни на него, его не узнать, – и она указала на перекошенное страданием лицо Руперта.
– Я разговариваю с моим мужем, а не с тобой, женщина, – сказала Эдит.
Меа покачала прекрасной головой и улыбнулась.
– Женщина – неправильное слово. Здесь я царица, которую он любит, но, увы, покуда ты жива, на которой не женится.
Руперт по-прежнему сидел, лишившись дара речи. Эдит же задыхалась от гнева. Воспользовавшись этим, Меа продолжила свою речь.
– Кто они? – просила она, указывая пальцем на Табиту и Дика. В сопровождении толмача те прокладывали себе путь к помосту. – Твоя нянька, что присматривает за тобой? А он? О, я знаю. Это тот самый джентльмен, которого ты любишь. Тот, ради которого ты выставила Захеда на улицу. О, я знаю, знаю! Вот та старуха с седой головой, – и она указала на Бахиту, с мрачным интересом наблюдавшую за этой сценой, – ей подвластно колдовство. Она показывала мне его уродливое лицо в воде. Он плавал в воде с хвостом змеи; у него голова человека, но сердце змеиное. Ты понимаешь меня? Если хочешь, Бахита и тебе покажет свое колдовство.
Наконец Руперт стряхнул с себя оцепенение.
– Эдит, – сказал он, – зачем ты сюда пришла?
– Я и сама начинаю задаваться тем же вопросом, – ответила она, приходя в себя, – ибо, похоже, мне здесь не рады. К тому же это место не слишком приятное, а его обитатели любят делать замечания.
Затем, пару мгновений помолчав, она обрушила на него свои слова – быстро и откровенно.
– Я пришла сюда, Руперт, просить тебя дать ответ на головоломку, которой развлекался этот старый слепой дервиш, когда так долго ее тебе излагал. Ты вернешься к своему долгу и брошенной тобой жене? Или же останешься здесь, как… друг этой бесстыдной особы и верховный жрец ее подданных-дикарей?
– Прошу тебя, Эдит, – произнес Руперт, – будь мягче в своих словах. Эти люди не такие, как европейцы, и моя власть над ними ограничена. Если ты будешь оскорблять Таму и они поймут тебя, я не отвечаю за последствия.
– Я не просила тебя отвечать за последствия, я попросила тебя ответить на мой вопрос, – возразила Эдит, кусая побелевшие губы.
– Он требует время для размышлений, – печально ответил Руперт.
И он поднял руку и обратился к жителям Тамы, которые растерянно и с любопытством наблюдали за происходящим.
– Братья и сестры, – произнес он, – случилась удивительная вещь. Говоря сегодня с вами о преступлениях, что были совершены в Таме, я в качестве примера привел вам свою собственную историю. Затем старый учитель показал мне, сколь слаб и грешен я на самом деле, и задал мне вопрос, если вдруг сюда явится моя бывшая жена и потребует, чтобы я вернулся к ней, приму ли я ее назад, ибо когда-то она жестоко обошлась со мной. И вот теперь эта жена стоит передо мной и требует от меня решения, которое я обещал принять, когда придет для него время. И оно пришло, настал тот самый проклятый день, который, я надеялся, никогда не настанет, забыв о том, что по ту сторону моря для меня все может поменяться. И все же, братья мои, буду ли я неправ, если попрошу время для принятия решения? Как вы отнесетесь к тому, если я, например, скажу, что мы по заведенному обычаю соберемся здесь вновь в этот самый же день следующего месяца и ни днем раньше, и я объявлю свое решение.
– Нет, нет, ты будешь прав, Захед! – сказали люди, а старый слепой мистик перекричал их своим пронзительным голосом: – Да будет так!
Более того, знатные люди среди них встали во весь рост и закричали, что он не должен никуда уезжать, что они соберут своих слуг и будут сторожить перевал, а если понадобится, то будут держать его здесь в качестве пленника – с этими словами они злобно посмотрели на Дика и его спутников.
Ахмет перевел их слова и добавил свои собственные:
– У этих людей чертовски скверный нрав, они замкнутые, свирепые и любят Захеда. Вы не должны их сердить, иначе они убьют нас всех. Я приехал сюда, чтобы переводить, а не для того, чтобы мне здесь перерезали глотку.
Дик с завидной быстротой оценил ситуацию и со всей откровенностью высказался по ее поводу:
– Только не надо строить здесь из себя важную даму, Эдит, – сказал он. – Я не спешу последовать примеру нашего друга, этого бога, что восседает на помосте, и отречься от мира в более широком смысле. Эта дикарка воспользуется любым предлогом, чтобы расправиться с нами. И она непременно это сделает, если захочет.
Лишь Табита, которая устала стоять, опустилась на камень и, по чистой случайности, угодила на колени местному жителю, который сел на него раньше, и, не обращая внимания на его попытки сбросить ее с себя, принялась обмахиваться широкополой шляпой.
– Ах, – сказала она, – не переживай. Если нас убьют, значит убьют. Лично мне интересно послушать их мнение. Я очень даже рада, что попала сюда.
– Ты слышишь их ответ, Эдит, – сказал Руперт, – и ты должна понять мою позицию. У тебя есть возражения?
– Твоя позиция мне ясна и понятна, Руперт, как ясно и то, что человеку подчас сложно, я бы даже сказала, архисложно, вырваться из опутавших его оков. – И она посмотрела на Меа и умолкла.
– И вновь не те слова, – пробормотала владычица Тамы с нежной улыбкой, – то, что ты называешь оковами, на самом деле узы, канаты любви – слишком толстые, чтобы их перерезать, слишком крепкие, чтобы разорвать.
– Что касается возражений, – продолжала Эдит, делая вид, будто не слышит ее мелодичного голоса, ее поэтичных слов, – у меня нашелся бы не один десяток, однако поскольку мы не хотим быть зарезанными твоими милыми протеже, то наверно мне стоит придержать язык и дать тебе месяц на то, чтобы ты одумался. Правда, я вряд ли соглашусь чахнуть здесь все это время.
– Не хочешь, не надо, – вновь перебила ее Меа. – Тебя никто не держит, дорога всегда открыта. Я дам тебе верблюда, дам солдат и пищу, а позже письмом сообщу, какое решение принял Захед. Я смогу написать очень хорошее письмо по-английски, я изучала ваш язык в Луксоре. Или ты предпочла бы, чтобы я написала его по-арабски?
Услышав эту колкость, Дик злорадно ухмыльнулся. Его оскорбленной душе было приятно видеть, что в кои-то веки Эдит получила по заслугам. Табита же расхохоталась. Общий эффект был таков, что Эдит быстро поменяла свое мнение.
– Да, я останусь, – сказала она, как будто только что не предлагала нечто противоположное, – ибо считаю своим долгом дать ему все взвесить и принять решение.
– Рада, что ты остаешься, – ответила Меа, – для моего народа это великая честь. Я дам тебе хороший дом, высоко на горе, ибо здесь внизу твой большой рот может поймать лихорадку, и тогда ты останешься здесь надолго. – С этими словами она повернулась и отдала резкий приказ, услышав который, несколько человек вскочили и, поклонившись ей, бросились его исполнять.
– Что это? – нервно спросил Дик.
– Ничего, – ответила Меа, – я всего лишь велела им подготовить дом на горе и отнести туда ваши вещи, а также выставить вокруг дома стражу, чтобы вас никто не обидел. А теперь мне пора. Доброй ночи! – сказала она и, встав с места, поклонилась своему народу, затем гостям, и наконец, в знак уважения к Руперту, подняла его руку и дотронулась ею до своего лба. После чего сошла с помоста на пол, где ее тотчас со всех сторон окружила вооруженная стража. Вслед за Бахитой, она в плотном кольце воинов прошествовала вдоль прохода между центральных колонн огромного зала, сопровождаемая с обеих сторон криками «Тама! Тама!», как то вошло в обычай у местных жителей в дни этой церемонии.
– Himmel, – сказала Табита, – Himmel, она прекрасна! Не удивительно, что Руперт ее так любит, да и весь народ тоже. Вы только взгляните, как они ей кланяются. Ахмет, где моя фотографическая камера? Я хочу сделать снимок.
– Здесь нельзя делать снимки, – мрачно отозвался Ахмет. – Они еще подумают, что это какое-то колдовство, что-то вроде сглаза. Так что никаких снимков, пожалуйста.
Но Табита уже забыла о своем намерении и быстрым шагом направилась к Руперту.
– Мой дорогой Руперт! – воскликнула она и, вскарабкавшись на помост, уселась в похожее на трон кресло, в котором только что восседала Меа, после чего, подавшись вперед, торжественно поцеловала его в лоб. – Мой дорогой Руперт, как же я рада тебя видеть! У меня просто нет слов, как я рада.
– Я тоже рад тебя видеть, Табита, – ответил он, – хотя, если честно, я бы предпочел, чтобы наша встреча состоялась в более приятных обстоятельствах.
– Ах, ты в глубокой яме, – сказала она, – на самом дне колодца, но ведь наверху есть свет, и кто знает, вдруг ты сумеешь выбраться из нее.
– Увы, я не знаю, как, – печально ответил он.
– Ты нет, а вот Господь – да. Возможно, он вытащит тебя из нее. Как же мне жаль тебя, мой дорогой. У меня уже терпение лопнуло с Эдит и Диком. Ненавижу его, сейчас и всегда.
– Расскажи мне, как там у вас дела, – сказал Руперт, – возможно, второго такого случая у нас не будет.
И она рассказала ему все, что знала. Дик и Эдит тем временем исчезли из вида, выйдя в боковую дверь. Большая часть присутствовавших в зале разошлась, оставалось лишь несколько человек на дальнем его конце. Мешая немецкие и английские слова, Табита быстро заговорила. Руперт, по старой привычке одним ухом слушал ее, в то время как мысли его унеслись куда-то еще. Например, он вспомнил, как они с Табитой как-то раз сидели вместе на другом возвышении, в другом зале в далекой отсюда Англии.
– Ты помнишь, – внезапно сказал он, – тот канун Нового года в Дэвене, в тот вечер, когда я обручился с Эдит, и что ты сказала мне тогда?
Табита кивнула.
– Ты сказала, что от нее будут одни беды, – продолжал он, – что она очень опасна. Что ж, так оно и есть, и теперь как же мне поступить?
– Никак. Просто жди, – ответила Табита. – У тебя есть месяц, и в течение этого времени встречайся с ней только на публике. За месяц может многое произойти. Более того, я уверена: что-то непременно произойдет. – И вновь на ее широком, серьезном лице появилось то роковое выражение, которое он заметил много лет назад, когда она сидела с ним на возвышении в зале поместья Дэвенов.
– Бог не бросает таких людей, как ты, Руперт, тех, кто жестоко пострадал, но не озлобился, – сочувственно прошептала она, пожимая ему руку. – Ой, посмотри! Дик вернулся и зовет меня. Когда мы увидимся снова?
– Завтра, – ответил он, – ибо сегодня я не могу ее видеть, и не увижусь с ней наедине до истечения месяца. Постарайся, чтобы она это поняла.
– О, она отлично это понимает, равно как Дик и я. Но могут ли они чувствовать себя в безопасности?
– Даже в большей, чем в Лондоне. Единственное, чего они не должны делать, – это худо отзываться о Таме. А пока доброй ночи.
– Доброй ночи, дорогой Руперт, – сказала Табита и ушла, он же остался одиноко сидеть на помосте.
* * *
Той ночью Табита и Эдит спали в доме, который им предоставила Меа. Расположен он бы на вершине гребня горы примерно в двух милях от города и был частью его фортификаций. Внутри было прохладно, из окон открывался прекрасный вид. Дику был предоставлен похожий, только чуть меньших размеров, из той же цепочки оборонительных сооружений, примерно в пятистах ярдах от них. В оба дома было доставлено все необходимое и оба охранялись денно и нощно, чтобы оградить гостей от возможных враждебных действий со стороны местных жителей.
Эдит была так сердита, что какое-то время не разговаривала с Табитой. Когда они закончили ужинать, та села на веранде, служившей также наблюдательным пунктом, положив на колени закрытую Библию и задумчиво глядя на лунный свет по одну сторону и туманный оазис по другую. В этой игре в молчанку ее спокойный, невозмутимый ум был куда сильнее, нежели ум Эдит. В конце концов, последняя не выдержала. Тишина и умиротворенность этого места, которые, по идее, должны были успокоить ее, наоборот, лишь еще больше ее разозлили, и она разразилась потоком слов. Она осыпала оскорблениями Табиту, за то, что та привезла ее сюда и теперь по ее вине, она, Эдит, должна терпеть унижения. Оно обозвала Меа дурными именами. И, наконец, заявила, что немедленно уедет отсюда.
– Ах, – отозвалась Табита. – Тогда заодно увези с собой и Дика.
– Нет, – отрезала Эдит. – Я не желаю его больше видеть. Ни его, ни всех вас.
– Как же мне не везет! – ответила Табита. – Но раз уж я наконец приехала в это чудное место, я останусь здесь на месяц и поговорю с Рупертом. А если он и эта его красавица позволят мне, то задержусь здесь и дольше. Но как и тебе, Дик мне здесь не нужен. Что касается тебя, Эдит, если ты хочешь уехать, они ведь сказали: дорога открыта. Тебя никто не держит. Тем самым ты избавишь всех от лишних хлопот.
– Я никуда не уеду! – воскликнула Эдит. – С какой стати мне бросать моего мужа с женщиной, которая не имеет права быть рядом с ним?
– Я бы не стала так заявлять, – задумчиво произнесла Табита. – Если бы моя собачка угодила в капкан и заболела, я же вышвырнула ее на улицу и бросила там подыхать с голоду, а какая-то добрая леди подобрала ее и взяла к себе в дом, где та прожила долгие годы, имею ли я право заявлять, что у нее на мою собачку нет никаких прав лишь потому, что спустя годы я узнала, что собачка, оказывается, ценная и что я – это надо же! – вдруг снова полюбила ее?
– Прошу тебя, не говори всякую чушь про собачек, Табита. Руперт – не собачка.
– Нет, но почему ты обошлась с ним, как с собакой? Если такая собачка привязалась к своей новой хозяйке, разве не прекрасно, что с ним произошло точно так же? Неужели ты, наконец, полюбила его, что хочешь всеми правдами и неправдами его вернуть, хотя он здесь доволен и счастлив?
– Не знаю, – огрызнулась Эдит. – Но я ни за что не оставлю его с этой женщиной. Я не верю в эту платоническую чушь. А сейчас я иду спать, – сказала она и ушла.
Табита же еще какое-то время сидела, глядя на залитую лунным светом пустыню, и читала свои обычные молитвы.
– О, Отец Небесный, – произнесла она в конце, – помоги эти двум несчастным душам, которых ты подверг столь жестоким испытаниям. – Стоило ей произнести эти слова, как ей почему-то подумалось, что они непременно будут услышаны. Затем, исполненная спокойствия, она тоже удалилась ко сну.
Утром Эдит получила от Руперта записку. Впервые за долгие годы она вновь увидела его почерк. В записке говорилось:
«Дорогая Эдит,
Я не стану обсуждать странные обстоятельства, в которых мы оказались, и я прошу тебя никоим образом не касаться и не упоминать их в течение этого месяца. Факты известны нам обоим. Обсуждать их дальше – значит лишь сильнее обострять обиды и, возможно, помешать мирному разрешению ситуации. Если ты согласна на это, скажу от имени себя и Тамы, что мы готовы взять на себя такие же обязательства и будем рады видеть тебя в любое время, в какое ты только пожелаешь.
Если же, напротив, ты не согласна, то будет лучше, если мы воздержимся от общения до того самого дня, когда я пообещал ответить на твой вопрос. Ответ на это письмо можешь отправить с посыльным.
Руперт».Эдит немного подумала, затем взяла лист бумаги и написала на нем карандашом:
«Я согласна.
Эдит.
P.S. Я также прилагаю письмо, которое привезла тебе. Он написал его незадолго до смерти. А также несколько писем от адвокатов».
«В конце концов, – подумала она, провожая взглядом посыльного, уносящего ее пакет на расщепленной палке, – это позволит мне спокойно осмотреться по сторонам. Руперт прав. Взаимные упреки бесполезны. Кроме того, он и эта женщина здесь хозяева. И мне лучше их слушаться».
Не прошло и часа, как посыльный вернулся, на этот раз с запиской от Меа, в которой та, на весьма причудливом английском приглашала обеих женщин разделить с ними полуденную трапезу. И они отправились в город и по дороге встретили Дика, который получил такое же приглашение.
Прибыв в город, они застали Руперта на веранде его дома. На земле вокруг него на корточках сидели многочисленные страждущие, каждый со своей жалобой, а также несколько женщин с больными детьми на руках. Завидев гостей, Руперт поклонился и приветливо крикнул:
– Прошу простить меня за небольшую задержку. Я уже почти закончил с утренним врачеванием, однако не советую вам подходить близко, потому что некоторые из болезней заразны.
Эдит и Дик моментально поняли намек и отвели верблюдов в тень стоявшего на отшибе дерева. Но только не Табита. Соскочив со своего ослика, она направилась прямиком к Руперту и пожала ему руку. Через пару минут Эдит и Дик увидели, что она взялась помогать ему перевязывать раны и раздавать лекарства.
– И как она только может! – воскликнула Эдит. – Но еще хуже другое: она наверняка подцепит там любую заразу! Подумать только, Руперт лечит всех этих ужасных людей!
– Говорят, у него это на редкость хорошо получается, – ответил Дик. – И что он готов ехать за несколько миль, чтобы проведать больного. Не удивительно, что он пользуется здесь всеобщей любовью.
– Не хочешь тоже ему помочь? – язвительно спросила Эдит. – Ты ведь до того, как стать адвокатом, два года изучал медицину.
– Покорнейше благодарю, – ответил Дик. – Мне гораздо приятнее сидеть под деревом рядом с тобой. В данный момент я не претендую на всенародную любовь и не вижу причин, почему я должен рисковать.
– А вот Руперт не боится риска, – заметила Эдит.
– Не боится, – согласился с ней Дик. – Ему всегда была присуща любовь к опасным и малоприятным вещам. Думаю, именно в этом и заключается твой шанс, Эдит. Возможно, он решится распрощаться с существованием, которое столь идеальным образом ему подходит, чтобы вернуться к радостям цивилизации.
– Ты сегодня даже более груб, чем обычно, – сказала Эдит. – Зачем ты вообще приехал сюда? Мы ведь тебя об этом не просили.
– Только не притворяйся, Эдит, будто в последнее время твоими главными качествами были мягкость и доброта. Что до всего остального, учитывая, что от результатов этого путешествия зависит, стану ли я одним из самых богатых людей Англии или же останусь нищим, наоборот, было бы странно, если бы я не приехал сюда, дабы защитить мои кровные интересы, – с укором парировал Дик.
– Теперь тебе все известно, – ответила Эдит. – Тогда почему ты не уезжаешь? Руперт жив, а значит, наследство отходит ему, а не тебе.
– Совершенно верно, но ведь он не бессмертен. Например, он может заразиться одной из этих болезней.
– Даже не рассчитывай, Дик, – усмехнулась Эдит. – Он слишком к ним привычен. Так что тебе от него не так-то просто избавиться.
– Та права, это маловероятно. Согласись, что у него на редкость здоровый вид. Но кто знает? По крайней мере, характер у него покладистый. Думаю, мы с ним найдем общий язык. Кроме того, – добавил Дик уже другим голосом, – пойми раз и навсегда, что я намерен дождаться конца этой пьесы, что бы ты или кто-то другой ни сказали по этому поводу. Я был ее участником в самом начале, и я буду им в самом ее конце.
Эдит пожала плечами и отвернулась, потому что было в лице Дика нечто до крайности неприятное, чего она не хотела видеть. К тому же в этот момент они увидели Руперта. Вымыв руки и переодевшись в чистые одежды, он ехал к ним верхом на белом муле, рядом с которым шагала Табита. Он не смог снять шляпы, ибо голову ему прикрывала куфия, однако он приветствовал Эдит тем, что приложил два пальца ко лбу, а затем поздоровался за руку с ней и с Диком.
– Прости, что я не спешился, – произнес он приятным тоном, – но как ты помнишь, теперь я жуткий калека, который так и не смог отрастить себе заново ногу и даже разжиться новой, искусственной. Я заказал себе протез, но тот, по всей видимости, был дамским. По крайней мере, он оказался меньше на три размера и теперь украшает ногу одной черной нищенки.
Эдит рассмеялась. Почему-то мысль об увечьях Руперта больше не внушала ей ужаса.
– Меа ожидает вас всех на ленч, – сказал он, – если я могу назвать так нашу необычную трапезу. Надеюсь, вы придете.
Эдит кивнула и, скорчив забавную гримаску, поехала рядом с Рупертом к дому Меа.
– Ты получил мою записку, – внезапно спросила она, – и приложенные к ней письма?
– Да, – ответил он. – Письмо печальное, я бы даже сказал, весьма, а другие – очень даже любопытны. Но ведь мы договорились не говорить о таких вещах, не так ли, до истечения месяца.
– Конечно, Руперт, – мягко ответила Эдит. – Что касается меня, то прошлое для меня в прошлом. Я здесь не ради себя, а для того, чтобы выполнить твою волю. Я лишь хочу сказать, что сожалею, что вчера говорила так, как не должна была говорить, да и о многом другом, Руперт, но поверь, мне было тяжело слышать все эти горькие слова, даже если я их заслужила.
– Да, я понимаю, это тяжело, – сказал он, краснея, – но уговор остается в силе: весь следующий месяц мы будем просто друзьями, не так ли?
– Да, Руперт, как ты приказал, – прошептала она.
Посмотрев на нее, Руперт увидел в ее голубых глазах слезы.
«Все это оказалось гораздо труднее, чем я полагал», – подумал про себя Руперт, а в следующий миг, облаченная в белоснежные одежды, им навстречу вышла Меа и с такой же белоснежной улыбкой и восточной учтивостью, приветствовала гостей.
Глава XXIII. Поворот колеса
Обед в доме Меа положил начало весьма странному существованию четырех человек, что являются главными героями нашей истории. Каждый, или почти каждый день они встречались, и этот манерный фарс продолжался дальше. Меа и Руперт играли роль гостеприимных хозяев, Эдит и Дик – воспитанных и благодарных гостей. Табита молча наблюдала за ними проницательным взглядом, гадая, что будет, когда этому перемирию настанет конец. Вскоре она и Меа стали подругами, такими близкими, что последняя время от времени приподнимала край покрывала своей восточной невозмутимости, под которым пряталось ее сердце, давая подруге угадать, какая боль и какие страхи раздирали его. Правда, вслух об этих вещах они не говорили, ибо это также было частью всеобщего заговора молчания.
Эдит старалась как можно чаще проводить время с Рупертом. Чтобы быть с ним рядом, она даже совершала длительные верховые прогулки, которые ненавидела и во время которых он со всей серьезностью рассуждал о самых разных мирских и небесных вещах, кроме тех, что так и просились на губы обоих. Она наблюдала его за работой и постепенно начала понимать, какое великое дело он делает, и с каким тщанием. Ей также стало понятно, что он пользуется здесь всеобщей любовью, начиная Меа и кончая малыми детьми, что только-только встали на ноги и начали ходить. Более того, она начала понимать те качества, что пробуждали в людях всеобщую любовь к нему. И что самое главное – думаю, здесь мы можем сказать правду – впервые в жизни это произвело на нее глубочайшее впечатление.
Наконец Эдит начала проникаться к мужу любовью, или, если это слишком сильно сказано, по крайней мере, восхищаться им – нет, не только его душевными качествами и характером, но и его внешним обликом, тем самым, который когда-то вызывал у нее отвращение, особенно, когда она сравнивала его с неким другим мужчиной. Теперь же, когда колесо ее инстинктов совершило поворот, тот, другой мужчина стал ей ненавистен, и она сторонилась его, как когда-то сторонилась Руперта, всячески избегая его общества, а еще более – знаков внимания, которые он время от времени ей оказывал, тем более, что теперь Дика терзала ревность. Разумеется, учитывая характер Эдит, свою роль в таком моральном и физическом volte-face[20] сыграло то, что Меа смотрела на Руперта полным обожания взглядом, однако это была не единственная причина. На нее обрушилось Воздаяние и длань Судьбы пригнула ее к ногам этого мужчины.
Но, что хуже всего, это ничуть не приблизило его к ней. Нет, Руперт, как всегда, был учтив и обходителен, даже галантен, однако она чувствовала, что на самом деле это – броня, которую она не в состоянии пробить, что, как он однажды сказал, его природа и его дух в омерзении восстают против нее. Дважды или трижды она пыталась прикоснуться к нему, и всякий раз замечала, как он мгновенно отстранялся от нее, но не потому, что боялся показать свои чувства или впасть в искушение, а по причине стойкого внутреннего отвращения, что, согласитесь, нечто совершенно иное. Она помнила его страшные слова про развод, как он бросил ей в лицо, что отныне ненавидит ее, и что если в будущем она поклянется в любви к нему, он не притронется к ней даже кончиком пальца. Да и зачем ему это, когда рядом с ним постоянно другая женщина, более верная, более духовная – и да, она вынуждена это признать, более красивая – которая занимает все его помыслы.
А теперь посмотрим на Эдит после того, как она провела в обществе мужа две недели. Ее утомила долгая верховая прогулка под палящим солнцем, на которую она согласилась, чтобы побыть рядом с ним, изображая интерес к вещам, которые она не понимала, таких как, например, посадка финиковых пальм, ибо ей было совершенно безразлично, вырастают они из косточек или отростков. Ее также утомили бесконечные, но, похоже, тщетные усилия предстать перед ним лучшей своей стороной, оставаться под палящим зноем спокойной и привлекательной, даже сидя на капризной лошади, которая то и дело пугала ее своим выходками. (Интересно, задавалась она вопросом, как это Меа удается выглядеть свежей даже в жару и никогда не терять собственного достоинства и почему ее волосы под белым покрывалом всегда остаются упругими и блестящими?) Не в меньшей степени Эдит раздражал и Дик, сопровождавший ее до их с Табитой дома. Кузен всякий раз самым уродливым образом демонстрировал свою растущую ревность, выпуская в нее одну за другой стрелы грубого сарказма. Он не преминул напомнить ей про тот день много лет назад, когда ее муж считался мертвым, и она согласилась выйти за него, Дика, замуж. Она не стала ему отвечать, ибо не видела в этом смысла, однако в глубине души поклялась, что при первой же возможности избавится от Дика раз и навсегда. Да, ей было все равно, что он скажет и какие письма пригрозит сделать достоянием гласности, она не станет зарывать голову в песок и покончит с ним. Жаль только, что ей не хватило мужества сделать это много лет назад.
И вот теперь она была в своей комнате, лежала лицом вниз на ангарибе и рыдала, выплакивая накопившуюся в душе горечь. Все ее очарование, все ее женские уловки были бессильны против невысокой, однако царственного вида восточной женщины с быстрым умом, спокойным, загадочным лицом и взглядом, похожим на взгляд Судьбы; женщины, что некогда бросила ей вызов и с благодарностью приняла мужчину, которого она, Эдит, отвергла, согласившись быть хозяйкой только его сердца. Будь все иначе, между ними могли бы возникнуть ссоры, или бы она наскучила ему. Но в том-то все и дело: не будучи мужем и женой, они не могли друг другу наскучить. Она постоянно распахивала перед ним врата Эдемского сада, рая, из которого его возвращали назад ангелы с огненными мечами его собственной суровой праведности и некогда принесенного обета. И вот теперь перед ним широко распахнулись врата другого сада, который предлагала ему Эдит и который много лет стоял замкнутым на замок и запор, он же не имел ни малейшего желания туда войти.
Чем же все это кончится, когда по истечении месяца ей вновь придется предстать перед толпой чужаков с их каменным, презрительным взглядом? О, тогда она наверняка услышит, что он посоветовался с собой и собственной совестью, что он не нашел такого закона, который бы вынудил его вернуться к женщине, которая отвергла его; что он предлагает ей свой титул и свое богатство и желает ей самого лучшего в этой жизни, однако он сам останется там, где находится, дабы и дальше рассуждать о философии и прочих подобных вещах с его благородной спутницей Тамой, прекрасной и безупречной.
Нет, это выше ее сил! Эдит дала волю слезам. Ее рыдания громким эхом раздавались в пустой комнате. Услышав их сквозь тонкую перегородку, Табита пришла к ней, чтобы спросить, в чем дело.
– Ты больна? – спросила она.
С заплаканным лицом и в ночной сорочке, Эдит сидела на ангарибе; волосы рассыпались по ее плечам.
– Может быть, – ответила она. – По крайней мере, я несчастна, что то же самое.
– В чем дело? Неужели Дик…
– О, забудь про Дика. Я от него устала.
– Тогда в чем? В Руперте?
– Разумеется, в ком же еще? Или ты слепа, Табита?
– Ах, я вижу не дальше других. Но зачем тебе так громко рыдать из-за Руперта, что я слышу твой плач даже сквозь стену? Он ведь так добр к тебе.
– Добр, добр, добр! – воскликнула Эдит, с каждым словом все громче. – Да, он добр, как был бы добр к любой женщине, которую занесло сюда. Мне не нужна его доброта!
– Тогда что тебе от него нужно? Его гнев?
– Нет. Мне нужна… его любовь.
– Тебе ее никогда не купить, тем более что на рынке есть и другой торговец, тебе же нечего предложить взамен, – задумчиво произнесла Табита.
– Не знаю, что ты имеешь в виду, говоря, что мне нечего предложить взамен, Табита. Неужели то, что я могла бы предложить ему, ты называешь словом «нечего»?
– Mein Gott! Я поняла. Ты хочешь сказать, что влюбилась в него?
– Да, наверно это я и хочу сказать. По крайней мере, он мне муж. У меня на него есть права.
И вновь леди Дэвен задумалась, а потом сказала:
– Меня вечно мучил вопрос: чем все это закончится? Если ты полюбила его, жаль, что этого не случилось раньше. Почему на это тебе понадобилось так много времени, Эдит? Но я боюсь, что уже слишком поздно. Как там говорится в одной английской пословице – куй железо, пока горячо.
– Если это все, что ты можешь сказать, ты могла бы оставаться в своей комнате! – резко ответила Эдит между всхлипами.
– Himmel! А что еще я могу сказать, кроме правды? Извини, Эдит, но не ты ли приготовила этот пудинг? Каким ты его приготовила, таким и кушай. Что толку лить слезы, если он у тебя пригорел? И все же мне жаль тебя, моя дорогая Эдит, ибо ты поняла: когда бросаешь в воздух камни, некоторые затем падают тебе же на голову.
– Прошу тебя, уходи! – прошептала Эдит. – Мне не нужна твоя жалость, равно как и твои нравоучения. Оставь меня в покое, чтобы я доела свой, как ты выразилась, пудинг.
– Прекрасно, – ответила Табита, – но мой тебе совет, попроси Бога, чтобы тот немного его подсластил, что ты всегда забываешь сделать.
– Боюсь, забыла и уже давно, – ответила Эдит, вновь бросаясь на ангариб и отворачиваясь лицом к стене.
* * *
Той ночью в Таме были и другие страдающие сердца. Например, Руперт заметил, пусть и не полностью, но многое из того, что происходило в душе его жены. Он понял: Эдит искренне раскаивается в своем эгоистичном поступке и всем сердцем желает его исправить. Он также был уверен, из своего знания их предыдущих близких отношений, из ее более чем прозрачных намеков, из того, что он наблюдал, когда они бывали вместе, что она поступила так под влиянием Дика, который ухаживал за ней как до их бракосочетания, так и после его предполагаемой смерти, и вот теперь это влияние больше не давило на нее, хотя она по-прежнему страшно боялась своего кузена. Кстати, это подтверждали и другие источники информации – Табита, рассказавшая ему очень многое, да и сам Дик, пытавшийся очернить Эдит в его глазах, якобы случайно выболтал кое-какие факты. Так, например, выяснилось, что Дик и Эдит обедали вдвоем накануне того злополучного Нового года, когда Руперт вернулся в Англию, более того, пребывали на тот момент в на редкость близких и теплых отношениях.
Надо сказать, что это и другие его откровения имели совершенно иной эффект, нежели тот, на который он рассчитывал. Руперт начал проявлять снисхождение к Эдит. К нему пришло понимание, что те вещи, которые он принимал за эгоизм и жестокость, на самом деле объяснялись ее страстью к этому презренному ничтожеству. Он жил в этом мире не первый день и знал, что влюбленная женщина обычно смотрит на других мужчин с отвращением, даже если такой мужчина был когда-то любим ею.
И потому, как рассуждал кроткий, сострадательный Руперт, считая его мертвым, Эдит, тем более, будучи женой лишь на бумаге, поддавшись минутному порыву и соблазнительным речам змея-искусителя (как понял Руперт) пообещала Дику выйти за него замуж, после чего к ней явился мертвый муж, каким он был для нее на тот момент. Разве не достойна Эдит снисхождения, ибо, образно выражаясь, она уже отходила свое время во власянице и посыпав голову пеплом, тем более что этот Дик был теперь ей неприятен.
А пока, с каким упорством он ни пытался бы подавить в себе эти чувства и мысли – кстати, чем не прекрасная возможность воплотить в жизнь собственные доктрины отречения и прощения? – им владело желание, подчас непреодолимое, если не свернуть шею этому Лермеру, то по крайней мере, вышвырнуть его из Тамы, где тот, надо сказать, уже успел настроить против себя многих.
В том числе и его самого. С другой стороны, он вынужден признать тот малоприятный факт, что слова, которые он наговорил тогда в лондонской гостиной, по крайней мере, в его собственных глазах невозможно взять назад. То внезапное отвращение, омерзение души и тела, которое он испытал по отношению к жене, никуда не делись. Одно дело – разговаривать с ней, и совсем другое – к ней вернуться. От этой мысли его передергивало.
Начать супружескую жизнь с Эдит – для него это было бы сущим чистилищем. Это означало бы оставить все свои надежды и устремления ради других, совершенно ему не нужных, которые, как подсказывала ему совесть, были бессильны исправить существующее положение вещей. Но если это его долг, то ни о чем подобном даже не следует думать. Зато была Меа, и о ней он должен всегда помнить. После всего, что было между ними, разве в том состоит его долг, чтобы бросить ее? Даже если его преданность и глубочайшее уважение к ней на самом деле проистекают из отвращения к собственной жене? Короче, и здесь во всем виноват Дик.
Руперт знал: Меа от него без ума. Ради него она отказалась от замужества и согласилась на странные отношения, которые оказались на удивление удачными и счастливыми. Если он оставит ее, она, возможно, этого не переживет или по крайней мере будет несчастна до конца своих дней. Так можно ли требовать от него, чтобы из-за пустой церемонии, дух которой когда-то нарушила вторая сторона, он должен причинить зло любимой женщине, не нарушившей ничего, кроме собственных человеческих порывов, которые она, дитя Востока, втоптала в прах, с тем, чтобы он мог соблюсти букву своего строгого западного закона?
Хуже всего было то, что на протяжении всей этой ужасной внутренней борьбы, когда его душа носилась по волнам сомнений, от самой Меа он не получил ни малейшей помощи. То ли по причине гордости, то ли решив, что не имеет права влиять на ход событий, она не произнесла ни единого слова мольбы и не стала взывать ни к его жалости, ни к его любви. Их жизнь продолжалась так, как она шла вот уже семь лет. Они встречались, они беседовали, они лечили больных и страждущих, они отправляли правосудие, вели счета, как будто на земле не было никакого Дика и никакой Эдит. Лишь время от времени Руперт ловил на себе взгляд огромных преданных глаз Меа, в которых застыла настороженность и даже страх. Принимать решение должен только он сам. Порой ему казалось, что его мозг не выдержит напряжения и вот-вот взорвется от этих мыслей. Руперт искал поддержку и утешение в вере, искал свет в молитве и борьбе с самим с собой, но, увы, свет так и не пролился. Он был брошен наедине с самим собой. Лишенный поддержки и помощи, Руперт приближался к роковому дню, когда должен будет принять решение.
Ричард Лермер, также следивший за ходом событий, в конечном итоге оказался в весьма незавидном положении. Он видел, что Эдит тянется к Руперту. Поначалу он решил, что ею движут исключительно корыстные интересы, однако в последние нескольких дней многочисленные сигналы и признаки убедили его, что все гораздо сложнее, что ею движут более глубокие чувства, что Руперт привлекает ее и она хотела бы добиться его любви. Более того, Табита так и сказала ему со свойственной ей прямотой, и даже предложила, что в его же собственных интересах уехать отсюда, поскольку он здесь никому не нужен. Выругавшись себе под нос, он наотрез отказался и ушел жевать свою жвачку гнева и ревности.
Надо сказать, что это была крайне горькая жвачка. Удача выскользнула из его рук. Наследником титула и огромного состояния теперь был Руперт. Единственное создание, которое он любил, также выскальзывало от него. Она и ее деньги переходили к Руперту, не только на бумаге, но и фактически. Разумеется, оставалась вероятность того, что он ее отвергнет. Но в это Дик ни на секунду не верил. Слишком многое было поставлено на карту. Ведь как может человек, если он в своем уме, отказаться от идущей к нему в руки удачи, чтобы остаться шейхом в диком арабском племени? Кто поручится, что по причине несчастного случая или заговора он не лишится своего положения? Скорее всего, он тянет время лишь затем, чтобы спасти лицо перед другой женщиной, а также повысить свою ценность в глазах Эдит.
Так что Руперт получит все, а он, Дик, останется ни с чем. Как же его жизнь зависит от этого человека! Ну почему он не умер? А если он все же умрет? Как же тогда изменится его собственное будущее! Эдит снова вернется к нему, как то было, когда Руперт не путался у него под ногами, и он, Дик, будет ее повелителем, а также хозяином состояния, которое сможет тратить сам, уважаемым генералом многочисленных легионов, а не темной презираемой личностью, которой ничего не светит в этом мире, разве что богадельня или работный дом. О если бы только Провидение проявило к нему милосердие и убрало с его дороги это препятствие!
Но Провидение даже не пошевелило пальцем. Так почему бы ему не помочь? Поначалу Дик шарахался от этой мысли, но постепенно его ум начал к ней привыкать. Потехи ради он представил полдюжины способов это сделать, однако моральная сторона вопроса вынудила его отказаться от них как слишком рискованных. Мир давал таким вещам уродливые имена, и если они всплывут, за них его ждет не менее уродливая кара. Более того, случись что-то с Рупертом, как любого, на кого пало бы подозрение в этом оазисе, ждала бы крайне незавидная участь. Так что об этом даже лучше не думать. Иное дело, если бы Судьба неким образом ему посодействовала, сделав его своим орудием?
Наблюдательные люди наверняка замечали, что в жизни действительно есть некая злая сущность, которую, в том, что касается Дика, можно назвать роком, который зорко высматривал надежные орудия в виде его характера, и теперь, в считаные мгновения, этот рок поклонился ему. Так получилось, что вместе с Диком было несколько местных арабов, одного из которых он нанял в Тевфикие как драгомана. Когда они начали путешествие через пустыню, этот человек был на первый взгляд вполне здоров, но через два дня, когда они достигли оазиса, захворал. Сначала казалось, будто он страдает от болотной лихорадки и нервного истощения, однако затем в разных частях его тела вздулись лимфатические узлы.
Поначалу Дик, который, как мы помним, был знаком с медициной, подумал, что драгоман окончательно сляжет, однако, в конце концов, вздутия лопнули, и араб постепенно выздоровел. Когда тот снова встал на ноги, Дик спросил у него, что, по его мнению, с ним было, араб ответил, что хотя в самом начале он промолчал из опасения, что товарищи его прогонят, с ним, по всей видимости, случилась чума, ибо за день до того, как он покинул Тевфикие, где было несколько таких случаев, он ходил проведать одного родственника, который умер, пока драгоман был в его доме.
– Понятно! – сказал Дик. – Тогда я прошу тебя никому ничего не рассказывать, ибо хотя я и думаю, что ты ошибаешься, если об этом станет известно, эти люди посадят нас на карантин здесь на горе или же прогонят в пустыню.
Поскольку после этого никто не заболел, Дик попытался выбросить этот случай из головы, и ни разу не обмолвился о нем в разговорах.
А теперь перенесемся на несколько ночей вперед. На седьмой день после того, как Эдит, рыдая на ангарибе, сделала свое признание Табите, Дик вернулся из города в крайне скверном настроении. Чувствуя, что надвигается кризис и он должен по этому поводу что-то сделать, он попробовал вложить в уши Руперту новые инсинуации, и даже намекнул, что если тому интересно, существуют некие письма, написанные Эдит, которые Руперт при желании мог бы прочесть. Руперт ничего ему не ответил, Дик же, приняв его молчание за интерес, продолжил:
– Послушай, Руперт, скажу тебе как мужчина мужчине. Ты наверняка понимаешь, сколь тяжело мое положение. Я считал себя наследником собственности на сумму более миллиона фунтов, но увы, ты оказался жив, и я лишился всего. Я также считал себя гордым хозяином чувств твоей жены, тем более, что ее поведение не оставляло в этом ни малейших сомнений, за что ты, будучи официально мертвым, вряд ли можешь ее винить. Боюсь, что с этой надеждой мне тоже придется расстаться, поскольку Эдит отлично знает, с какой стороны на хлеб намазано масло. Поэтому у меня к тебе деловое предложение. Ты даешь мне то, что мне причитается, чтобы мне было на что жить, скажем, сумму в триста тысяч фунтов, которую тебе ничего не стоит мне выделить, и будем считать, что мы квиты.
– А если нет? – спокойно ответил Руперт, так как хотел добраться до сути предложения Дика.
– Тогда, – ответил Дик, – боюсь, что вместо искреннего друга Эдит вы получите в моем лице, скажем там, искреннего критика. Есть немало дурных и завистливых людей, которые будут рады прочесть те письма, и, как и книги Сибиллы, они могут весьма возрасти в цене.
– Они у тебя здесь с собой? – спросил Руперт.
– Ты держишь меня за дурака? – ответил Дик. – По-твоему, я подверг бы эти бесценные документы риску путешествия через пустыню и, возможно, любопытных глаз арабских воров? Нет, они лежат в целости и сохранности в Англии.
– Где ты намерен использовать их в целях шантажа?
– Какое некрасивое слово, Руперт, но я не стану с ним спорить, ибо, как я уже сказал, мне нужно жить.
Теперь из себя вышел Руперт.
– Я не верю, – заявил он, – что в этих письмах есть что-то такое, чего мы с Эдит должны бояться. Я уверен, она никогда бы не скомпрометировала себя с таким человеком, как ты, ибо ты, Дик Лермер, – мерзавец. Ты причина всех несчастливых разногласий между Эдит и мной. Как я узнал от Табиты и из писем, которые достигли меня, это ты постарался, чтобы меня сразу после моей женитьбы отправили в Судан, в надежде на то, – да простит тебя Бог, – что меня здесь убьют. Это ты своей ложью и кознями впоследствии очернил мое имя, и как только меня сочли мертвым, попытался украсть у меня мою жену. Теперь же, если я от тебя не откуплюсь, ты угрожаешь очернить и ее имя, что, кстати, ты в известной мере, уже и сделал. Повторяю тебе, что ты мерзавец. Делай, что хочешь. Я больше не заговорю с тобой, – сказал Руперт и, подняв пальмовую палку, которую держал в руке, ударил ею Дика по лицу.
Тот, прорычав проклятие, выхватил револьвер.
– Даже не думай, если тебе дорога жизнь, – ответил Руперт. – За тобой следят несколько десятков пар глаз, и независимо от того, убьешь ты меня или нет, тебя моментально прирежут. Мой тебе совет: отправляйся на несколько дней на охоту в горы, пока твои люди не приведут с далеких пастбищ верблюдов, а потом уезжай отсюда. А теперь прочь с моих глаз и даже не пытайся заговорить ни с Эдит, ни со мной, или же я велю выбросить тебя в пустыню, с верблюдами или без.
И Дик ушел, и лицо его было лицом дьявола, а сердце исполнено ненависти, ревности и жажды мести.
Когда он пришел к своему дому, ему доложили, что еще один из его людей захворал и лежит в маленькой пристройке. Дик посмотрел на него в окно и, зная то, что рассказал ему первый больной, а также заглянув в медицинский справочник и освежив в памяти симптомы болезни, мгновенно узнал тяжелый случай чумы. Ею этот его слуга, вне всяких сомнений, заразился от драгомана, которому повезло выздороветь. Дик тотчас же решил последовать совету Руперта на три-четыре дня отправиться на охоту и, соответственно, отдал все необходимые распоряжения выехать в горы за час до рассвета. Сделав это, он сел и задумался, потирая щеку в том месте, где Руперт ударил его.
Как же отомстить за себя? О, как же ему отомстить? Внезапно его осенило. Руперт занимался врачеванием. Руперт любил навещать больных, а это был случай, достойный его внимания. Что, если рок, чьей помощи он так долго ждал, и впрямь назначил его, Дика, своим орудием? И он взял лист бумаги и написал записку следующего содержания.
«Лишь желание помочь другому человеку вынуждает меня обратиться к тебе. Один из моих людей слег с загадочной лихорадкой. В данных обстоятельствах я не могу взять на себя заботу о нем, что я с удовольствием бы сделал, если бы ты, как ты помнишь, не велел мне отправиться на охоту, куда я и намерен отбыть завтра на рассвете. Надеюсь, если у тебя будет время, ты навестишь его и дашь ему лекарств. Если нет, боюсь, что он умрет.
Р. Л.»Позвав выздоровевшего драгомана, которого он оставил, чтобы тот позаботился о верблюдах, когда те вернутся с пастбищ, Дик велел ему отнести записку Захеду сразу после того, как он утром отправится на охоту. Если же Руперт начнет расспрашивать его, он должен ответить, что его товарищ очень болен, но он не знает, что с ним такое.
– Если бы только он заразился! – процедил сквозь зубы Дик. – Никто не сможет меня ни в чем обвинить, если он… нет, о таком везении лучше не мечтать!
На рассвете, после того, как ему сообщили, что за ночь больному не стало хуже, Дик уехал в сопровождении нескольких слуг. Руперт же получил письмо. Около семи утра он велел подать ему мула и отправился к дому, где лежал больной.
– Куда ты собрался? – спросила Меа, увидев его.
Ее голос был полон тревоги, ибо она боялась, что он едет проведать Эдит.
– Проведать больного в доме Лермера.
– Вот как! Мне доложили, что на заре он на несколько дней отправился в горы поохотиться на антилоп. Почему бы ему самому не заняться своими больными? Помнится, он говорил мне, что разбирается в медицине.
– Это я посоветовал ему отправиться на охоту, Меа, после чего велел убираться отсюда.
– Знаю. Ты ведь даже его ударил, верно? Довольно странный поступок с твоей стороны, Руперт.
– И мне за него стыдно, – ответил он. – Но этот человек мерзавец и клеветник, Меа.
– Это я тоже знаю. Но кого он оклеветал на этот раз? Ту женщину или меня? Нет, можешь не отвечать. Но я скажу тебе, Руперт: остерегайся мерзавца и клеветника, которого ты ударил и который грозил тебе пистолетом.
– Думаю, я смогу защитить себя, – с усмешкой ответил Руперт.
– Да, Руперт, при необходимости ты можешь дать отпор льву или слону, но ты слишком гордо держишь голову и потому не видишь змеи. Кстати, чем болен этот слуга? Я слышала, что это весьма странная болезнь.
– Не знаю, наверно нильская лихорадка. Я скажу тебе, когда осмотрю его.
– Нельзя натощак ехать к больному лихорадкой. Скажи, ты поел?
– Нет, я не боюсь лихорадки и не привык завтракать так рано, – и он развернул мула, чтобы ехать дальше.
– Одну минутку, – сказала Меа, положив на уздечку руку. – Почему ты не пришел ко мне вчера вечером? Наши совместные вечера, возможно, на исходе, и я скучаю по тебе.
– О, я скажу тебе, – с улыбкой ответил Руперт. – Я составлял завещание. Оно хотя и довольно короткое, однако потребовало долгих раздумий. Видишь ли, Меа, теперь я богатый человек, и согласно нашему закону, в отличие от того, от кого я ее получил, могу завещать свою собственность любому, кому пожелаю, поскольку обременения истекли. После разговора с Лермером я вспомнил, что если умру, а это рано или поздно ждет нас всех, принадлежащие мне земли и состояние перейдут в руки этого подлеца, чего я отнюдь не желаю. Поэтому по совету моих английских адвокатов я составил завещание и в присутствии четверых свидетелей из числа наших людей, которые умеют писать, поставил под ним мою подпись, после чего временно отдал его на хранение Бахите. А теперь, Меа, я должен ехать, чтобы проведать больного.
– Можно мне поехать с тобой? – спросила она.
– Нет, откуда мне знать, что это за хворь? Но я скоро вернусь.
Глава XXIV. Отречение
Руперт вошел в пристройку, где лежал больной, и осмотрел его. Глаза несчастного были налиты кровью, язык почернел, все тело усеяно шишками, а температура поднялась почти до 106 градусов[21]. Более того, он уже впадал в кому. Руперт пощупал его пульс – тот был слабый – и показал головой. С такой болезнью он, лекарь-самоучка, еще не сталкивался.
Оставив больного, Руперт прошел в дом, чтобы приготовить раствор хинина, ибо не знал, что еще может ему дать. На столе лежала раскрытая книга, в которой он тотчас узнал медицинский справочник. И пока готовил раствор, его взгляд упал на заголовок вверху страницы – «Чума». Это тотчас дало ему подсказку, и он прочел статью целиком. Да, симптомы были очень похожи, особенно бубонные шишки, однако, поскольку он сам ни разу не видел больного чумой, то точно сказать не мог. Тогда он позвал главного слугу и расспросил его. Им оказался тот самый драгоман, который оправился от болезни, но все еще был слаб. Загнанный в угол, он рассказал Руперту все. Как он навестил умирающего родственника, как, похоже, сам переболел той же болезнью, что и больной в пристройке. Теперь Руперт был уверен и распорядился о мерах предосторожности, например, велел выставить вокруг города кордон и сделать тому подобные вещи.
Между тем состояние больного быстро ухудшалось. Руперт вернулся к нему и провел рядом с ним еще два часа, пока тот не умер. Распорядившись закопать его как можно глубже, Руперт на обратном пути в город заехал в дом Эдит, чтобы предупредить ее и Табиту о том, что случилось. Застав Табиту разгуливающей под белым зонтиком, он сообщил ей дурное известие, которое, она, как ни странно, восприняла хладнокровно, лишь спросила, где сейчас Дик. На что Руперт ответил ей, что Дик отправился на охоту, однако на его, Руперта, счастье, оставил медицинский справочник открытым на нужной странице, откуда он и почерпнул необходимые сведения. Затем она попросила показать ей письмо, которое написал ему Дик. Достав письмо из кармана, Руперт протянул его ей, и Табита внимательно его прочла.
– Все ясно, Руперт. Наконец-то вы с ним поругались, – сказала она. – Ах, какой же он все-таки трус… – затем в глазах Табиты блеснул свет, и она добавила: – Теперь мне все понятно. Это хитрый фокус со стороны нашего Дика. Ему известно, что это чума. Сам он сбежал, зато послал к больному тебя, в расчете, что ты тоже заразишься. Mein Gott! Он не только трус, но и убийца. Вы с ним поругались, и ты – что ты мне рассказал? – ударил его? Он же в ответ ударил тебя чумой или, по крайней мере, попытался.
Руперт было расхохотался, но затем, уняв смех, возразил:
– Нет, Табита, я не думаю, что он такая скотина. Так что убийство здесь не причем. Да и в любом случае, я не боюсь. Болезни ко мне не пристают.
– В отличие от меня, ты плохо знаешь нашего дорогого Дика, – мрачно ответила Табита. – Немедленно возвращайся домой, Руперт, сожги одежду, которая сейчас на тебе, посиди посреди дыма, вымой тело с мылом с головы до ног, сделай все, что только можешь.
– Хорошо, – ответил он, – только не пугай Эдит. Я же приму меры предосторожности.
Что он и сделал, и в результате впервые сел за стол лишь в третьем часу дня, и это притом, что в последний раз он принимал пищу накануне в семь часов вечера.
Зная ее страх перед заразными болезнями, он в течение трех последующих дней каждое утро посылал Эдит записку о том, что она не должна его видеть. А вот с Табитой и с Меа он общался так же, как и раньше, так как обе наотрез отказались внять его предостережениям. Ни среди людей Дика, ни среди жителей никто больше не заболел, но хотя его верблюдов уже привели с пастбищ и они были готовы к путешествию, сам Дик еще не вернулся. Руперту сообщили, что тот замечательно проводит время, охотясь в горах.
Руперт почти не думал о чуме, ибо его голова была занята другими мыслями. Через четыре дня истекал месяц, который он отвел себе на размышления, и ему предстояло дать ответ на главный вопрос. Эдит, которую он отказывался видеть ради нее же самой, предприняла отчаянный шаг – послала ему письмо.
«Почему ты скрываешься от меня? (Писала она.) Да, я знаю, что когда-то боялась болезней, но теперь они меня не пугают. Порой мне кажется, что лучше бы я заразилась чумой, чтобы та покончила и со мной, и с моей несчастной жизнью. Руперт, я знаю, что пока не истечет эта неделя, ты запретил мне говорить о подобных вещах, но ты не запрещал мне писать, и потому пользуюсь случаем донести до тебя мои слова. Руперт, я несчастная женщина и заслуженно несу это наказание за свое себялюбие и жестокость. Теперь я это понимаю и признаю. Дик был моим проклятьем. Я была совсем юной, когда он начал оказывать мне знаки внимания. Ты же знаешь, каким галантным красавцем он был тогда. Не удивительно, что я попала под его влияние, которое не могла сбросить с себя долгие годы. Я пыталась, ибо знала, его испорченную натуру, но, увы, тщетно. Он притягивал меня, как магнит притягивает железные опилки. Затем ты вернулся домой, и я действительно восхищалась тобой и уважала тебя, и мне льстило, что ты неравнодушен ко мне. Хорошо, скажу всю правду: я думала, что ты станешь пэром и богатым человеком, что перед тобой открывается блестящая карьера, и желала стать женой такого человека. Дик, разумеется, страшно ревновал. Он оскорбил меня в тот же день, когда ты сделал мне предложение, а поскольку я не собиралась отказываться от своих намерений, решил отомстить нам обоим. Это он подбросил военному министру идею отправить тебя в Египет с этой злосчастной миссией, он же впоследствии сделал все, чтобы очернить твое доброе имя.
Но, Руперт, в то время, когда ты считался погибшим, я всего этого не знала и потому вновь попала под влияние Дика, тем более что мне казалось, будто он исправился. В тот день, когда ты вернулся домой, мы с ним тайно обручились. Это поможет объяснить, что произошло потом. Пойми, я была не в себе и не отвечала за свои слова.
После этого, пребывая в нервическом состоянии, я написала Дику несколько глупых писем, которыми он теперь шантажирует меня, поскольку я отказалась иметь с ним дело. Кроме того, знай я, куда ты уехал, я бы попросила у тебя прощения и попыталась бы помириться с тобой. Я же этого не знала и, не желая огласки этих позорных фактов, побоялась наводить справки.
Руперт, поверь, я возненавидела Дика столь же сильно, как когда-то любила его, если вообще когда-то любила. Теперь мне известно, сколько в нем злобы и вероломства; я знаю, что это он приложил руку к тому, чтобы очернить твое имя, а потом и мое, знаю о прочих его кознях, и потому он стал мне омерзителен. Увы, он преследует меня, как тень, и угрожает мне. Я могу прогнать его от себя, и если он начнет распускать обо мне грязные сплетни и показывать те письма, то кто поверит, что я невиновна? Ведь со мной отказывается иметь дело собственный муж! Я буду окончательно опозорена. Ведь он последовал за мной даже сюда. Да, и этот подлец и мерзавец пытался убить тебя, заразив смертельной болезнью. Слава богу, похоже, ему это не удалось.
Руперт, муж мой, перед очами Господа, меня сотворившего, я говорю тебе чистую правду. Я люблю тебя душой и телом. Просто раньше между нами стоял Дик, а теперь он навсегда оставил меня. Я несчастна, ибо не могу быть рядом с тобой, и если ты простишь мне прошлое и вернешься ко мне, ни один мужчина в мире не сможет похвастать лучшей женой, готовой исполнить все его желания. Знаю, что прошу слишком многого, знаю, что я этого не заслужила, знаю также, что прекрасная Меа любит тебя, что она такая же верная и добропорядочная, как и ты. О, Руперт, Руперт, умоляю тебя, только не разбивай мне сердце, не прогоняй меня вновь и не заставляй в одиночестве бродить по пустыне. Ибо я не знаю, что в таком случае будет со мной. Скорее всего, как и другие несчастные существа, я предамся пороку. По крайней мере, мне будет, что вспомнить. Руперт, будь милосерден, если ты сам уповаешь на милосердие, – твоя жена – ибо я полагаю, что сохранила за собой право называть себя ею -
Эдит».Это письмо произвело на Руперта огромное впечатление, как и рассчитывал его автор. Получив его, он уже пребывал в унынии, а когда прочел, то опечалился еще больше. Его до глубины души тронуло то, как Эдит пыталась оправдаться в его глазах, ее честное и искреннее признание, то, как, разлюбив Дика, она вновь полюбила его, и теперь, как она уверяла – а он почти ей верил – он для нее стал всем на свете. В особенности, его тронуло ее раскаяние.
И все же он не мог не видеть, что почти любой ее аргумент можно легко опровергнуть, приведя в пример Меа, не писавшую никаких писем и не возносившую никаких молитв. Почему ее сердце должно быть разбито? Почему она должна в одиночестве бродить по пустыне, о которой писала Эдит, или, если на то пошло, последовать обычными путями отчаяния? Меа, которая никого не оскорбила и всегда была его ангелом-хранителем.
Увы, единственный ответ заключался в том, что Эдит, в отличие от Меа, – его жена. Он женился на ней, чтобы разделить с ней радости и невзгоды. Именно о них говорила древняя пословица: «Тех, кого соединил Господь, да не разъединит никакой человек». Нет, он прекрасно знал, в каком направлении лежат его чувства. И все же какое право имеет он отвергать собственную жену, ту, чьей руки он когда-то просил. С другой стороны, имеет ли он право бросить Меа, женщину, которая спасла и приютила его?
Он буквально разрывался на части и не мог найти ответа. Он написал Эдит записку, в которой поблагодарил ее за письмо, над содержанием которого, по его словам, он теперь думает, добавив, что здоров, однако ей лучше несколько дней воздержаться от визитов к нему. Внезапно к нему пришло решение: он пойдет к Меа и честно ей все расскажет.
* * *
Они снова сидели в той самой комнате, где к нему, после нескольких месяцев слепоты, вернулось зрение. Его история была рассказана, письмо прочитано и лежало на земле рядом с ними.
– А теперь, Руперт, – тихо спросила Меа, – как ты поступишь?
– Не знаю, – со страстью ответил он. – Я пришел спросить у тебя.
– Которую из нас ты любишь, свою жену или меня? – задала она новый вопрос, посмотрев на него.
– О, ты прекрасно это знаешь, – ответил он. – Я люблю тебя и никакую другую женщину. Люблю и буду любить всегда. Почему ты заставляешь меня это повторять?
– Потому что мне приятно это слышать, Руперт, – сказала она с задумчивой улыбкой. – Но ведь это не облегчает твой выбор, не так ли? С одной стороны, любовь, с другой – твой закон. Что победит, любовь или он?
– Я пришел к тебе, чтобы услышать твой ответ, Меа.
Она подняла взор, как будто искала вдохновения, затем заговорила снова.
– Я не стану препятствием на пути твой праведности. Разве для этого я была дана тебе? Любовь живет дольше твоего закона, Руперт, и разве учение, которому мы следуем, не называется Отречением? Те, кто хотят пожинать, должны сеять.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил он.
– То, Руперт, что эта женщина, которая так дурно вела себя, раскаивается, и что говорит наша книга – та самая, которой ты учил меня верить? Не судите, да не судимы будете! Это я к тому, что поскольку она осталась верна его букве, ваш обет по-прежнему стоит между тобою и ею.
– Но в таком случае, я должен тебя оставить? – хрипло пробормотал он.
– Думаю, что да, Руперт.
– И что тогда будет с тобой?
– Со мной? – ответила она с нежной улыбкой. – Неужели это что-то значит? Но если ты хочешь знать, что ж, я скажу тебе. Я думаю, что умру, или же отправлюсь ждать тебя там, где любовь живет вечно, и где утрачивает силу твой закон. Пусть это будет наше взаимное решение, Руперт.
Его руки дрожали, на лбу вздулись вены.
– Я не могу, – прохрипел он. – Да простит меня Бог, я не могу – пока. Ты благороднее меня, Меа.
– И что тогда?
– Меа, у нас еще есть четыре дня. За это время наверняка что-то произойдет. Вдруг Господь сжалится и поможет нам неким непредвиденным способом? Если же нет, то по истечении этих четырех дней я последую твоему совету, сколь жестоким тот бы ни был. Да, даже если это будет стоить жизни нам обоим!
– Хорошо, – ответила она, сверкнув глазами, – таких слов я от тебя и ждала, ибо разве не должен проповедник следовать своему учению? Чем раньше мы умрем, тем раньше наступит конец и… начало.
– Да, – ответил он и перешел на английский, – конец и начало.
* * *
Минули еще два дня, и вновь Руперт и Меа сидели вместе, занимаясь приготовлениями к предстоящему собранию в храме. Кроме того, он держал перед ней отчет о своей хозяйственной деятельности, как будто знал, что скоро покинет ее. Ему нездоровилось, с ним творилось что-то неладное. Он едва ворочал языком, то и дело запинался, забывал арабские слова, клевал носом над бухгалтерской книгой. Затем внезапно уперся ладонями в край стола и со сдавленным стоном боли встал.
– Что такое? – испуганно спросила Меа, когда он вновь тяжело опустился на стул.
– Ничего, – едва слышно ответил он. – Меня как будто пронзил меч, вот и все.
– О, Руперт! – вскричала она. – Ты болен!
– Да, Меа, – ответил он. – Я болен. Думаю, Господь указал нам выход из наших несчастий и да будет за это прославлено его имя. Меа, у меня чума. Оставь меня. Оставь немедленно.
– Да, – ответила она, поджимая губы, – но лишь когда они унесут тебя мертвого, и ни минутой раньше.
* * *
Еще два дня, и Руперт умирал на рассвете. Рядом с ним на коленях стояла Меа, на стуле в дальнем конце затемненной комнаты, обливаясь горькими слезами, сидела Табита, а у ее ног, сгорбившись и что-то приговаривая, – седая Бахита. Эдит там не было. Руперт запретил ее впускать, чтобы она тоже не заразилась чумой. Он то был в сознании, то погружался в сон. Затем его глаза открылись, он вновь очнулся и посмотрел на Меа.
– Любимый, – прошептала она ему на ухо. – Я скрыла это от всех, кроме Бахиты, но тебе я должна сказать. Наш милосердный Господь призвал меня, я тоже умираю. Еще до полудня я последую за тобой. Дождись меня, Руперт.
– Я понимаю, – прошептал он с улыбкой. – Я буду ждать тебя. Даже не сомневайся.
И он протянул к ней руки. Она приняла его объятия и впервые их губы встретились. Это был поцелуй и прощания, и приветствия.
– Бахита, – вскоре сказала Меа ясным звонким голосом. – Свершилось. Пойдем, обряди меня в одежды, что я приготовила, в мои брачные одежды. Поторопись, ибо мой повелитель зовет меня.
Суровая старуха покорно поднялась с пола. Табита же опустилась на колени рядом с бездыханным телом Руперта. Гонцы быстро распространили весть о том, что Захед покинул свой народ. Спустя какое-то время тишину пронзил душераздирающий вопль скорби, дверь распахнулась и в комнату ворвалась Эдит.
– О, это правда? Это правда? – зарыдала она.
Табита указала на обернутое в саван тело Руперта.
– Только не подходи близко, – сказала она, – если не хочешь умереть. Ведь ты еще не готова это сделать.
Две женщины, Эдит и Меа, стояли лицом друг к другу. Эдит, растрепанная и заплаканная, Меа – сияющее неземное создание в лучах восходящего солнца, что падали на нее сквозь открытое окно. В серебристых, ниспадающих до пола одеждах, с древним жезлом власти над ее народом в слабеющей руке, на груди – изображение Изиды и Нефтиды, оплакивающих мертвого Осириса, пышные волосы увенчаны погребальной короной из тонкого золота и украшенных эмалью изображений цветов, которую она когда-то показывала Руперту. Ее широко открытые глаза сияли, как звезды, а жар лихорадки, сжигавший ее изнутри, придавал ее загадочному лицу еще большую красоту.
– Я приветствую тебя, госпожа, – сказала она Эдит. – Когда-то я выходила нашего повелителя, но теперь он ушел от нас – домой, и я ухожу следом за ним. – И она указала поверх развалин древнего храма и стены гор на великолепное голубое небо.
– Следом за ним, следом за ним, – прошептала Эдит. – Что это значит?
Вместо ответа Меа разорвала на груди белоснежные одеяния и показала пятна, эти предвестники скорой смерти.
– Это его последний и самый лучший дар! – воскликнула она по-арабски. – Скоро, совсем скоро мы воссоединимся и забудем наши скорби и печали. Послушай меня, его госпожа – согласно вашему закону. Он решил, что завтра вернется к тебе, ибо он простил тебя, как прощаю тебя и я. Но мы молились, он и я, стоя рядом друг с другом на коленях, мы молились нашему Богу, чтобы он спас нас от этой жертвы, и Господь внял нашим молитвам. Узри же! Мы, что следовали путем Духа, унаследовали Дух, нам, которые отрекались, больше не нужно отрекаться. Мне было дано спасти ему жизнь, мне же дано разделить с ним смерть, и все, что есть за ней, сквозь свет и сквозь мрак – на веки вечные!
А теперь отступи. Ибо Тама идет к ложу своего господина!
И перед их изумленными взорами Меа, шатаясь, добрела до ложа, на котором лежал мертвый Руперт, и, издав тихий возглас любви и триумфа, возлегла рядом с ним и умерла.
– А теперь… – раздался тихий голос Табиты, чей взор был устремлен к небесам над руинами храма, чья вера сбылась, и к жестоким горам нашего мира, – теперь кто осмелится отрицать, что там высоко обитает Тот, Кто вознаграждает праведных, а грешных карает Своим мечом?
Библиография Генри Райдера Хаггарда
Книжные публикации
[герои серий: *А – Аиша, *А.К. – Аллан Квотермейн]
«Рассвет» (Dawn, 1884)
«Голова ведьмы» (The Witch,s Head, 1884)
«Копи царя Соломона» (King Solomon,s Mines, 1885) *А.К.
«Она» (She. A History of Adventure, 1886) *А
«Джесс» (Jess. A Tale of the Boer War, 1887)
«Аллан Квотермейн» (Allan Quatermain, 1887) *А.К.
«Завещание мистера Мизона» (Mr. Meeson’s Will, 1888)
«Месть Майвы» (Maiwa’s Revenge, 1888) *А.К.
«Полковник Кварич» (Colonel Quaritch, V.C., 1888)
«Клеопатра» (Cleopatra, 1889)
«Жена Аллана» (Allan’s Wife, and Other Tales, 1889) *А.К.
«Беатрис» (Beatrice, 1890)
«Одиссей» («Мечта мира») (The World’s Desire, 1890) – соавтор Эндрю Лэнг
«Эрик Светлоокий» (Eric Brighteyes, 1891)
«Нада» (Nada the Lily, 1892)
«Дочь Монтесумы» (Montezuma’s Daughter, 1893)
«Люди тумана» (The People of the Mist, 1894)
«Сердце Мира» (Heart of the World, 1895)
«Джоанна Хейст» (Joan Haste, 1895)
«Колдун» (The Wizard, 1896)
«Доктор Терн» (Doctor Therne, 1898)
«Ласточка» (Swallow: A Tale of the Great Trek, 1899)
«Черное сердце и белое сердце, и др. истории» (Black Heart and White Heart, 1900)
«Лейденская красавица» (Lysbeth. A Tale of the Dutch, 1901)
«Жемчужина Востока» (Pearl-Maiden: A Tale of the Fall of Jerusalem, 1903)
«Стелла Фрегелиус. История трех судеб» (Stella Fregelius: A Tale of Three Destinies, 1903)
«Принцесса Баальбека, или Братья» (The Brethren, 1904)
«Аиша: Она возвращается» (Ayesha: The Return of She, 1905) *А
«Рыцарь пустыни, или Путь духа» (The Way of the Spirit, 1906)
«Бенита» (Benita: An African Romance, 1906)
«Прекрасная Маргарет» (Fair Margaret, 1907)
«Короли-призраки» (The Ghost Kings, 1908)
«Желтый бог, африканский идол» (The Yellow God; an Idol of Africa, 1908)
«Хозяйка Блосхолма» (The Lady of Blossholme, 1909)
«Утренняя Звезда» (Morning Star, 1910)
«Перстень царицы Савской» (Queen Sheba’s Ring, 1910)
«Алая Ева» (Red Eve, 1911)
«Махатма и заяц» (The Mahatma and the Hare: A Dream Story, 1911)
«Мари» (Marie, 1912) *А.К.
«Дитя Бури» (Child of Storm, 1913) *А.К.
«Ожерелье Странника» (The Wanderer’s Necklace, 1914)
«Священный цветок» (The Holy Flower, 1915) *А.К.
«Дитя из слоновой кости» (The Ivory Child, 1916) *А.К.
«Кечвайо Непокорный, или Обреченные» (Finished, 1917) *А.К.
«Вечная любовь» (Love Eternal, 1918)
«Луна Израиля» (Moon of Israel: A Tale of the Exodus, 1918)
«Когда мир содрогнулся» (When the World Shook, 1919)
«Древний Аллан» (The Ancient Allan, 1920) *А.К.
«Суд фараонов» (Smith and the Pharaohs, and Other Tales, 1920)
«Она и Аллан» (She and Allan, 1921) *А, *А.К.
«Дева Солнца» (The Virgin of the Sun, 1922)
«Дочь Мудрости» (Wisdom’s Daughter, 1923) *А
«Хоу-Хоу, или Чудовище» (Heu-Heu, or The Monster, 1924) *А.К.
«Владычица Зари» (Queen of the Dawn: A Love Tale of Old Egypt, 1925)
«Сокровище Озера» (The Treasure of the Lake, 1926) *А.К.
«Аллан и ледяные боги» (Allan and the Ice Gods: A Tale of Beginnings, 1927) *А.К.
«Мэри с острова Марион» (Mary of the Marion Isle, 1929)
«Валтасар» (Belshazzar, 1930)
Примечания
1
Екклесиаст 11:9.
(обратно)2
Откровение 2:7.
(обратно)3
Притчи 20: 17.
(обратно)4
Абдаллах ибн аль-Саид Мухаммед по прозвищу Халифа (1843 или 1846 – убит в 1899 г.) – правитель независимого махдистского государства на территории современного Судана в 1885–1898 годах. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. переводчиков.
(обратно)5
К.А. – Королевская артиллерия. В 1741 г. в Королевском арсенале в Вулидже была образована Королевская военная академия для подготовки личного состава Королевской артиллерии (Royal Artillery – R.A.).
(обратно)6
Ах, Боже мой! (нем.)
(обратно)7
О, небо! (нем.)
(обратно)8
«Всякому имеющему дастся и приумножится» (Матф. 25:29).
(обратно)9
Амурные дела (фр.).
(обратно)10
Я влюблен без памяти и навсегда, потому что я никогда не растрачивал свое сердце; совершенная любовь – венец добродетели (фр.).
(обратно)11
Чарльз Джордж Гордон (1833–1885) – один из самых знаменитых британских генералов XIX века, известный также под именами «Китайский Гордон», «Гордон Хартумский» или «Гордон-Пашá». Ключевая фигура осады Хартума.
(обратно)12
Чтобы не сглазить! (нем.)
(обратно)13
Лови момент; живи настоящим (лат.).
(обратно)14
Судьба, предопределенность (араб.).
(обратно)15
Ср. рус.: «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1Цар.16:23). «Дух (злой по попущению) от Бога» (ср. 1Цар.16:14, 15,16).
(обратно)16
Больше ничего; у меня ничего нет (араб.).
(обратно)17
Упомянутые здесь Двойник и Дух несомненно были составляющими человеческой сущности как ее понимали древние египтяне – Ка (Двойник) и Ку (Душа), традиционные знания о которых вполне могли передаваться из поколения в поколение и дойти до Бахиты. – Примеч. автора.
(обратно)18
Матф, 5:34.
(обратно)19
Валентин и его лесной брат Орсон – герои средневекового французского романа. Орсон был похищен и вскормлен медведицей и долго жил в лесах среди зверей.
(обратно)20
Поворот кругом; резкая перемена взглядов (фр.).
(обратно)21
106 градусов по Фаренгейту соответствуют 41 градусу Цельсия.
(обратно)

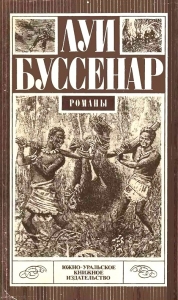


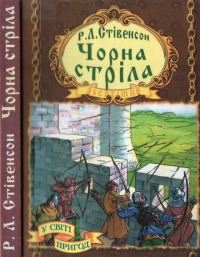


Комментарии к книге «Рыцарь пустыни, или Путь духа», Генри Райдер Хаггард
Всего 0 комментариев