АЛЕКСЕЙ ШАМАНОВ АССИСТЕНТ
Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания бессилья Тварь скользкая, почуя на плечах Еще не появившиеся крылья… Николай Гумилев. Шестое чувствоЧасть 1 Иркутское наваждение
Автор предупреждает:
все вымышлено,
кроме географического
положения России,
Восточной Сибири,
Иркутска, озера Байкал
и острова Ольхон.
ГЛАВА 1 Роковая магия чисел
Кто читает спам, присланный по электронной почте? Уж точно не я. В Интернете я человек новый, всего несколько лет пользуюсь, и старожилы с первого дня объяснили мне, что именно таким образом распространяются компьютерные вирусы. С тех пор регулярно удаляю спам, не вскрывая конверта.
Почему не удалил этот, не знаю. Открыл и вот что прочел:
«На самом краю Срединного мира, далеко-далеко на Севере в особенном пространстве, недоступном простым смертным, растет огромная раскидистая Ель. Ничего живого нет вокруг, только Ель, Небеса и снег, чистый, как отражение Небес.
Для причастных тайне, Ель — лестница. Верхушка ее прорастает в Небеса, а корни питают Эманации страданий Преисподней.
На ветвях Ели — гнезда, в гнездах — яйца, в яйцах — души не рожденных шаманов.
На нижних ветках — слабых, на средних — средних, на верхних — сильных, а на самой вершине, на границе миров Верхнего и Срединного, — одно-единственное гнездо. Обычно оно пустует. Великий Шаман рождается на Земле раз в несколько столетий, что в мирах сопредельных означает несколько мгновений или эпох. Время в них течет по-разному. Оно, как и многое другое, подвластно Небожителям-тэнгриям, как Белым, так и Черным.
Мать-Хищная Птица с орлиной головой и железными перьями садится на Дерево, сносит яйца и высиживает их.
Для рождения малых шаманов требуется 1 год, средних — 2, сильных — 3, а Великого — 30 лет и 3 года…»
Я прервал чтение. Пошел на кухню и сварил кофе. Крепкий. Черный. Без сахара… Надо ли читать дальше? Не люблю совпадений. Не желаю их. Я твердо решил не читать больше из этого дурацкого спама ни слова.
Допил кофе, выкурил сигарету и вернулся к компьютеру…
«Когда душа выходит из яйца, Мать-Птица отдает ее для обучения Дьяволице-Шаманке, у которой один глаз, одно плечо и одна кость. Она укачивает душу будущего шамана в железной люльке и кормит ее запекшейся черной кровью.
Она призывает трех черных Чертей, которые вбивают шаману в голову копье, срывают с его тела куски мяса и разбрасывают их в разные стороны в качестве жертвы. Кости складывают в огромный котел и варят на медленном огне несколько месяцев.
Потом приходят три Духа в облике Волка, Ворона и Барана. Они собирают новый скелет шамана, а если не хватает какой-либо кости, берут ее у кого-то из членов его семьи. Бывает, умирает девять, а то и больше родственников. Если стольких родственников нет, умирают чужие люди, те, что рядом.
Шаман рождается и уходит в Срединный мир, чтобы стать проводником меж мирами, а Шаманская Сила его остается в гнезде, укрытом в густой хвое Мирового Дерева — там, где нет ничего живого вокруг, только чистый снег и Небеса, как отражение чистого снега… далеко-далеко на Севере… на самом краю Срединного мира…»
Я никогда не открываю спам, а этот открыл, потому, наверно, что в теме было написано: «33 года — возраст Иисуса Христа». Но открыл я, конечно, не Христа ради, о котором в этом насквозь языческом тексте даже упоминание звучало бы как кощунство. Дело в случайном попадании в мой возраст.
Сегодня мне, Андрею Татаринову, исполнилось 33 года, и я знаю наверняка, впереди у меня 11 или 22, если повезет — еще столько же, ну а если очень повезет — 44 года. Впрочем, вряд ли я столько протяну, 77 — это для меня слишком жирно. Вообще-то среди моей родни иногда доживали до 88 и 99 лет, а однажды, говорят, еще задолго до моего рождения какая-то мифическая прапрабабка умерла в 111-летнем возрасте. Верю я в это не очень, трехзначное число как-то не катит, но если будут у меня дети, в чем я уже начинаю сомневаться, я расскажу им эту легенду, пусть надеются на лучшее. Ну а если никто у меня не родится, рассказывать легенды будет некому.
Неделю назад в городе Москве в кустах, неподалеку от входа в метро «Преображенская площадь» нашли мертвым, но без видимых следов насилия, последнего моего близкого родственника — двоюродного брата Ефима. Был он бездетен, и накануне ему исполнилось 44 года. А он-то, бедолага, надеялся, что пошел не в нашу родню, а в мамину…
В том же возрасте 11 лет назад в авиакатастрофе погибли мои родители. Я тогда навсегда обосновался в Москве, как мне казалось, жил у Ефима в высотке у станции метро «Динамо» и уже устроился на работу после окончания вуза. Мои родители у нас с братом пару недель гостили и, возвращаясь, разбились при посадке «Боинга» в иркутском аэропорту, будь он неладен…
Больно, конечно. Очень больно. Не знаю даже, как я это пережил, не помню просто. Вообще ничего не помню. В себя пришел месяца через полтора-два после похорон. В Москву не вернулся, остался при дорогих могилах… Зачем же так-то со мной? Ведь могли они, любимые, дожить до 55, 66 или до любого другого числа, кратного 11, как повелось в нашей почти уже под корень истребленной семье. Однако им выпало 44, и — точка…
Мне сегодня исполнилось 33, и я знаю, что в ближайшие годы могу безбоязненно пускаться в любые авантюры, рисковать жизнью и даже играть в поддавки со смертью. Я могу, в конце концов, выпрыгнуть без парашюта с десяти тысяч метров и, уверен, останусь в живых. Не знаю, каким образом, но останусь. Потому что знаю историю своей ненормальной семьи: ни один ее член не умер и не родил ребенка ни в каком другом возрасте, кроме возраста, кратного этому роковому для всех нас числу — 11.
Я не смогу умереть ни в 34, ни в 37, ни в 43. Я гарантированно проживу до 44-х. Если, конечно, не умру в течение этого года. До того, как мне исполнится 34…
Мне захотелось выпить… Нет, не так, мне нестерпимо захотелось выпить. Я вспомнил, что оплакал, но так и не помянул Ефима. Да и день рождения все-таки, тем более, 33 — роковая дата…
Заранее зная результат, я распахнул дверцу холодильника. Холостяцкий набор: початая упаковка сосисок, яйца, гора всевозможных консервов, но ничего спиртного. Его я вообще-то дома и не держу. Не потому, что у меня с ним проблемы. Проблем, к счастью, нет, но вот не держу и все.
А то, что, как белка, делаю запасы, очень хорошо. С голоду не умру. Сейчас, например, денег в обрез, даже на похороны брата не полетел. Попробовал занять на дорогу пятнадцать штук, да не зеленых, деревянных, однако — облом. Кто машину взял, у кого, наоборот, увели. Одни жмутся, у других правда нет… А на могилу к Ефимке я все равно слетаю. Заработаю денег и слетаю.
Его молодая жена, Татьяна, хоронила. Звонила, рассказывала, что по завещанию — кремировала. Это правильно, нас всех всегда сжигали. Если было что сжигать. Если тело находили…
Молодец, Татьяна Татаринова. Девчонка почти, чуть за двадцать. Я ее только на свадебных фотографиях видел — брат присылал. Года полтора они всего и прожили. Ей квартира его московская достанется. Пусть. Если бы не погиб Ефим, точно бы она в этом году родила ему наследника, а мне племянника…
Я не заметил, как оказался одетым. Выпить хотелось очень. Умру, если не выпью… Не люблю пить один, не умею, но придется. Близких друзей не было и нет. В нашей семье у всех так, друзья — редкость. Мы друг с другом дружили, любили друг друга, а остальные — чужие, посторонние. На них наши лучшие чувства не распространялись. Как-то так повелось, мы и не говорили об этом никогда, но считали себя, негласно… не знаю, избранными, что ли? Избранными покойниками…
Зайдя в ближайший магазинчик, я остановился у прилавка. Посмотрел на витрину, потом в тощий бумажник и, соразмерив желания с возможностями, взял не самую дорогую, но и не самую дешевую водку. Посмотрим, как мне отрыгнется золотая середина…
Я вышел из магазина, поглядел зачем-то на вывеску и усмехнулся. Магазин назывался «Малыш», ниже помельче было написано: «Пиво, водка, сигареты». Что-то странные сегодня мне тексты попадаются…
Было еще светло, но чувствовалось, что вот-вот начнет смеркаться. Домой не тянуло. Все-таки пить «по-черному» не хотелось, и, дабы не впасть в одинокую, дикую безысходность, я решил зайти к художнику Борису Кикину. Жил он один в трехкомнатной «сталинке», в пяти минутах ходьбы, и в смысле выпить был безотказен, как наган. Никаких тебе осечек.
Мог я в тот вечер зайти куда-нибудь еще, мог вернуться в двухкомнатную свою холостяцкую берлогу. И тогда ничего бы не случилось. Со мной, любимым, по крайней мере. Однако зашел, и события начали развиваться, будь они неладны…
Впрочем, то, что предначертано, не может не произойти.
ГЛАВА 2 Реквизит недоделанный
— Незваный гость хуже Татаринова! — традиционно пошутил хозяин, я столь же традиционно натянуто улыбнулся. Кикин всегда встречал меня этой дурацкой фразой, и всегда одинаковую неловкость испытывали оба.
Смеркалось. Пройдя на кухню, Кикин щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Кикин чертыхнулся и зажег свет в туалете. Желтая полоса из оконца упала на странную фигуру за столом.
— А это что у тебя за хрень? — спросил я.
— Квартирант. — Кикин хохотнул. — Не узнал? Чурбан деревянный!
— Сам чурбан.
— Да не ты, он. Непревзойденный шедевр национальной деревообработки. Знакомься, зовут Буратино. Хороший парень, недоделанный только. Для России это нормально, у нас испокон все или деревянное, или недоделанное!
Псевдоитальянский мальчик нагло занял лучшее место за столом — в углу у батареи. На него не дуло из сквозных щелей окна, незаклеенного, да еще и без одной стеклины во второй нитке. Апрель в Сибири месяц зимний. Впрочем, Буратине как раз мороз был по хрен. Был он деревянной куклой в рост невысокого человека и на стуле сидел вполне по-человечески, нога на ногу. Совершенно очаровательный, вальяжный Буратино-переросток, вот только характерный нос у него отсутствовал. И не один нос.
— А почему он у тебя без головы?
Кикин усмехнулся, разливая водку по стаканам.
— На хрен ему голова? Все равно не пьет! — подвинул стакан по столу. — А мы с него пример брать не станем, выпьем! — И, не дожидаясь меня, влил в глотку зелье.
Вот она, холостяцкая жизнь… Я разглядывал на просвет стакан мутного стекла. Полы, стены и потолок соответствовали. Даже полумрак не мог скрыть затоптанности, залапанности и желтых подтеков. Зато Буратино был не в пример — свежеструганный, гладкий, и пахло от него сосновым бором. Хорошо от него пахло. Не то что от спиртосодержащей жидкости, которая хоть и была тоже явно древесной, запах имела, как у паленой резины. Вот она, золотая середина…
Необходимо сразу отметить, что при первой встрече безголовый Буратино произвел на меня весьма благоприятное впечатление. Неизгладимое. Он мне попросту понравился. И как кукла, и как человек, во всех отношениях. И на цвет, и на запах…
Я коснулся чистой на вид поверхности в стакане кончиком безымянного пальца левой руки и стряхнул каплю водки на грязный пол — побурханил, помянул брата Ефима, мысленно попрощался с ним. Кикину я решил ничего не рассказывать ни про смерть брата, ни про собственный день рождения. Ну а уж про роковые числа нашей семьи я и подавно никому никогда не говорил.
Я выпил и занюхал водку почти человеческим сосновым плечом Буратины.
Кикин подошел и поднял правую руку куклы, до того безвольно свисавшую вдоль туловища. Рука легко согнулась, чуть поскрипывая в сочленениях. Кисть имела пять пальцев, каждый палец — два сустава. Несколько необычно, но привыкнуть можно.
После манипуляций Кикина Буратино вытянул прямо перед собой руку, согнутую в локтевом суставе, и чего-то ждал. Хозяин тоже уставился на меня, а я не мог понять: что им от меня надо? Молчал, пережевывая кислую капусту из алюминиевой миски. Так себе капусточка, суховатая…
— Ну! — сказал Кикин, а Буратино ничего не сказал, только конечностью нетерпеливо потряс, точнее, Кикин за нее подергал.
— Что: ну? — не понял я.
— Не видишь, Буратино познакомиться с тобой хочет, руку протягивает!
Я пожал деревянную ладонь. Она оказалась сухой и гладкой на ощупь.
— Миня завут Бу-ла-ти-на! — идиотским, псевдодетским голосом промяукал Кикин и добавил уже своим обычным, человеческим: — Представься, Андрей.
— Ты чего, спятил? — поинтересовался я, все еще не выпуская странную ладонь.
Кикин, как-то нехорошо на меня взглянув, улыбнулся.
— Он бы сам тебе это сказал, если б у него голова была. Да вот, не успел я ее еще сделать. Приходится переводчиком работать.
«Точно, спятил», — подумал я. А потом мне пришло на ум, что он и правда мог бы заговорить, Буратина этот, кабы голова была.
И еще подумал: «Кажется, я тоже спятил… вероятно, умопомешательство все-таки заразно…»
И захотел убрать руку, но показалось мне, что сосновая клешня сжалась вдруг в могучем, невозможном рукопожатии, не отпускает…
Всего только на мгновение почудилась мне эта мура, но дыхание перехватило и капельки пота выступили на лбу. Я снова потянул руку, и она пошла без усилий, не держал ее никто. Посмотрел на освобожденную ладонь — никаких следов, конечно, рукопожатие с неживым болваном не оставило.
— Выпьем, давай, — пробормотал я, стараясь не смотреть в сторону Буратины.
А Кикин, разогнув сочленения, вернул деревянную руку в провисшее положение.
— Так наливай, — сказал он, возвращаясь на свое место. — Руки, чай, не отсохли.
Действительно, не отсохли, но, когда я потянулся за бутылкой, оказалось, что они ходят ходуном.
— Да ты, брат, с похмела, я сперва и не заметил, — удивился Кикин, перехватывая задрожавшую бутылку. — Давай-ка лучше я сам обслужу.
Виновато улыбаясь, я убрал руки за спину и, по-прежнему не глядя на болвана, кивнул в его сторону.
— Боря, в самом деле, кто это?
— Он же представился. Его зовут…
А я разозлился вдруг на приятеля, озверел прямо-таки, жахнул по столу кулаком так, что посуда подпрыгнула, испуганно звякнув.
— Хватит! — но тут же и успокоился, потирая отбитую ладонь. — Без приколов, Борис, пожалуйста.
Тот усмехнулся.
— Это мертвый бурятский шаман, — открыл он мне глаза на происхождение безголовой чурки и, заметив мое недоумение, добавил: — Я не шучу, Андрей, правда. К нам съемочная группа приезжает из Франции кино снимать.
— Хорошо хоть, не блины печь… Что за кино, документальное?
— Художественное, что-то из истории девятнадцатого, кажется, века. Ты что, не слышал? Все местные газеты, все телеканалы об этом только и трещат!
Я покачал головой, и Кикин продолжил:
— Главный режиссер и продюсер французы, второй режиссер — итальянец, оператор — немец, актер, играющий славную роль, — англичанин, аппаратуру они арендовали на «Мосфильме», технические работники оттуда же — осветители там всякие, гримеры, пиротехник… — Борис запнулся и хлопнул ладошкой себе по лбу. — Вот, блин, чуть самое главное не забыл! Художник-постановщик у них — наш, местный…
— Экономят, — вставил я.
— Конечно. Художника ты должен знать, Гриша Сергеев.
Я снова кивнул. Еще бы не знать — столько пережито, столько перепито сообща, и работали на одних объектах не раз. То музейные экспозиции, то выставки оформляли… Сейчас, правда, видимся не слишком часто. Мне чуть за тридцать, ему под шестьдесят, я время от времени выпить не дурак, он в завязке лет пять. Нет, выпивает изредка, но, говорят, все больше один, втихушку. Не люблю тихушников…
— Знаю Сергеева, — сказал я. — Как он, интересно, в съемочную группу пролез? У них, наверно, долларами платят… или евро? Европейцы все-таки.
— Долларами, — со знанием дела уточнил Кикин. — Мне продюсер сразу доллары предложил.
— Боря, давай по порядку, не отвлекайся, — сказал я и добавил, блеснув эрудицией: — Ближе к деревянному телу, как говаривал Ги де Мопассан.
— Да какие тут дела? Я ж тебе и говорю: у французов по сценарию есть бурятский шаман. Сначала живой, потом — мертвый. Главный герой его труп должен на дерево затащить…
— Зачем?
— Откуда я знаю зачем? Я сценарий не читал… Так вот, живого актера он не поднимет, кишка тонка, а в кукле деревянной веса, что в вязанке дров. Крупным планом ее снимать не будут, но и для дальних нужно внешнее сходство с актером, который эту роль играет.
— Он что, бурятского всадника без головы играет?
— Это еще почему? — спросил недоуменно Кикин, но тут же до него и дошло, хохотнул. — Ты так шутишь… Словом, мне заказали чучело и выдали аванс. Я пошел в магазин и купил манекен для художников. Как же он по науке зовется? — Кикин пощелкал пальцами. — Нет, не вспомнить… Неважно. Его в одежду рядят, любые позы из него строят и рисуют. Это, значит, чтобы на натурщиков деньги не тратить. Вроде как для начинающих. У нас в училище тоже такой был. Студенты его Буратиной прозвали.
— Так ты его, значит, по малолетству и рисовал без головы?
— Почему без головы? Голова была — плоская такая чурка. Гладкая, без лица. На нее обычно шляпу надевали или берет… Снял я голову. Вон, валяется.
Я взглянул в направлении кивка и увидел в полумраке под мойкой нечто светлое, формой напоминающее страусиное яйцо.
— Зачем ему такая? — продолжал Кикин. — У него скоро человеческая будет, бурятская. Фотографию актера мне завтра Гриша Сергеев принесет, я ее и вылеплю, голову эту шаманскую.
— Ясно.
Все встало на свои места, кроме головы, конечно. Никаких тебе метафизик, вообще ничего необычного. Просто киношный реквизит недоделанный.
ГЛАВА 3 Чурка с глазами
— Хочешь анекдот? — предложил Кикин.
— Валяй.
— Тогда пошли. — Он встал и пояснил: — Анекдот визуальный.
Хорошо при Иосифе Виссарионыче строили, с размахом. Пройдя широким коридором, мы вошли в темную гостиную. Завидую я тем, кто живет в квартирах сталинской постройки…
Боря прошел впотьмах в угол комнаты и включил торшер, произведенный еще во времена развитого социализма, кособокий, с шапкой когда-то розового искусственного шелка. Антикварная штучка. Под потолком я увидел пыльную трехрожковую люстру. Чего он, блин, жмется? Аванс, говорит, получил, не мог, что ли, лампочек купить? А Кикин будто меня услышал:
— Чудеса какие-то, купил позавчера десяток лампочек…
Мы вошли в дальнюю комнату, в которой и мебели-то почти не было, один верстак да шкаф облезлый — хозяин использовал ее как мастерскую. Это я по памяти, видеть-то не мог — темно там было.
Щелкнув выключателем, Борис выматерился, потому что лампочка, ярко вспыхнув, взорвалась вдруг, осыпав нас осколками тонкого стекла.
— Опять! — продолжил он уже по-человечески, без мата. — Ни одной лампочки не осталось, все взрываются, как эта. Будто я гранат купил десяток… Ну и откуда теперь выкручивать? — задал он риторический вопрос и сам же на него ответил: Неоткуда… Ладно, отойди-ка с прохода.
Я шагнул в сторону, а Борис наклонился и, кряхтя, потащил что-то волоком в гостиную на тусклый розоватый свет торшера. Это «что-то» оказалось бревном, но не обычным, а с раскосыми глазами. Правда, правда, кроме шуток. Бревно тупо уставилось в потолок. Ничего другого у него не было — ни носа, ни подбородка… нет, вру, лоб все-таки присутствовал, причем довольно высокий. Бревно, судя по лбу, было неглупым.
Я мысленно дорисовал черты, и получилось нечто напоминающее каменных истуканов острова Пасхи. Откуда, интересно, у нас в Сибири тихоокеанские мотивы?
— Что за хрень? — спросил я.
— Анекдот, — пояснил Кикин.
Смеяться мне почему-то не хотелось. Не понравился мне этот анекдот, тупой какой-то, как взгляд бревна, направленный в потолок. И все это в розоватом, будто потустороннем каком-то свете антикварного торшера. Смотреть противно. И не то чтобы страшно мне сделалось, а неуютно как-то, словно забрался я с ногами в чужую тарелку… или в чужие сани?
— Не смешно, — сказал я. — Смысл в чем?
— Дык, щас, поясню. — Кикин засмеялся, видно, за нас обоих. — Смысл в том, что этот урод… ну, само собой, я его дострогаю… по французскому сюжету должен стоять где-то на Ольхоне. Вроде как бурятское народное творчество начала девятнадцатого века! Идол Бурхана!
Бориса прямо пополам переломило приступом хохота.
— Что смешного?
— Да откуда на Ольхоне тотемные столбы? Это ж тебе не Северная Америка! — Смеяться он вдруг перестал. А вообще, не знаю. Может, и были. Французы считают, мне Гриша Сергеев говорил, что американские индейцы — это выходцы из Азии, конкретно — с острова Ольхон. Вообще мне бабка-бурятка много чего рассказывала, она ж оттуда родом, из деревни Хужир… Эжин острова — белоголовый Орел-могильник, предок всех ольхонских бурят…
— Боря, кто такой эжин? — спросил я.
— На бурятском языке это хозяин, властелин, бог… да я не знаю точно… Так вот, этот самый Орел был как человек, жил в каменном дворце, имел железные зубы, пальцы и грудь. Звали его… надо же, помню еще! — обрадовался хорошей памяти Кикин. — Звали его Шубуун-нойои!
— А гузка у Орла какая была? — поинтересовался я.
— При чем здесь гузка?
— Ну, ты сказал: грудь железная. А зад какой?
Борька даже чуть обиделся, не оценил мой толстый юмор.
— Дурак, — обозвал. — Ты с этим не шути, проживешь дольше.
Но тема, видимо, его завела, не свернул он с темы.
— Еще бабка про Мировое Древо что-то рассказывала. Оно — обычно, кстати, береза или ель — кроной уходило в Верхний, корнями прорастало в Подземный, а росло в Срединном, нашем мире. Символом Мирового Древа были шаманский посох и коновязь. Коновязи до сих пор, кстати, у каждой бурятской или монгольской юрты врытые стоят, а на них — три зарубки. Знаешь, почему три?
Откуда я мог знать? Во мне бурятской крови нет, не то что в Кикине. У того полубурятское происхождение намертво в лицо впечатано. Он, верно, истукана, глядя в зеркало, и ваял.
— Ну и почему три?
— Нижняя — для хозяев, повыше — для гостей, а самая верхняя — для богов и духов. И не дай бог кому-то по глупости коня на верхнюю привязать… убьют на хрен! Буряты, они добродушные вроде, мирные, пока не напьются, но если ты оскорбил их, пусть и невольно, все, конец тебе. Ну а бойцы они… сам знаешь какие.
Знаю. Пьяного бурята в драке может остановить только смерть или глубокий нокаут. Русскому врезал в сопелку, соплю с кровью вышиб, он и успокоился. А с бурятом — бесполезно. Пока сознания не потерял, будет вставать и снова лезть в драку… Может, потому Чингисхан и захватил полмира? Родом, говорят, он был с Ольхона, там же и похоронен. Есть, конечно, и другие версии его рождения и похорон, но мне кажется, он был настоящий бурят. Хотя буряты-то как раз воевать с ним не пошли, остались на берегах Байкала при жирном омуле да хмельном тарасуне… Этот вопрос меня, как ни странно, волновал.
— Боря, бурятские племена, я слышал, монгольским родственны, так?
— Хочешь легенду? — ответил он вопросом на вопрос.
Я кивнул.
— Ладно, только чудному языку не удивляйся. Легенды мне бабка рассказывала, а она гуранка — полурусская, полубурятка, оба языка ей родные. По-нашему говорила — чисто восемнадцатый век, а может, и раньше. Она давно уже умерла, а я ее сказки до сих пор не забыл. Но заметил, как начну пересказывать своими словами…
— На блатном жаргоне, — вставил я с усмешкой.
— Во-во, — согласился Борис. — Как начну по-современному, так и запинаюсь сразу. Веришь, забываю, что к чему… А если ее словами — все помню.
— Шпарь, Борис, я слушаю.
— Еще одно, Андрей. «Братскими» в старину русские звали бурят.
Я кивнул. Я слышал об этом. Отсюда название города Братск — и даже, не поверите, Братской ГЭС. Вы можете себе представить город Бурятск и поэму гения Евтушенко «Бурятская ГЭС»?
Борис встал из-за стола и открыл вещание. Удивительно, но архаические слова и обороты звучали у него совершенно естественно. Может, только так и следует рассказывать народные предания?
— Братские говорят: было два брата — Мунгал и Бурят, и решили родом своим они разделиться. Мунгал остался около Калганской степи, а Бурят откочевал на север, к Байкалу. Да оне ж, братские, баснословят, что по разделе Мунгала з Бурятом взяли о том и грамоты. Мунгал свою сохранил, а Бурят, напившись пьяной, лег спать на траву, и будто у Бурята грамота из-за пазухи выпала. И пришел баран, ту грамоту съел. И так у Бурята грамоты более не осталось: почему де токмо единственно братские остались и те ныне все грамоте незнающие. И потому ныне братские для ворожения жгут на огне бараньи лопатки…
Борис еще что-то говорил, но я не слушал, представлял его покойную бабку, пожилую женщину, гуранку. Представлял то в русской избе, то в бурятской войлочной юрте, и везде вписывалась она без проблем, везде была своя. Интересно, кабы пожелала она, полурусская, стать шаманкой, позволили бы ей?..
Я не заметил, как мы снова оказались за кухонным столом, в компании заскучавшего Буратины.
— Выпьем, — предложил Кикин, а у меня эта древесная дрянь поперек горла стояла, да еще и стаканы грязные, залапанные… противно. Помянул брата, и хватит.
— Ты, Боря, пей, я не хочу больше.
Хозяин не то чтобы откровенно порадовался, но уж не огорчился точно. Закрутил оставшуюся в бутылке треть и набулькал себе одному.
— А ты сам-то, Андрюха, подработать не желаешь? — спросил Кикин, подняв стакан. — Французы неплохо платят.
— Что за работа?
Я оживился. Работа бы мне не помешала. К брату бы на могилу слетал, с вдовой его познакомился… За валюту. Лучше бы, конечно, в евро, ну да черт с ними, нищими европейцами, пусть хоть в долларах платят.
Кикин выпил и, отдышавшись, уточнил:
— Снимать будут сначала несколько дней здесь, в Иркутске, а потом неделю-полторы на острове Ольхон на Байкале. Там не знаю что, я на Иркутск подрядился, и мне помощник не помешал бы. Надо улицу подготовить, помещение в Музее декабристов и конюшню там же.
— Как это — подготовить?
Кикин вылил в стакан остатки водки, доза получилась убойной, а он и до того говорил, растягивая слова. Знал я его давно и понимал, что товарищ мой на грани отключки.
— Улицы для съемки выбрали хоть и со старинными деревянными домами, а все равно примет современных полно. Вывески там всякие, номера домов, названия улиц, бетонные столбы, в конце концов. — Кикин поднял стакан. — Ну, корефан…
— Стоп! — Я вырвал емкость из его руки и поставил в стороне возле молчаливого, малопьющего Буратины. — Ты сперва договори, а потом выпьешь.
Кикин чуть скуксился, но продолжил:
— Словом, вернуть надо улицам их первозданный вид начала девятнадцатого века.
— А столбы? Не было тогда бетонных столбов! Их что, выкорчевывать на хрен?
— Зачем? Покрасить темной краской, чтобы в глаза не бросались. Ты не парься, оператор с режиссером все скажут, что им надо… — Кикин закурил, с тоской поглядывая на отобранный стакан. — Идешь в помощники?
— Иду, — согласился я. Тоже проблема — вывеску отодрать! Да я за штуку баксов весь город за два дня без нумерации оставлю, да я… — А на Ольхоне какие работы?
— Не знаю. Я от Ольхона отказался — далеко и холодно. Что я в апреле месяце на Байкале забыл? Летом бы поехал. Но Гриша Сергеев говорил, люди ему там нужны. Мы завтра в два часа дня здесь встречаемся, приходи. Если он будет не против, я тебя на Иркутск беру, а про Ольхон сам с ним потолкуешь. Ассистента ему, он говорил, навязали, чуть ли не стукача какого-то, но там полно работы, только вкалывай.
Что ж, вкалывать я был согласен, лишь бы платили. Всю жизнь только и делал, что вкалывал. Хоть и закончил я институт в столице, по специальности ни дня не работал…
— Кстати, об ассистенте, — добавил Кикин после паузы. — Он ведь, зараза, со мной вкалывать должен. Половину аванса забрал, а я на свою половину куклу купил, и бревно, и транспортные расходы оплатил… Андрей, он тронул меня за плечо, — будь другом, зайди к ассистенту, передай, что я его завтра с утра у себя жду!
— Отчего не передать? Передам.
— Мастерские на улице Уткина знаешь?
Я кивнул.
— У него второй подъезд, дверь, как зайдешь, — налево.
— Пятый этаж? — уточнил я.
— Все художественные мастерские на пятом. Зовут Стас, фамилия… — Борис запнулся. — Вот фамилию-то я и не помню.
— Черт с ней, с фамилией, передам, — согласился я. Отчего не прогуляться? Улица Уткина недалеко.
А Кикин не унимался, выматерился многоэтажно.
— Вот же, блин, повезло с напарничком! Достал меня этот стукач!
— А что, ассистент правда стукач? — Я усмехнулся. — Ну, ты, Борис, даешь! Не под Сталиным живем и даже не под Брежневым, в наше-то время откуда стукачи?
— А куда б они делись? — вопросил он без смеха, даже со злостью. — Молодой ты, Андрюха, наивный…
Насчет «молодой», тут Боря прав, он старше меня лет на десять с хвостиком, с порядочным хвостиком, а насчет «наивный»… не знаю. Хотя эти двенадцать-тринадцать лет разницы… Я родился во времена империи, но империю, как таковую, не застал. Застал ее агонию.
— На тебя не стучали и самого не принуждали стучать на друзей, — продолжал Кикин, и я понимал, что сейчас он не паясничает.
На грани отключки наступил для него вдруг момент истины, исповеди, а я просто под руку подвернулся, не стенам же голым исповедоваться! Впрочем, откуда я знаю? Может, он и в отсутствии собеседника, накатив белой, так же плачется. Вон, хоть в жилетку Буратины этого недоделанного.
— Они мне всю жизнь испоганили, органы наши внутренние! — Борис толкнул меня в плечо. — Ты думаешь, я всегда вот так жил? Водка, запои, работы какие-то левые, кто чего подбросит… Да я начинал, знаешь как ярко?! Я лучшим на курсе был! Авангард! Обо мне критики в Москве писали, в Европе! Дрезденская галерея цикл гравюр о черных шаманах купила! Я тогда с перепугу чуть «Волгу» не купил… Не великую русскую реку, машину. Но не хватало немного, зато на «Жигули» — с избытком! Я и стал с друзьями-художниками на избыток машину обмывать. А когда через месяц деньги понадобились «Жигуль» выкупать, у меня уже и на малолитражку не хватило, на «Запорожец» горбатый… А еще через месяц все вернулось на круги своя — снова весь в долгах, как в шелках был…
Борис тяжело вздохнул, но повеселел вдруг, махнул рукой.
— Ну и черт с ней, с машиной! На кой она мне? Давно б разбился насмерть по пьяни. А так, хоть есть что вспомнить, погулял от души! Всех иркутских художников напоил, да и немцы теперь на шаманские гравюры любуются… — Он погрустнел. — Если, конечно, они в залах висят, а не в запасниках галерейных пылятся…
— И что, европейцы на тебя больше не выходили? — поинтересовался я.
— Почему не выходили? Меня в Париж с выставкой звали! Но опять внутренние наши органы вмешались, будь они неладны!
Кикин сжал кулаки. Он был на грани истерики, впрочем, уже и за гранью. Сейчас, блин, начнет мебель крушить, глядишь, и мне под запарку достанется…
Борис не обманул моих надежд, и правда ударил что есть силы кулаком по столу.
— Эй, Борис, успокойся!
— Выставка в Париже, как же… — Он перестал меня замечать. — Какой на хрен Париж? Парижа не существует! У меня выставку даже здесь запретили за день до открытия! Можешь себе такое представить: я — порнограф и абстракционист! Одновременно! А ты говоришь, Париж… Поломали они меня и всю жизнь мою испоганили… всю жизнь…
Я подвинул к нему наполненный стакан. Я, урод, не знаю других способов утешить разочарованного мужика.
— Боря, выпей.
Он вцепился в стакан, словно в спасательный круг.
— За нашу и вашу свободу! — выкрикнул чисто польский тост, выпил, и голова его почти мгновенно стала клониться к столу. Надо же, насколько адекватная реакция, будто кнопка у него есть на пузе и кто-то ее нажал.
Окурок папиросы висел на губе, норовя сорваться в бездну и спалить помещение. Я извлек его изо рта Кикина и погасил в переполненной, вонючей пепельнице.
Встал. Делать мне здесь больше нечего. Два недвижимых тела — пьяное и деревянное, да, чуть не забыл, чурка еще с глазами в комнате, в потустороннем, розоватом свете антикварного торшера.
— Боря, закрой за мной.
Я думал, он уже все, не отреагирует. Плохо я про него думал.
— Он закроет. — Пьяный говорил на удивление четко и внятно, деревянный скромно молчал.
— Кто он?
— Буратино. — Кикин чуть приподнял голову и сказал, глядя на неживую куклу, псевдодетским голоском с характерным псевдофранцузским прононсом: — Иди, сынок, заклой за дядей двель.
Я пошел к выходу. Надел куртку, черную вязаную шапочку и выглянул в коридор. Кикин спал, уткнувшись головой в столешницу, Буратина тоже, понятно, никуда не собирался — сидел себе смирно в углу, где не дуло от незаклеенного окна.
— Боря, пока! — крикнул я, не надеясь, что буду услышан, и вышел на площадку.
Прикрыл за собой дверь, отошел на пару шагов, остановился. Дверь закрывалась ключом или на задвижку изнутри. Как оставить пьяного в незапертой квартире? Впрочем, вероятность того, что Кикина обворуют, минимальна, нечего у него брать. Что могли, давно вынесли. Да и что, в конце концов, я мог поделать? Не сидеть же всю ночь у недвижимого тела?! Можно, конечно, взять водки подороже да поприличней, нарезки, хлеба и… Нет уж, завтра с Сергеевым встречаться, а он, когда сам не пьет, фарисействует, попу морщит. Затянет, блин, песню о вреде алкоголя. Нет, не надо на серьезную встречу с похмелья приходить, не надо…
Я развернулся, поднял ногу и замер, потому что услышал шаги за дверью. Непростые шаги. Не шлепки босых ступней, не легкое тапочное шарканье, а словно деревом равномерно стучали в деревянный же пол.
«Что за чудеса? Борька, что ли, проснулся?» — подумал я, делая шаг по направлению к двери, и в этот самый миг услышал истошный лязг запираемой задвижки.
Я вздрогнул. Подошел, толкнул дверь — она не подалась, и тогда я со всей силы ударил кулаком по трехмиллиметровой броне. Как в медный таз получилось, еще и рука онемела. Не в первый раз за сегодняшний вечер, кстати.
— Боря, ты? — крикнул я в замочную скважину, но ответа не услышал.
«Правильно, — подумал, — он и не может ответить. У него же головы еще нет, не слепил ее Борька…»
Я снова услышал стук деревянных копыт, на этот раз удалявшийся, затем стало тихо. Закурил сигарету у запертых дверей, докурил почти до фильтра, затоптал у порога и пошел из этого сумасшедшего дома с мыслью, что водка точно попалась паленая. Иначе с чего бы после ста пятидесяти граммов всякая чертовщина мерещилась?
ГЛАВА 4 Почитатель Блока
В центре, пока я шел по улице Карла Маркса, фонари еще горели через один, но едва с нее свернул, тут же промочил ноги — лужи перестали быть различимы в темноте. Вот тебе и апрель, месяц зимний… Что произошло с сибирской погодой? Похоже, у нее белая горячка — жар и бред…
Когда я шел по улице Князя Волконского недалеко от Музея декабристов, в двух шагах от меня неожиданно возникла из темной подворотни, как из преисподней, мужская фигура значительных габаритов. Я остановился, будто на стену наткнулся, а тело непроизвольно приняло боксерскую стойку. Но мужик оказался мирным.
— Экологический фонд в защиту Байкала! — отрапортовал он, вручил мне лист бумаги и растворился во тьме, словно его и не было.
Проходя под яркой вывеской пивного ресторана, я прочел:
«Байкалу — да! Трубе — нет!»
Я смял листовку и бросил в урну. Достали уже экологи своими навязчивыми призывами. Неужто все это искренно? Да ни за что не поверю! Точно кто-то в акции заинтересован, кто-то этим ребятам приплачивает…
Улица Уткина — стандартная советская улица, начала восьмидесятых годов застройки. Скучные панельные параллелепипеды — сплошь. Взгляду отдохнуть не на чем. Впрочем, нужный мне дом отличался от остальных. Отличался, как бело-горячечный многоцветный глюк от серых будней алкоголика. Этакий всплеск застойного больного воображения. Я пришел к выводу, что архитектор, вероятно непризнанный гений, поклонник Корбюзье и Лобачевского, допился до белой горячки от безысходности… Прав был Антон Чехов, когда писал: «Он умер от двух самых распространенных в России болезней — от водки и злой жены». Про жену я, впрочем, ничего не знаю, но не очень и хочется…
Пятиэтажное, красного кирпича здание было выстроено в форме буквы «Ж». Что имел в виду предположительно спившийся архитектор, непонятно, однако скорее всего не женский туалет, а другое слово, народное, в те времена — непечатное, слово, венчающее его профессиональную карьеру…
Второй подъезд я отыскал с торца верхней средней перекладины пресловутой буквы «Ж». Рядом я увидел шестой и девятый. Нумерация подъездов была запутана до предела.
Входная железная дверь с номерным замком оказалась, к счастью, не заперта, и я без проблем поднялся на пятый этаж. Дверь налево. Тоже металл, но не самодел — фабричного южнокорейского производства.
Я нажал кнопку звонка и стал ждать. Ждать пришлось долго. Сначала свет в глазке появился, потом пропал, то есть, я понял, меня изучают. Во всех подробностях, две-три минуты, не меньше. И что такого интересного я из себя представляю, чтобы столько меня рассматривать?
Та же мысль, вероятно, пришла в голову и человеку за дверью. Глазок засветился снова, но дверь не открылась. Хозяин, не разглядев в моей внешности ничего стоящего внимания, ушел заниматься какими-то своими, более важными делами, чем общаться со мной. Обидно, конечно, да я не гордый. Я снова вдавил кнопку звонка, теперь уже без всяких церемоний, надолго. Ишь, блин, стукач позорный, он еще открывать мне не хочет, сукин сын!
Цвет глазка изменился — к дверям подошли и теперь наконец подали голос, мужской, хриплый, довольно неприятный, на мой вкус.
— Кто там?
Интересный вопрос, что на него ответить? Он же не знает меня совсем, имя мое ему ничего не скажет. А если глубже копнуть, то, действительно: кто я? Кто знает? Я не знаю точно. Поэтому ответил так:
— Стас, здравствуйте! Меня Кикин попросил зайти, поговорить с вами о работе вашей совместной!
С лязгом открылся один оборот замка, но тут же, вероятно, Стас и передумал.
— Кикин, говорите? — спросил. — Какой такой Кикин?
— Кикин! — отозвался я с готовностью. — Борис Кикин!
— А вы кто?
Ну вот, опять. Хотелось крикнуть в ответ: «Аз есмь человече!» Но я сдержался, ответил без выгибонов, по-людски:
— Я Борин друг! Андрей меня зовут! Андрей Татаринов!
Можно подумать, незнакомому человеку что-то скажет моя фамилия. Или я киноактер-англичанин в главной роли французского вестерна про бурятский остров Ольхон? Но названная мной фамилия подействовала невероятным образом, как волшебное слово. Сезам открылся. Не сразу, правда. Как я потом узнал, он был заперт на три мощных гаражных замка и стальной засов в палец толщиной. Была еще и вторая, деревянная дверь. Оно и верно, береженого Бог бережет. Если бережет, конечно.
Мужчина, гостеприимно распахнувший дверь, не был похож ни на стукача, какими их изображают в сегодняшних российских «мыльных операх», ни на советского шпиона с калифорнийской фабрики лживых грез. Во внешности не было ничего отталкивающего, ничего, что могло бы неосознанно вызвать антипатию. Голос мне его, впрочем, сразу не понравился. Все остальное — тоже. Не люблю красавцев, да в придачу еще и блондинов. Геббельс, впрочем, точно бы пришел в восторг. Главный нацистский пропагандист при виде Стаса речью бы разразился на предмет чистоты арийской расы, ставя его в пример…
В дверном проеме стоял высокий широкоплечий мужчина с мужественными чертами лица, голубыми глазами и коротко постриженными светлыми, почти белыми волосами. Под носом колосились густые усы радикального черного цвета, подбородок и щеки поросли недельной, наверно, щетиной, тоже черной. Породистый самец. Лет ему было, пожалуй, хорошо за сорок, но был он подтянут и строен. Стас следил за своей формой. Вероятно, не только за ней.
Женщины, для которых подобный тип мужской красоты притягателен, скажут: лермонтовский Печорин. Не спорю, может быть, но мне не нравится. Впрочем, я вообще к мужикам равнодушен…
Мне кажется, что неприязнь, возникшая с первой минуты, оказалась взаимной. Стас посмотрел на меня оценивающе, оценил, вероятно, не слишком высоко, но виду не подал, улыбнувшись лучезарно, отступил чуть в сторону.
— Что ж, проходите, коли пришли, Андрей Татаринов.
Я прошел и осмотрелся. Почему-то первая, идиотская мысль в мою голову пришла такая: Боря Кикин, если бы ему отдали все как есть, лет бы пять припеваючи жил, пил дорогую водку и не работал, а только сдавал в магазин «Антиквар» предметы старины из мастерской Стаса, не знаю его фамилии…
Стены были сплошь завешаны литого чугуна печными дверцами, старинными, с вычурными рисунками цветов и зверей. В красном углу стояло деревянное, похоже, католическое Распятие, аляповато раскрашенное — губы у Спасителя, словно у фотомодели в стиле «вамп». С потолка свисало два деревянных колеса от телеги, а прямо напротив дверей на всю высоту помещения раскорячились мастерски вырезанные наличники. Откуда, интересно, он их упер? Что-то не видел я в старинных домах таких огромных окон… Хотя, наверно, и нет уже того дома, снесли.
Мебель соответствовала: массивный буфет, этажерка, стол, стулья — все было антикварным, причем в отличном состоянии. Немногими предметами, выпадавшими из обстановки, были холодильник «Indesit», телевизор «Hitachi» и музыкальный центр, марку которого я не сумел определить — мелко написано.
Хозяин усадил меня в неудобное кресло с прямой спинкой. Напротив на стене висело минимум векового возраста большое зеркало в черном багете. Я взглянул на свое отражение и обнаружил у него во лбу третий глаз, причем не такой по цвету, как два привычных, — карий. Непроизвольно потрогал лоб. Ничего лишнего на нем не оказалось. Отражение по-прежнему выглядело мутантом. Я отвел от него взгляд, ну его… Что, интересно, так повлияло на мое воображение: незаконченное двуглазое бревно Кикина или Дьяволица-Шаманка из спама в почтовом ящике? Одно, вероятно, наложилось на другое… В зеркала в ближайшие дни я решил не смотреть.
— Излагайте, Андрей Татаринов, что там Кикин велел передать? — прервал мои размышления хозяин мастерской.
Я озвучил все Борькины претензии, но совесть в Стасе не проснулась, отнюдь.
— Урод!.. Алкоголик чертов!.. Пусть спасибо скажет, что я ему вообще заплатил! Мало ему… Да таким, как он, деньгами и не платят, ящик дешевой водки, и — до свидания!
Красивое лицо Стаса сделалось некрасивым. Он брызгал слюной. Он матерился через слово. Он вел себя, как извозчик… Хотя откуда мне знать, как вели себя извозчики?
Стас тем временем не унимался, продолжал орать:
— Подонок!.. Свинья неблагодарная!.. Пусть спасибо скажет, что за валюту с французами работает!
Изначально я дискутировать не собирался, мое дело маленькое: передал и отвалил. Но последняя его фраза меня завела. Да кто он, блин, такой? Что из себя строит?
— Вообще-то, Стас, его не вы, а Гриша Сергеев на эту работу устроил.
— А Сергеева кто устроил? Я! Без моего одобрения в съемочную группу ни одного человека не возьмут! Понял?!
Забылся Стас, даже на «ты» перешел. Фи, как неинтеллигентно… Но зато я все понял. Он, кстати, тоже. Смолк вдруг, потупился. И на старуху бывает проруха. Раскрылся ты, парень, перед незнакомым человеком, как лох. А вдруг я не Борькин собутыльник, а наоборот — агент ЦРУ или, того хлеще, — израильского Моссада? Кстати, и не пьяный совсем я был… Стас, вероятно, тоже об этом подумал и решил исправить положение. Он молча встал, прошел к холодильнику, порылся в нем, и скоро на столе появились коньяк, лимон и антоновские яблоки, чудный аромат которых перебивал даже запах цитрусовых.
— Андрей, как вы смотрите на то, чтобы выпить за знакомство?
Лицо его снова сделалось красивым. Он улыбался, лучезарный, как Люцифер. Нет, есть все же в этих «белокурых бестиях» своеобразное обаяние. Пусть и сатанинское… В голову опять пришла идиотская мысль, вторая по счету: интересно, мужиков он тоже соблазнял, когда ему внутренние органы приказывали?
— Нам с вами, Андрей, еще работать и работать, — сказал Стас, наполняя рюмки. — Лимончик берите… А я, знаете, привык коньяк яблоками закусывать.
— Яблоками? — переспросил я, не потому, что меня это интересовало, а просто чтобы не молчать.
— Да, представьте себе, русской антоновкой. Не знаю уж почему.
— Она тоже кислая, почти как лимон, — предложил я свою версию.
— Может быть, поэтому, а может… — Он поднял рюмку. Андрей, я предлагаю первый тост поднять даже не за знакомство, а за нашу с вами многострадальную, горячо любимую Родину!
Мне нечего было возразить ни против выдержанного коньяка, ни против Родины. Как там Шевчук пел: «…Говорят, уродина, а она мне нравится, пусть и не красавица…»
— За Родину, Стас, и пусть страданий в будущем ей выпадет как можно меньше!
— Замечательный тост, — одобрил хозяин мастерской, и мы выпили.
Действительно, замечательный коньяк. Я закусил лимоном, Стас — долькой яблока. В Эдеме, кстати, росла именно яблоня, а не ананас или мандарин. Так что, господа иностранцы, ежели желаете познать Добро и Зло, трескайте антоновку, и не говорите — кислятина…
— Я патриот, Андрей, я люблю Россию.
Не знаю, наверно, в лице моем он что-то увидел. Может, судорогу? Или сам почувствовал, что перегибает палку такими разговорами? Стас насторожился вдруг, повысив голос, сказал с вызовом:
— Да, я люблю Россию! В этом есть что-то неприличное?
Нет, конечно. Я тоже люблю Россию, не люблю только, когда любовью этой кичатся, словно флагом застиранным машут.
— Я, Стас, тоже к Родине с симпатией отношусь, тут предмет для спора отсутствует.
— Это хорошо, Андрей. А то есть люди, представляете, русские по национальности люди, которые ненавидят все русское, которые с потрохами продались жи… — Он осекся, посмотрел на меня пристально и, не став уточнять кому, выдал иную версию: — Которые продали душу Сатане!
— Это, Стас, просто отвратительно, — сказал я, и он сразу повеселел.
— Вы любите поэзию, Андрей? Высокую поэзию!
Терпеть не могу этот насквозь фальшивый, искусственный жанр. Тем паче, один местный поэт два года не отдает мне пятьсот рублей. Впрочем, во-первых, он, вероятно, писал низкую поэзию, а во-вторых, тут я сам виноват. Разве можно поэту давать в долг?
— Конечно люблю, — ответил я, — кто ж ее не любит, высокую-то?
Слова мои на Стаса подействовали, как выстрел стартового пистолета. Он закатил глаза и, раскачиваясь, попер нараспев:
Ты и во сне необычайна. Твоей одежды не коснусь. Дремлю — и за дремотой тайна, И в тайне — ты почиешь, Русь…Пока он читал, до меня вдруг дошло, что он со мной работает. Он заводит меня любыми способами, чтобы я расслабился, раскрылся, залопотал и выложил ему, стукачу, все как на исповеди. Любит он Россию или нет, не имеет никакого значения. Может быть, кстати, тут он и искренен. Но нет мне дела ни до него самого, ни до любви его иудовой.
— А вот еще… — Стас продолжал насиловать меня стихами. — «О, ты, немытая Россия…» Нет, это не то, другое: «Россия, нищая Россия, мне избы черные твои, твои мне…»
Я не удержался-таки, встал и подошел к старинному зеркалу. То, что я принял за свой третий глаз, оказалось дефектом стекла или амальгамы — черным продолговатым пятном в форме овала. Этого и следовало ожидать. Вся ваша мистика, господа оккультисты, — дефект восприятия, не более.
Стас завывал и завывал в рифму, а мне осточертело все это до предела, и я перебил фанатичного почитателя Блока совершенно по-хамски, даже строчку не дал ему закончить:
— Стас, так что мне Кикину Борису передать?
— Что? — переспросил он недоуменно.
— Придете вы к нему завтра утром или нет?
Он все понял. Нет, не был он дураком, этот «белокурый бестия», кем угодно, только не дураком. И с выдержкой было все в порядке. В лице даже не переменился, сказал спокойно:
— Передайте Борису, что я приду.
— Только это мне от вас и было нужно. — Я встал. — До свидания, Стас.
— На посошок? — предложил он с надеждой.
— Нет, спасибо.
По дороге домой я вспоминал коньячное послевкусие и жалел, что отказался от последней рюмки. Ну да черт с ней.
Я шел, а под ногами трещал тонкий ледок. Лужи уже покрылись им. Сибирь все-таки. Несмотря на необычайно раннюю весну с плюсовой дневной температурой, ночью ртутный столбик исправно опускался ниже нуля.
ГЛАВА 5 Глиняная голова
Не сама же собой сформировалась она из пустого пространственного эфира — желто-коричневая, круглая, словно опухшая, со сглаженными чертами и глубоко запавшими глазами, глиняная голова мертвого бурятского шамана. Я не знаю, кто ее вылепил, потому что Боря Кикин точно не мог. Не мог он также петь и танцевать, да и что-то другое вряд ли бы у него получилось…
Дома мне не сиделось. Я пришел к Борису не к двум, как договаривались, а в начале двенадцатого. Входная дверь оказалась не заперта. Я застал Бориса в совершенно неработоспособном состоянии, лежащим в гостиной поперек дивана, а готовую голову — на кухонном столе среди заляпанной желтой глиной посуды. Под столом стояли эмалированный таз с остатками исходного материала, похожего на дерьмо, и опорожненная водочная бутылка с множеством отпечатков пальцев — мечта криминалиста.
Безголовый Буратино сидел в ожидании головы за столом на том же самом месте, где не дуло от окна. Вероятно, закрыл за мной вчера дверь и вернулся. С тех пор и сидит… Чушь, конечно. Дверь за мной закрыл Борис. Как-то умудрился встать из последних сил на автопилоте и закрыть. Никаких метафизик, по утрам особенно, я не приемлю. Наверно, случается в мире нечто мистическое, необъяснимое, я допускаю такую возможность, но не здесь, не сейчас и не со мной.
Что же получается? Я оставил Бориса спящим за столом, правда, было еще не очень поздно, только стемнело, а к одиннадцати утра он уже готов, спекся. Когда он успел напиться и вылепить голову? Или он делал это одновременно?
Помня вчерашний мой опыт с зеркалом в мастерской Стаса, я посмотрел на себя, проходя через прихожую. Посмотрел и вздрогнул, потому у отражения не было головы. Остановился, присмотрелся и расхохотался над своей мнительностью — у моего отражения не было не только головы, но и ничего другого ниже пояса. И не могло быть. Зеркало в прихожей было небольшого размера и отражало только то, что в него помещалось.
Тут же на столике я увидел телефонный аппарат и автоматически снял трубку — телефон молчал, гудок отсутствовал. Отключили за неуплату? Но деньги-то у Кикина есть. Хотя, может, забыл или не успел заплатить, кто знает?
До встречи с Сергеевым заняться мне было нечем, и я решил устранить бардак на кухне. Здесь даже сесть оказалось не на что — все заляпано подсохшей уже желтой глиной.
Вымыл посуду, вытер стол, подмел полы. В поисках мусорного ведра распахнул дверцу шкафчика под мойкой и обнаружил там возле переполненного ведра четыре нераспечатанных бутылки водки. Ничего себе… Откуда они могли взяться? Вероятно, тоже сформировались из пустого пространственного эфира…
Потому что знаю я Бориса: хоть с деньгами и нет у него сейчас проблем, не мог он купить столько сразу. Понимает — пить ему нельзя. И, когда стоит у прилавка магазина, успокаивает себя тем, что эта вот бутылка — последняя. Он думает: выпью, мол, еще разок, и все, в завязке. Самообман, конечно, но с ним Боре легче жить. Или доживать?.. Тьфу-тьфу-тьфу, что я несу? Не мне его судить.
Значит, кто-то эти пузыри принес, а когда уходил, дверь не запер. Кто? Кто этот злодей? Ответ напрашивался сам собой. Этим человеком мог быть только Стас. Он же обещал прийти утром, вот и пришел, урод…
Стоп, не сходятся концы с концами, как ни верти. Эта глиняная голова вообще не могла появиться до прихода Гриши Сергеева. Он же должен принести фотографию бурята, который будет играть мертвого шамана… Тьфу, черт! Почему мертвого? Живого!
Но Сергеев придет только в два часа, а в одиннадцать, когда пришел я, голова оказалась уже готовой. Или Сергеев по какой-то причине занес фотографию рано утром? Но тогда где она? По логике, где-то здесь, на кухне, рядом с башкой. Боря, когда спать завалился, все бросил как было, ничего не убирал… Ну а уж водку принес точно не Сергеев. Ему надо, чтобы Кикин работал, а не пьянствовал.
Я потряс головой, в ней будто звенело. Я запутался. Я ни черта не мог понять.
— Кто же тебя вылепил, приятель? — спросил я у шаманской головы, накрыв ладонью ее желто-коричневый, гладкий затылок.
Голова не ответила, а глина была влажной, не высохла еще…
Я вздрогнул, в комнате что-то громыхнуло. Я отдернул руку от чужого затылка, будто током меня ударило. Нервный я стал, как барышня, не хватало только в обморок грохнуться…
Я прошел в гостиную. Как и следовало ожидать, нашумел Боря. Он упал с дивана и лежал теперь ничком, распластавшись на грязном полу. Я втащил его обратно. Он открыл глаза, но меня не узнал. Пробормотал еле слышно:
— Стас… ты хороший… человек… наливай…
После этого Борис заснул, через минуту — с богатырским храпом.
На стене над диваном висел замызганный пыльный ковер. Лет двадцать, вероятно, его не чистили. Его я помнил. А вот на гвозде, вбитом в стену прямо сквозь плотную ткань, я увидел большой шаманский бубен — почерневшую от времени шкуру какого-то зверя, натянутую на деревянный обруч.
Или Борис повесил его недавно, или я его не замечал раньше, не знаю.
Я потянулся к бубну рукой, но прикасаться не стал, испугался сам не знаю чего. Пусть себе висит, не стану я его трогать.
Я заглянул в дальнюю комнату-мастерскую, где Борис рубил истукана. В стороне у стены заметил еще одно бревно, нетронутое. Бревно как бревно, метра три длиной. А в куче стружек, опилок и кусков отколотого дерева я увидел все те же знакомые глаза с острова Пасхи. Скульптурой со вчерашнего дня Кикин явно не занимался. Ну и слава богу, а то отрубил бы себе топором по пьяни руку или еще что-нибудь нужное…
На подоконнике в кучу были свалены фигурки человекоподобных существ из жести, меди и дерева. Я взял одну из них в руки. Будто ребенок баловался. Впрочем, с подобными материалами — медью и жестью — ребенку не совладать. Что за хрень? Зачем их Борька понаделал? Я вернул фигурку в кучку. Потом спрошу.
Хотел уже повернуться и выйти из комнаты, но что-то заставило меня задержаться. Когда я смотрел на эти бревна, то почему-то подумал, что начатое, с глазами, неправильное какое-то. А вот то, нетронутое… От него, совершенно на вид обыкновенного, словно исходила какая-то непостижимая энергия. Запредельная? Потусторонняя? Нет, не знаю, не могу не только объяснить, но даже определить ее суть. Знаю одно — она была. Я ощущал ее кожей, всем нутром — меня будто жгло, меня подташнивало, у меня кружилась голова… Лампочки, перегорающие в квартире, вероятно, тоже реагировали именно на этот переизбыток энергии — не выдерживала тонкая вольфрамовая нить, взрывался вакуум, заключенный в стеклянной колбе…
Ну а бревно с глазами — просто бревно, да и глаза неправильные. Не знаю уж почему…
Я вернулся на кухню. Мне ничего больше не оставалось, как только сидеть и тупо ждать Григория Сергеева, художника-постановщика французской съемочной группы. Впрочем, я продолжал размышлять. Кикин назвал меня Стасом. Что и требовалось доказать. Значит, именно он приходил утром, и пять бутылок водки — его подлянка.
Григория Сергеева еще здесь не было, фотографии актера — тоже, а голову шамана Борис вылепил по наитию, не с конкретными чертами лица, а с усредненными. Может, и правильно. Все равно для европейцев все монголоиды на одно лицо, так чего выдрючиваться?
ГЛАВА 6 И. о. ассистента
В половине третьего, когда я уже домой уходить собирался, пришел наконец Григорий Сергеев. Среднего роста, приземистый, лысоватый, с грубоватым, но симпатичным лицом, едва меня замечая, пожал руку и прошел по инерции за мной на кухню. Увидел глиняную голову.
— Как?! — вскрикнул, будто обжегся. — Зачем он слепил раньше времени? Вот же, я фотографию принес!
Григорий положил на чистую теперь столешницу глянцевое фото. Сел рядом, стал сличать: то туда посмотрит, то сюда. Так раз пять, не меньше. И лицом просветлел вдруг, заулыбался.
— Как?.. — спросил непонятно кого. — Как он умудрился без фотографии?
Потом Сергеев обратил-таки на меня внимание.
— Посмотри, Андрей, — протянул фотку. — Похоже?
Я взглянул. Похоже — не то слово, потому что лицо на фотографии было идентично лицу глиняной скульптуры. Абсолютно идентично.
— Кикин, наверно, этого бурята видел, — предположил я.
— Вряд ли, — не согласился Сергеев. — Он, правда, местный актер, но на роль его всего два дня назад утвердили, поздно вечером, а сам он только вчера узнал.
Я ничего не понимал, Сергеев тоже. Вероятность того, что Кикин лепил усредненного человека, а попал в конкретного, близка к нулю. Да какое там, близка! Она и есть полный нуль! Это то же, что, вскапывая землю на дачном участке, найти чугунок с золотыми римскими монетами времен императора Тиберия. Впрочем, так клады и находят. Но чтобы именно времен императора Тиберия…
— Ничего не понимаю.
— Аналогично.
— А где, кстати, Борька? — Сергеев повеселел вдруг. — Что гадать? Сейчас его и спросим, пусть расскажет, как он умудрился сделать портрет, не видя натуры.
— Он в комнате спит.
Я понимал, что сейчас прольется чья-то кровь, как бы под запарку и мне не досталось… сейчас… сейчас…
Григорий насторожился. Были бы у него уши, как у овчарки, точно бы поднял. Таких собачьих ушей у Григория не было, клыков, к счастью, тоже, зато были полупудовые кулаки, что молоты. В своем без малого шестидесятилетием возрасте Григорий оставался крепким мужиком. Крепким и по пьянке вспыльчивым. Сейчас он не просто трезв, как стекло, сейчас он — ярый поборник трезвости, а пьяниц, всех без разбора, ненавидит, считает их отбросами, недостойными жить. Когда Григорий запивает сам, все наоборот… Вот две какие разные личности поселились в одном-единственном теле. Интересно, может, у него и души две? Или даже — три?
— Чего это Боря днем завалился? — Григорий взглянул на часы. — Половина третьего. — Но тут же сам себя и успокоил: — Ночью, наверно, лепил, не спал…
Я промолчал. Пусть сам смотрит. Хотя, может, за три часа Борис оклемался? В это верилось с трудом, уж больно он был тяжелый…
Григорий пошел в комнату, я поплелся следом, размышляя, что на работу теперь он вряд ли меня возьмет… хотя я еще и разговора об этом не заводил.
Надо было что-то предпринять, обезопасить себя заранее. Григорий увидит сейчас невменяемого Кикина, а кроме меня, в квартире никого нет. На вопрос, кто его напоил, ответ однозначный.
— Гриша. — Я коснулся его плеча.
Он остановился, развернулся.
— Что, Андрей?
— Я здесь ни при чем. Я когда пришел, он уже был готовый.
Сергеев усмехнулся.
— Я понимаю, что ты ни при чем. Ты бы не смог. Ты, Андрей, не обижайся, — он хлопнул меня по плечу, — но у тебя уровень не тот. Это Борька сам. Он, зараза, мастер.
До меня дошло, что не дошло до Сергеева. Слово «готов» он приложил к глиняной скульптуре, а не к нулевому состоянию Бориса.
— Ты не понял, я не про голову. Я в одиннадцать утра пришел, дверь не заперта, голова готова, а Борька пьяный спит.
— Пьяный? — переспросил Сергеев, зверея на глазах.
Не дожидаясь ответа, он резко развернулся и направился в комнату.
— Я здесь ни при чем! — крикнул я вдогонку. — Я вообще не пью! Бросил!
Нехорошо, конечно, врать, но жизнь, блин, такая, приходится…
Когда я нарочито неспешно вошел, хмурый Борис сидел на краешке дивана, а злобный Григорий мерил комнату шагами. На удивление, первый проспался и протрезвел, второй не дрался, а лишь бросал убийственные взгляды на первого. И все это в полной тишине.
Видок у Бориса был еще тот. В обычном своем состоянии он выглядит вполне по-европейски, но в похмельном бурятская половина одерживает безоговорочную победу. Голова округляется, глаза западают, щеки опухают — чистый бурят без всяких там декадентских полутонов. Причем бурят всегда очень печальный, особенно когда похмелиться нечем. В последнее время Боря Кикин ведет все более и более бурятский образ жизни…
Мои этнические размышления прервал глуховатый голос Гриши Сергеева. Что приятно, спокойный голос. Ничью морду он явно бить не собирался. И на том спасибо.
— Борис, о чем мы с тобой договаривались, когда я давал тебе заказ?
Кикин пожал плечами, но Сергеев и не ждал ответа. Он хотел монолога.
— Я напомню, если ты забыл. Ты обещал не пить до вечера, до первой звезды. И не напиваться до соплей ты тоже обещал.
Что-то интересное Боря отыскал на грязном полу, потому что смотрел вниз в одну точку. Молча.
— А если ты напьешься в рабочее время, мы договорились, что я заберу у тебя все деньги и отдам только перед отъездом на Ольхон. Это если ты выполнишь заказ качественно и в срок, конечно.
Борис встал с дивана и полез в карман, вероятно намереваясь выполнить условия договора.
— Подожди, — остановил его Григорий. — С кем напился-то?
По интонации последнего вопроса я понял, что гроза миновала. Борис тоже это понял, поднял глаза.
— Стас рано утром приходил, водки пять бутылок принес.
— Пять?! — с ужасом переспросил Сергеев. — А сколько выпили?
— Не помню.
— Где бутылки?
— Тоже не помню, убрал куда-то. На кухне они.
Сергеев повернулся ко мне:
— Андрей, иди поищи, посмотри, сколько осталось.
Я не сдвинулся с места.
— Четыре осталось. Я их уже видел, когда на кухне прибирал. В шкафчике под мойкой они стоят.
Сергеев смачно выругался по-матери и добавил по-русски:
— Сволочь Стас, — снова повернулся к Борису: — Голову ты лепил?
— Какую голову?
— Голову шамана.
— Ничего я не лепил… Как бы я ее слепил, если ты фотографию только сегодня должен принести? Принес?
Сергеев не ответил, взглянул на меня.
— Ты что-нибудь понимаешь?
— Пьяный лепил, наверно, — предположил я, — а потом заспал и забыл.
— Не похоже, что пьяный, — возразил Григорий. — Хорошая работа, по пьяни так не сделать.
— Тебе не сделать, а у Борьки, может, самая работа в беспамятстве.
— Вы о чем? — вмешался Кикин. Он явно ничего не понимал, как и мы все, впрочем.
— Пошли, — сказал Сергеев, и мы один за другим, гуськом отправились за командиром.
Голова мертвого бурятского шамана, просыхая на сквозняке, терпеливо дожидалась нас на кухонном столе, от нечего делать рассматривая фотографию бурятского актера. Даже глаза скосила влево и вниз. Так мне показалось.
Боря смотрел на нее, как на привидение, а мы смотрели на Борю, и кто из нас был больше удивлен, не могу даже предположить. Пауза затянулась на минуту, не меньше.
— Твоя работа? — спросил наконец Григорий.
— Не знаю, — честно признался Борис. — По манере исполнения вроде моя, но как и когда я ее лепил, не помню… Может, это Стас сработал, пока я спал?
— Стас, даже если из штанов выпрыгнет, такое не слепит, — хмуро констатировал Григорий. Было заметно, что загадки всякие очень его раздражали. А кого нет? Никому они не нравились. Это в кино интересно, а в жизни, боже упаси…
Боря замечание художника-постановщика пропустил мимо ушей, продолжал о своем:
— Но даже если это сделал Стас, то как он мог без фотографии?
— Вот она, кстати, посмотри, — сказал Григорий, двигая карточку по столу.
Кикин взял ее и уставился, как на второе привидение, еще более ужасное, нежели первое. Долго смотрел, сличал, а потом отбросил фото от себя, как нечто мерзкое, и произнес решительно:
— Я ничего не понимаю, но этого не может быть!
Он прав, конечно, не может, однако руки, одежда и даже лицо Бориса были обильно вымазаны уже подсохшей желтой глиной. Значит, лепил именно он. Лепил и пил в одиночку по-черному, а когда допился, не помыв рук, рухнул на диван.
Все встало на свои места. Кроме головы, конечно. Она хоть и стояла на столе, неулыбчивая, строгая, как посмертная маска, но ее не должно было быть, а значит, и не было. Для меня, по крайней мере.
— Ты на руки-то свои посмотри, — предложил я Борису.
Тот посмотрел, Григорий тоже. Выводы сделали оба.
— С головой разобрались, — констатировал Григорий и добавил с легкой завистью: — Ну, ты, брат, даешь. Я бы неделю лепил, и еще неизвестно, что бы вышло. А ты — влет, да еще на автопилоте… Ты, Боря, гений… если б еще пить бросил…
Сергеев посмотрел на часы, озаботился лицом.
— Ладно, времени мало… Как у тебя с бурханом?
— Начал только, — ответил Борис, — пошли, покажу.
Мы прошли в комнату-мастерскую, и я снова почувствовал ту же нестерпимую энергетику, исходящую от неначатого бревна, а Сергеев, если что и почувствовал, значения не придал. Уставился на чурку начатую, хмыкнул.
— Глаза не те. Будто у истуканов с острова Пасхи глаза. Не тот остров, Борис, для Ольхона надо рубить.
Тот засуетился.
— Так не закончено еще, Гриша. Я исправлю, и глаза будут, как надо.
— Картинку не потерял?
— Да вот же она, на подоконнике.
Я взял в руки вырезанную иллюстрацию из какого-то глянцевого журнала или альбома. На диком, байкальском, вероятно, берегу стоял столб с лицом, злобным, клыкастым. На его лбу были вырезаны человеческие черепа, я насчитал семь. Под ними — третий глаз. Симпатичное создание… И глаза были вроде такие же, навыкате, а все равно не те. Тут Гриша был прав. Не знаю, в чем состояла разница, но она была.
Григорий бесцеремонно вырвал из моих рук картинку и потряс ею перед носом Бориса.
— Вот так надо, Боря! Только так, это важно!
— Да понял я. Ты, Гриша, успокойся, сделаю глаза в лучшем виде.
— Где ты потерял третий глаз? — спросил я.
— И третий будет…
— Какой третий? — удивился Григорий. — Откуда?
— Ну, вот же! — ткнул я пальцем в глянец иллюстрации.
Они посмотрели. Переглянулись. Потом уставились на меня в четыре глаза. Хорошо хоть, пальцем у виска никто не покрутил. Но Григорий сунул вырезку мне под нос:
— Где ты увидел третий глаз?
Я увидел, но промолчал. Во-первых, я понимал, что не в моих силах убедить их в собственной слепоте. Или это я излишне зряч?.. А во-вторых, знал — сколько глаз будет у этой конкретной скульптуры, не имеет никакого значения. Мои зрение и знание изрядно меня напугали.
Я не ответил, и пауза затянулась до неприличия. Спас положение Боря Кикин.
— Да бросьте вы! — сказал он. — Сделаю все в лучшем виде! Если я уж по пьянке голову слепил…
Он не закончил фразы, но было и так все понятно.
— Кстати, водку я забираю, потом отдам, — сказал Григорий, возвращая иллюстрацию на подоконник. — Ты же, Боря, работать не сможешь, пока она тут стоит.
Мы вернулись на кухню, и мазохист Кикин сам достал убойную свою заначку. Выглядел он при этом печальным.
— Но похмелить тебя все равно надо, иначе какой из тебя работник? — приободрил его Григорий, убирая в сумку три бутылки и оставляя на стеле одну. — Ты голову пока не трогай, пусть сохнет. Истуканом занимайся.
— Понял, — согласился лучезарный теперь Бориска. Много ли надо алкоголику для счастья?
Григорий распечатал бутылку, взглянул на меня:
— Ты как? Уже вроде не утро, три часа.
— Не пью, и не тянет! — отрезал я.
— Как хочешь, — равнодушно сказал Григорий и налил в два цивильных стакана, отмытых мной до хрустальной прозрачности.
Выпить мне вообще-то хотелось, но еще больше хотелось попасть в съемочную группу и заработать немного долларов. Тысячи две-три меня бы устроило. И еще я понял, что Кикин о нашей договоренности не вспомнит. Если я сам о себе не позабочусь, не заведу разговор с Сергеевым, работа мне не светит.
Григорий поднял стакан, другой рукой погладил гладкий глиняный затылок бурятского шамана.
— Молодец, Боря, хорошая голова. Завтра с утра гипсовать начинай.
Кикин тоже потрогал желтый затылок.
— Сыровата еще… но ближе к вечеру уже можно.
— Думаешь?
— По сырому нельзя, а по чуть влажному даже лучше.
— Ну, смотри, тебе видней.
Они выпили, и Сергеев засобирался. Как бы мне не опоздать на поезд, отходящий на Ольхон… Хотя какой, к черту, поезд? Там летом — паромная переправа, а сейчас зимник, прямо по льду Байкала…
— Гриша, а для меня какая-нибудь работа найдется? Я сейчас свободен, да и интересно мне на съемки фильма посмотреть. Ни разу не присутствовал.
Григорий ненадолго задумался, но, вероятно, ничего не решив, отвечал уклончиво:
— Люди-то мне нужны… Я про тебя, Андрей, сразу подумал, но Стас, мой ассистент, сказал, что ты бухаешь уже две недели. Я и не стал тебе звонить.
— Ложь! — воскликнул я, возмущенный до предела. — Во-первых, я запоем не пью, а во-вторых, мы со Стасом этим незнакомы были даже. Я вчера его впервые увидел. Гонит он, козел!
— Ты ему так не скажи. — Григорий нехорошо усмехнулся. — И вообще, держись от него подальше, дольше проживешь…
Он снова задумался, и рука его автоматически разлила водку теперь уже в три стакана. Боря подсуетился и поставил на стол еще один, заговорщически мне подмигнув.
— Ты, Григорий, в Андрюхе не сомневайся! Руки у него золотые, и сам он парень надежный. Бери в команду! Мне он тоже нужен, хочу его на улицу и в музей помощником взять.
— Ладно, — согласился Григорий, — бери, пусть работает.
— А на Ольхон? — не унимался я. — На Ольхон меня, Гриша, возьмешь?
Но Григорий не ответил — пил, не дожидаясь нас. Как бы ему в загул не войти не вовремя… Он выпил и выдохнул:
— Ох и достали меня французы, сил никаких нет…
Мы с Борей тоже выпили, а Григорий, похоже, и не заметил, что я, только что провозгласивший трезвость, накатил полстакана.
Чем же, интересно, французы его так достали?.. Но я решил не отвлекаться по пустякам, потом сам расскажет. Я решил ковать, пока горячо, — повторил вопрос про Ольхон.
— Посмотрим, — ответил Сергеев. — Ольхон никуда не убежит, он не собачка.
А вот и неправда, точнее, не вся правда. Знавал я и собаку с такой кличкой. Здоровенная, злая восточноевропейская овчарка из милицейского питомника.
Григорий пошел, я думал, к выходу, а он снял телефонную трубку в прихожей.
— Боря, гудка нет! Не работает, что ли?
— Оплатить все забываю.
Григорий вернулся на кухню.
— Деньги давай.
Борис выгреб деньги из карманов и сложил на столе. Григорий мелочь отодвинул в сторону, а бумажные банкноты пересчитал.
— Сейчас по дороге я зайду на телефонную станцию и оплачу телефон. Будь на связи. Вечером приду, принесу пожрать, курева и бутылку. — Добавил подчеркнуто: — Одну! Все понял?
Боря кивнул, а Григорий достал мобильник и нажал кнопку вызова. Через несколько секунд я услышал, как что-то бормочет в микрофоне бесцветный голос автоответчика. Григорий отключился, сказал в пространство:
— Недоступен Стас, — повернулся к Борису: — У тебя есть его домашний номер или номер мастерской?
— Сейчас посмотрю, оставлял, кажется.
Борис вышел и через минуту вернулся с листком бумаги, помятым, словно жеваным. Григорий расправил лист.
— Так… это сотовый, недоступный… а, вот!
Набрал номер. Я стоял рядом, слышал длинные гудки.
— Теперь — домой.
Но и эта попытка не увенчалась ничем. Григорий злился, почти шепотом он произнес нараспев два слова:
— Ас-сис-тент хре-нов… — и повернулся ко мне: — Ну что, Андрей, начинаешь работать?
— Как скажешь, начальник.
— Тогда так, Боря остается дома, рубит Бурхана, а вечером делает гипсовые слепки с глиняной головы Приду, проверю. А ты будешь временно исполняющим обязанности ассистента, пойдешь со мной сначала в музей, потом улицу смотреть. Я позвоню, и режиссер с оператором приедут. А в музее… — Он взглянул на часы и выругался. Мы должны быть через десять минут. Придется тачку брать, иначе опоздаем…
Руки его снова жили отдельной жизнью — пока Григорий раздумывал, руки наполняли стаканы. И правда в нем два человека. Стоило трезвеннику отвлечься, пьяница уже наливал… А может, все-таки три? И этот третий, свидетель соперничества двух первых, но не судия, и есть настоящий Григорий Сергеев — без краденых эмоций и заимствованных чувств, без суеты сует Срединного мира.
— Ну что, мужики, на посошок — и за работу! — предложила запойная ипостась Сергеева.
И тут я не отказался, как вчера в мастерской Стаса. Хотя там подавали выдержанный коньяк, а здесь — не самую лучшую водку… Ой, вру! Водка плохой не бывает Она бывает хорошей и очень хорошей. Даже не так. Водка просто бывает или не бывает. И все.
ГЛАВА 7 Экзотическое эхо
Быстрым шагом по улице Князя Волконского мы с Григорием Сергеевым добрались до места и, почти и не опоздав, подошли к двухэтажному деревянному особняку декабриста князя Трубецкого.
А они неплохо здесь устроились, все эти опальные аристократы, избежавшие демократической петли, узники совести первой половины девятнадцатого века. Они, говорившие на французском лучше, нежели на родном, ради виртуальной свободы России пожертвовали всем — положением в свете, возможностью видеться с друзьями и родными, прогуливаться по Невскому проспекту и плести заговоры за бокалом «Вдовы Клико». Все, конечно, относительно. Их современники — сибирский казак или вольный пахарь, вероятно, с вожделением смотрели на просторные, богатые хоромы. Что неизбежно — кому суп жидок, кому жемчуг мелок. Се ля ви. Декабристы лишились того, о чем казак имел весьма смутное представление, а землепашец не имел вовсе. Но даже то, что у господ осталось, вызывало жгучую зависть и того и другого. Господа и в изгнании, в дикой Сибири остались господами. Аминь.
После Октябрьского переворота княжеский особняк отошел рабоче-крестьянскому жилфонду. Помещения разбили перегородками на множества тесных клетушек. Даже в подвале были коммунальные квартиры, точнее, комнаты. Там, где проживала одна семья, теперь ютились десятки.
В 1975 году, как это было принято в Советском Союзе, к 150-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, решением Политбюро ЦК КПСС по всей Сибири в местах ссылок были созданы дома-музеи первых русских революционеров. Жильцы, расселенные в благоустроенные хрущобы, должны быть благодарны Ульянову-Ленину, как-то написавшему, вероятно, в Разливе, что «декабристы разбудили Герцена». Кабы не послужили они будильником, их дома за ветхостью уже бы снесли или оставались они до сих пор коммунальными квартирами и складскими помещениями…
У деревянной, под старину, ограды дома-музея мы увидели припаркованную «тойоту» с иркутским номером, а рядом мужчину лет под сорок и приятной наружности миниатюрную девицу. Они улыбались и смотрели друг на друга с вожделением. Они ворковали, как голубки. Со слов Сергеева я понял, что это и есть второй режиссер-итальянец и переводчица-москвичка. Сплошные иноземцы.
Догадаться-то я догадался, но уточнил:
— Гриш, это они?
— Они, — ответил хмуро художник-постановщик, — будь они неладны. Я подозреваю, что Катерина, это переводчица, переводит совсем не то, что я иностранцам говорю.
— Как так?
— А вот так, — отрезал Сергеев и, выдавив из себя улыбку, шел уже с протянутой рукой к кинематографической парочке. Сладкой, судя по их взглядам.
Мы пожали друг другу руки, и Григорий представил меня как второго ассистента художника. В ответ режиссер назвал свое имя Марко Ленцо. Высокий, нескладный, чуть сутулящийся, в немодных круглых очках, он производил впечатление студента Сорбонны, судя по возрасту, вероятно, вечного.
Хотя имя перевода не требовало, Катерина все же перевела его.
— Марко Ленцо, — повторила она приятным чувственным голосом с легкой хрипотцой и добавила: — Второй режиссер.
Уточнение это было сделано для меня одного. Итальянец ничего не говорил, кроме имени, а Сергеев и без того знал его профессию и должность.
Я это оценил и улыбнулся, Катерина улыбнулась мне в ответ. И тогда я оценил ее светлую улыбку и правильные черты лица: чуть припухлые ярко-алые губы, глаза, словно голубые омуты, утонуть в них — раз плюнуть. Все соразмерно, все как надо, лучше и не представить даже… Еще она увидела во мне мужчину, я это ощущал совершенно явственно. И не было в ней пресловутых столичных гонора и спеси. А если и были, то мне стало теперь все равно, я не хотел их замечать и не замечал. Она представилась:
— Катерина, можно Катя, переводчица с французского и итальянского, — и протянула мне руку.
Я не стал ее вульгарно, по-мужицки пожимать. Я поцеловал ее руку, красивую, узкую, с длинными тонкими пальцами. Она улыбнулась снова… о господи, прости мою душу грешную… Где была она и где я? Действительно, где?
Мы стояли в луже на скользком, полурастаявшем насте тротуара. Катерина была без шапки, и темно-русые пряди свободно стекали на черно-бурый воротник кожаной куртки. Низ бежевых джинсов и светлые сапожки с удлиненными носами были чуть забрызганы придорожной грязью. Что меня порадовало. Ходит она все-таки по земле, а не витает в заоблачной выси, и, значит, есть у меня шанс.
Шанса у меня не было. Катерина повернулась к итальянцу, что-то сказала и одарила его настолько лучезарной улыбкой, что я это понял и глядел теперь на иностранца с нескрываемой неприязнью. Он, впрочем, этого не заметил. Он вообще меня не замечал. Дело тут не в национальной принадлежности, а в профессиональной. Второй ассистент художника-постановщика для режиссера, пусть и тоже второго, попросту не существовал. Как личность, по крайней мере. Я существовал для него как некая функция — съемочная площадка должна быть готова к съемкам, а кто и как это сделал, ему не важно. Не было в этом ничего обидного, я и не обиделся, принял к сведению.
Марко Ленцо не требующим перевода жестом постучал по наручным часам, и мы, минуя скрипучую калитку, вошли в обширный двор дома-музея. Сразу налево три ступеньки вели на крытое крыльцо особняка, справа и прямо располагалось несколько одноэтажных деревянных подсобных построек. Все, кроме самого дома, новодел. Вероятно, совсем недавно реставраторы восстановили облик двора времен декабристской ссылки.
На крыльце нас уже ждал директор музея Михаил Орестович Овсянников в строгом черном костюме и белой сорочке с галстуком-бабочкой. Был он среднего роста и возраста, румяный, с улыбкой восторженного подростка и легким брюшком мелкого буржуа. Я немного знал его, но знакомство наше не шло дальше рукопожатий и сердечных, ничего не значащих улыбок при случайных встречах. Я неоднократно работал с экспозициями и на таком уровне знал большинство музейных теток. Да и Миша был в своем роде тоже тетка, ходили такие слухи в городе… ладно, не мое это дело, тем более, сам не проверял, боже упаси, и свечку у его кровати держать не довелось, тьфу-тьфу-тьфу…
— Наконец-то! Я уж подумал, вы не приедете! Думал, планы поменялись!
Директор засеменил по ступенькам, вытянув перед собой руку для рукопожатия, будто собирался ладонью проткнуть насквозь идущего впереди итальянца.
— Здравствуйте, здравствуйте! Милости просим, дорогие гости! Меня зовут Михаил Орестович Овсянников! Редкое отчество, правда?! Исконное иркутское! Овсянниковы — известная купеческая династия, мелькает в местных летописях, начиная с конца восемнадцатого века!
Он сиял и восклицал. Он всегда сиял и восклицал. Я даже не мог его представить без ослепительной улыбки и поросячьего восторга. Зубы, впрочем, у него были отменные — белые, ровные… интересно, свои или вставные? Уж слишком они были белые и ровные… Да и дикция тоже была отменной, и музыкальный слух. Он декламировал стихи и пел романсы на разнообразных «Декабристских встречах», которые часто проводил в музее, и не только в декабре, круглый год. К счастью, с крыльца он не пел и не декламировал. Зато выдавал информацию скороговоркой. Катерина не успевала переводить, впрочем, тараторила, как сорока, старалась. И мне показалось вдруг, что мы в гулкой какой-то пещере с экзотическим эхом, говорящим на иностранном языке.
— С чего предполагаете начать? С комнаты или конюшни? Сразу предупреждаю, конюшня не музейная, частная. Я взял ключи, можете посмотреть, но договариваться об аренде с хозяином будете сами. Он здесь, пять минут назад я его видел.
— С конюшни и начнем, — решил Григорий Сергеев единолично.
Режиссеру Катя не успела еще даже перевести. А когда перевела, он интенсивно закивал и повторил, коверкая русские слова:
— Та-та, конь-юшнь-я!
Чем чрезвычайно порадовал Овсянникова.
— Вы говорите на русском языке?! — воскликнул он, взмахнув руками. — На великом и могучем?!
— Он не говорит по-русски, — успокоила Катерина директора музея, — иногда по-русски он повторяет. — И добавила чуть презрительно: — Как попугай.
Чем чрезвычайно порадовала меня. Может, есть все ж таки у меня шанс? Хоть, блин, малюсенький?
А Григорий уже направился решительно к частной конюшне, мы последовали за ним, а Михаил Орестович с ключом в вытянутой руке забежал вперед, подпрыгивая, словно мячик.
Одноэтажное здание конюшни находилось напротив крыльца, а вход в него — с обратной стороны. Овсянников вставил ключ в замочную скважину и без проблем открыл большой навесной замок, затем, с усилием, — скрипучую створку ворот. Все сгрудились в дверном проеме. Григорий, тут, вероятно, уже бывавший, сделал шаг вперед и щелкнул выключателем. Загорелась тусклая желтая лампочка под самым потолком и осветила…
— Бардак, — сказал итальянец французское слово совершенно к месту.
Катя переводить не стала. Этого и не требовалось. Помещение, разбитое деревянными, по грудь высотой, перегородками на два загона, забито черт-те чем до предела. Была тут стопка листов ДСП у стены, распечатанный, но почти полный ящик оконного стекла, всевозможные прибамбасы для верховой езды — десяток барьеров, домики игрушечные, как для детской площадки, по стенам на гвоздях висела сбруя, в углу стояла крестьянского вида телега, в соседнем углу, до потолка высотой, копна пахучего сена, а в промежутках — множество какого-то хлама неизвестного мне назначения.
— Бардак на итальянском тоже беспорядок? — спросил я Катю негромко.
— И еще бордель, — ответила она.
Опять заимствованное французское слово. Сколько же их в нашем родном — великом и могучем?
Я усмехнулся. Второе значение подходило не очень. Совсем не подходило.
Марко Ленцо заговорил. Катя перевела:
— Это все надо убрать. Вернуть помещению вид конюшни, а не свалки. Оставить конскую сбрую, но ее мало, принести еще. Карету поставить у ворот. Ее, может быть, мы снимем отдельно, фоном на подъезде героя. Послезавтра ранним утром съемка улицы, конюшни и гостиницы — на следующий день. Надо спешить. Все.
Переводчица смолкла. Мы с Григорием переглянулись. Режиссеру-то все, а нам вдвоем таскать часа два, не меньше. Может, и больше, неизвестно еще, куда таскать.
Я подошел к стопке ДСП стандартных размеров: 2,5 на 1,7 метра, если я не забыл, конечно. Давно с этим устаревшим, токсичным материалом не работал… В стопке оказалось восемнадцать листов. Я-то ладно, а каково Сергееву? Он хоть мужик и крепкий, но не юноша давно. Я понял, что нас, команду художника-постановщика, ожидает потная запарка. В одной конюшне таскать — не перетаскать, а еще улица и музей…
Я не то чтобы пожалел, что ввязался, но осознал: никакая это не халтурка, вкалывать придется по-настоящему.
Режиссер коротко что-то сказал на своем тарабарском, Катя перевела на русский, человеческий:
— Пойдемте в музей.
— Нет, — возразил Григорий и повернулся к Катерине: — Скажи, что договариваться с хозяином конюшни он будет сам. Это не моя работа.
Катя перевела, итальянец ответил, понятно, ее устами:
— Марко говорит, что другой конюшни все равно близко нет и они согласны на любую сумму. В разумных пределах, конечно.
После паузы добавила, вероятно, от себя, чуть виновато:
— Григорий Иванович, вам же все равно надо выяснить, куда этот хлам девать. Заодно с хозяином и про аренду поговорите. — Она взглянула на Овсянникова. — Он же не против?
— Не против, — подтвердил тот.
— Ну вот. — Катя улыбнулась просительно. — Поговорите, Григорий Иванович, что вам стоит?
— Ладно, — согласился недовольный художник, развернулся на месте по-строевому и, печатая шаг, решительно направился к крыльцу особняка.
ГЛАВА 8 Смерть Чингисхана
В музейном гардеробе мы сняли верхнюю одежду, и я совсем пропал. Потому что под курткой на Кате оказалось нечто облегающее — я не видел, что конкретно.
Я вообще не видел трикотажа.
Я мысленно сорвал его к черту.
Я видел миниатюрную рельефную фигурку с умопомрачительно высокой грудью.
Я охренел окончательно.
Я пялился на девушку и ничего не мог поделать с глазами, которые, стоило их отвести в сторону, возвращались, как привязанные, к вожделенному объекту.
Я сошел с ума, и девушка, конечно же, это заметила, не могла не заметить. Она улыбалась, довольная, блуждающей потусторонней улыбкой.
Такова женская натура: сколько бы ни было поклонников, еще один лишним не будет.
Но мне в тот момент было наплевать, какой я по счету, хоть тысяча первый! Мне хотелось прикоснуться к ней, прижаться, впиться в ярко-красные, словно кровавые, губы. Мне хотелось… Ладно, размечтался, урод. Хотя бы коснуться тонкокостной руки с нервными пальцами, удлиненными того же оттенка ярко-красным макияжем острых коготков. Мне хотелось быть подле нее — всегда, везде, и ныне, и присно. И пусть делает со мной, что хочет, я согласен быть слугой и рабом! Пусть издевается, унижает, пусть бьет, кусает, царапает когтями, оставляя на теле кровавые параллельные борозды… пусть, в конце концов, сожрет меня вместе с потрохами — все, что угодно, лишь бы прикасалась, лишь бы… Я сошел с ума. Нет, я сбежал с него, перепрыгивая через три ступеньки… если там есть ступеньки… хотя как без них?
Никто, кроме Катерины, моего триумфального затмения рассудка не заметил. И слава богу. Впрочем, и длилось это от силы минуту, пока девушка у зеркала приводила себя в порядок, вертясь, как это у них принято, а может, и сознательно себя демонстрируя. Для меня… Размечтался, кретин.
Овсянников, дождавшись, когда Катерина подкрасит губы и поправит сбившийся локон, торжественно провозгласил:
— Ну а теперь, господа, я проведу для вас эксклюзивную экскурсию по дому-музею знаменитого декабриста князя Трубецкого!
Он сказал «господа», обращаясь на самом деле к одному только итальянцу. Красивые женщины Мишу интересовали мало, нас с Сергеевым он вообще не замечал, а вот Марко Ленцо ему явно понравился. И как иностранец, и как мужчина. Я итальянцу не завидовал. Меня мужское излишнее внимание раздражает. Впрочем, и этих ребят я извращенцами не считаю, боже упаси, не судия я им. Каждому — свое. Если кого прикалывает, пусть хоть мальчиков трахает, хоть куклу надувную, хоть чурку с глазами, лишь бы по согласию. Меня лично — не прикалывает. Мне женщины нравятся, не знаю уж почему…
И я смотрел на одну из них, самую лучшую, самую красивую, несмотря на место жительства. А она делала вид, что заинтересовалась горькой судьбой столичных аристократов с их верными женами и тем, что они ели на завтрак и что пели после ужина… Может, и правда ей было интересно. Как и Марко Ленцо. Того вообще пятнадцать минут не могли оттащить от клавесина восемнадцатого века, выписанного в Сибирь для младшей дочки князя из города Милана… А Овсянников говорил и говорил. Я все это слышал уже неоднократно и читал, меня это мало интересовало. А много меня интересовало происхождение такой красоты и обаяния в живом женском обличье переводчицы Катерины.
Дождавшись паузы, когда они переходили из комнаты в комнату, я коснулся (коснулся-таки, сбылась мечта идиота!) ее плеча и спросил шепотом:
— Катя, вы коренная москвичка?
Она задумалась на мгновение.
— Не знаю даже, что ответить… Мама родом из Саратова, папа из Ленинграда. Он дипломат, в Москве учился, квартиру там же получил. Так что, похоже, москвичка, но родилась в Мексике, папа там работал в посольстве.
Во как… Запутанная история, но главное я понял — не коренная, не московская красота. Иначе и быть не могло!
— Да, Андрей, — сказала Катерина, — Марко Ленцо хотел бы посмотреть на Байкал. Это далеко от Иркутска?
— Рядом, час с небольшим на машине. Но зачем ему? Вы же на Ольхон снимать скоро поедете. Насмотритесь до одури.
Катерина пожала плечами:
— Хочет. А куда ехать?
— В Листвянку. Скажите водителю, он знает.
— Спасибо.
Пока я выдумывал следующую фразу для поддержания контакта, Катерина, отвернувшись от меня, снова погрузилась в историю изгнания опальных российских дворян. Я не обиделся. Девушка была на работе, ей за это доллары платили.
Но всему приходит конец, смолк и Овсянников. Мы с Сергеевым вздохнули с облегчением, а Марко Ленцо сразу и спросил устами Катерины, в каких комнатах особняка им позволено снимать.
— В любых! — Директор сделал широкий жест. — Выбирайте!
Итальянец просиял и еще раз вместе с Катериной и Григорием пошел по дому. Я им был без надобности. Не одеваясь, вышел на крыльцо покурить, но не покурил, замер с незажженной сигаретой во рту. Потому что, словно прихрамывая, как-то боком в мою сторону летел крупный белоголовый орел-могильник. И не один. Его преследовала большая стая ворон, шумящих оперением, картаво каркающих на своем птичьем языке, будто азербайджанцы на рынке.
Левое крыло орла было повреждено, и он, вероятно устав, сел на конек крыши конюшни. Мгновенно черная туча образовалась над ним. Вороны кружили, не решаясь напасть. Одна из них, самая отчаянная или глупая, рискнула — спикировала у орла за спиной. Но тот, будто увидел, легко развернулся, ударил резко мощным клювом — черная птица беззвучно упала на скат крыши, и тушка ее скатилась на землю. Орел заклекотал победно. Стая чуть отшатнулась, но не разлетелась, нет. Вороны кружили и кружили, сужая круги, и была в этом нескончаемом кружении та настойчивость, которая сильнее силы. Орел был обречен. И словно в подтверждение моей догадки, я услышал за спиной:
— Заклюют.
Рядом стоял Григорий с зажженной зажигалкой. Я наконец прикурил. Вероятно, стоял он уже давно, все видел.
Орел взмахнул крыльями и полетел. Вороны не отставали.
— Как он в город-то попал?
— Залетают. — Сергеев пожал плечами. — Белоголовый орел, кстати, в Красной книге, на Ольхоне их совсем не осталось, а раньше было…
Он не договорил, достал мобильник, нажал кнопку вызова и произнес раздельно, чуть ли не по слогам:
— Здравствуйте, я Григорий Сергеев, — после чего сразу отключился.
Я посмотрел на него с легким недоумением. Он пояснил:
— Я главному режиссеру позвонил, Полю Диарену, представился. Он мне ответил, выучил русское слово «о’кей». Сейчас переводчика позовет, и тот мне перезвонит.
Действительно, через минуту я услышал торжественные аккорды гимна Российской Федерации. Вот уж не подозревал, что Сергеев настолько патриотичен, что вставил мелодию гимна в свой мобильный… Или прикалывается? Впрочем, нет, на него не похоже, не такой он человек — серьезен, часто даже чрезмерно.
— Привет, Борис, — сказал Григорий, — передай режиссеру, что минут через сорок я жду его вместе с оператором на углу Грязного и Дзержинского.
Сергеев замолчал, дожидаясь, пока переводчик передаст его слова, потом заговорил снова:
— Это улица так называется. Был в начале прошлого века такой революционер, а на деле — бандит и террорист Грязнов. Он кого-то застрелил или взорвал, а может, банк экспроприировал, не помню… Ну а про Дзержинского ты сам знаешь… Мы с улицы Грязного послезавтра съемки начинаем… Да, Борис, ты просто название запомни, водитель у вас местный, он знает.
Я тоже знал. Это недалеко, пять минут ходьбы от усадьбы.
Григорий убрал мобильник, бросил в урну окурок.
— Пошли, Андрей. Нам с тобой еще мебель таскать. За полчаса должны управиться, там немного.
Мы поднялись на второй этаж. Комнату Марко Ленцо выбрал ту самую, в которой стоял клавесин. Просторная, светлая, она имела два выхода по одной стене, что, как оказалось, удобно для съемок.
Директор позволил использовать любые музейные экспонаты, кроме широкой барской кровати, когда узнал, что актер будет на ней валяться, да еще и не разувшись, в сапогах. Тут же было решено завтра купить кровать в мебельном магазине, а пошлую современность ее скрыть покрывалом до пола.
Мы с Григорием потащили из комнаты небольшие, но тяжелые витрины с антикварной мелочью под стеклом, а директор, режиссер и переводчица устроились в смежной комнате на металлических офисных стульях. На резных деревянных стульях из музея сидеть было запрещено. Впрочем, в комнате их оставили. Директор, узнав, что актер — подданный английской королевы, позволил ему пару раз присесть на них в кадре…
Пока мы с Сергеевым таскали и двигали, господа беседовали. Овсянников даже опробовал свой французский, но итальянец его понимал с трудом, и от общения напрямую им пришлось отказаться. Катя работала, а я, проходя мимо, всякий раз ел ее глазами. Спать она сегодня ляжет, пожалуй, уже вся обглоданная…
— Где вы будете снимать после музея? — спросил Овсянников.
— Ольхон, — ответил Марко Ленцо, почти не исказив тюркского слова.
Михаил Орестович пришел в восторг, впрочем, это было его обычное состояние, он нечасто его покидал.
— О, Ольхон, уникальное место! Этот остров — Мекка для буддистов, ламаистов и шаманистов со всей Азии! Они там каждый год собираются! А еще существует поверье среди бурят, что на Ольхоне покоятся останки Чингисхана!
Марко Ленцо восточным тираном-завоевателем заинтересовался, попросил с этого места подробней. Миша не заставил себя уговаривать.
Я заранее знал, что он, улучив момент, станет петь и декламировать перед иностранцем. Тем паче, тот ему понравился как мужчина, это невооруженным глазом видно. Он и стал. Поднялся со стула, вышел на середину комнаты и открыл вещание:
— В ранних религиозных представлениях самых разных народов душа человека после его смерти превращается в птицу. Так же думали и древние монголы. В монгольской летописи «Алтан тобчи» Лубсан Данзана сказано, что Чингисхан в тысяча двести двадцать седьмом году выступил против тангутов во главе своего войска на Крылатом Саврасом (Джихурту-хула). Владыка тангутов Шидургу-хаган, настигнутый Чингисханом в своем городе Дормэгэй, китайское название — Линчжоу, превратился в Змея. Тогда Чингисхан сделался мифической птицей Гарудой. Первый превратился в тигра, второй стал львом. Когда же Шидургу-хаган превратился в юношу, Чингисхан обернулся старцем и убил его. Перед гибелью тангутский хаган предсказал Чингисхану скорую смерть. В покоренном и разрушенном им до основания городе Чингисхан заболел и на шестьдесят шестом году жизни, в год Красной Свиньи, в двадцатый день седьмого месяца стал тэнгри, то есть небожителем.
Впрягли аргамаков в большую повозку, на нее возложили «золотые останки владыки», и суннитский Кулугэтэй-багатур произнес похвалу:
— Обернувшись крылом парящего белоголового орла, ты отлетел, владыка мой!
Громыхающей телеги поклажей стал ты, владыка мой!..
ГЛАВА 9 Этническая свистопляска
Мы с Сергеевым шли по весеннему Иркутску. Время позволяло не спешить, с Музеем декабристов мы управились в запланированные полчаса. Григорий успел даже поговорить с хозяином конюшни. Договорился об аренде помещения на два дня, начиная с завтрашнего. Не знаю, на какую сумму, на переговорах не присутствовал, но, думаю, владелец своего не упустил. А конюшня все равно пустовала, лошадей он то ли продал, то ли они передохли, я так и не понял.
Солнце сияло, торопясь растопить остатки наста. Асфальт проезжей части уже подсох, а тротуар был — сплошная лужа. Плохо в городе работают дворники, за что им только деньги платят, пусть и небольшие…
Киношники нас уже ожидали на перекрестке улиц Грязного и Дзержинского — оператор-постановщик, германец, главный режиссер, француз, и переводчик, москвич. Когда мы с Гришей Сергеевым подходили, они повернулись в нашу сторону, и я получил возможность внимательно их рассмотреть. Кто есть кто, я даже спрашивать у Гриши не стал, все было ясно. Национальная их принадлежность читалась по лицам, как по раскрытой книге.
Немец-оператор — типичный, даже образцовый ариец, был высок и светловолос. Цвета глаз я не различил, но уверен — голубой. Одет он был в длиннополое драповое пальто черного цвета, из-под которого выглядывали белое кашне, темные, отглаженные, с острыми стрелками брюки и модные узконосые ботинки, начищенные так, что хоть смотрись в них, как в зеркало.
Француз меня разочаровал. Если б я не знал о его галльском происхождении, решил бы, что он грузин или азербайджанец, — черный закрученный волос и смуглое лицо кавказской национальности со стандартным горбатым шнобелем. Одет в короткую кожаную куртку, классические темно-синие джинсы и светлые спортивные ботинки… Нет, не таким представлял я известного европейского режиссера. Впрочем, тут возможна примесь арабской крови. Или, наоборот, — французской…
Ну а переводчик совсем подкачал. Тоже мне, москвич… Улыбчивый, курносый, с лицом сплошь в веснушках, похоже, родился он в глухой деревне Рязанской или Калужской губернии. Подобные типы толкаются у пивных ларьков, допивая осадок из оставленных кружек, или собирают пустые бутылки, неспешно прогуливаясь по парковым аллеям. Одет был тоже бомжевато, впрочем, чисто: бесформенная темно-серая куртка, сейчас незастегнутая, с развевающимися полами, и черные джинсы, заправленные в высокие, армейского типа, ботинки. Головного убора при плюсовой погоде не носил, щеголял коротко стриженной ярко-рыжей шевелюрой. Роста был невысокого, но сутулился. Неприятный тип, этот столичный переводчик, чего и следовало ожидать.
Мы подошли, и Сергеев представил нас друг другу. Я заработал шок. Или мир изменился настолько, что сделался для меня загадкой, или изначальное мое представление о нем — всего лишь иллюзия.
— Поль Диарен, кинорежиссер, — сказал Григорий.
Французом оказался тот, кого я обозначил как «типичного арийца».
— Ганс Бауэр, оператор, — продолжал Гриша.
Я охренел. Классическое имя Ганс носил мой «бомжеватый переводчик из-под Рязани или Калуги». В руках он держал какую-то хрень, похожую на дешевый фотоаппарат-«мыльницу».
Настоящий московский переводчик, которого я мысленно обозвал «смуглым галлом с примесью азербайджано-арабской крови», представился сам, почему-то виновато улыбнувшись:
— Работаю на двух языках — французском и английском. Зовут меня Борис Турецкий.
Ну я уж не дурак, сам догадался, что не русский. Но и турецкий вряд ли, и, тем паче, не «азербайджано-арабский», как я сперва подумал. Впрочем, с ним все было ясно — московский.
Словом, не угадал я не единожды. Вывод напрашивался. Этническая эта свистопляска наглядно продемонстрировала, что наши стереотипные представления о европейских народах, как, вероятно, и все остальные стереочипы, давно утратили почву. Мы — здесь, а они где-то отдельно. Такие вот пироги с привкусом собачатины…
— Камера будет стоять на перекрестке, — начал режиссер и взглянул на оператора — тот кивнул. — Актер пойдет с противоположного конца улицы. По снегу.
Я взглянул в направлении его указующего перста и пришел к выводу, что мне придется работать с умалишенным. Как можно пройти по снегу, если снег отсутствовал? Он растаял, лишь кое-где по обочинам чернели остатки грязного наста. Все было против этих чертовых съемок, даже сибирская погода, порадовавшая горожан необычайно ранней весной. Я и не упомню, чтобы хоть когда-то было такое в середине апреля.
Впрочем, щекотливость ситуации ощутил не я один.
— А без снега нельзя? — поинтересовался Григорий.
— Нельзя, — ответил месье Диарен. — Это Сибирь, экзотика. Нужен снег.
— Ну, в лесу он еще точно не сошел, — задумавшись на мгновение, сказал Григорий. — Если денег не жаль, можно заказать в какой-нибудь фирме с грузовиками. Привезут, сколько надо.
— А в Москве, мне звонили, — вставил от себя переводчик, — температура минус десять, и снег лежит в пригороде…
Француз с немцем поговорили между собой на английском, потом режиссер сказал на французском, и Борис Турецкий переложил на русский:
— Пять больших самосвалов снега должно хватить для того, чтобы засыпать асфальт. Закажите, Григорий.
— Почему я?! — возмутился художник-постановщик. — Не моя работа! У вас для этого есть администратор и директор! Вы бездельников целую ораву за десять тысяч верст из Европы привезли, а работать — некому!
Борис на английском говорил значительно короче и менее эмоционально, чем Григорий. Потом он повернулся к художнику и сказал негромко:
— Я ваши последние слова переводить не стал. Не надо… И потом, вы знаете, директора больше в съемочной группе нет, уволили его. И еще бухгалтера…
Я с ними познакомиться не успел, а жаль, славные, наверно, ребята, хоть и москвичи. Тем более, бухгалтер — молодая, приятной внешности особа. Директор тоже нестарый, до тридцати. Мне потом рассказали: они как только в Иркутск приехали и от семей оторвались, так сразу на пару в глубокий загул и ушли. А что, денег у бухгалтера — немерено. Чужих, правда. Подумаешь, когда такой пустяк русского человека останавливал? А москвичи хоть и отдельная, но близкая нам, русским, по духу нация.
Григорий еще больше нахмурился, но промолчал и пометил что-то в блокноте. Чем напомнил мне, что я вообще-то пришел работать. Я достал из внутреннего кармана перегнутую пополам ученическую тетрадку и карандаш фирмы «Конте». Хватит, господа иностранцы, про снег, диктуйте, что тут отрывать и выкорчевывать!
Но иностранцы были в этот момент заняты.
Третий от угла дом по улице Грязнова оказался по-настоящему красивым, с узорочьем. Наличники, стены, углы и веранда — все было в причудливо-резном старинном дереве. А там, где оно пришло в негодность, рачительный хозяин восстановил и подкрасил, причем так искусно, что заплаты не резали глаз, были почти незаметны.
Первым этот дом обнаружил француз, зацокал языком, замахал руками — позвал немца. Тот достал фотоаппарат, защелкал. Минут десять мы на этой любви к русской старине потеряли, не меньше.
— Знаете, для чего в старину на Руси узорочье резали? — спросил Григорий Сергеев более переводчика, чем меня.
Тот и клюнул, поинтересовался:
— Зачем?
— Все эти резные символы — обереги, чтобы покойник с того света в дом не вернулся.
— Надо будет иностранцам потом рассказать, на что они пялятся, — усмехнулся Борис Турецкий.
Значит, обереги, снова мистический подтекст. Ну и пусть. Все равно красиво. Ходишь годами мимо и никакой красоты не замечаешь, а эти со стороны сразу оценили. Молодцы.
Молодцы-то молодцы, но не пора ли нам поработать?
Они будто мысли мои прочли. Рыжий оператор убрал фотоаппарат, вышел на середину дороги и был едва не задавлен проезжавшей «волжаной», но на опасность не прореагировал. Не до этого ему было, он расположился там, где будет стоять кинокамера, и смотрел в глазок своего прибора, похожего на тот фотоаппарат, которым он снимал дом, только попроще, без массивного объектива. Я догадался о назначении прибора — заменитель камеры. Чтобы не таскать с собой тяжеленную аппаратуру, используют эту хрень и видят, что в кадр входит, что нет. Иностранцы и смотрели в нее по очереди, перебрасываясь фразами на английском языке.
Через пару минут Ганс Бауэр сказал вдруг на ломаном русском, обращаясь к Грише:
— Все, что жопа, — показал он себе за спину, — нихт арбайтен, арбайтен — фасад.
— Он во ВГИКе учился, — пояснил мне негромко переводчик Турецкий. — Из бывшей ГДР немец. Вы на ругань внимания не обращайте. Он, наверно, уже забыл, что можно говорить по-русски, что нельзя.
А по мне, так пусть хоть матерится. Наша школа. Не стал бы режиссер-француз средненького оператора из Германии приглашать, соотечественника бы взял. Значит, Ганс Бауэр не просто профессионал, но и маэстро в своем деле. Я порадовался, будто сам преподавал ему на операторском отделении.
— Ганс, вы напрямую к Андрею обращайтесь, — сказал Григорий. — Именно он будет улицу к съемкам готовить.
— Ферштеен, — сказал оператор и улыбнулся мне лучезарно, осветив на лице все свои конопушки. — Зер гут!
Я улыбнулся в ответ. Симпатичный немец, правда, непонятно, чему радуется, он видел меня сегодня впервые в жизни. Впрочем, неважно, симпатичный немец, и все.
— Андрей, снять нумер цвай хауз. — Для наглядности он продемонстрировал мне два пальца в форме знака победы, потом еще посмотрел в глазок прибора и уточнил: — Найн, Андрей, драй хауз! — показал три пальца, но не в форме фиги.
Я записал. Оператор продолжил свои указания на смеси немецкого с ломаным русским, временами переходя на английский, мне почему-то кажется, тоже ломаный.
Работы оказалось меньше, чем я предполагал. В основном — отскрести с заборов бумажную агитацию и рекламу, снять нумерацию с шести первых домов, остальную было не различить. В кадр попадали два светло-серых бетонных столба. Их решили покрыть грязно-коричневой краской. Где, интересно, я такую куплю?
Самой большой для меня неприятностью оказался пятиметровый забор в самой середине короткой улицы Грязнова. Его было никак не обойти, а он прямо-таки бил по глазам. Сработанный из рифленого металлического профиля, он сверкал на солнце, отбрасывая гранями лучи во все стороны. Ишь, каков пижон, хозяин двора, не мог, как все, деревянным ограничиться. Металлический в начале XIX века попросту непредставим… да и в конце — тоже. Его решили упрятать за другим забором — человеческим, дощатым, который мне надлежало сколотить и выкрасить в какой-нибудь нейтральный цвет. После долгой дискуссии с режиссером оператор определился — темно-зеленый.
ГЛАВА 10 Исполнительный продюсер
Когда мы уже заканчивали с улицей, позвонил Марко Ленцо, второй режиссер. Как мне сообщил переводчик, он отрапортовал, что комната гостиницы, за исключением отсутствующей кровати, готова к съемкам.
Мне это не понравилось. Почему он позвонил только теперь? Чем, интересно, они занимались с Катериной больше часа? Или с господином директором? Я не смог скрыть глумливой ухмылки, которой никто, конечно, не заметил. На меня обращали внимание только тогда, когда я был нужен по работе. И слава богу.
Пока я глупо ревновал и злился неясно на кого, иностранцы пошли к ожидавшей их «тойоте», а главный мой вопрос — конечно, финансовый, так и не был решен. Во-первых, я не выяснил, что мне за улицу причитается в долларовом эквиваленте, а во-вторых, на какие шиши я буду брать материал: доску, гвозди, краску, кисти и т. д.?
— Гусар, а деньги? — крикнул я вдогонку переводчику Турецкому, в расчете на то, что и у москвичей в ходу те же анекдоты, что и у русских.
Борис остановился, оглянулся и с улыбкой ответил:
— Гусары денег не берут!
Надо же, совсем как мы! И язык похожий. Даже с хохлами и белорусами у русских меньше общего, чем с москвичами!
Теперь уже Турецкий окликнул режиссера и коротко с ним перетолковал. Я подошел к машине. Переводчик набрал номер на мобильном и снова недолго покартавил скороговоркой.
Когда я слышу французский язык, не оставляет меня ощущение, что человек, часто точь-в-точь как ты, обычный человек, по-человечески, то есть по-русски, говорить умеет, но почему-то не хочет, придуривается. Будто Боря Кикин, изображающий голос безголового Буратины. Чушь, конечно.
Борис убрал мобильник.
— Если можете, подождите здесь минут десять. Приедет продюсер и выдаст вам доллары.
— Сколько? — Как говаривал их возлюбленный классик, ближе к телу, черт вас побери!
Переводчик пожал плечами:
— Не знаю, но они заранее определили, какой объект сколько стоит.
Попрощавшись со мной за руку, он сел в машину вслед за остальными. Впереди их ожидало полное незабываемых впечатлений общение с Михаилом Орестовичем Овсянниковым. Ну и экскурсия по музею декабриста Трубецкого, конечно. Эксклюзивная.
— Надо ждать продюсера, — сказал я, вернувшись к Григорию Сергееву.
А тот вдруг огрызнулся зло:
— Пошел он, знаешь куда?
Дорога, по которой он советовал пойти главному финансисту киногруппы, была совершенно не определена. Кабы Гриша озвучил хотя бы предлог, я смог бы догадаться. Если предлог «в», я знаю два традиционных пункта назначения и как минимум столько же менее употребимых. Если «на», тут и гадать нечего, ясно, куда ему путь держать. Существуют, впрочем, смягченные варианты, но они, в принципе, означают тот же мужской орган. Но это так, к слову. Мне на самом деле настроение Сергеева не понравилось.
— Гриш, ты чего?
— Ничего! — отмахнулся он.
Не хотел говорить, а ведь что-то произошло, точно. И если я собираюсь, а я именно собираюсь, работать с киногруппой, то должен знать все до мелочей. Нет ничего более важного в деловых отношениях, да и в любых других, нежели мелочи. Я решил вытянуть из Сергеева всю правду до основания и даже немного ниже, если такое возможно.
— Гриш, что все-таки произошло? Нехорошо темнить с товарищем, в одной упряжке ведь бежим.
В ответ из Гриши выплеснулся целый ушат матерщины. Это хорошо. Пусть выговорится, легче станет. Ему и правда через пару минут полегчало. Он сказал уже членораздельно, без поминания половых органов:
— Утром вся группа собралась. Я с гримершей с «Мосфильма», с осветителями оттуда же поговорил. Так вот, ребята мне сказали, сколько в Москве художнику-постановщику на «мыльных операх» платят.
— Ну и сколько же?
— В два раза больше, чем мне обещали французы! — Он снова чуть поматерился, но уже с меньшим энтузиазмом и добавил: — И это на «мыльных операх»! На полнометражных художественных фильмах расценки на порядок выше!
Гриша скромничал, о своих заработках не распространялся, поэтому я не знал суммы, которую следовало удвоить, и, соответственно, не мог знать результата. Но все равно впечатляло. Значит, и мне французы заплатят в два раза меньше. Или даже в три. Сергеев — художник-постановщик, а я всего-навсего его ассистент, да еще и внештатный. Интересное кино получается…
— И еще мне сказали, что у художника-постановщика должно быть два ассистента на зарплате, а у меня — один, да и того не найти, урода блатного!
Это он так про Стаса, понятно… Ох и не нравится мне расклад этого французского пасьянса…
— Так еще работу директора и администратора на меня вешают! С хозяином конюшни договариваться — я! Снег заказывать — снова я! Я что, похож на Господа Бога?!
Господа Бога я представлял себе несколько другим, не обязательно антропоморфным. Но если Он даже и похож на человека, раз вылепил его из глины по Своему образу и подобию, то, я в этом уверен, с Гришей Сергеевым Его не спутать, это точно, они — не близнецы.
А Гриша вдруг не успокоился даже, сник, устал от собственной бессильной ярости.
— Ладно, ты жди, я пошел, — сказал тускло, — а то еще наговорю продюсеру гадостей…
Он развернулся и медленно поплелся в сторону автобусной остановки. Я его окликнул торопливо:
— Гриша, а как же я?! Я же не знаю продюсера!
— Я его тоже не знаю, — ответил Сергеев. — Стой на перекрестке, смотри, жди, может, дождешься.
Хороший совет. Григорий ушел, я остался… На перекрестках, говорят, всякая нечисть водится. Выходит, в любом городе ее, как грязи. Почему же тогда мы ее не замечаем? Так я подумал и сам себе ответил: да потому, что цивилизованные народы напрочь утратили нюх! Этому надо учиться у народов, цивилизацией не испорченных, архаических, — у тунгусов, скажем, якутов или бурят. Впрочем, чему у бурят учиться? Они в Иркутске сплошь православные. Для них этот самый шаманизм, их же собственное прошлое, точно такая же архаика, как и для европейца… Ну все-таки, не совсем такая же. Голос крови, то-се… Да и не так уж давно они соприкоснулись с псевдоевропейской цивилизацией в лице ее изгоев — восточных славян.
Если у китайца за спиной две с лишним тысячи лет буддизма, у европейца — тысяча-полторы христианства, сибирские народы две-три сотни лет назад были еще язычниками. До прихода сюда в поисках мягкого золота — шкурок соболя — русских казаков. И миссионеров…
Я увидел одну из представительниц бурятской диаспоры, вероятно, язычницу, на пару с русским парнем, вероятно, казаком или миссионером. Увидел — и залюбовался. Хорошо они вместе смотрелись, хоть плакат рисуй и подписывай: «Азия и Европа — совет да любовь!» Оба молоды и красивы, каждый в своем роде. Черноокая, с луноподобным лицом бурятка и подобный солнцу, ясноглазый русский пацан. Студенты, наверно. Я бы и дальше пошел, представил их полнокровную половую жизнь, но — не катило. На свидание с полным ведром не ходят. Со стопкой плакатов — тоже. Ведро держал парень, стопку — девушка. Они подошли к забору по улице Грязнова. Парень намазал доски клеем и убрал кисть в ведро. Взял у девушки верхний плакат и аккуратно разгладил его на заборе.
На белом листе большого формата я увидел на фоне очертаний знаменитого озера перечеркнутый крест-накрест трубопровод, а ниже крупно:
«Трубе — нет! Байкалу — да!»
Замечательно. Хорошие ребята — наркотой не ширяются, алкоголь не потребляют, клей не нюхают, а используют по прямому назначению для нужного, полезного дела…
И тут до меня дошло, что плакат-то они приклеили на МОЕМ заборе! На том, который мне для съемок очистить надо от всевозможного бумажного мусора! Не было в начале XIX века трубопровода! Байкал был, а его не было! Я прямо рассвирепел, подбежал, заорал на студентов прохладной жизни:
— Вы чего делаете?! Вы почему безобразничаете? Снимайте, на хрен, ваш чертов плакат! Немедленно!
Ребята опешили, но плакат не сняли.
— Вы против Байкала? — спросила девушка.
— Я против того, чтобы на заборах клеили всякую порнографию! — прорычал я.
— Пошли отсюда, — сказал парень, — он штрейкбрехер, губернатором купленный.
Они ушли, а я сорвал плакат с забора, пока он не успел присохнуть, смял и бросил в урну. Нет, оборзела молодежь, никакого порядка! Что хотят, то и делают! Ясно же сказано: клеить рекламу только в специально отведенных местах!
Я вернулся на перекресток, ощущая себя в какой-то мере той же нечистью, которую даже у народов архаических видят лишь шаманы да собаки, и то не все. У сибирских лаек, вероятно, тоже есть свои собачьи шаманы…
К перекрестку подошла женщина ягодного возраста, лет сорока пяти, но в умопомрачительной рельефной форме шахматного слона. Ну это я сильно сказал, слона… Я имел в виду фигуру с необычайно тонкой талией и соразмерными бедрами, а не слоновьи размеры. Размеры как раз были обычные, средние. А вот короткая курточка и брючки в обтяжку позволяли мне представить ее обнаженной, и зрелище было, скажу я вам, весьма и весьма привлекательное, будоражащее…
Женщина была красива славянской красотой — светло-русая, с чувственными губами, большеглазая, причем цвет глаз был редкий и невероятно эффектный — насыщенный темно-зеленый… Так бы, вероятно, выглядела Мэрилин Монро, если бы прожила дольше. Впрочем, насчет цвета глаз всемирного секс-символа я не в курсе. Вероятно — голубой.
Нравятся мне женщины, и зрелые — в том числе. Некоторые, как вот эта, так очень даже нравятся. Есть в них то, чего не может быть в малолетках, — некое благородство, жизненный опыт и какая-то пронзительная сексуальность во взгляде, в улыбке, в каждом жесте — во всем. Да и формы, чего скрывать, меня будоражат. Ах, эти аппетитные, крупные формы… не то что у худышек… впрочем, и у них тоже, но в другом роде, они хороши тем… ладно. Я сам себя довел… ну ясно до чего. Хватит физиологии. Не до баб мне. Я занят. Я мужика жду, продюсера!
Женщина, вероятно, тоже кого-то искала — посмотрела по сторонам, потом извлекла из сумочки пачку дамских сигарет — длинных и тонких. Я не мог не среагировать. Я был тут как тут, щелкнул зажигалкой.
— Мерси.
Она улыбнулась, прикурила и спросила, на выдохе выпуская дым:
— Андрэ? — ставя ударение на последний слог. Подчеркнуто. Звуки «р» и «э» на конце имени она произнесла с прононсом, так русские не произносят, а «и-краткую» вовсе опустила.
Я догадался — француженка. Они что теперь, подданные Пятой республики, по Иркутску табунами ходят? И откуда, черт возьми, ей известно мое имя? На лбу у меня, что ли, написано, причем латинским шрифтом?
Вероятно, она поняла, что я ни фига не понял.
— Андрэ Татаринов? — повторила уже вместе с фамилией.
А мой столбняк вдруг непонятным образом перешел в болтливость, но почему-то на тех крохах немецкого языка, что я еще не забыл окончательно. Кстати, в дипломе за иностранный у меня стоит твердая тройка, а это вам не фунт изюма!
— Я, я! Их хайсе Андрей Татаринов!
Почему с француженкой заговорил я на отвратительном немецком, ума не приложу. Так еще и добавил жизнерадостно, перепутав время суток:
— Гут морген, мадам!
— Мадемуазель, Андрэ, — поправила с улыбкой (ах, какой улыбкой!) француженка. — Мадемуазель Жоан Каро.
И только тут до меня дошло, что Жоан Каро и есть тот самый пресловутый продюсер, которого я по недоразумению пометил мужским родом. Это становилось интересным…
Достав из сумочки, продюсер протянула мне перегнутый пополам лист бумаги, и я испугался, что записка будет на английском языке. Этого мне только не хватало до полного счастья… Я развернул листок и прочел на русском языке крупным и круглым бабьим почерком написанное:
«Господин Андрей Татаринов!
Жоан Каро, исполнительный продюсер, выдаст вам 500 долларов на материалы для подготовки улицы к съемкам. Все, что останется, — ваша зарплата.
Мой мобильный: (ряд цифр федерального номера). Я переводчик. Отзвонитесь, чтобы я знала номер вашего телефона. Связь с продюсером будете держать через меня.
С уважением, Анна Ананьева».
Пробежав глазами текст, я сразу же прикинул член к носу. Перевел зеленые в деревянные, вычел кубометр леса, цены я знал, гвозди, краску, кисти, то да се… На зарплату оставалось нормально, даже хорошо. Где я еще за день работы самолет до Москвы в один конец оплачу?
Очаровательный исполнительный продюсер улыбалась. Ну очень исполнительный, щедрый продюсер протягивала мне тоненькую стопку долларов в сотенных банкнотах. Я взял деньги и, не считая, засунул их в карман. Жоан затрясла головой, зажестикулировала, будто колоду карт сдавала… Мы что с ней, в подкидного дурака на баксы играем? Впрочем, с Жоан я бы сыграл во что угодно, но — на раздевание…
— Найн, Андрэ!
Она, кажется, действительно решила, что я говорю на немецком. Наивная. У меня словарный запас меньше, чем у годовалого младенца из Саксонии…
Что Жоан от меня требует, я догадался. Достал валюту и пересчитал, потом улыбнулся и показал большой палец. Надеюсь, этот жест она поняла правильно, он все ж таки общеевропейский, из античного еще Рима. Так столичный плебс определял судьбу поверженного гладиатора. Впрочем, чаще палец указывал вниз…
— Зер гут, Жоан!
— Ауфвидерзеен, Андрэ!
Жоан помахала мне рукой. Жоан улыбалась мне многообещающей улыбкой… Женщина моей мечты. Впрочем, мечтаю я много, и все о разном…
Она шла, интенсивно поигрывая тазобедренными суставами. Она знала, что я жадно смотрю ей вслед. Она шла к ожидавшей ее машине с иркутскими номерами — 38 RUS. Водитель курил на обочине и ухмылялся мне совершенно по-хамски, подлец.
Перед тем как сесть на заднее сиденье, Жоан еще раз помахала мне рукой. Я ответил тем же. Она просияла. Ах, ты моя галльская лапочка…
Стоп! — осадил я себя. А не принял ли я традиционную европейскую толерантность весьма исполнительного продюсера за намек на будущие плотские отношения? Очень может быть…
ГЛАВА 11 Небеса в черно-белом формате
После отъезда очаровательной Жоан Каро я позвонил Анне Ананьевой, переводчице. Сказал, что деньги получил, все в порядке. А эта незнакомая мне дама, вероятно, москвичка по национальности, давай ни с того ни с сего меня пугать. Мол, руки у них длинные, и в случае, если я рокируюсь в длинную сторону, все равно, мол, меня достанут и опустят по полной программе… Это содержание было такое, стращала все-таки по форме она меня вежливо. Я выдал в ответ, что человек я приличный, с высшим столичным образованием, и поэтому, наверно, очень москвичей не люблю, особенно когда те наезжают не по теме.
Хорошо мы с Аннушкой поговорили, прощались так просто уже друзьями. Интересно, каковы ее внешние данные? Попа, сиськи и т. д. Цвет глаз и волос в данном случае занимал меня мало. С ней мне хотелось — в особо извращенной форме, с элементами классического садизма… Ладно, посмотрим, на съемках увидимся. Бойся меня, москвичка!
Вечерело Мне еще оставалось зайти к Борису Кикину, договориться на завтра, да и прикинуть сообща, сколько чего брать на строительном рынке. Еще мне хотелось взглянуть на глиняную голову мертвого бурятского шамана, материализовавшуюся на кухонном столе Борькиной «сталинской» квартиры. И главное, не давала мне покоя его покойная бабка из деревни Хужир на Ольхоне. Почему-то важным казалось для меня лично выяснить, могла ли она, полурусская, при каких-либо обстоятельствах стать бурятской шаманкой? Наверно, Борис и сам об этом не знал, но я все равно решил спросить.
Не озаботясь даже выяснить курс, обменял триста баксов на рубли в ближайшем пункте. Их теперь полно в центре города. Можно подумать, россияне зарплату только в долларах получают. Впрочем, многие и получают…
Борис Кикин открыл мне не сразу, а после долгого моего барабанного соло в железную дверь. А когда открыл, я вздрогнул.
Вид его был страшен: в спутанных волосах древесная стружка, в руке плотницкий топор с широким устрашающим лезвием, в косых остекленелых глазах отражалась сумасшедшая бездна. Он полностью утратил европейские черты. Доминирующая доля азиатской крови возобладала напрочь. Это был в чистом виде монголоид.
Кажется, он меня не узнал. А может, не увидел: глаза его смотрели не на меня, в разные стороны — один в пол, другой в потолок. Причем оба, как мне почудилось, враждебно. Если вообще возможно определить выражение взгляда при подобном косоглазии…
Борис молча подергивал топором в правой руке. Я тоже молчал. Я боялся говорить. Да что уж там, мне попросту стало жутко. Я жалел, что пришел. Можно же договориться обо всем и по телефону…
Он стоял и молчал. Он изучал потолок и пол, а топор нетерпеливо дрожал в руке… Я решил немедленно уйти. Уйти, ничего не объясняя. Я попятился. Нащупал отведенной назад рукой закругленный угол лестничных перил. Медленно повернулся к Борису спиной и услышал вдруг его спокойный голос:
— Ты куда?
Это был совершенно обычный Борькин голос. Я так же медленно повернул голову. Борис улыбался. Косоглазия как не бывало. Он смотрел на меня вполне осмысленно.
— Проходи, Андрей.
Испуг в моих глазах невозможно было не заметить. Он заметил и был удивлен:
— Ты чего?
Он посмотрел на все еще дрожащий в руке топор. Удивился еще больше. Убрал его за спину.
— А… это… я тотемный столб рублю… забыл, что ли? — усмехнулся он и отступил в сторону. — Да проходи ты наконец! Чего стоишь, как истукан?
Я прошел. Убегать теперь было глупо. Борис вел себя как обычно. Если не считать того, что внешне он оставался вылитым бурятом. Или мне это только казалось?.. Не знаю.
— Выпить хочешь?
Я кивнул. Выпить хотелось очень.
На кухне хозяин щелкнул выключателем, и загорелась лампочка-сотка под потолком в патроне без абажура.
— Телефон как заработал, я Сергееву позвонил, попросил лампочек купить, сразу десяток. Так что у меня теперь светло и уютно!
Ну насчет «уютно» Боря несколько преувеличил. Ремонт, даже косметический, Григорий ему не делал. На кухне все было как обычно. Безголовый Буратино грелся на своем месте у ребристой батареи. На столе стояла распечатанная, но едва начатая бутылка водки, рядом — наполненный наполовину стакан. У знакомой мне глиняной головы в кучу были свалены гипсовые слепки с нее же. Свободного места на столе не оставалось: открытый пакет гипса, литровая банка с водой, переполненная пепельница папиросы, колбаса, копченое сало, куски хлеба, еще что-то съестное. Сверху на все это Борис водрузил топор.
— Другого места нет?
— Чё, мешает? — спросил он и топор не убрал.
Надо же, зачёкал… никогда раньше не слышал от него этого характерного сибирского слова «чё».
— Гриша заходил, пожрать принес, бутылку…
Борис обратил вдруг внимание на то, что я не прошел на кухню, стоял, прислонясь к дверному косяку.
— Ну, ты чего, как неродной, Андрюха? Проходи, выпей. Стакан вон стоит.
Я прошел, как родной. Стакан оказался единственным.
— А ты чего, не выпьешь со мной?
— Не хочу. — Борис виновато улыбнулся. — Правда, не хочу. Чудеса какие-то со мной творятся. Гриша все принес и сразу ушел, торопился куда-то, даже слепки смотреть не стал. Я бутылку распечатал, полстакана налил, а пить неохота. Ну, я чё, дурак? Я через «не могу», значит… А водка окаянная через пару минут обратно попросилась, едва до сортира добежал… Ну, чё, я снова налил и выпил… и снова — унитаз пугать… Не знаю, чё и делать…
Борис осторожно, двумя пальцами взял стакан, поднес ко рту — черты лица его исказились, сморщились, и он вернул стакан обратно.
— Нет, не могу… Андрей, может, я заболел? Чё со мной происходит-то?
Я, конечно, не мог знать, что с ним происходит, но трезвость ему вряд ли помешает.
— У тебя, Боря, организм восстание поднял, взбунтовался. Не желает он умирать.
Я поднял стакан, побурханил, сбросив кончиком пальца каплю водки на пол, и добавил горько то, что никогда бы не сказал никому при иных обстоятельствах:
— Борь, ты сам-то разве не замечаешь, что в последнее время спиваешься?
— Да замечаю, замечаю… — Он сел на стул, обхватил голову руками и закачался, бормоча в такт: — Если организм, тогда ладно… может, и к лучшему…
Я выпил, съел кусочек копченого сала с хлебом и достал пачку сигарет.
— Боря, а курить-то ты можешь? Или с табаком так же, как с водкой?
Он перестал наконец раскачиваться, выпрямился.
— Курить могу. — Закурил со мной и добавил, задумчиво выпуская дым из ноздрей: — Пока могу.
Надо было его как-то отвлечь, расшевелить. Я вспомнил, как он воодушевился вчера, рассказывая про бурятскую бабку, Мировое Дерево и коновязь. Тем паче про бабку мне и самому интересно… ну не совсем про бабку, бабка мне его по фиг.
— Боря, помнишь, ты вчера мне про всякие бурятские штучки рассказывал?
— Память еще не отшибло, помню, конечно.
— Я хотел спросить, ты не знаешь, как у бурят шаманов выбирают? В карты разыгрывают или, может, монетку бросают — решка, орел?
Второй вопрос Борис проигнорировал, ответил на первый со всей серьезностью:
— Черным шаманом можно стать лишь по факту рождения. Кстати, корни черных шаманских родов у бурят не бурятские: якутские, тунгусские, эвенкийские, монгольские, еще какие-то. А белым шаманом любой может стать, дело случая. Нашел осколок метеорита или орудие труда древних людей — и все, получаешь возможность стать шаманом. Это у них считается пуговицей с одежды бога. А может, другим каким прибамбасом из его гардероба, не помню. Есть еще одна возможность, главная. По поверьям бурят, если молния куда-то попала, все равно в кого или во что, значит, это место богом отмечено. Если в дерево, оно священным становится, если в человека, он становится шаманом, если, конечно, выживет. А не выживет — любой из его семьи может шаманом стать.
— Чем они различаются, белые и черные? Как у нас — белая и черная магия, добро и зло, Бог и дьявол?
— Ты сам ответил. Это у всех народов одинаково, потому что истинно, наверно…
Борис вдруг смолк, посмотрел на меня с недоумением.
— Слушай, Андрюха, я сам не знаю, откуда все это знаю!
— Ты же говорил, тебе бабка с Ольхона рассказывала.
— Во-первых, когда это было? Я еще в школу не ходил, как она умерла. А во-вторых, не все, что я тебе говорю, она рассказывала. Не мог я многого знать, да еще и с именами бурятскими. Я ж языка их не знал никогда. Их выговорить русскому человеку — язык сломать, а у меня все эти имена в голове, словно впечатанные, огненными буквами горят! Я их шпарю, будто из книги зачитываю!
— Ты, Боря, не отвлекайся, — сказал я. — Ты, Боря, давай про шаманов рассказывай!
Борис Кикин, успокоившись, прочел мне целую лекцию о бурятском шаманизме с интонацией и дикцией лектора-профессионала. Да и лексикон был для него необычен. Я слушал, разинув рот, честное слово.
— Белый шаман — представитель добрых сил и благодетель человечества. Белые шаманы служат добрым божествам заянам — западным тэнгриям и их детям — ханам. Одеваются они в белое шелковое платье и ездят на белом коне. Когда белый шаман умирает, его сжигают в шаманской роще на вершине горы, а пепел собирают и замуровывают в стволе сосны, которая становится священным местом для всех родственников и сородичей.
Черные шаманы совершают жертвоприношения восточным, недобрым тэнгриям и ханам, а также Эрлен-хану. Белые шаманы боятся черных, считают, что те могут нанести им вред и даже умертвить.
Буряты верили, что Вселенная делится на три мира: Верхний, Срединный и Нижний. В древности владыкой Верхнего мира был старший из богов Асаранги-тэнгрий, а потом Верхний мир разбился на два враждебных лагеря — Западных, добрых тэнгриев и Восточных, злых.
Разделение шаманов напрямую связано с расколом богов-небожителей на два враждующих лагеря. Согласно легенде, в стародавние времена на Небе было ровно сто добрых белых тэнгриев, и все они покровительствовали людям. Но со смертью Асаранги-тэнгрия начались распри за первенство в Верхнем мире между двумя великими божествами Хан Тюрмесом и Ата Улааном. Первому удалось привлечь на свою сторону пятьдесят четыре тэнгрия, ко второму отошли сорок три…
Я напрягся. Не в бурятских ли, шаманских верованиях запрятана загадка нашей семьи? Пять и четыре, четыре и три… если к этим числам приплюсовать единицу, то получится… впрочем, откуда бы взяться этой единице?
Кикин ничего не заметил, продолжал свою лекцию, а я теперь точно знал, что не должен пропустить ни слова. Надо слушать, рассуждать можно и после. Борис продолжал:
— Так боги разделились на два враждующих лагеря.
Пятьдесят пять тэнгриев во главе с Хан Тюрмесом избрали местом своего жительства западную сторону Неба и стали называться Западными. Они покровительствовали людям и оттого назывались еще Белыми.
Сорок четыре тэнгрия под предводительством Ата Улаана перебрались на восточную сторону Неба и стали называться Восточными. Они были злы и враждебны как людям, так и их покровителям — Западным тэнгриям, поэтому они назывались еще и Черными.
Боря замолчал, попил воды из-под крана, переводя дух, а я задал новый вопрос:
— Слушай, а что у тебя за фигурки человекообразные на подоконнике в комнате, где ты Бурхана рубишь? Для чего ты их наделал столько?
— Ясно для чего, для продажи. Знакомый у меня был один, он несколько сувенирных лавок по городу держал — в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в гостиницах, в Листвянке на Байкале… Так вот он мне и заказал бурятские онгоны. Хорошо, говорил, приезжие берут на память. Платил не то чтобы очень, но на водку и хлеб хватало. А недавно знакомый учудил — взял да помер. А я впрок произвел, вот и лежат теперь онгоны без дела. У меня и несколько бубнов осталось. Я их ему по образцу старого делал, того, что над диваном висит. Его еще покойный отец с Ольхона привез, когда бабку из Хужира хоронили.
— А знакомый, который лавки держал, бурят или русский? — спросил я Шевельнулась у меня в голове одна догадка.
— Какая разница? — Борис пожал плечами. — Ну, бурят. А что?
— Ничего, Борис, ничего. Я хлопнул его по плечу. — Ты лучше скажи, что такое онгоны? Я так и не понял толком.
— У бурят-шаманистов онгоны существовали в двух формах. Во-первых, в виде изображений богов и духов, и в этом плане они напоминали христианские иконы и ламаистские бурханы. Я, понятно, только такие и делал…
Во-вторых, онгоны бывают в виде животных, посвященных каким-то богам, — бык, козел и лошадь. Посвящали иногда птицу и рыбу, которую потом отпускали. В старые времена предки бурят монголы делали онгоном человека…
Основное назначение онгонов-животных — служить богам средством передвижения, оберегать домашних животных и людей. С ними были связаны различные запреты и обряды: не убивать, не продавать, не бить, женщинам воспрещалось ездить на посвященной лошади.
Онгоны первого рода делались из жести, глины, войлока, даже из шерсти и волос, в виде человеческих фигурок. Онгонами могли быть шкурки белки, соболя, горностая, колонка и зайца. Полный набор таких шкурок назывался «табан хушуута онгон», то есть «онгон из пяти морд».
Онгонов-изображений было много, столько, сколько имелось эжинов и заянов…
— Погоди, давай-ка пояснее про их табель о рангах, — прервал я разошедшегося Бориса.
— Изволь. На самой верхней ступени стоят небожители-тэнгрии во главе с Вечным Синим Небом, Эсэгэ Малаан тэнгри. Ниже находятся его дети — ханы или хаты. Далее нойоны, великие эжины и заяны, духи знаменитых шаманов и шаманок, военачальников и родовых вождей. Следующую ступень занимают местные эжины — окрестных гор, рек, лесов, духи болезней. Самая многочисленная группа — души простых смертных, не пользующихся почитанием в народе. Особую категорию составляет низшая демонология — всевозможные черти, домовые, называемые ада, анахай, муу шубуун, и многие другие — души бедных, обиженных судьбой, часто — психически больных людей…
Борис смолк. Потер лицо руками. Глаза его горели ровным черным пламенем.
— Об этом — не хочу. Об этом — страшно…
ГЛАВА 12 Ритуальное членовредительство
Борис обвел пустым, непонимающим взором убогую свою кухню. Спрятал лицо в ладонях и забормотал еле слышно:
— Откуда я все это знаю?.. Я не понимаю… мне жутко…
А я подумал, что вот оно… точнее — они, кратные одиннадцати, роковые числа нашей семьи… нет, теперь уже моей, только моей, в единственном числе. Я остался один в целом свете. Один-единственный, помеченный необъяснимым проклятием, не такой, как все остальные люди, хотя внешне — такой же. Все мои теперь покойные родственники умирали в этом возрасте и рожали детей — тоже. И кстати, если я не зачну ребенка в течение этого года, могу заниматься сексом, не думая о последствиях, одиннадцать ближайших лет, покуда мне не исполнится сорок четыре года. Если исполнится.
Теперь мне необходимо знать все, что касается бурят, их древних мифологии и религии. Это стало для меня жизненно важно. И не менее важно — попасть на Ольхон с его славой святого места пяти азиатских концессий, как минимум. Не знаю, зачем мне надо туда, но знаю — это необходимо. Если не прокатит вместе со съемочной группой, поеду сам. Денег заработаю и поеду. В Москву на могилу брата тоже поеду, но не горит, точнее — сгорело уже его тело. На похороны не попал, а теперь можно не торопиться, не имеет уже значения, когда…
Но лучше бы на Ольхон поехать на халяву, еще бы и денег заработать на самолетный билет до столицы. Французы, может, и экономят, снимая в России, но платят, по местным меркам, сносно.
И все же поездка на Ольхон — дело пусть и недалекого, но будущего. А сейчас рядом сидит человек, который знает об острове хоть что-то. И мне надо разговорить его, вытянуть из него всю имеющуюся информацию. Потому что я чувствовал, не знаю, каким местом… может, задницей?.. Хотя я не из породы Овсянникова Михаила Орестовича и ему подобных. Черт, о чем я? Какие тут могут быть хохмочки, когда речь идет о жизни и смерти. Именно смерти… Я чувствовал, что с Борисом Кикиным надо торопиться, что… Не знаю почему, но уверен, больше случая расспросить его может и не представиться.
— Ладно, хватит представлений! — Борис наконец успокоился, отнял руки от лица. — Насрать мне и на эту водку, и на этих бурят тоже!
Я не сдержал усмешки. Прикол заключался в том, что Боря сейчас точь-в-точь походил на бурята, на коего собрался справлять большую нужду.
— Есть не хочу, пить не могу, — продолжил он, — пойду рубить этот чертов столб!
— Бурхан в помощь.
Кикин мое пожелание проигнорировал, взял со стола топор, перевернув пепельницу и не заметив этого.
— А ты пока слепки с глиняной головы посмотри. Неплохо получилось. Завтра из воска буду голову отливать. Останется к Буратинову телу ее присобачить, раскрасить, и все дела — мертвый шаман готов!
Я подумал: да, хреновые из нас, людей, демиурги. Бог сотворил жизнь, мы в состоянии творить лишь смерть. Даже лучшие из нас.
Я взглянул на Буратину. Он был со мной согласен. Он не мог мне кивнуть, ввиду отсутствия головы. Но — кивнул. Так мне показалось.
Борис пошел к дверям, а я все молчал, так и не придумав, как его остановить, а потом вдруг закричал, как угорелый:
— Боря!!!
Он вздрогнул и повернулся ко мне:
— Ты чё орешь? Совсем сдурел?
— Боря, — продолжил я уже спокойно. — Мне это важно, правда. Расскажи про бабку свою бурятскую, про остров Ольхон, про деревню Хужир.
Эх, кабы мог он пить водку, никаких проблем бы у меня сейчас не возникло. Не потянуло бы Борю на работу после ста граммов. Сидел бы как миленький, накачивался и говорил, говорил… А теперь, видите ли, ему работать приспичило, трудоголику хренову!
— Чё про них, однако, рассказывать? Бабка померла, мне лет пять-шесть было. Ольхон — остров как остров. Хужир — полурусская, полубурятская деревня на нем.
Он все же вернулся к столу, присел на стул, но топор из рук не выпустил.
— Не понимаю, чё тебя интересует, — продолжил он. — Хочешь, вопросы задавай, а я отвечу.
— Хужир, — сказал я. — Кто и когда деревню основал, что название означает?
— Что означает, не знаю. Слово бурятское, а может, курыканское. Жил такой народ вокруг Байкала еще до бурят, руническим письмом владел. После него на острове стена осталась из камня. Так и зовется: курыканская стена. Увидишь ее, если поедешь. Но стена теперь низкая, почти всю растащили. Хороший камень. Его в советское время на строительстве волноломов использовали у пристани и рыбзавода… Рыбзавод, кстати, давно развалился, работать людям на острове негде, безработица сплошная…
— Эй! — прервал я Бориса. — Не надо про рыбзавод и безработицу! По фиг мне эти социальные проблемы. Ты про Хужир давай!
— Хужир… — Борис задумался. — Улус бурятский, а может, еще и курыканский на этом месте испокон веку стоял. Так же, наверно, и назывался… Русские позже пришли. В конце восемнадцатого века где-то неподалеку от улуса в горах европейский какой-то исследователь — то ли немец, то ли ссыльный поляк — месторождение графита открыл. Графит по тем временам стоил по весу чуть ли не как золото. Не знаю уж почему… И вот вроде нашелся какой-то отчаянный, тоже, наверно, поляк, разрабатывать ольхонское месторождение начал. Завез технику, немцев-спецов, а рабочие, русские из-под Иркутска, в Хужире поселились. Бурят-то в земле копаться не заставишь. Вольные они, да и лентяи все как один, работать не любят…
Борис встал, хлопнул меня по плечу. Хорошо хоть не топором. Его он держал в другой руке.
— У тебя же, Андрюха, компьютер дома стоит! Зайди в Интернет, набери в Яндексе «Хужир», все и узнаешь! Я тебе без надобности!
Я на дешевую провокацию не поддался. В Интернет и без советчиков схожу. Вот только неизвестно, есть ли там что-нибудь для меня интересное. Так что, Боря, давай, колись!
— Что потом с графитовыми разработками стало? — спросил я.
— Не знаю точно, вроде сгорело там все дотла… Причины не спрашивай, тоже не знаю.
— А с поляком что?
— Поляк вступил в Евросоюз. Через триста лет. Раньше не приняли! — Боря хохотнул. — Дел у меня больше нет, как про поляков всяких тебе песни петь! Ладно, пошел я работать, а ты слепки посмотри да выпей водки за себя и за меня. Раз я сам не могу…
Положив топор топорищем на плечо, Борис вышел, а я взял в руки верхний слепок. Обычный. Видел я такие не раз. На гладкой внешней поверхности — отпечатки Борькиных пальцев. На внутренней — посмертная маска и без того мертворожденной глиняной головы. Приплюснутый нос, сжатые тонкие губы, монголоидные, острые скулы, низкий лоб — все на месте. Следующий слепок был точно таким же. Борис перестраховался, сделал несколько одинаковых, чтобы выбрать лучший.
Третий был с затылка. Там вообще смотреть не на что — ровная округлая поверхность, и все.
Аккуратно вернув слепки в неинтересную кучу, я налил себе интересной водки в стакан на два пальца. Выпить не успел. Потому что в дальней комнате дико закричал Борис, а над моей головой взорвалась электрическая лампочка, и стало темно. Не знаю, какое событие произошло раньше, какое позже. Для меня они случились одновременно.
Вопль был настолько истошным и жутким, что я выронил стакан. Он ударился дном об пол и не разбился. К несчастью.
Борис продолжал орать. Что там с ним произошло? Я был напуган. Встал.
В темноте сделал шаг по направлению к выходу.
Наступил на стакан, потерял равновесие, но не упал — ухватился за край стола.
Нащупал в кармане газовую зажигалку, достал, крутанул колесико…
Борис орал.
Глиняная голова укоризненно смотрела на безбашенного Буратину. Странно. Мне казалось, что раньше, до темноты она стояла по-другому, к Буратине затылком. Эта идиотская мысль промелькнула и исчезла, спугнутая очередным криком Бориса.
В тусклом дрожащем свете я посмотрел под ноги — дважды на одни грабли не наступаю. Перешагнув стакан, быстро, насколько это возможно, пошел на Борькин голос, прикрывая хилый газовый огонек ладонью.
Я вышел в коридор. Везде было темно. Это что же, перегорели все лампочки разом? Но так не бывает! Так было.
Борис перестал орать, начал, стеная, материться. Значит, будет жить, по крайней мере. Значит, не смертельно.
— Ан-дре-ей! — заорал Борис.
— Иду! — отозвался я.
— Скорей! Скорей, давай, мать твою… так… растак… — И так далее, и тому подобное. Пока я не дошел, он фразы не закончил.
Что там с ним, Господи?
Я не мог бежать в темноте по малознакомой квартире. Огонек зажигалки еле тлел — газ не вовремя заканчивался. Все не слава богу…
Борис лежал навзничь в комнате-мастерской на куче древесного мусора. Из голени его левой ноги хлестала кровь. Ее было много, целая лужа. Она растеклась по полу, и на ее поверхности плавали опилки. Глубину раны было не определить, а о ее внушительных размерах давала представление разрубленная штанина — сантиметров пять, не меньше.
Ладно, нога… Я почему-то готовился к худшему… К чему худшему? Я не знал, но, увидев разрубленную ногу, — отброшенный топор лежал поодаль… увидев ногу, я успокоился. Равнодушно даже как-то стоял и смотрел. И Борис перестал материться, повернул ко мне голову. Он хотел что-то сказать, но в этот момент газ в зажигалке окончательно иссяк и тусклый огонек погас. Боря разразился новой порцией матерщины.
Полной тьмы в городе не бывает. Из окон дома напротив, из соседних окон в комнату падал свет, и его бы хватило, если бы глаза успели привыкнуть. Они не успели. Я ничего не видел. Я видел, как кровь, пульсируя, вытекает из резаной раны на голени. Я не мог этого видеть. И все же видел.
Борис материл меня, топор, бурхана, Христа и Гришу Сергеева, а также всех без исключения матерей наших. Досталось не поровну. Матерям, Христу и Сергееву — больше.
— Боря, заткнись, не богохульствуй. Скажи лучше, есть у тебя в доме свечи? И еще бинт. И жгут.
Борис прервал тираду, задумался.
— В ящике кухонного стола, кажется, есть свеча.
— Спички?
— На столе где-то.
— Бинт и жгут?
— В столе есть веревка, а бинт… может, и есть, не помню.
Глаза к темноте привыкли быстро. Света из соседних окон действительно хватало. На кухню я возвращался быстрее, чем шел сюда с зажигалкой.
В столе нашел моток бельевой веревки и оплавленную с одного конца, почти целую свечку. Спички лежали рядом с Буратиной. Покуривает, вероятно, сорванец…
Запалил свечу.
Прихватил со стола нож, испачканный печеночным паштетом.
Бинт даже и не искал, разорвал на полосы чистую простыню из комода.
Пока перетягивал веревкой ногу выше колена, зазвонил телефон. Проигнорировал. Звонил долго.
Ниже веревки стал резать ножом штанину.
— Что ж ты штаны, сука, портишь? — подал голос Борис.
Его я тоже проигнорировал.
Действовал, как автомат, бездумно, но целенаправленно.
Рана была по виду глубокой. Не знаю, повреждена ли кость? Вероятно, повреждена. Когда поднял ногу, Боря выматерился в мой адрес:
— Что ты, сволочь, делаешь?
Я бинтовал ногу. Как мог.
На поверхности простыни заалело мокрое пятно.
Оторвал новую полосу, намотал еще. Пятно проступало все равно.
— Боря, я «скорую» вызову.
— Не надо, помоги лучше до дивана дойти.
Он сказал это настолько безапелляционно, что я понял — спорить бессмысленно.
Он лежал на диване, укрытый драным ватным одеялом, и смотрел в потолок. Я присел рядом. Стеариновая свеча в его ногах горела ровно и без копоти. Мне сделалось жутко. Совсем как на похоронах.
— Я бурхана испортил, — сказал Борис, ко мне в принципе и не обращаясь.
Я промолчал.
— И хорошо, — добавил он, — столб неправильный был — глаза не те. Тихоокеанские какие-то глаза. А надо — индейские…
Кажется, Борис бредил. Мне захотелось уйти. Захотелось очень.
— А вообще-то… — Он тронул меня за руку, я вздрогнул всем телом. — Андрей, пойди, посмотри, подлежит Бурхан восстановлению?
Я взял свечу и прошел в смежную комнату. Там было как в мясницкой. Отброшенный плотницкий топор лежал на полу, точнее, на опилках, пропитанных кровью. Мне померещились бесконечные ряды человеческих туш, подвешенных за ноги… Чушь.
Я подошел ближе к глазастому столбу, во лбу которого возник третий глаз. Это напомнило мне собственное отражение в старинном зеркале мастерской Стаса. Чушь какая. С отражением же я разобрался, у зеркала попросту был дефект амальгамы.
Еще у столба появилось лицо — щеки, раскрытый рот с тонкими губами, острый подбородок, а вот носа больше не было. Он вместе с частью щеки был срублен и валялся поодаль.
Нетронутое бревно у стены торжествовало. Добилось своего. Так мне показалось.
Я вернулся в комнату, пятясь и не спуская с этого энергетического агрессора глаз до тех пор, пока бревно не утонуло во мраке при отдалении последнего источника света — свечи.
— Ну, как, — поинтересовался Борис, — можно что-то сделать?
— Если только нос обратно приклеить.
— Ладно, проще новое вырубить, — сказал Борис. — Ты знаешь…
Он снова коснулся меня, и снова я вздрогнул, будто током ударило. Борис этого не заметил или не придал значения.
— Ты знаешь, Андрей, я вот лежу, думаю… Мне теперь кажется… это не я себя по ноге рубанул… — Он с трудом подбирал слова. — Будто кто-то моей рукой… и меня же… не знаю…
Он зевнул.
— Как думаешь?
Я не хотел думать на эту тему. Я не хотел ее обсуждать. Я хотел одного — уйти как можно скорей. Мне было рядом с Борисом неуютно и… мне трудно в этом признаться даже самому себе, но я боялся непонятно чего. Боялся очень.
Боря еще раз зевнул.
Зазвонил телефон.
— Трубку возьми, — велел Борис, — скажи, что меня нет. Не хочу ни с кем разговаривать. Спать хочу.
Я прошел в прихожую, нащупал в полумраке трубку и сразу узнал голос Стаса:
— Боря, ты мне нужен. Можешь прийти ко мне в мастерскую?
— Это не Боря.
— А кто?
— Андрей Татаринов.
Стас на мгновение задумался.
— Отлично! — порадовался чему-то своему, мне непонятному. — Хочешь со съемочной группой поехать на Ольхон, Андрей?
Неужели все мои проблемы решатся единым махом этого не очень приятного мне человека? Я хотел на Ольхон и сказал об этом, после чего был приглашен в мастерскую Стаса для встречи с кем-то — я не расслышал имени.
Когда я вернулся в комнату, Борис уже спал, лежа на спине и негромко, даже как-то жалобно похрапывая. Я не стал его будить.
Прежде чем выйти из квартиры и прикрыть за собой дверь, я крикнул Буратине, чтобы он заперся изнутри на задвижку.
ГЛАВА 13 «Штюрманъ ранга капитана»
Подавали выдержанный французский коньяк с нарезаным лимоном и ледяную водку с сырокопченой колбасой и миниатюрными, не больше мизинца младенца, корнишонами.
Господа не барствовали, они так жили. Если не всегда, то давно. Ничего не имею против, каждый живет, как умеет. Господа были уже на хорошем взводе. Пьешь ты дорогой коньяк или водку из технического спирта, стадии алкогольного опьянения одни и те же. Разницу ощущаешь утром, когда после технаря голову от подушки оторвать не можешь. Если есть под головой подушка… если есть на подушке голова…
Я постарался вписаться в компанию, соответствовать ее уровню потребления.
Со стыдом вдруг вспомнил, как, будучи еще абитуриентом при столичном вузе, выпивал в общаге с москвичами-стройотрядовцами, праздновал очередную пятерку на вступительном экзамене. Являясь самым молодым, по неписаному закону был послан за выпивкой и в отсутствии заказанных «трех семерок» купил то, к чему привык в своей милой провинции, красный вермут, почти черного цвета. Пил его потом один, давился остальные отказались. Заблевал себя и всю округу. Майку, в которой праздновал, пришлось выбросить — большое темное пятно на груди так и не отстиралось. Хороший у нас вермут гнали, стойкий… С тех пор суррогаты не потребляю. Хватило.
Николай Тимофеевич Алексеев, бизнесмен, владелец заводов, домов, пароходов, оказался хорошо одетым, приятным в общении господином лет под полета. Напомнил мне Чичикова из «Мертвых душ» школьной программы. С располагающей улыбкой, в задницу влезет без мыла. Если, конечно, сочтет, что это в его интересах. На меня его интерес явно распространялся. Это радовало.
Сразу возникло подозрение, что Алексеев может быть и другим — жестким, безжалостным. Впрочем, в бизнесе беззубые добряки живут недолго. Совсем не живут.
Фамилия мне его ничего не сказала, а вот моя ему — напротив. Николай оживился, спросил:
— Скажите, Андрей, вы коренной сибиряк?
Я кивнул. Хотя, не будучи тунгусом или бурятом по национальности, коренным жителем я быть никак не мог. Русские казаки пришли в Сибирь всего-то триста лет назад.
— Вы знаете свою родословную? — продолжил Алексеев.
Я посмотрел на него с легким недоумением, переспросил:
— Мою родословную?
Я разве потомок декабристов, князей Волконского или Трубецкого? Что за чушь? Не рассказывать же ему о прабабке, почившей в 111 лет и остальной родне, умершей в возрасте, кратном одиннадцати! Я это никому не говорил, и ему не скажу.
— Сейчас, знаете ли, модно составлять свои родословные. Существуют специальные историко-архивные фирмы, которые этим занимаются. Но цены у них, я вам доложу… — Алексеев ничего мне не доложил, сам себя оборвал. — Впрочем, я не о том. Я хотел только выяснить, не потомок ли вы Михаила Татаринова, жившего в этих местах в середине восемнадцатого века?
От чести подобной я не отказался, что-то смутно мне это имя напомнило. Какие-то взрослые застольные беседы, услышанные мной, дошкольником, и надежно позабытые. Эх, мало я, лоботряс, отца слушал, да и рано он ушел из жизни. В 22 года какие на хрен семейные предания? Девки одни на уме. Впрочем, не одни — все! Я их тогда менял даже не как перчатки, как носки — ежедневно…
— Может быть, и родственник, — сказал я. — Фамилия не редкая, но и не сказать, чтобы Иванов или Сидоров. А чем он знаменит?
Николай Алексеев оказался человеком до предела начитанным. Вероятно, в бизнес из науки пришел, из НИИ какого-нибудь, когда они развалились в одночасье по всей стране.
Без всяких шпаргалок он, шпаря как по писаному, рассказал, что Михаил Татаринов написал в 1765 году «Описание о братскихъ татарахъ, сочиненное морского корабельного флота штюрманом ранга капитана Михаиломъ Татариновыми».
Обнаружили рукопись в Центральном государственном архиве древних актов в Москве, а опубликовали в Улан-Удэ в 1958 году.
Татаринов изучал и записывал фольклор бурят, их легенды и предания, сам участвовал в шаманских ритуалах, но описания их в рукописи нет. Вероятно, не включены сознательно. Есть косвенные доказательства, что Михаил Татаринов сам был посвящен в шаманское достоинство…
Звучало это, как посвящение в рыцари. Я засомневался, спросил:
— А могло ли подобное произойти? Тем более в восемнадцатом веке! «Штюрманъ ранга капитана» был для бурят чужим, инородцем.
— Вы, безусловно, правы, подобное маловероятно, — согласился Алексеев, — если бы не дошли до нас сведения…
Он смолк, переглянулся со Стасом, тот кивнул, и Алексеев, повернувшись ко мне, продолжил:
— Дошли сведения, что, когда ваш вероятный предок исследовал побережье острова Ольхон, в него при свидетелях-аборигенах ударила молния.
— Ну, ударила, и что? — спросил я и тут же вспомнил недавний рассказ Кикина об электростукнутых, получавших привилегию посвящения в шаманы.
Но побахвалиться своей осведомленностью не успел, бизнесмен мне ответил раньше:
— Этого знака свыше бурятам того времени было достаточно…
— Понял, — перебил я его, — точнее — вспомнил. Я знаю о молнии.
— Вот и замечательно, — порадовался Алексеев, после чего задал вопрос: — Вы едете с французской киногруппой на Ольхон?
Я напрягся, а ответил за меня Стас:
— Едет. Я все устрою.
— Не хотите ли на острове поработать моим агентом? — продолжал бизнесмен. — Плачу я своим сотрудникам щедро. Тысяча долларов за неделю ольхонских съемок. Это, естественно, не считая того, что вы там сами заработаете.
Я обычно сперва говорю, а потом уже думаю. А тут что-то меня насторожило, что-то не понравилось мне в этих людях, в этих переглядываниях, кивках… да они, пожалуй, давно вместе работают! Вот только где? В какой конторе? Именно, в конторе… Всегда я держался от них подальше, и сейчас не помешает.
— А что за работа? — спросил я уклончиво.
— За французами присматривать, — с улыбкой ответил Стас. — Дело в том, что я ехать на Ольхон не могу, а за иностранцами глаз да глаз нужен.
— Нет, — сказал я твердо. — Я стукачом не стану, лучше вообще никуда не поеду.
Алексеев бросил в Стаса укоризненный хмурый взгляд, но ко мне повернулся уже с лучезарной улыбкой:
— Вы нас неправильно поняли, Андрей. Никто вас не вербует. В этом нет нужды. Я — бизнесмен, скупил несколько участков на Ольхоне, точнее, на побережье Малого моря со стороны острова. Не я один, конечно. В деле люди очень высокого ранга!
Бизнесмен показал пальцем вверх. Я посмотрел, но ничего интересного на потолке не обнаружил, никакого ранга. А Стас добавил со значением:
— Все, что выгодно губернатору, выгодно губернии!
— Мы думаем строить комфортабельные гостиницы, развивать инфраструктуру, привлекать туристов, в том числе иностранных, — вещал Алексеев. — Ольхон — это же золотое дно! Если тут создать цивилизованные условия для отдыха, сюда съедутся со всего мира сотни тысяч туристов! И не забывайте, среди местных жителей сплошная безработица, а наше предприятие даст людям твердый заработок, даст постоянную работу!
Алексеев даже встал, зажестикулировал. А мне вдруг почудилось, что я в пустом зрительном зале и ради меня одного играется спектакль двух актеров. Лестно, конечно, но… что же другие-то зрители не пришли? Режиссер хреновый? Актеры ни к черту? А может, постановка устарела?
Алексеев продолжал:
— А от вас мне нужно одно: по возможности заинтересуйте французов местными достопримечательностями. В первую очередь их режиссера, Поля Диарена, оператора Ганса Бауэра и английского актера Уинстона Лермонта, они были когда-то знамениты, и глянцевые журналы до сих пор по привычке ими интересуются. Любое упоминание в прессе или в кино пойдет мне и Байкалу на пользу, сработает как реклама.
Я рассмеялся:
— Николай, да за кого вы меня принимаете? Европейцы и слушать меня не станут! Тем паче их режиссер, оператор и актер, играющий главную роль!
Я же сказал: по возможности. А потом, можно работать не с иностранцами, а с их русскими переводчиками.
Мне захотелось поправить: московскими, но вряд ли он поймет, что эта молодая нация давным-давно отпочковалась от русской. Я не стал даже излагать ему свою этническую теорию.
— Ну, если по возможности, я согласен.
Он порадовался, полез в бумажник, но я твердо сказал:
— Денег брать не стану. С финансовой стороной разберемся после моего возвращения.
На том и порешили. Стас наполнил рюмки и предложил выпить за успех нашего предприятия. Мы выпили. В успех я верил не очень, но почему не выпить хорошего коньяка на халяву?
А потом все ж таки улучил я момент, рассказал Стасу о том, как Кикин разрубил себе ногу топором. Попросил помочь мне с подготовкой улицы к съемкам. Тот пусть и с неохотой, но согласился, и я занес в свой мобильник федеральный номер его сотика.
Кстати, о бредовых предположениях Бориса, будто топором его ударил не он сам, а кто-то другой, ничего говорить я не стал. Зачем разводить нездоровую мистику?
ГЛАВА 14 Лошадиная голова Чингисхана
— Чем конкретно, — спросил я господина Алексеева, — могу я заинтересовать французского режиссера?
— Во-первых, Чингисханом, — ответил бизнесмен. — Это знаковая фигура мировой истории. Поль Диарен и Ганс Бауэр сделали имя и деньги на неигровом кино. На могилу Чингисхана они клюнут обязательно.
— Могила Чингисхана на Ольхоне? — Я засмеялся. — Да он и при жизни-то туда не забредал!
— Вы ошибаетесь!
Бизнесмен, как заправский архивариус, подошел к полке с книгами, уверенно вытащил нужную, раскрыл на закладке и прочитал:
— «Чингисхан иногда доходил со своим кочевьем до озера Байкала. Доказательством этого служил таган, поставленный им на горе на острове Ольхоне, который находится на указанном выше озере, и на тагане большой котел, в котором лежит лошадиная голова…»
Алексеев захлопнул книгу, будто из берданки пальнул.
— Ваш, кстати, возможный родственник, Михаил Татаринов написал.
Я захохотал. Абсурд какой-то!
— Я все понял! — воскликнул я. — Покажу французу котел с лошадиной головой, а он свалится в обморок… нет, обделается от восторга!
— А хотя бы и так! — Бизнесмен завелся, это было заметно. — И котел, и голову легко устроить. Но вам ничего не придется показывать лично. Вам…
Он снова переглянулся со Стасом, тот снова кивнул, и Алексеев продолжил:
— Вам необходимо лишь заинтересовать и свести европейцев с местным шаманом. — После паузы многозначительно уточнил с выделением интонацией первого слова: — Черным шаманом.
— Черным? — переспросил я уже без всякого смеха. Нет, не нравились мне подобные спекуляции на сатанизме, пусть и архаическом. До полного кайфа не хватает, чтобы он мне предложил подписать кровью договор с этим… Ата Улааном. Я сам удивился, что запомнил имя небесного предводителя черного шаманства.
— Именно, черным. У бурят-шаманистов существует легенда о Верхнем мире. Там живут небожители-тэнгрии. На Западе — пятьдесят пять белых и добрых…
«И пушистых», — захотелось добавить мне. Эту историю я уже слышал от Бори Кикина и поторопился похвастаться осведомленностью:
— А на Востоке сорок четыре черных — злых, лживых и кровожадных!
Мое утверждение почему-то бизнесмена уязвило.
— Зачем вы так про них: лживых, кровожадных… Все дело в позиции. По Сведенборгу, например, падшие души, пребывающие в христианском Аду, считают его блаженным Раем. Души праведников им отвратительны, Господни Ангелы для них — омерзительные монстры. Елей пахнет хуже дерьма, а смрад горелого мяса и нечистот — привлекателен и аппетитен. Да и сам Князь Тьмы искренно верит в свою правоту и святость. Так что сорок четыре восточных тэнгрия в собственном ощущении не есть злые и лживые, таковыми они считают пятьдесят пять тэнгриев западных.
Мне было что возразить, но возражать я не стал. Он прав в том, что понять этих пацанов можно. Но одно дело — понять, другое — оправдать. Оправдывать я их не собирался. Впрочем, я никому не судия, боже упаси…
Бизнесмен продолжал:
— Ваша задача, Андрей, на Ольхоне будет такой: вы сводите режиссера с шаманом, который пудрит французу мозги до предела, а потом умирает…
Вероятно, он увидел мое перекошенное лицо, усмехнулся.
— Не по-настоящему умирает. Там все давно проплачено.
— Моя работа! — гордо вставил Стас.
— Надо, чтобы европейцы сняли постановочные шаманские похороны и заинтересовали Запад не художественным своим дерьмовым фильмом, а документальным о шаманской экзотике! Впрочем, и художественный будет не лишним.
Меня, вероятно, еще сильнее перекосило. Я взглянул в настенное зеркало — так и есть. Ребята прут в Преисподнюю строевым шагом — весело и с песней. Постановочные похороны — это уже слишком, это явный перебор… Нет, не хотелось мне участвовать в этой трагикомедии, но — баксы… Эх, блин, баксы, баксы, что вы с людьми, суки, делаете?
— Две тысячи, — сказал я твердо.
— Что, две тысячи? — не понял Алексеев.
— Долларов, конечно, — уточнил я, — а лучше — евро. Две тысячи за неделю ольхонских съемок.
Ребята повеселели, честное слово. Я понял, что они не были уверены до конца в моем согласии, а тут я торговаться начал…
Они переглянулись, но Стас на этот раз не кивал, принимать решение, вероятно, должен был господин Алексеев, как старший по званию. Он его и принял.
— Хорошо, — сказал, — пусть будет две тысячи, но долларов.
— Тогда продолжим, — сказал я, одновременно удовлетворенный и расстроенный, будто совершил подлый поступок… — В вашем плане есть одна важная неувязка. Останки шамана, я слышал, предают огню.
— Не всегда, — возразил Алексеев. — Труп могут выставить на аранга. Это настил такой деревянный на высоком дереве или горе.
— Черных сжигают. По бурятской традиции выставляют на аранга только белых шаманов или людей, убитых молнией.
Я не был на все сто уверен в своем утверждении, но интуитивно чувствовал, что это именно так.
— Плевать! — вступил Стас. — Плевать на традиции! Откуда европейцы-то об этом знают? Выставим тело на это… черт его, забыл… ладно, неважно… Как сжигать-то живого человека, пусть и бурята? А если подменить его в последний момент и куклу сжечь… так ведь заметят!
— Стас прав, — сказал бизнесмен, — устроим нашему агенту воздушные похороны, а французы все равно ничего не поймут.
— Воздушные так воздушные. — Я пожал плечами.
— Да не переживай ты так! — Он хлопнул меня по плечу. — Все хорошо будет!
Вот оно как… Стоило согласиться на эти чертовы деньги, как Алексеев почувствовал себя моим начальником, а с подчиненным, понятно, можно и на «ты» перейти, можно панибратски и по плечу хлопнуть… А не вляпался ли ты, Андрей, в дерьмо по самые уши? Очень может быть… Впрочем, может, он прав и все будет хорошо?
Что конкретно будет хорошего, я узнал из последующих слов своего теперь, вероятно, непосредственного командира. Так, по крайней мере, он сам считал, я — нет.
— Ты представь только, Андрюха!
Панибратство нарастало стремительно. Надо сваливать отсюда, иначе через полчаса он от меня чистки своих ботинок потребует. Или стирки носков…
— Представь остров Ольхон недалекого будущего, лет через десять-пятнадцать! Комфортабельные пятизвездочные отели на берегу! Обнаженные иностранные туристы вокруг бассейнов с самой чистой в мире водой! Подогретой, конечно. Байкал слишком холоден для изнеженных тел состоятельных американцев, европейцев и японцев… Познавательные экскурсии на могилу Чингисхана! Ее мы соорудим и оборудуем по высшему разряду. Эрнсту Неизвестному закажем памятник великому завоевателю на белом коне!
Стас замотал головой, перебил:
— Он на репрессированных специализируется, на восточного деспота не клюнет.
Алексеев не унывал:
— Ну и бог с ним, на кой он нам, этот малоизвестный? Самому Зурабу Церетели закажем, он на все клюет! — И, помогая себе жестами, продолжил: — Круглогодичные семинары для шаманистов, дзен-буддистов, ламаистов и атеистов со всего мира! Для всех желающих экскурсии на шаманское кладбище! За отдельную плату — обряд похорон черного шамана с последующим сожжением бренных останков добровольцев! Экскурсии в шаманскую рощу с шаманским камланием под современную музыку, с шаманскими песнями, танцами-шманцами и обниманцами!.. Эх, да что там говорить, это ж — цивилизация! Рай земной!
Я представил все это, и мне стало тошно. Алексееву, напротив, было хорошо. Это закономерно. Один теряет, другой находит. Одному суп жидок, другому жемчуг мелок… Кажется, не то я несу, из другой оперы… И еще мне показалось, что я слегка опьянел, и меня этот факт не порадовал. С этими господами ушки надо держать на макушке, а палец — на спусковом крючке… Теперь мне не показалось, теперь я был уверен: опьянел я не слегка, а изрядно…
Алексеев успокоился, сел за стол и продолжил уже без пиетета:
— Я тут недавно в закрытых архивах НКВД интересную историю откопал. Тот, с чьих слов она записана, хоть и проверенный чекист, видимо, рассудком тронулся. Товарищей его, само собой, басмачи перестреляли, а может, семеновцы недобитые на острове прятались… Ты, Андрей, перескажи ее переводчикам. Хуже не будет.
Последний шаман Ольхона
(пересказ документа из закрытого архива НКВД)
Случилось это в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, во времена воинствующего атеизма. Священников мировых религий империи — христиан и мусульман — советская власть беззастенчиво купила (не всех, столько, сколько нужно), а служителей менее традиционных культов пускала в расход или заключала в концентрационные лагеря.
Бурятских шаманов было решено свыше искоренить как класс, причем с привлечением местных чекистских кадров. Желающих поучаствовать в мероприятиях хватало. Под видом служителя культа в расход частенько пускали зажиточного соседа-кредитора. Лес рубят — щепки летят.
Шаманы, что поумней, на Ольхон сбежались. В те времена остров совсем диким был и леса много, не повырубали еще. Попрятались там шаманы, но и ЧК не дремало. Как на материке контрреволюции не осталось, руки до острова дотянулись. Снарядили отряд — роту отборных чекистов, кровь с молоком…
Что там случилось, на самом деле не ясно. Тот единственный, что в живых остался, чушь какую-то нес, мракобесию потакал. По его словам, расстреляли они у деревни Хужир всех ольхонских шаманов скопом — и черных и белых, один только и ушел — черно-белый. По бурятским поверьям, он вроде и с Западом в сговоре был, и с Востоком.
Пошли чекисты по следу и стали один за другим гибнуть. Первый со скалы свалился, второго и третьего медведь задрал, четвертый сам случайно из винтовки застрелиться ухитрился… Их уже человек десять оставалось, когда командир решил возвращаться. Но тут ни с того ни с сего обвалились над ними скалы. Из-под завала сумел выбраться единственный чекист — комиссар отряда. И говорил он потом в закрытой больнице, будто бы увидел на самой вершине скалы Последнего Шамана. Тот помахал ему рукой приветливо и ушел неторопливо по воздуху в сторону мыса Покойников. И якобы по волнам Малого моря Последний Шаман шел аки посуху…
ГЛАВА 15 Взбесившаяся физиология
Изрядно навеселе, я шел домой от мастерской Стаса по ночному городу. А может, и по вечернему. Плевать мне было на время суток. От транспорта я не зависел — неспешным шагом до дома минут пятнадцать ходьбы.
Шел и думал, что решил наконец финансовую проблему. Не слишком приятным способом, но решил. Впрочем, зарабатывание денег лично мне никогда удовольствия не доставляло. Тратить, да, всегда приятно, а зарабатывать — сплошная морока, потная спина и кровавые мозоли. Все ж таки не зря русский народ придумал сказку про Емелю. Тот, не шибко напрягаясь, волшебную Щуку ведром в полынье выловил и решил все проблемы. Скажет: «По щучьему велению, по моему хотению», и пожалуйста тебе — хочешь, мороженое, хочешь, пирожное, хочешь — царевну-целку и полцарства в придачу…
И еще я думал, что домой мне совсем не хочется, а хочется в кабак с какой-нибудь милой женщиной. С переводчицей Катериной, например, или продюсером Жоан… Доллары в кармане приятно согревали ляжку… Какие они все-таки во всем разные, эти женщины, и как одинаково мне желанны… Катенька… Жоанушка… Эх, обеих бы в одну постель… Я представил, и это было восхитительно.
В голове моей, закружившейся от маловероятно исполнимого желания, заиграла вдруг мелодия, а слова сами собой возникли, будто их ангельский хор цыган пел под гитарные переборы: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» И не сразу я осознал, что не в голове моей заиграло, а у самого сердца, в левом внутреннем кармане куртки. Я ж, идиот, сам на днях эту мелодию на сотик скачал!
Достал мобильник, ответил. Звонил Гриша Сергеев. Выяснял, как прошла у меня встреча с продюсером и почему Боря Кикин не берет трубку.
Я ответил, что продюсер, очаровательная Жоан, выдала мне деньги и завтра с утра я еду на строительный рынок за материалом. О Борисе тоже все рассказал — и о гипсовых слепках с головы, и о разрубленной ноге, и о покалеченном Бурхане. Гриша поохал, сказал, что утром к нему зайдет проведать, посетовал, что, кроме Кикина, никто в городе выполнить эту работу качественно не сможет.
Я отключился, осмотрелся и обнаружил, что стою в двух шагах от Борькиного дома. Решил зайти, посмотреть, как он там…
Уходя отсюда, дверь на задвижку закрыть я никак не мог, а когда вернулся и толкнул, она оказалась заперта. Странно. Не Буратина же безголовый за мной закрыл! Хотя Борис мог проснуться и, добираясь вприпрыжку на одной ноге до сортира, по дороге заложить засов.
Я решил не стучать, не тревожить раненого. Пусть спит, завтра зайду. Развернулся и пошел к лестнице.
Все, как всегда, объяснилось без привлечения средневекового мракобесия. Принцип «бритвы Оккама» гласит, что…
Я не успел додумать про мудрого англичанина с почти японской фамилией, не успел спуститься по лестнице, положил только ладонь на ее закругленные угловые перила, когда услышал за спиной скрежет отодвигаемого засова. Замер на месте с занесенной ногой.
— Боря? — пробормотал охрипшим вдруг голосом. — Боря, ты?
Ответа не было. И не могло быть.
Я подошел, рывком распахнул дверь. В проеме — никого. Да и звука шагов я не слышал. Нельзя подойти беззвучно по рассохшемуся, скрипучему полу. Нельзя.
Я прошел в прихожую, щелкнул выключателем — свет не загорелся. И кто бы, интересно, его наладил? Там не только лампочки напрочь погорели, по всей видимости, и пробки вылетели. Отметил автоматически, что завтра при свете посмотрю счетчик…
Увидел в пяти метрах перед собой колеблющееся свечение дверного проема проходной комнаты, в которой, я надеялся, спал Борис… или не спал? Кто-то же мне открыл! Кто?
Сделал два шага вперед, посмотрел налево. Глаза, не знаю почему, отлично видели в темноте.
Кухня. В углу у батареи недвижимая фигура псевдоитальянской куклы. На столе среди хлама гипсовая голова. Глаза ее слабо светились зеленоватым фосфорическим светом…
Я зажмурился, потом посмотрел еще раз — никакого свечения не было в помине.
Тяжело вздохнул. Руки дрожали. Ноги тоже, точнее — колени.
Пошел в комнату, где стоял диван, на котором…
Мне и без того было здесь неуютно с того момента, как я услышал металлический скрежет задвижки, а тут я совсем приуныл, решил почему-то, что Бориса на диване нет. Просто нет, и все. Исчез из запертого изнутри помещения. Сюжет английского классического детектива. Вот только никаким детективом здесь и не пахло, это я точно знал. Другой жанр… А пахло здесь паленой резиной. Я догадался почему — это вонь сгоревшей электропроводки. И еще пахло зажженной стеариновой свечой. Но это и подавно понятно — я шел на ее мерцающее пламя у Бори, как я помнил, в ногах…
Борис никуда не делся, спал на спине, но вид его был страшен. Голова запрокинута, полураскрытый рот обнажал гнилые редкие зубы, белки глаз просматривались из-под неплотного прищура. Раненая нога покоилась на подушке. Простыня, заменившая бинт, пропиталась кровью насквозь. Но кровотечение остановилось — верх простыни подсох и застыл коркой, как коростой.
В полной тишине Кикин вдруг всхрапнул, как вскрикнул. Я вздрогнул.
Постоял с минуту, решил не будить.
Не захватив свечи, заглянул зачем-то в смежную комнату-мастерскую. Видел в темноте я теперь, как кошка. К чему бы это?
Безносый псевдо-Бурхан лежал на полу в опилках бревно бревном.
Неначатое бревно у стены светилось тусклым неживым светом, как светится в темноте гнилое дерево. Оно не было гнилым, я это знал. Оно было живым, и это было страшно…
Я автоматически перекрестился, но действие мое никакой реакции не вызвало. Я подумал, что силы, дремавшие до поры в дереве, древнее всех теперешних мировых религий. Древнее и, возможно, могущественней…
Я задрожал всем телом, будто ток вместо крови потек по венам и артериям. Меня словно обожгло изнутри электрическим разрядом…
Не знаю как, я захлопнул с грохотом дверь. Оглянулся воровато на Бориса. Тот не проснулся. Стараясь больше не шуметь, вышел из комнаты, потом — из квартиры.
Входную дверь притворил. Кто мне открыл, тот пусть и закрывает…
Бегом спустился по лестнице и остановился лишь через сотню метров от Борькиного дома. Закурил. После глубокой затяжки посмотрел на пальцы — они продолжали дрожать. Но я поймал себя на мысли, что это иная дрожь. Теперь я дрожал от желания. В тридцать три года? Смешно. Как юноша, впервые увидевший обнаженную грудь наяву, а не во сне, в кино или на порнокартинке…
Каким образом дрожь ужаса перешла в дрожь желания, я не понял. И не хотел понимать. Меня колотило. Я хотел женщину. Любую. Не было для меня в тот момент красивых и некрасивых, худых и полных, целых и дырявых… не было возраста, внешности, телосложения, цвета волос и глаз, роста, ширины бедер, талии и плеч… Все человечество делилось для меня на женщин и мужчин. Первых я хотел. Всех. Без разбору. Ко вторым был равнодушен. Абсолютно. Хоть бы их вообще на свете не было. Я не ощущал себя из их породы. Не знаю, кем я был, но кем-то другим — точно.
Больше всех я хотел Жоан и Катерину. Хотел безумно. Если предложил бы мне Создатель: «Кончай и скончайся вослед!» — я бы ни на миг не задумался: Да. Да! Да!!!
Телефона Катерины я не знал, Жоан — тоже, хотя…
Дрожащими руками нащупал мобильник. Трясущимися пальцами нажимал кнопки…
Ответили сразу. Я попытался придать срывающемуся голосу хоть малую толику уверенности.
— Здравствуйте, Анна. Это Андрей Татаринов.
— Вы знаете, который час?
— Знаю, — соврал я, плевать мне было на время суток. — Мне нужно поговорить с Жоан Каро. Это очень важно.
— Вы с ума сошли! Она давно спит.
— Разбудите. Передайте, что я люблю ее! Она самая красивая женщина на свете! Самая очаровательная, самая желанная, самая… самая… — Я сбился, но выход из положения нашелся сам собой, и я прокричал в мобильник: — Я хочу ее! Немедленно!
— Да вы пьяны! — перебила мои чувственные излияния ведьма по имени Анна Ананьева, переводчица. — Я вас прошу, не звоните, пожалуйста, больше в такое время, да еще в нетрезвом состоянии!
Я бы ей такое сказал, такое… что она бы подавилась своими грубыми словами… я бы… А она не дала мне ответить, сука, отключилась.
Если бы я не нашел этой ночью женщину, я бы лопнул, меня бы разорвало изнутри взбесившейся физиологией собственного организма. Между ног все распухло и ныло нестерпимо, требуя немедленного выплеска.
Я дошел до дома, заказал по телефону проститутку и, как только ушел сутенер с моими деньгами, вставил ей прямо в прихожей, не заводя в комнату…
ГЛАВА 16 Сон и спам
Проснулся я утром в липкой луже под задницей и в мокрых насквозь трусах, но физиологически снова готовый к бою. Как там в школьной программе по литературе? «И вечный бой, покой нам только снится…» Покой мне и не снился. Я всю ночь во сне занимался сексом с десятком… нет, с сотней женщин!
Я вспоминал сновидение, будто прокручивал крутой германский порнофильм.
Остров Ольхон. Фешенебельные гостиницы на побережье. Бассейн с подогретой байкальской водой, а вокруг обнаженные тела женщин — европейских, африканских, азиатских… Были там, думаю, и коренные американки из племени сиу, и даже папуаски из Новой Гвинеи… Все как на подбор, с рельефными фигурами, красивые, сексапильные…
Я был, как хорек в курятнике. Я имел их всех разом. Не знаю, как это возможно наяву, на практике, но во сне было возможно все! И всех! Одновременно!
Чушь какая… Я отбросил влажное одеяло и встал с постели… Вспомнил вчерашнюю проститутку, уже не сновидческую, реальную. И деньги за нее заплачены тоже осязаемые… Уж не схожу ли я с ума на сексуальной почве?
Я усмехнулся, потому что всплыли вдруг подробности взаимоотношений с ночной своей оплаченной гостьей. Кажется, ей понравилось. Она сказала, что еще никогда ей не приходилось работать весь час без перерыва. Уходя, попросила номер моего телефона и поинтересовалась, можно ли нам встретиться еще, но уже без всякой платы, по-товарищески… Хотелось ответить, что с товарищами так не поступают, но я сдержался. Телефон свой дал и у нее взял, может, еще пригодится. Если по-товарищески…
А впрочем, черт с ними, с бабами. Похоть — это не смертельно. В конце концов, проонанировать можно в клозете… Делами надо заниматься, а их — по горло. Впереди поездка на строительный рынок за материалом, да и раненого Борю Кикина надо проведать. Идти туда хотелось не очень. Кажется, именно со встречи с энергоемким бревном в комнате-мастерской началась в моем организме сексуальная революция… Еще я вспомнил, что собирался посмотреть в Интернете Хужир и Ольхон, и по дороге в ванную комнату включил компьютер.
Я всерьез собирался выяснить суть проклятия нашей семьи, связанного с числами, кратными одиннадцати. Попробую поискать разгадку в бурятской мифологии. Не в бирюльки играю, речь идет о жизни и смерти. О моей жизни и моей смерти.
С чашкой кофе устроился у компьютера, вошел в Интернет. Набрал в поисковой системе Яндекса сначала все-таки коренное слово «Байкал». Был затоплен информацией, почти сплошь — ненужной. Чего только не назвали этим именем — от газированного напитка до акционерного общества закрытого типа в нефтехимической промышленности. Впрочем, отыскал-таки подходящие сайты. Узнал, что русские казаки во главе С Курбатом Ивановым пришли с Енисея на Байкал в 1643 году. Что называют Священное озеро разные азиатские народы по-разному. Эвенки — «Ламу», то есть море. Буряты: «Байгал-нуур», озеро. В Поднебесной он северное море — «Бай-хай». На том же сайте было высказано предположение, что слово тюркоязычное и первыми, вероятно, назвали так озеро курыкане. «Байкал» произошло от «бай-кюль», что в переводе с тюркского означает «богатое озеро»…
Все это интересно, но практической ценности не представляет.
Набрал «Хужир». Узнал, что прошлым летом там проводился региональный фестиваль документальных фильмов в защиту экологии Байкала «Чистая вода». И туристических баз там полно, что и понятно. Одна из них на голливудский манер называлась «Никита». Не знаю уж почему.
Набрав слово «Ольхон», взглянул на часы. Время шло, дела стояли, поэтому шариться по сайтам не стал, сразу отыскал перевод. На бурятском — «лес», точнее, «лесочек». «Хон» — уменьшительный суффикс. У эвенков интересней — «лесной дух, хозяин леса».
Словом, ничего мне перевод этих слов не дал. Проверил напоследок свой электронный почтовый ящик. Одно новое письмо. И снова спам. Открыл. Прочел. И к чему бы все это, зачем мне эта идиотская информация? Ума не приложу. Потер лоб именно в том месте…
Третий глаз
Третий глаз — одна из шести форм видения человека. Люди, развивающие данную способность, но не знающие техники безопасности, подвергаются огромной опасности. Чаще всего они используют видение с открытыми глазами, при котором из нематериального пространства просачиваются сущности, которые начинают питаться окружающими людьми и у тех возникают серьезные проблемы со здоровьем. Считается, что если бы в Москве был хотя бы один человек, обладающий способностью видения Третьим глазом, то живых людей в городе не осталось бы.
Третий глаз — это межпространственный туннель между материальным и нематериальным пространством. В нематериальном пространстве объем и качество энергий несоизмеримы с материальным, и при проникновении из нематериального пространства сущностей более высокого порядка всему живому в материальном пространстве угрожает огромная опасность.
Третий глаз (шишковидная железа, эпифиз) — орган, существующий у каждого человека, но у большинства находящийся в «спящем» состоянии. Используя специально разработанные методики, Третий глаз может быть «открыт» у любого человека.
Открытый Третий глаз дает человеку:
— видение будущего и прошлого;
— видение с закрытыми глазами;
— видение вне времени и расстояния;
— видение человеческой ауры и возможность диагностики по ней состояния организма;
— ясновидение и чтение мыслей;
— развитие интуиции;
— осознанные и яркие сновидения;
— общение с Учителями;
— видение эфирного тела;
— возможность лечить себя и других, не прибегая к медикаментам и помощи врачей.
Помимо перечисленного, Сверхчеловеку, обладающему открытым Третьим глазом, доступно и многое другое…
ГЛАВА 17 Но пасаран!
Домашний телефон Кикина не отвечал. Учтя, что передвигаться он мог только вприпрыжку, я насчитал двадцать два длинных гудка, после чего положил трубку.
Сотовый Гриши Сергеева оказался недоступен, как и моего новоявленного липового помощника — Стаса. Информационная блокада какая-то. Оставалось позвонить Анне Ананьевой, переводчице, и назначить свидание в полночь возле амбара. Сказать, чтобы приходила, мол, не пожалеет… Этого я делать не стал. И без того уже изрядно подпортил свою характеристику ночным звонком. Дурень.
В железную дверь Кикина я ломился минут десять. Никто мне так и не открыл, даже корефан, безголовый Буратино, меня предал. Зато открылась соседская дверь и пожилая, с недовольным лицом женщина в кокетливо укороченном и декольтированном застиранном халате сообщила, что за Борисом пришли и увезли в машине, а куда, она не в курсе. Я поблагодарил, уставившись на полуобнаженную тощую грудь в разрезе халата. Затем опустил взгляд на искривленные артритом ноги со вздутыми венами. Недовольство на лице женщины сменилось недоумением. А когда я призывно ей улыбнулся, глядя в глаза, она густо покраснела и захлопнула перед моим носом дверь. Дома, вероятно, была не одна, иначе… Черт, кажется, ко мне возвращается ночная гиперсексуальность. Точнее — супергиперсексуальность. Нечеловеческая. Кстати, теперь при ходьбе и не только, содержимое штанов мне постоянно мешало. Повторю: постоянно. Стоило в пределах видимости появиться любой женщине — и все. Повторю: любой.
Выйдя во двор, я понял, что был не прав. Борькина соседка, скорее всего, расценила мои призывные взгляды как изощренное издевательство. Глупая. Внешность и возраст разве имеют значение? Она — женщина, и этого достаточно. Для меня, по крайней мере…
Кстати, из слов неправильно оценившей мое поведение дамы я сделал вывод, что за Борисом заехал Гриша Сергеев и увез раненого в травмпункт или в поликлинику, на прием к хирургу. У Гриши «жигуль» девятой модели… а может, и не девятой, не помню. Он в нем жену на дачный участок возит, а сам обычно пешком или в маршрутках добирается… ладно, главное, о Борьке я могу больше не беспокоиться, он в надежных руках.
На углу улиц Ленина и Свердлова снова набрал на мобильнике номер Стаса, и снова он оказался недоступен. Помощничек, блин, урод… На строительный рынок придется ехать одному и оплачивать грузчиков. Денег, впрочем, хватало.
Что бы мы делали в этом мире без мобильной связи? Осиротели бы на хрен!
Вызвал грузовое такси, и через пять минут, сигареты выкурить не успел, подошла крытая «газелька». Дальше — дело техники.
По дороге болтали с водителем о том о сем. Точнее, болтал в основном он. Его удивляла необычайно ранняя весна, но огорчал, как следствие, каждодневный утренний гололед на дорогах. Его возмущала труба нефтепровода, которую собирались пустить в четырехстах метрах от байкальского берега. Его возбуждало то, что старшая дочь губернатора выходит замуж… Я, конечно, слышал, что есть у губернатора дочь на выданье, но то, что их аж две, было для меня новостью. Может, еще не поздно подсуетиться?
Я попросил подробностей, и водила, молодой скучающий паренек, поделился городскими сплетнями с нескрываемым энтузиазмом. Оказалось, младшенькой около двадцати лет от роду — комсомолка, спортсменка и просто красивая девушка… Надо будет потом, когда деньги после Ольхона появятся, выяснить, как она отдыхает, какие ночные клубы посещает, словом, все ее повадки и наклонности. А там, чем черт не шутит… Действительно, чем?
На строительном рынке жизнерадостные таджикские гастарбайтеры в пять минут забросали в кузов куб обрезной доски-дюймовки.
Первоначально опечаленная неизвестно чем сорокалетняя дама-продавец после моих грубых комплиментов о соблазнительности и аппетитности ее рыхлого тела вернулась в благодушное настроение и заставила меня записать четыре телефонных номера: домашний, сотовый, подруги и, не знаю зачем, какого-то Георгия Сигизмундовича.
В павильоне, где затаривался краской и кистями, я сам оставил номер продавцу — тридцатилетней блондинке с умопомрачительной фигурой, которую не мог скрыть даже серый рабочий халат… Вряд ли она позвонит. Возле нее вертелся пузатый кавказец со сталинскими усами, вероятно, работодатель. На меня смотрел неодобрительно, но вмешиваться не стал. Я — покупатель, тем паче оставил в кассе полторы тысячи деревянных, мне можно почти все…
На обратной дороге под беспрерывную болтовню водилы размышлял над тем, почему сквозь мешковатый халат продавщицы я видел ее обнаженное тело? Я мог легко описать его во всех подробностях. Но почему? У меня что, прорезалось зрение в рентгеновском диапазоне? Впрочем, нет, тогда бы я увидел не тело, а только скелет… Я содрогнулся. На скелеты, даже женские, моя сексуальная агрессия не распространялась…
Уложился в два часа. Расплатился и отпустил говорливого шофера. Доски мы с ним сбросили у забора из рифленого профиля. Зашел в ближнюю калитку и за бутылку водки получил у хозяина разрешение пользоваться его двором для работы. Позволил бы он и даром, но что мне, бутылки жалко для хорошего человека? Впрочем, сперва хороший человек претендовал и на вторую бутылку за потенциальную порчу дорогостоящего забора и моральные издержки. Тут ему не обломилось. Порешили, что после съемок он заберет все оставшиеся материалы. Цены он знал, понимал, что не прогадает. На радостях хозяин даже помог мне перетащить во двор доски. Краску, валик и кисти занесли в дом.
Меня подперло — отяжелел. Я спросил, где тут у них облегчаются? Хозяин махнул рукой, и я увидел аккуратное строение, шедевр приусадебного зодчества в форме буквы «Л», точнее, перевернутой латинской пятерки. Кровля — она же стены, до земли была крыта шифером, а над дверью — изыск — узкое оконце с резными наличниками. Я теперь понимал зачем. Это чтобы человек, как никогда беззащитный, со спущенными штанами справляющий большую свою нужду, мог быть совершенно спокоен — ожившие покойники не пройдут! Но пасаран!
Внутри сортира тоже было уютно. Я оценил.
Когда я уходил, хозяин все цокал языком, рассматривая штабель дюймовой доски, и сетовал, что вон какой добрый лес — обрезной да без сучков, на всякую ерунду пойдет, а ему, бедному, баню обшить нечем…
Я пошел на обед и за инструментом и уже входил в подъезд своего дома, когда мобильник мой из внутреннего кармана вдруг заиграл сумбурную мелодию «Крейзи Фрога». Странно, при чем здесь лягушонок? Вчера вроде мобильник имел другие позывные… Ладно. Я ответил.
Звонил Гриша Сергеев. Выплеснул на меня целый поток информации.
Во-первых, Борей Кикиным занимался не он, как я решил, а Стас. Надо же… Он договорился со знакомым хирургом, отвез раненого в его кабинет, где Борю обслужили по полной программе с рентгеном, нормальной перевязкой и накачкой транквилизаторами… Стукач он или нет, но молодец мужик. Мне сделалось стыдно за свое к нему отношение.
Во-вторых, Григорий сообщил о завтрашнем съемочном распорядке. В четыре утра на мою подготовленную уже улицу привезут пять «КамАЗов» снега. Я запаниковал, но Гриша меня успокоил, что разбрасывать придет вся съемочная группа: от последнего освети теля до первой скрипки — английского актера. Я сильно в этом сомневался, но ничего не возразил.
На рассвете — около восьми утра — начало съемки. Сразу после этого я привожу улицу в первозданный вид, а киногруппа едет снимать эпизод в лес где-то в пригороде. Я там не нужен.
Вечером режиссер собирает всю свою интернациональную бригаду в гостинице, но и туда я могу не ходить.
Со слов Сергеева стало мне ясно, что я, мелкая сошка, микроскопическая, нигде не нужен. Обидно чуть-чуть даже стало… ладно. Не очень и хотелось.
Еще Гриша велел, чтобы через час я обязательно находился на рабочем месте — на улице. Приедет продюсер с переводчиком, проверит, как у меня продвигаются дела и по целевому ли я назначению потратил французские американские доллары.
Я заволновался. По двум причинам. Я хотел видеть очаровательную Жоан Каро неважно по какому поводу. Хотел очень. Меня аж затрясло от желания… Но я не хотел видеть Анну Ананьеву, переводчицу. Из-за ночного своего дурацкого звонка. Впрочем, я понимал: подопрет, как вчера ночью, никуда не денусь, буду делать точно такие же глупости… А может, и того круче.
ГЛАВА 18 Тройное наваждение
Когда я подходил, они уже стояли на углу улиц Дзержинского и Грязнова. Улыбающаяся француженка-продюсер и строгая, как английская леди, москвичка-переводчица. К моему неудовольствию, она, сука, оказалась красавицей. Обидно. Но это моим мозгам было обидно. Они жаждали мести самой для женщины жуткой, они хотели опошлить, осквернить, очернить красоту строгого лица с правильными чертами, будто чеканным, с золотого соверена профилем. К черту мстительный разум!
Мои глаза, действуя автономно, уже срывали с москвички кокетливо-короткий пушистый жакет из дохлой норки, юбку, кофточку, колготки, французское кружевное белье… И вот они уже наглаживали густые, черные как вороново крыло пряди, плескались и тонули в темных, манящих омутах глаз, ласкали устами попеременно то тяжелую, будто уставшую, грудь с твердыми крупными сосцами, то в шелковистых волосиках тщетно укрывавшееся лоно… Разум возмутился: откуда у глаз уста? Плевать на разум возмущенный!
Я перевел взгляд на Жоан Каро и мгновенно забыл о ее переводчице. Господи, прости мою душу грешную… Хотелось перекреститься, но я сдержался, зная по опыту — мне это теперь не помогает. Да и раньше…
Она махала мне рукой. Она улыбалась. Нагая. Обворожительная. Желанная. Как во сне… несоизмеримо желаннее, чем во сне, мечте или кошмаре. Но все происходящее одновременно и было кошмаром. Я не видел одежды. Возможно, я не видел даже женщины. Я видел свое собственное одушевленное, материализовавшееся желание во плоти. В образе француженки… москвички… Значит, забыл я ее ненадолго? Совсем не забыл. Они вдруг слились для меня в единый, страстно желаемый образ. Они… они ждали на углу Дзержинского и Грязнова. А я… я приближался к ним медленно. Потому что каждый шаг мой отдавался болью в паху… Черт побери, я слышал, бывают и переломы, а это весьма неприятная травма. Уж лучше топором по голени…
— Бонжур! — прокартавила продюсер.
— Здравствуйте, то ли перевела, то ли просто по-человечески поздоровалась переводчица.
Я остановился, прикрывая сумкой с инструментом все, что у меня выпирало ниже пояса. Я улыбался Жоан. Я улыбался Анне. Я любил их обеих.
— Вы очаровательны! — сказал я им и, уронив сумку, прижался губами к узкой крошечной ручке Жоан и чуть крупнее, но идеальной формы — Анны.
Руки были разными, как сами женщины, даже вкус, запах и цвет имели различный, но одинаково пьянящий… Задержал я их, пожалуй, дольше, чем предписывали приличия. А когда наконец оторвался, словно всплыл на поверхность, увидел, что женщины улыбаются. Обе. Я, кажется, покраснел. Не знаю, было ли это заметно, но я почувствовал, как кровь волной прилила к лицу. И не к одному только к лицу… И не одна только кровь…
Я уже не говорю об эрекции, она не прекращалась теперь ни днем, ни ночью. Но, похоже, я был близок к семяизвержению. Глобальному. Еще чуть-чуть, и я бы затопил спермой улицу Грязнова вместе с домами, надворными постройками и ни о чем не подозревающими обывателями. Они бы утонули, так и не догадавшись, в чем. Решили бы перед смертью, что террористы подорвали плотину Иркутской ГЭС и вода из водохранилища хлынула в город. Это была бы не вода, нет…
И еще я вдруг заметил, что обе женщины тоже смотрят на меня с вожделением. Я не обольщаюсь, нет. Огромные насыщенно-зеленые глаза француженки закатились, нежные чувственные губы чуть приоткрылись, а дышала она, словно после пятикилометровой пробежки. Тяжело она дышала. Анна оказалась куда сдержанней, но и ее ночные очи потеряли осмысленность, а пальцы, я успел это ощутить, когда целовал руку, чуть подрагивали. И рот… Почему они приоткрывают рот? Не знаю. Не хочу знать. Пусть останется эта загадка неразгаданной. Женщина всегда должна оставаться загадочной. А предназначение мужчины — разгадывать ее загадки одну за другой, но никогда не разгадать до конца. Потому что в сердце женщины, в ее сумрачной душе — бездна. И можно разбиться к черту об острые камни несуществующего дна, а понять насквозь — нет, нельзя…
Они приходили в себя. Переглянулись как-то… не знаю, понимающе, что ли? Они понимали друг друга не только потому, что могли общаться на одном языке — французском, но еще и потому, что знали тайный язык, женский, скрытый от любопытства мужчин за семью заговоренными печатями.
Они перекинулись парой картавых фраз и рассмеялись задорно. Наваждение схлынуло, но я знал, стоит лишь прикоснуться и… ладно, проехали.
Но оказалось, нет, не совсем. Станция Приязни, переход на станции Любви и Секса…
Анна коснулась моего запястья, словно током ударила, и руки не убрала.
— Я не стала говорить, — сказала с улыбкой, — что вы звонили ночью, Андрей… — Она смутилась. — Точнее, сказала, но про ваши объяснения в любви умолчала.
Я не знал, как реагировать. Не знал, хорошо это или, наоборот, скверно. А переводчица продолжала:
— Вы ей нравитесь… как мужчина… — Вдруг отдернула руку, будто обожглась, потупилась, но произнесла все-таки почти шепотом после порядочной паузы: — Мне тоже…
А Жоан смотрела на меня в упор, растворив, как ставни, глазищи, и я тонул в этих омутах, подернутых зеленой ряской…
Ну что ты смотришь, моя? Что?
Она будто меня поняла, услыхала невысказанное. Затараторила, как сорока, на почти неземном, почти инопланетном своем — французском.
— Она вас спрашивает, эта сучка, — сказала переводчица, с лучезарной улыбкой взглянув на Жоан, — все ли вы приобрели? Хватило ли денег?
Я усмехнулся. Нормально. Даже если мужик на хрен не нужен, раз пошла конкуренция, невольно вступаешь в соревнование.
— Скажите ей, Анна, что денег хватило, все купил. Пойдемте!
Я сделал широкий жест в направлении калитки и, когда мы прошли во двор, жест повторил.
— Вот доски, а краска и остальной материал — в доме. Я договорился с хозяином. Буду здесь работать.
Жоан, выслушав перевод, снова заговорила.
— Она спрашивает, знаете ли вы, что снег привезут рано утром…
— Знаю, — перебил я Анну. — Меня художник-постановщик уже ввел в курс.
Было задано еще несколько ничего не значащих вопросов, и до меня дошло наконец, что во встрече со мной у продюсера никакой необходимости не было. Не его это работа. Контролировать меня обязан Гриша Сергеев, художник-постановщик, с него и спрос. Значит, приехала она только для того, чтобы… ладно.
Перед тем как уйти, Жоан ткнулась губами в мою щеку, а потом со вздохом нежно, едва касаясь, провела пальцами по ней же, обозначая, вероятно, стирание несуществующих следов помады. Анна при этом, плотно сжав губы, отвернулась.
Они ушли к машине, рядом с которой водителя я не увидел. Жоан села за руль. Интересно, она тоже обратила внимание на вчерашнюю, глумливую до предела ухмылку шофера? Может, потому и отказалась от него, сама села за руль взятой напрокат европейской иномарки?
Они ушли, а я остался, размышляя: что с бабами вокруг меня происходит? Взбесились от недостатка мужской ласки? Или дело не в бабах, а во мне самом? Может, я похорошел неожиданно? Или запах испускаю неотразимо-сексуальный? Слышал, что это наукой доказано, одеколон с духами вроде даже такие есть…
Я принюхался. Пахло дерьмом. Или я руки не помыл? Понюхал руки — нет, не пахнут. Вероятно, все ж таки вонь не от меня, а от хозяйского сортира.
Я вошел в него. Запер на шпингалет дверь. Спустил штаны. И через минуту сбросил в обгаженное очко разом сто пятьдесят миллионов своих не родившихся отпрысков…
Теперь обыватели с улицы Грязнова не утонут. Все как один останутся живы.
ГЛАВА 19 Удар молнии
Оставшись один, я принялся красить бетонные столбы, срывать с домов нумерацию, отскребать бумажные ошметки, оставшиеся от рекламы и после последних выборов. Вообще-то я собирался начать с самой объемной работы — строительства пятиметрового забора, но после поллитровки «белой» подобревший хозяин предложил сколотить забор сам. Выдал мне алюминиевую лестницу-стремянку, и я отправился на улицу.
Когда часа через полтора я вернулся, все закончив, хозяин к забору даже не приступал. На мой вопрос он ответил, что успеется, до четырех утра будет стоять, и чтобы я не волновался.
Уходя проведать раненого Борю Кикина, я волновался все равно. Зря я переложил часть работы на кого-то, пусть и добровольца. Он передумает или по какой-то другой причине не сделает, а спросят потом с меня. Я решил перестраховаться, прийти сюда не к четырем, когда привезут снег, а на час-полтора раньше. Если забор стоять не будет, сколочу по-быстрому…
Дверь мне открыл Стас и, вместо «здрасте», спросил:
— Ты в электричестве рубишь?
В электричестве рубил я не очень, я же, в конце концов, не электрорубильник. Но два провода соединить могу. Если они, конечно, не под напряжением…
Я пожал плечами.
— На бытовом уровне.
— Пошли на кухню, — сказал Стас, и мы пошли.
Все здесь было по-прежнему, не считая того, что Стас похозяйничал — убрал со стола объедки, помыл посуду и полы. Молодец. Вот от кого не ожидал. Плохо я про людей думаю.
Стас притворил дверь и повернулся ко мне.
— Голос у тебя громкий. Бориса разбудишь. Он заснул недавно, пусть спит.
Ишь, заботливый какой… А голос у меня нормальный, и не повышал я его совсем.
— Как Боря себя чувствует?
— Так себе. — Стас стал помешивать суп в кастрюльке, что кипела на газовой плите. — Сам увидишь… Я телевизор, понимаешь, ему принес, чтобы не скучал. Лампочки перегоревшие везде поменял, а света нет. Посмотри, ладно?
И Буратино из своего теплого угла кивнул мне отсутствующей головой: «Скучно без света, Андрей. Посмотри, пожалуйста!»
И глиняная голова мертвого шамана подмигнула панибратски неживым, желтым зрачком: «Посмотри, Андрюха, не поленись!»
Я не мог им отказать.
— Инструмент Борис где хранит, не знаешь? Пассатижи нужны, отвертки, изолента.
— Я спрашивал. В шкафу в дальней комнате, где он Бурхана рубил этого чертова.
— Ясно.
В большой комнате увидел я не Бориса, а ворох ватных одеял, довольно драных. Мерз, наверно, Борька, и Стас его от души укутал с головой. Как бы не задохнулся…
В комнате-мастерской Стас тоже похозяйничал. В хорошем смысле. Смел кровавые опилки, а испорченный столб откатил к неначатому бревну, на которое я, помня вчерашние свои ощущения, старался не смотреть. Впрочем, никакой посторонней энергетики я не чувствовал. Может, и вчера она мне померещилась?
Распахнув дверцу обшарпанного шкафа, я нашел пассатижи и отвертку, а на дне ящика отыскался початый моток черной изоленты.
Заглянул на кухню. Стас нарезал лук. Буратино мечтал о голове. Глиняная голова — о Буратине. Неодушевленные гипсовые слепки, сбившись на краю стола в кучу, тщетно мечтали о невообразимом гипсовом Рае. В связи с Борькиной травмой их мечтам, возможно, не суждено было сбыться…
Смеркалось.
— Стас, свечку подержишь?
Он отложил нож в сторону.
— Конечно, — ответил, плача. Луковые слезы текли по щекам, покрытым классической трехдневной щетиной. Хорошо одетый, красивый, импозантный, он подходил убогой кухонной обстановке, как корове седло. — Где свеча?
— У Бориса в ногах. Если не догорела.
Догорела, но не до основания. Через минуту Стас держал в руке двухсантиметровый огарок свечи. Зажженный. Я открыл дверку. Счетчик как счетчик. Похож на все остальные. Советских еще времен. Перепутанные провода, три пакетника с переключателями из черной пластмассы. Хрен знает, что там не так? Я не знал, но запах горелой проводки в коридоре ощущался явственно.
Если отгорел провод и элементарно отсутствовал контакт, я еще способен был что-то исправить, но если дело в пакетниках или в самом счетчике, тогда — пас. У меня и приборов нет, да и не смыслю я в них ни фига. Тогда специалист нужен, электрик.
Света не хватало. Я отобрал у Стаса свечной огарок, взял в одну руку, а другой решил подергать провода. Может, найду обрыв?
— Так я пойду? Лук с морковкой надо обжарить, суп для Бори доварить.
— Иди. Понадобишься, позову.
Стас ушел, а я, перво-наперво, отключил все пакетники от греха подальше. Я же не псих под напряжением работать.
Дернул пассатижами один провод, другой — неудобно. Бросил пассатижи на пол. Резиновые перчатки бы… ладно. Электричество же я отрубил.
Засунул правую руку в перепутанный клубок проводов и…
Последнее, что я помнил, был слепящий глаза блеск, острая, нестерпимая боль в правой руке, передавшаяся всему телу, и, одновременно, неуместные рядом с болью восторг и эйфория. Странно…
Я открыл глаза и увидел перед собой красноватую глинистую почву с редкими травинками. По одной из них карабкался, быстро перебирая членистыми лапками, бледно-рыжий, почти прозрачный муравей. Не знал, что такие бывают… Впрочем, к моей основной профессии биология отношения не имеет. Никакого. Разве что морских животных, да и то отдаленное. А это не морж, не кит, даже не крикливая чайка. Знать про сухопутного муравья — не моя обязанность…
От созерцания насекомого меня оторвал голос, заунывно причитающий что-то на чужом восточном языке. Опершись на ладони, я чуть оторвался от земли, посмотрел. В пяти шагах от себя я увидел Доржи, братского татарина, провожатого и толмача, нанятого в Иркутском остроге по сходной цене два месяца назад. Он стоял на коленях и отбивал поклоны, бормоча, вероятно, какую-то свою языческую молитву. Доржи меня не замечал, глаза его закатились настолько, что я не увидел черных зрачков. Лицо его выглядело неприятно — застывшее, словно у античной латинской скульптуры, со слепыми, невидящими глазами.
Я захотел сесть, движение вызвало резкую боль. Я не понимал, как оказался на земле, не помнил, где я. Все ж таки с горем пополам мне удалось, превозмогая муку, приподняться, поджать под себя ноги и сесть, опершись отставленной рукой о землю.
— Эй, Доржи! — позвал я. — Ты меня слышишь?
Он замер на подъеме с поднятыми над головой руками. Зрачки его вернулись в предписанное положение, теперь он меня еще и видел.
— Ай, Михал-нойон! — воскликнул Доржи. — Ты жив! Ай, Монгол-Бурхан!
В отсутствии бальных танцев биение поклонов для братских татар занятие, вероятно, чрезвычайно увлекательное, потому что толмач мой вернулся к нему с удвоенной энергией. Теперь я обратил внимание на то, что Доржи сидит не совсем ко мне лицом, а вполоборота, и поклоняется соответственно не мне, а чему-то или кому-то находящемуся рядом, чуть в стороне от меня. Я повернул голову и увидел вырезанную из лиственничного бревна языческую скульптуру монгольского идола Бурхана, которую я изучал некоторое время назад. Перед тем как… Дальше был обрыв. Я не помнил, что, собственно, произошло со мной, когда я стоял на покатой вершине скалы над Байкалом на острове Ольхон, к северу от татарского улуса Хужир. Я стоял и рассматривал, как сообщил мне толмач, Монгол-Бурхана. Скульптура была выполнена мастерски и отличалась неевропейской, дикой какой-то красотой. Два глаза навыкате, третий, на лбу, прищурен. Над ним — обрамление из пяти человеческих черепов в ряд. И клыкастая пасть, широко раскрытая, оскаленная, будто для того, чтобы проглотить зрителя…
Жуткое, богомерзкое зрелище для православного христианина. Хотелось перекреститься истово и прочесть вслух «Символ веры», но я почему-то этого не сделал. Показалось мне почему-то, что здесь, на братской земле, это не только неуместно, но и бесполезно…
— Ай, Михал-нойон! — вывел меня из состояния, близкого к трансу, выкрик толмача. — Ай, богдо Михал-нойон, ты жив!
Трудно дворянину привыкнуть к панибратскому «тыканью» братского татарина-плебея. Но, во-первых, «богдо» у людей желтой веры, кажется, означает «святой». Во-вторых, я был предупрежден иркутским губернатором, что в языке дикарей-аборигенов отсутствует уважительное обращение к старшим и вышестоящим. Они «тыкают» даже языческим идолам, коим поклоняются со всей страстью несчастного, нечестивого народа, лишенного Божьей милости иметь истинную религию…
И тут до меня дошел смысл восклицаний татарина. Не в первый уже раз назвал он меня «нойоном», то есть сановником, господином, начальником, чего не делал раньше. И еще он констатировал, что я жив. Почему? Я что, был близок к смерти, мог умереть?
— Что произошло, Доржи? — спросил я. — Почему я очутился на земле?
— В тебя попала молния, мой господин! — с восторгом ответил братский. — Мэргэн Хухердэй-тэнгри отметил тебя своей милостью! Ты теперь шаман, мой господин!
Шаман… Я усмехнулся. Штурман в роли дикого шамана в ранге капитана! Какая чушь, Господи… Я захотел перекреститься, но почему-то снова не сделал этого. Господь Бог православный, не оставь раба Своего, Михаила Татаринова!
Я попытался встать с земли, Доржи подскочил, подхватил меня под руку.
— Отставить, — резко сказал я, и тот не мог не повиноваться металлу в голосе русского морского офицера.
— Ай, богдо Михал-нойон, прости меня, недостойного, за то, что коснулся тебя! — Он отступил, пятясь, в сторону.
— «Богдо» на братском языке значит «святой»? — спросил я.
— Да, мой господин, — ответил толмач с поклоном.
— Как не стыдно, Доржи! Ты же крещен в истинную христианскую веру! Как ты можешь называть меня святым? Это грех!
— Прости, Михал-нойон.
Он потупился, и я вдруг осознал, что это не священники-миссионеры плохо работают, просто дикарь не способен познать своим нищим рассудком Промысел Божий, и для все братских татар православие не что иное, как фикция, мимикрия, желание быть ближе к белому человеку с его деньгами, силой и властью. И будет так еще долго, не одно поколение, пока народ не образуется, пока не познает смысл истинной веры и естественных наук, пока не откажется от своих сатанинских языческих идолов, как давным-давно, во времена Святого Равноапостольного князя Владимира отказались от них мы, русичи…
— Я не в обиде на тебя, Доржи. Я не святой, и касание меня не есть сээр… — Я засомневался в правильности употребления братского слова, означающего, как он мне толковал, «грех, запрет, табу». — Доржи, можно ли в этом случае употребить слово «сээр»?
— Да, мой господин.
Удовлетворенный, я попытался встать, но члены мои затряслись, обессилели вдруг все разом, и, едва поднявшись, я снова рухнул наземь, как неживое бревно — плашмя, лицом вниз…
ГЛАВА 20 Погребальный костер
Последнее, что я помнил, был слепящий глаза блеск, острая, нестерпимая боль в правой руке, передавшаяся всему телу, и, одновременно, неуместные рядом с болью восторг и эйфория. Странно…
Я открыл глаза и увидел перед собой деревянный пол, покрашенный темно-коричневой, растрескивающейся от времени краской, из-под которой проглядывала другая, более светлая, а в одном месте так вообще грязно-серое дерево вокруг шляпки гвоздя. Вдоль плинтуса полз с ноготь размером таракан. Он был странный, я таких раньше не видел. Может, альбинос или мутант? Таракан был, как стекло, прозрачен, сквозь хитиновые крылья просматривались его внутренние органы. Да много, целый запутанный клубок! Я подивился: мелюзга мелюзгой, а вон как сложно организм устроен, не хуже, чем у какого-нибудь млекопитающего…
От созерцания насекомого меня оторвал голос, заунывно причитающий на родном языке, великом и могучем:
— Да что же это, Господи, делается?.. За что мне это наказание?..
Я узнал голос Стаса и попытался подняться, но члены мои, трясущиеся и обессиленные, не слушались. Стас, впрочем, оценил мои попытки, вздохнул с облегчением.
— Живой, слава богу… Ну, поднимайся, поднимайся, давай!
Он подхватил меня под мышки и легко поставил на ноги. Но, когда отпустил, колени мои подогнулись, я пошатнулся и, чтобы не упасть, ухватил Стаса за плечи.
— Э-э-э, да тебе в постель надо! — поставил диагноз Стас и повел меня, придерживая бережно, но не в постель, а на кухню, где усадил на стул.
Да и не было другого дивана в Борькиной квартире, один голый пол. Темно-коричневый, потрескавшийся. Теперь я это знал. И еще я знал что-то важное, но вспомнить не мог. Ускользали воспоминания. В голове была манная каша, слипшаяся в невкусные куски. И, главное, воспоминания эти были где-то близко… как локоть, который не укусишь. И еще я знал: после того как меня ударило током, очнулся я не в первый раз. И не током меня ударило, хотя и током тоже, но не из счетчика. Тогда откуда? Что я несу?
— Что ж ты голыми руками под напряжение полез? — спросил Стас.
— Так я электричество отключил сначала. То есть думал, что отключил.
Стас хлопнул себя ладошкой по лбу. Звонко у него получилось.
— Это я виноват, дурак! Это я тебя чуть не убил!
— Как так?
— Я, понимаешь, думал, пробки погорели. А пробки я и сам заменить могу. Заменил. Бесполезно. А перед этим тоже щелкал пакетниками…
Вот, значит, как дело было… Он щелкал и отключил. Я включил и полез руками. Молодец. Молодцы оба.
Чувствовал я себя, кстати, совершенно здоровым, дрожь унялась, а о слабости я и думать забыл. Какая, к черту, слабость?! Готов сию минуту горы свернуть!
Я посмотрел на правую ладонь, получившую электроразряд, сначала с тыльной, потом с внутренней стороны — никаких следов. Странно…
Я знал, куда мне надо. Встал.
— Ты чего? — всполошился Стас. — Сядь немедленно!
— Нормально, Стас, больше не упаду, — отмахнулся я и решительно направился в комнату-мастерскую.
Я смотрел на неначатое бревно у стены… нет, не смотрел. Не просто смотрел. Я пытался с ним говорить. Я обращался к нему, как к живому существу… снова не так. Оно было, конечно, живым, и существом тоже было, но… не так, как мы, смертные, по-другому как-то.
«Здравствуй, Бурхан», — мысленно сказал я бревну. Оно мне не ответило. Я знал почему. Не пришло еще время говорить со мной. Нет, не пришло…
Я зевнул. Хотелось спать. Очень.
Я распрощался со Стасом, вернулся домой, поставил будильник на два часа и лег в постель. Время детское, но надо выспаться. Завтра меня ждал трудный день.
Я зевнул, не помню в который раз. У меня уже скулы сводило от зевоты…
Как только закрыл глаза, но до того, как провалиться в сон, а скорее всего, на грани сна и яви, я увидел себя стоящим одновременно в Борькиной комнате-мастерской и на скалистом берегу острова Ольхон. Я видел лиственничное бревно, врытое в красновато-желтую почву. Ощущал затаенную пульсацию внутри него. Различал несуществующие черты лица… нет, скорее морды Бурхана, пугающей, клыкастой, со зловещим прищуром третьего глаза в его лбу, в обрамлении пяти человеческих черепов…
Я чувствовал эйфорию и страх. Тоже одновременно.
И сон, как ворох драных ватных одеял, накрыл меня с головой…
Я сидел на переднем сиденье японской иномарки. В свете фар мелькали по обе стороны дороги голые березы и осины, черные кроны хвойных деревьев, по обочинам белел снег, а ровная лента Байкальского тракта разворачивалась под колесами с ужасающей скоростью.
Я посмотрел на водителя. Тот клевал носом, едва не утыкаясь в баранку руля. Понять его можно — дорога долгая, встречные машины отсутствуют, а асфальт свежий, неразбитый, без рытвин и ухабов. Байкальский тракт городские власти содержали в образцовом порядке. По нему нет-нет да и могло проехать какое-никакое облеченное властью лицо московской национальности, вплоть до первого лица федерации. Президентские апартаменты неподалеку на байкальском берегу…
Понять водителя — одно, оправдать — другое. Что он, в конце концов, дурак? Почему спит? Зачем гонит? Жить надоело?!
За мерным гулом движка и шелестом резины об асфальт я даже не услышал, ощутил присутствие за спиной еще кого-то. Понял вдруг, кого именно. Обернулся — точно. На заднем сиденье дремал Марко Ленцо, второй режиссер, а уткнувшись ему в под мышку, вероятно, вонючую, спала Катерина, переводчица-москвичка. Самое неприятное то, что Марко обнимал ее плечи, и Катя не возражала — не влепила наглецу пощечину, не пожаловалась в милицию, как это теперь модно в Европе и Америке, на сексуальные домогательства… То, что она заснула, ее не оправдывало. Ничуть.
А этот Марко, каков подлец! Прикинувшись безобидным студентом Сорбонны, воспользовался служебным положением на заднем сиденье и облапал мою лапочку! Да и лапочка нисколько не лучше. Ишь, разлеглась, хамка столичная, того и гляди, захрапит сейчас!
И водитель, натурально — скотина, за рулем спит, угробить хочет пассажиров!
Я вдруг осознал, что ненавижу всех троих лютой ненавистью, не могу контролировать свои чувства да и не желаю.
Машина стала набирать скорость, и без того близкую к критической.
Пара на заднем сиденье в полусне потянулась друг к другу. И вот уже Катерина, будь она неладна, проведя ладошкой по щеке итальянца, прижалась к нему тесно-тесно, а он, не проснувшись даже, склонился над ней, и губы их встретились…
А я сидел, как дурак, на переднем сиденье рядом с придурком-шофером и желал, чтобы они сдохли. Потому что в моем мире, моем сне… А я понимал, что все происходящее — сон, не более… Так вот, в моем сне я — царь и бог, и все должны играть по моим правилам! И я не позволю им, марионеткам, своевольничать. Нет, не позволю!
Марко Ленцо и Катерина целовались, водитель спал, машина мчалась, а я покинул салон и воспарил над всем этим безобразием…
Впереди с крутой сопки, поросшей березняком, по грунтовому отвороту, которого никогда не существовало наяву, наперерез японской иномарке на хорошей скорости ехал отечественного производства порожний «КамАЗ». Кабина его была пуста. Успеет или не успеет?
Мне захотелось, чтобы самосвал оказался груженым. Чего порожняком-то гонять?
Теперь с крутой сопки, которая была всегда, по грунтовому отвороту, которого никогда не было, мчался под прямым углом к Байкальскому тракту большегрузный самосвал, затаренный под завязку желтым песком. Успеет или не успеет?
А они уже целовались взасос, и итальянский кобель, поправ остатки приличий, уже запустил руку под одежду и тискал, как тесто мял, грудь московской сучки…
Смерть им! Смерть!!!
Водиле, коренному сибиряку, снилось что-то невнятное, бессюжетное, но приятное. И мама была жива, и сам он был маленьким, пятилетним — ковырял песочек в песочнице, безобидный такой… Мне стало его жаль. Он-то при чем? Пусть живет. Ладно.
«КамАЗ» чуть-чуть, незаметно для глаза, притормозил. И я заволновался: успеет или не успеет?
Итальянец с москвичкой не отрывались друг от друга уже несколько минут. Пусть целуются. Пусть умрут в объятиях. Красивая, романтическая смерть.
Но все-таки успеет или не успеет?
Самосвал, груженный желтым песком, успел. На звуковой почти скорости врезался в бок иномарки ровнехонько в заднюю дверь. Тонкий металл деформировался, сплющился, и легковой автомобиль, как пушинку, бросило через кювет, на голые осины и березы, на черные кроны хвойных деревьев. Несколько раз перевернуло…
Водитель чудом почти не пострадал. Десяток ушибов и царапин не в счет. Он успел выбраться из машины до того, как она загорелась. Мгновенно. Он стоял в десятке шагов и смотрел, как огонь пожирает тела Марко и Катерины, а души их вместе с клубами смрадного дыма и копоти поднимаются в черные, усыпанные звездами небеса… Красивая смерть, романтическая… Мне стало их немного жаль, но — сами виноваты…
Самосвал отечественной фирмы «КамАЗ» попросту исчез, впрочем, его никогда и не существовало. А водитель существовал. Сонный, очумевший, не понимающий, что произошло, он достал сотовый и стал набирать короткий номер. Вероятно, загробного мира, чтобы там готовились к торжественной встрече новопреставленных… Хотя, почему загробного? Нечего хоронить будет в гробу. В Москву и Рим отправят урны со смешанным прахом москвички, римлянина и синтетической обшивки салона недорогой японской иномарки… Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Мне сделалось неловко за собственный цинизм. Я захотел проснуться, но не смог, потому что не спал. Я витал над пожарищем — лес вокруг занялся, и одновременно лежал в своей квартире на третьем этаже стандартной хрущобы. Сквозь потолок, два жилых этажа и шиферную крышу я видел звездное небо. Вечернее еще. Даже не глядя на часы, я знал, что нет десяти.
А звезды были далеко-далеко, за многие миллиарды парсеков, и одновременно — рядом, рукой дотянуться можно…
И сон был не совсем сон, хотя и сон тоже…
И я был не совсем я, хотя оставался самим собой и в постели своей квартиры, и в образе бестелесного духа, витавшего над Байкальским трактом, над погребальным костром…
ГЛАВА 21 Форверц, Андрэ!
Звонок на сотовый не застал меня врасплох. Я чуть привстал и заранее взял телефон со столика у дивана. Я знал, кто ищет в записной книжке мой номер, но не подозревал, какую мелодию исполнит на этот раз мой непредсказуемый электронный аппарат. Хорошо бы, что-нибудь в тему.
И он не обманул ожиданий, заиграл, глухо бухая ударными и подвизгивая духовой медью, похоронный марш по Марко и Катерине. Я не сразу нажал кнопку с зеленой трубкой, послушал, проникся скорбью… Чушь, конечно. Мне просто приснился сон. Сон и только. Если бы сны имели обыкновение сбываться, мир давно бы перестал существовать. Мало ли что привидится раздраженному, злому человеку? Я, например, когда переем на ночь жирного или, хуже того, с перепоя, регулярно вижу во сне Светопреставление в таких, порой, извращенно-садистских формах, что Иоанн Богослов со своим Апокалипсисом отдыхает, не серьезнее он пацаненка в песочнице с игрушечной лопаткой…
Я взглянул на дисплей. Так и есть — Анна Ананьева, переводчица-москвичка.
— Слушаю вас, Анна.
— Добрый вечер, Андрей.
Ага, добрый… Двух человек я только что укокошил и спалил живьем. Пусть и во сне. Добрее не бывает.
— Хотя, как сказать, добрый… — продолжила переводчица, будто меня телепатически подслушав. — Дело в том, что директор фильма уволен…
— Я слышал эту историю.
— У французов, кстати, в штатном расписании нет никакого директора, есть помощник исполнительного продюсера… Так вот, завтра из Парижа вылетает в Москву новый, чех по национальности, со знанием русского языка и российских условий. Но пока он доберется до Иркутска, мадемуазель Каро выкручивается одна… Как у вас, Андрей, с подготовкой улицы?
— Все о’кей, — блеснул я своим отсутствующим английским.
— Хорошо. Если вы свободны… — Анна Ананьева сама себя перебила: — Нет, надо рассказать все по порядку. Два часа назад режиссер с оператором-постановщиком были на натуре, которую будут снимать сразу после вашей улицы, тем же утром. Оператор требует, чтобы в одном месте росло три елки.
Я не мог уяснить, что им от меня-то надо?
— Ну и пусть растут. Я-то при чем?
— Там их нет, — пояснила москвичка нервно. — Надо их где-нибудь поблизости срубить…
— Срубил он нашу елочку под самый корешок! — пропел я прочувственно.
Анна не прореагировала. Вероятно, у маленьких москвичей в новогодние праздники принято петь совсем не те песенки, что у русских. Вероятно, они поют: «Джингл бэлс, джингл бэлс…» или какую-нибудь другую североамериканскую фигню…
— Повторяю: надо срубить три елки и поставить их туда, куда указал оператор. Для ракурса.
До меня наконец дошло:
— Понял. Жоан хочет, чтобы я это сделал!
— Вообще-то это работа художника-постановщика, вашего земляка, но я уже час не могу до него дозвониться. Если вы не хотите, чтобы у него возникли неприятности…
Я разозлился. Что эта Ананьева говорит со мной, как с врагом каким-то? Обиделась? Ну так хрен с ней.
— Анна, не надо меня пугать. Я все и без того сделаю. Завтра сразу после съемок улицы Грязнова поедем и…
— Исключено, — отрезала вредная москвичка. — Все должно быть сделано сегодня.
— Я все успею утром. Какой смысл ехать на ночь глядя?
— Никакого, — согласилась Анна. — Но Жоан сразу же заплатит вам сто долларов. Много времени займет срубить три двухметровых елки и переставить их на десять метров?
— В час уложусь.
— Мадемуазель Жоан вас увезет, подождет, пока вы работаете, и привезет обратно. Сто долларов. Вы согласны?
Я, конечно же, был согласен. Я бы и даром все сделал ради очаровательной француженки. Но если предлагают деньги… Бьют — беги, дают — бери. Народная мудрость. Жоан же их не из собственного кармана платит. Не мне, так кому-то другому.
— Когда вы за мной заедете?
— Заедет за вами мадемуазель Каро. Ананьева была раздражена, и это было заметно. — Мне-то там что делать? В какое место переставить елки, она вам покажет. Догадаетесь, надеюсь?
Я даже ответить ей забыл… Значит, Жоан будет одна… Интересное кино. Я, она, ночь и сибирская заснеженная тайга. Многообещающее начало… А дальше — видно будет. Чем черт не шутит… Действительно, чем?
А с Анечкой можно встретиться отдельно в менее экзотической обстановке…
Теперь, после кошмарного сна с двумя заживо сгоревшими телами, я почему-то был — само вожделение. Даже и не подозревал в себе подобной некрофилии.
— Так вы согласны? — прервала мои мысли москвичка.
— Да, — ответил я коротко, потому что и без того, как паровоз, с присвистом сопел в трубку.
— Жоан не знает города. Вы могли бы подойти на угол улиц Дзержинского и Грязнова через полчаса?
Переводчица отвела, вероятно, сотик от лица, и я услышал отдаленные голоса на неземном, галльском. Анна Ананьева, догадался я, говорила продюсеру о моем согласии. А чуть позже — восторженный голос Жоан:
— Бонжур, Андрэ!
— Бонжур, мадемуазель! — ответил я, чем почти полностью исчерпал свой словарный запас на инопланетном, французском. На самый крайний случай для поддержания беседы у меня оставалась фраза Кисы Воробьянинова из «12 стульев»: «Мсье, же не манж па сис жур…», но к конкретной ситуации она подходила не очень…
Через двадцать минут я стоял на углу улиц Дзержинского и Грязнова, экипированный по-рабочему в зимнем варианте: белый длиннополый тулуп, валенки, мохнатая шапка-ушанка из шкуры седого северного волка. В сумке при ходьбе позванивал инструмент.
В назначенное время подкатила Жоан Каро за рулем арендованного «шевроле». Она улыбалась, но это ни о чем не говорило. Улыбалась она любому собеседнику. Врожденная западная толерантность… Честное слово, не знаю, что хорошего в этих показушных улыбках? Не верю я белозубым евро-американским улыбкам. Это реклама личного дантиста, не более.
Очень надеюсь, что Жоан Каро не стоматолога рекламировала, а действительно рада была меня видеть. Встреча наша состоялась по ее инициативе, а то, что мы остались наедине, — тем паче.
— Гутен таг! — невпопад сказала она с улыбкой.
— Гут морген, — ответил я, дабы соответствовать мировому беспределу современности. Забросил сумку с инструментом на заднее сиденье, а сам устроился на переднем рядом с Жоан.
— Андрэ… — прошептала она, проведя ладонью по моей шершавой щеке.
Черт, побриться-то я не догадался, думал — руками буду работать и только…
— Дорогу-то знаешь? Не заблудимся? — спросил я грубовато и вдруг добавил неожиданно для себя самого: — Чего ты, Жанка все лыбишься да лыбишься, как Параша перед получкой?
Она рассмеялась смехом звонким, как колокольчик под дугой русской тройки.
— Нихт Жанна! Их хайсе Жоан!
— Не хочешь Жанкой, будешь Жоанкой, — согласился я.
— Нихт ферштеен, — сказала она и рванула с места «шевроле» так, что меня отбросило на спинку сиденья. Темпераментная женщина. Даже резкая. — Форверц, Андрэ, форверц!
Жоан Каро тоже, наверно, учила в школе немецкий язык и, как и я, имела твердую оценку «удовлетворительно». Так что я ее хорошо понимал. На ту же отметку. Но теперь она перешла на родной, закартавила мелодично. А у меня неожиданно стало нестерпимо жечь во лбу, закружилась голова, и я, похоже, потерял ненадолго сознание. А когда оно вернулось, я чуть снова его не потерял, потому что… Потому что то, что произошло, не могло произойти. По всем законам человеческой природы происшедшее было попросту невозможно… Я слышал лепет Жоан и понимал все, что она говорит, не замечая иностранных слов. Мне казалось, что она перешла на русский.
— Такова жизнь, Андрэ, — говорила Жоан. — Обжигаешься молоком, дуешь на шампанское… Кажется, все вокруг дерьмо, куда ни взгляни. И все равно — мечтаешь, надеешься… А о чем мечтать, Андрэ? Все уже в прошлом, да и не было ничего хорошего. Ничего. Два неудачных брака, не считая гражданских, столь же неудачных. Аборты, выкидыши, разочарования, слезы… Да, была еще попытка суицида, почти удавшаяся. Разноцветные таблетки, однотонные халаты, клиническая смерть… Хорошие у нас врачи, иначе… Я все-таки католичка. Хотя не верю ни в черта, ни в дьявола, Андрэ! Ты слышал, а может, читал о жизни после смерти?
Ах да, ты же не понимаешь! Ты — варвар, не понимающий человеческого языка! И это хорошо. С тобой, с тобой одним я откровенна, Андрэ!
Так вот, все ложь, что описано в книгах: ангелы, туннель, ослепительный свет впереди как символ милосердного Бога… Чушь! Я видела дикую заснеженную равнину от горизонта до горизонта с высоким, до неба, черным деревом посередине. И на ветвях этого дерева — гнезда, гнезда, гнезда…
Правда, глупость, Андрэ? Ни на что не похожая глупость!..
В каждом гнезде лежит яйцо, в каждом яйце — человеческая душа зреет до поры… Ты спросишь, зачем? Не знаю. Не успела узнать. Меня схватила за шиворот огромная птица с железным клювом и оперением, подняла высоко-высоко, а потом отпустила. Я падала и падала, а земля все не приближалась и не приближалась. А потом я потеряла сознание и в себя пришла уже в реанимации, вся опутанная проводами и трубками…
Суицидных попыток не повторяла. Не хочу в снежную пустыню к черному дереву. Боюсь… Хорошие врачи. Они меня оттуда вытащили. Вот только зачем, Андрэ?
Жоан, усмехнувшись, добавила газа.
— Форверц, Андрэ, форверц!.. Ты знаешь, Андрэ, кто я? Я — старая больная обезьяна! И еще я — полная дура!
Захохотала вдруг и, бросив руль, провела, приласкала ладонями собственное тело, словно проверяя все его изгибы, от объемной груди до округлых коленок. Мне захотелось повторить ее движение своими руками.
— Если я и обезьяна, то не такая уж старая… тем более полная… правда, Андрэ?
Развернулась, подмигнула хитро. Левой рукой сняв с моей головы лохматую шапку, правой взъерошила волосы.
«Шевроле», привыкший, вероятно, к подобным выкрутасам отечественных мамзелей, несся себе, не сворачивая, без руля и ветрил.
Я улыбался Жоан. Я знал, что она может не касаться больше руля, аварии все равно не случится. Не знаю, откуда взялась эта уверенность, но она была. Я молчал, боясь, что, если отвечу, Жоан воспримет мою русскую речь как родную, французскую. Уверенности, что так и будет, не было, но нечто подобное казалось мне вполне вероятным.
Я молчал. Я улыбался. Я хотел ее нестерпимо остро. Я возбуждался от ее русских слов без всякого акцента, которые я не слышал, нет. Они самопроизвольно возникали в моем мозгу, и я хотел отгородиться от них, но не мог. Я словно подслушивал, потому что говорила Жоан себе самой, не предполагая быть услышанной кем-то, а мной — особенно. Но и сказать: «Замолчи, я все понимаю» тоже не мог, потому что пришлось бы как-то объясняться, а феномен оставался для меня самого загадкой. И Жоан продолжала, не ведая, что я понимаю каждое слово и то, что стоит за ним:
— Ты молодой красивый мужчина, Андрэ. И конечно, глупый. Именно потому, что молодой и красивый…
Она положила ладонь мне на колено, провела, остановив на бедре, и сжала так, что мне сделалось больно, а мышцы непроизвольно напряглись.
— О, ты еще и сильный, Андрэ! Это еще одно доказательство твоей глупости! Люди с сильным телом умными не бывают! Поверь опытной женщине, Андрэ, проверено неоднократно! Но мне не нужна твоя голова, Андрэ! Мне опостылели псевдоумные, беспомощные, седеющие подростки! Меня тошнит от их спеси и бессилия! Мне нужен ты, Андрэ! Твое молодое, сильное, красивое тело!
Не скажу, что мне было неприятно, но я чувствовал себя, вероятно, как конь на торгу, которого осматривает и ощупывает потенциальный покупатель. Да еще и ругает почем зря, чтобы сбить цену…
А мы выехали наконец на Байкальский тракт, и городские огни остались за кормой иномарки. Жоан чуть сбросила скорость. Выруливала одной рукой, другую позабыв на моем бедре.
Тракт был прям и ровен, встречные машины отсутствовали, а умный «шевроле» знал дорогу и, вероятно, не нуждался в водителе. Жоан бросила руль. Он ей мешал. Она впилась губами в мои губы. Она словно вошла через рот в меня. Я ощущал ее влажную и податливую плоть всюду. Наши тела каким-то немыслимым образом сделались одним телом обезумевшего андрогина. Любящего себя, ласкающего себя, отгородившегося от остальной Вселенной. Нелепой, излишней Вселенной…
И раскаленная ладонь жгла мне ляжку, приближаясь к цели…
…и одна моя рука оказалась у нее за спиной, а другая, нащупав грудь, обнаружила отсутствие лифчика. Он разве нужен? Кому?..
…и неуправляемая машина неслась во тьме, все набирая и набирая скорость. Куда?..
…и влажный единый рот обрел два языка, ласкающих друг друга…
…и одна ее рука боролась с молнией штанов, а другая ломала мне шею…
…и моя рука, освободив от трикотажа полную грудь, ласкала затвердевший, словно скованный сибирским морозом, обжигающий сосок…
…и член, словно сжатая пружина, упирался в жесткую джинсовую ткань под ладонью Жоан… до боли сжатая пружина…
…и губы ласкали морозный коричневый сосок…
…и я подумал остатками мозгов: откуда взялась у меня лишняя пара губ?..
…и языки сплелись клубком гадюк в период совокупления…
…и молния на джинсах растворилась, словно ударил гром…
…и губы ее впились в то, что было раньше пружиной…
…и я подумал: откуда у Жоан лишняя пара губ?..
…и поцелуи не прерывались, они длились и длились, распространяясь по нашим телам…
…и не осталось у слившегося тела мест, обделенных вниманием, нелюбимых; все было нежно заласкано — от разбухшей головки клитора до последней, жесткой пятки…
…и сосок имел кисло-сладкий вкус антоновского яблока из эдемского сада…
…и я откинулся на сиденье, извиваясь судорожно, потому что сквозь тело прошел электрический разряд…
…и ударила ли меня молния или электропроводка коротнула, разве важно?..
…и «шевроле» летел, не касаясь колесами асфальта…
…и звезды горели, словно неоновые рекламные огни большого Небесного города…
Блаженно улыбающаяся голова француженки лежала на моих коленях. С мокрыми губами, растрепанными белесыми прядями и чуть помутневшими глазами сытой кошки, Жоан Каро была счастлива в этот самый миг, а надолго или нет, разве имеет значение?
С елками я управился за сорок минут.
ГЛАВА 22 Забор зеленый, немаркий
Когда Жоан Каро припарковалась у моего подъезда, я, совершенно обессиленный, отрешенно смотрел прямо перед собой. Тупо. Без мыслей и желаний. Выжатый лимон, лимон, попавший под асфальтовый каток. Плоский.
Жоан была, напротив, посвежевшая, словно провела месячный отпуск на Лазурном Берегу…
Она что-то сказала. Я повернул голову.
— Вас ист дас? — спросил я.
Мне показалось, что кожа ее потемнела от загара под южным солнцем. Чушь, конечно.
Она ответила что-то на французском. Я не понял и порадовался этому, пусть и вяло. Я не знаю иностранных языков, и никогда не знал. И то, что мне показалось, будто я понимаю Жоан, — полный бред… Когда кажется, креститься надо… Не перекрестился. Ни к чему. Все, что мне померещилось, — плод больного, помешанного на сексе воображения. Сон разума рождает чудовищ. Не помню, кто сказал, но правильно сформулировал… И не бросала Жоан руля, и не мчалась неуправляемая машина по звездному небу, как по автобану… Это в голове у меня все мчалось, и особенно — ниже пояса. Это да. Неплохо прокатились…
— Фарен, Андрэ! Фарен инд капут! — сказала и улыбается, довольная кошка. Хорошенькая, помолодевшая… да нет, просто молодая. И грудь, и животик, и остальное — все ощутил, ощупал, оценил по высшему разряду.
Молодец, Жоанка!
Я улыбнулся, потому что вспомнил, как целый монолог за нее придумал, злой и циничный. Это нормально, это мои комплексы поработали, будь они неладны, а женщина здесь ни при чем. Совершенно. А у меня прямо-таки «Одиссея проститутки» получилась, Ги де Мопассан, честное слово…
— Капут так капут, — согласился я, открывая дверцу. — Ауфвидерзеен, Жоан!
— Наин! — Она заволновалась. — Нихт ауфвидерзеен, Андрэ! Дас ист дайне Хаус?
— Я.
— Дайне нумер! Шпрехен, Андрэ!
Я все понял. Жоан набивается в гости. Я не против, пусть. Сказал ей номер квартиры. А номер моего сотового она перенесла на свой, еще когда я с елками в лесу возился. Показывала потом, проверяла — мой или нет? Не ошиблась.
Отъехала Жоан лихо — с места рванула, полдома, наверно, перебудила… я взглянул на часы — в половине второго ночи…
Дома я первым делом открыл банку тушенки, на мой вкус, лучшей в России, производства Улан-Удэ. Буряты все ж таки исконные скотоводы. Даже десятилетия советской власти не сумели испортить качество фирменного продукта — тушеной говядины.
Жрать хотелось очень, до дрожи в пальцах. От мясного аромата закружилась голова. Первый сочный кусок я подцепил тем же ножом, что открывал банку, а уже потом взял ложку…
Отпустило. Я, сытый во всех возможных смыслах, опустился в кресло перед телевизором, но включать его не стал. У меня свое кино, более захватывающее, чем все, что может предложить Голливуд в ночном эфире. Я любой его сюжет по одному только заглавию предсказать могу. Любой сможет…
Спать не хотелось. Хотелось сворачивать горы. На худой конец — сколотить забор или разбросать пять «КамАЗов» снега. Впрочем, это удовольствие меня ожидало впереди.
Следовало пойти проверить, сколотил ли хитрый, рачительный хозяин пятиметровый забор? Или мне его делать придется?
Через двадцать минут я стоял на улице Грязнова и нарадоваться не мог на замечательный, новый забор, покрашенный к тому же темно-зеленой краской, как хотел оператор-постановщик. Но что-то с ним все-таки было не так, с забором. Я подошел вплотную, присмотрелся и расхохотался. Доски оказались бывшими в употреблении, все в дырках от старых гвоздей! Так вот, значит, почему хозяин вызвался мне помочь и почему не стал работать при мне! Он его из старой доски сколотил, а новую — присвоил. Для обшивки бани, наверно. Но мне-то все равно из чего, лишь бы забор стоял. А он на месте, потрогать можно — славный такой, двухметровой высоты, темно-зеленый, немаркий. Моего любимого цвета и размера…
Я посмотрел на наручные часы. До четырех утра, когда привезут снег, оставалось больше полутора часов, а делать мне на улице Грязнова было совершенно нечего. Морозец легкий — градусов пять-семь, но щеки все равно покалывало. Чтобы не мерзнуть, решил вернуться домой и прошвырнуться по Интернету. Да в ящик электронной почты не мешает заглянуть. Может, неизвестный доброжелатель прислал мне новое послание? О чем, интересно? После информации о шаманском дереве с яйцами и третьем глазу во лбу, чем еще может он меня удивить?
Проходя мимо дома Бориса Кикина, я увидел в его окнах свет. Это означало, во-первых, что Стас вызвал электриков, которые исправили электропроводку. А во-вторых, что Борис не спал. Надо проведать раненого товарища, тем паче делать мне больше нечего…
Дверь мне открыл Борис, причем довольно скоро. И повел меня на кухню. Я шел сзади и не верил собственным глазам. Он даже не прихрамывал. Как такое могло быть? Рану я видел, рана была ужасной, да и кость, Стас говорил, треснула. Прошло чуть больше суток. Не могла же она затянуться за это время. Не могла!
Боря сперва поставил на стол бутылку, а потом уже спросил:
— Выпить хочешь?
Еще бы… Вокруг такая хрень и сумятица, что без бутылки не разобраться.
— Наливай!
Он налил в один стакан.
— А себе?
— Не хочу, — ответил Борис виновато. — Точнее, не могу. Веришь, Андрюха, мозгами хочу, а как ее, родимую, увижу, как представлю… С души воротит. Заболел я, наверно.
— Борь, но это же классно! Тебе давно пора было завязывать. Спивался ведь на глазах!
— Да я понимаю, но все равно как-то… неуютно, что ли? Если бы я сам бросил, это одно, а тут будто закодировал кто-то… Это насилие над человеческой личностью!
Я поднял стакан. То, что Боря не может пить, меня тоже не радовало, ощущал я некое вмешательство в его сознание. Впрочем, говорить об этом я ему не стану.
— За твое здоровье, Борис!
Я выпил, а он усмехнулся скептически, но промолчал.
— Как у тебя, кстати, нога? Я гляжу, ты не хромаешь совсем.
— Точно! — Он стал заворачивать штанину. — Смотри, что делается!
Борис обнажил голень, и я едва не вскрикнул. Мне сделалось жутко.
Повязка под штаниной отсутствовала, рана тоже. О страшной травме напоминал лишь красный рубец сантиметров в шесть-семь. Уже заживший. За сутки с небольшим. Этого не могло быть, однако — было.
— Как рана могла так быстро затянуться?
— Не знаю, — пожал плечами Борис и опустил штанину.
— Слушай, а может, в Стасе дело? — осенило меня. — Может, с его подачи гэбэшный врач гэбэшное лекарство применил? Секретное!
— Не знаю, — повторил Борис, — врач мазал чем-то рану, я не смотрел, отвернулся. Мутило меня. А как вернулись домой со Стасом, все время спал, не помню ничего. Стас меня, правда, будил, картофельным супом кормил… Это все. Проснулся я пару часов назад — спать не хочу, не болит ничего. Размотал повязку, а там — рубец. И жрать хочется. Я тут все подмел, что Гриша со Стасом приносили, крошки не оставил… Так что, извини, Андрей, закусить нечем.
— Ладно, обойдусь! — отмахнулся я и наполнил стакан. Полный двухсотграммовый стакан. Те сто граммов, что налил мне Борис, не произвели на меня никакого действия. Абсолютно.
— И главное — ни усталости, ни слабости, ни боли! — продолжал Кикин. — И работать хочу, вот что странно!
— Нам хлеба не надо, работу давай! — прокомментировал я и выпил двумя глотками весь стакан. Как воду, честное слово. Может, и правда Стас или Гриша подменили водку водопроводной водой в целях выведения Бори Кикина из запоя? Так он и без того не пьет. Работать ему, уроду, приспичило…
Нет, все ж таки в стакане была водка. Мысли поплыли, как льдины в ледоход — одна на другую громоздятся… как бычки в колхозном стаде друг на друга… гомосечут от избытка энергии… и спать хочется… очень… и глаза сами собой закрываются…
— Ты, Андрей, не обижайся, один посиди, а я рубить Бурхана пойду.
— Иди, — сказал я, с трудом ворочая языком. — Ты меня только разбуди без пятнадцати четыре, ладно? Мне на Грязнова надо… снег привезут…
— Разбужу, спи, — ответил Борис. — Еще больше часа можешь спать.
Он, наверно, ушел, я его больше не слышал. А у меня закрылись глаза… или не закрылись?.. Не знаю. Но я вдруг заметил, что у Буратины, который сидел напротив меня, появилась голова, прикрытая грязной тряпицей. Как, интересно, он теперь выглядит, этот псевдоитальянский юноша с монголоидным лицом мертвого бурятского шамана?
А потом был сон. Или не сон? Не знаю, но мне показалось, что сон — это жизнь Андрея Татаринова в сибирском городе Иркутске в самом начале двадцать первого века, а явь — байкальский остров Ольхон из второй половины века восемнадцатого. И фамилия у меня правильная, а имя нет. Почему, сам не знаю. Или знал когда-то, да забыл?
ГЛАВА 23 Шаманское посвящение
Вместе с моим толмачом и проводником Доржи мы уже неделю как вернулись в большой улус братских татар. Деревня именовалась Хужир, что в переводе с варварского означало «солончак».
Доржи всем местным жителям успел рассказать, как на берегу Байкала возле истукана их верховного ложного бога Бурхана в меня ударила молния. С тех пор дикари относились мне с величайшим почтением, почти как к богу. Впрочем, это меня не удивляет. Цивилизованный русский дворянин, морской офицер, отстоит в своем духовном развитии от необразованных, темных аборигенов настолько, что сравнение показалось бы мне правомерным, не будь я истинно верующим православным христианином, никогда не забывающим заповедь: «не сотвори себе кумира». Даже из себя самого…
Гордыня — один из семи смертных грехов, но с помощью Божией я надеюсь ее избегнуть. Но сейчас мне угрожает худшая из бед — грех вероотступничества. Впрочем, по порядку.
Я выяснил, что мой крещеный проводник Доржи оказался на деле закоренелым язычником, да не рядовым, а волхвом! По-татарски — «боо», что у тунгусов зовется «шаман». Последнее слово европейцам уже известно и через русский вошло в употребление во многие цивилизованные языки. Им я и стану в дальнейшем пользоваться.
Так вот, мой Доржи оказался даже не просто «боо», а «шанар» — посвященный шаман. Да еще и «дуурэн», полный шаман, прошедший восемь степеней посвящения из девяти возможных. Дуурэн имел кнут («мина») — символ власти, «жодоо» — пихтовую кору, которой окуривают жертвенных животных для очищения, трости для перенесения в потусторонний мир для общения с богами и духами, «майхабши» — железную корону с оленьими рогами и ушами для камлания, и семь различных бубнов, «хэсэ», символизирующих у братских татар шаманских коней для верховой езды.
Словом, мой толмач стоял на восьмой, предпоследней ступени в шаманском табеле о рангах, а последнюю, девятую — «заарин», величайший шаман, не имел ни один человек со времен великого завоевателя Тамерлана.
Как объяснил мне «полный шаман» Доржи, почтение и почитание аборигенов никак не связано ни с моим высоким происхождением из русского потомственного дворянства, ни с чином штурмана в ранге капитана императорского флота, а связано лишь с попаданием в мое тело шальной молнии на байкальском берегу. По их представлениям, я отмечен Богом и могу теперь, если захочу, стать шаманом, пройдя обучение и обряд посвящения «шанар», который «просветляет разум шамана, открывает ему тайны загробной жизни и жизни духов, позволяет приобрести знание богов, узнать их местопребывание, через кого и как к ним должно обращаться».
Вот что сказал мне мудрый дуурэн, посвятивший уже девяносто восемь шаманов и мечтающий о девяносто девятом — моем посвящении. Еще он сказал, что это великая честь и уже тысячу лет ни один инородец не проходил этот обряд.
Разговор наш с Доржи состоялся два дня назад, и сегодня я обещал дать ему ответ.
Как православный христианин, я должен был сразу отказаться от поклонения языческим богам дьявольского обличья. Но с другой стороны, я почитал себя за просвещенного исследователя быта и верований братских татар. И с этой позиции я должен был, конечно же, согласиться. Виданное ли дело, быть не просто свидетелем тайного обряда, но соучастником, главным действующим лицом, самим посвящаемым!
Не помню точно, но читал в каком-то манускрипте, как один из великих врачевателей древности сознательно заразил себя чумой или холерой и до самого последнего вздоха и смертных судорог диктовал любопытным ученикам симптомы и признаки неизлечимой болезни. Хвала ему! На алтарь медицинской науки и просвещения он бросил собственную жизнь! А чем я хуже знаменитого эскулапа, имени которого не помню? Все, что имею, чем дорожу больше жизни — на алтарь великих наук истории и этнографии!
Когда утром в мои покои, а точнее, отгороженную часть войлочной юрты вошел Доржи, я только кивнул.
Юрту, в которой я проживал, торжественно объявили моей собственностью. Временно, конечно.
Своим родом я объявил, немного поразмыслив, всю христианскую Европу. Думаю, дикие татары вряд ли поймут очевидные отличия православных христиан от католиков и протестантов, если все мы, представители белой расы, для них на одно лицо.
Своим родовым богом я назвал Иисуса из Назарета. Хоть в этом не слукавил… Верую, Господи, верую! Помоги мне в моем отступничестве!
Доржи провозгласил себя моим «найжи», крестным отцом… Прости мою душу грешную, Господи!
Он также выбрал «девять сыновей шамана», которых тут же послал за девятью камнями с девяти гор и за девятью водами из девяти источников. Первый ритуал «водного очищения» был назначен на утро следующего дня. А пока суд да дело, в мою юрту принесли пол ведра тарасуна — татарской молочной водки — и велели пить.
Тарасун я уже имел честь пробовать, после чего со мной случилось острейшее расстройство желудка и трехчасовой непрекращающийся понос. По этой причине втихую я слил зловонное зелье под юрту и достал из багажа припасенную бутыль чистой, как слеза Ангела Господнего, русской водки. Пить так пить.
Утром, до того как за мной пришли «девять сыновей шамана», я успел похмелиться. Мне был не страшен сам Сатана из Преисподней, не то что какой-то монголоидный клыкастый Бурхан. И я смело пошел за «сынками».
На краю улуса горел большой костер, в котором лежали камни. Вероятно, девять, я их не пересчитывал. Рядом стоял чан с водой. Полагаю, из девяти источников, на глаз было не определить. Неподалеку щипал чахлую травку солончака одинокий козел белой масти. У чана лежал березовый веник неопрятного вида — с корнями, не очищенными от остатков почвы. Парить они меня, что ли, собрались? Где тогда баня?
Мой найжи по имени Доржи железными щипцами извлек поочередно все девять камней из костра и осторожно опустил их в чан. Вода от этого чище не стала, но через несколько минут бурно закипела.
Крещенный по православному обряду шаман бросил в чан какой-то травы и коры, по виду — хвойной породы.
«Сынки» привели упирающегося козла. Он, вероятно предчувствуя свою незавидную участь, истошно блеял. Подручные крепко держали несчастное животное, а Доржи острым ножом с широким стальным лезвием, русского, вероятно, производства, срезал несколько клочков шерсти с ушей, по кусочку с каждого копыта и рогов. Все это он бросил в кипящую воду. Замечательная получится похлебка, вот только хлебать ее мне почему-то не очень хочется.
Пока я размышлял, чуть не пропустил самое интересное. Доржи собрался с силами, занес нож над головой, подручные, одновременно отпустив козла, отскочили в стороны, и не успело животное дать деру, как шаман молниеносным выверенным ударом поразил его в сердце. Козел умер моментально, лишь пару раз конвульсивно дернул ногами.
Как завороженный, смотрел я на этот варварский обычай. Я не мог отвести взгляд от несчастного существа. Нет, я понимаю, мы, европейцы, тоже не вегетарианцы, но было, было в этой козлиной смерти нечто запретное, неправильное… Впрочем, о чем я? Разве не в современной мне Европе восемнадцатого века любимое зрелище толпы — публичные казни на рыночных площадях?
А шаман поднял тело козла над чаном, и темная кровь из раны окрасила кипящую воду… Убейте еще и меня, но это ведьмацкое зелье я жрать не стану! Меня замутило и чуть не вывернуло наизнанку прямо во время церемонии, что татары едва ли одобрили бы. Одновременно очень захотелось выпить, пусть даже их мерзкого тарасуна. Я хотел спросить у Доржи, но отвлекать его не стал, он был занят — уверенными, ловкими движениями разделывал тушку козла. Извлек козлиную лопатку, долго ее рассматривал, а затем, обнаружив что-то чрезвычайно приятное, затряс ею над головой, радостно вопя нечеловеческим голосом по-татарски.
Потом неизвестно откуда появились пять местных мадам и уволокли освежеванного козла неизвестно куда. Лопатку Доржи им тоже вручил, причем важно, как скипетр. После этого шаман поднял с земли березовый веник и сунул его в чан с кроваво-грязной кипящей водой, а «сынки» скоро обнажили меня по пояс. Я не сопротивлялся, иначе бы они не управились с раздеванием в две минуты. Поняли бы, плосколицые, что значит иметь дело с русским морским офицером! Впрочем, я был не вооружен, даже кортик, с которым не расставался и во сне, снял по настоянию своего «крестного отца», будь он неладен. Я расслабился, размышляя, что с девятью вряд ли, а с четырьмя-пятью низкорослыми татарами врукопашную справился бы, как пить дать… И в это время шаман нанес мне предательский удар обжигающим веником по спине, выкрикнув по-русски:
— Повторяй за мной, Михал-нойон: не буду смотреть на красоту лиц!
Я повторил, не понимая смысла. Шаман продолжил экзекуцию: удар, выкрик на тарабарском, потом на русском. Я принял правила игры — повторял и принимал удары, не так, чтобы очень болезненные. Пол-улуса собравшихся здесь татар после нашего тройного выкрика визжали нечеловечески…
— Не буду призывать смерть!..
— Не буду угонять чужой скот!..
— Не буду призывать убийство!..
— Не буду сидеть на чужом добре!..
— Не буду недоволен скудостью приношений!..
— Данная мною присяга пусть будет услышана Владыкой Преисподней Эрлен-ханом!..
— Пусть слышат высокое Небо — отец и широкая Земля — мать!..
— Пусть присутствующие здесь люди свидетельствуют, что я, стоя живой, дал эту клятву…
Дальше еще много чего было. «Сынки» меня омывали, таскали кругами на большом куске белого войлока, заставляли несколько раз лазать на березы…
Все это я помню довольно смутно.
Еще шаман брызгал во все стороны тарасуном на манер православного священнослужителя со святой водой… Прости, Господи, меня грешного, за подобное сравнение!
Брызгал Доржи хоть и обильно, но зелья, вероятно, было более чем достаточно. Ритуал закончился всетатарской беспросветной гульбой. Пили все — мужчины, женщины, дети и даже, кажется, кони с мохнатыми собаками, больше похожими на волков, но с хвостами, крючком задранными вверх. Я тоже пил тарасун и отбегал каждые пять минут дристать в ближний лесок из чахлых пихт, берез и осин.
А потом пил и уже не отбегал…
А потом не снимал даже штанов…
И все равно: пил, пил, пил…
Следующий день я вообще не помню. Следующий за ним — тоже. И за ним. И так далее. Сколько все это продолжалось — несколько дней, недель или лет, не знаю. Долго.
Пили мужчины, женщины и дети.
Пили кони, овцы и собаки.
Пили небожители-тэнгрии.
Пили духи из Царства Мертвых.
Пили, пили, пили…
ГЛАВА 24 Трубе — нет!
Проснулся я оттого, что… Или не проснулся, перенесся? Возникло у меня ощущение, будто я не сплю последние ночи… Нет, сплю, конечно, но в то же время некая невесомая субстанция, именуемая в разных источниках душой, эфирным телом или истинным «Я», совершает сновидческие путешествия во времени и пространстве. А тело мое, как пустая оболочка, в период скитаний остается недвижимым, брошенным и беззащитным. Как вот теперь. Потому что Боря Кикин давным-давно потрясал мое тело, а оно было, как деревянное. Я каким-то образом, не знаю каким, увидел его как бы со стороны — чуть слева и сверху. Душераздирающее зрелище: глаза закатились, радужная оболочка не просматривалась вовсе — сплошная пустота белка, взгляд бессмысленный, как у мертвеца… Чистой воды — зомби…
Напуганный Боря начал между тем усиленно охаживать меня по щекам, приговаривая:
— Ты чего, Андрей? Проснись! Без десяти четыре!
Опасаясь членовредительства, я поспешил то ли проснуться, то ли вернуться в брошенное тело. И перво-наперво вернул, словно вдул, в глаза осмысленность. Руки поднял, защищаясь от ударов Бориса.
— Все, хватит!
Он медленно опустил занесенную ладонь.
— Ну, блин, ты и спишь, Андрюха. Я тебя уже двадцать минут не могу добудиться.
Я встал со стула. Я опаздывал. Если режиссер будет недоволен моей работой по подготовке улицы к съемкам, накроются и другие заказы, Ольхон — в первую очередь.
— Боря, закрой за мной.
Несмотря на похмелье, которое я, как ни странно, ощущал, проснувшись, добрался я до улицы Грязнова быстро, опоздал минут на пять-семь, не больше.
Снег еще не подвезли, но возле моего нового свежевыкрашенного забора собралась толпа иностранцев, в основном французов и москвичей. Я преисполнился гордости. Любуются, наверно, темно-зеленой, немаркой красотой типичного российского строения…
Что-то вещал на родном, великом и могучем, Григорий Сергеев. Ему вторили, перемешиваясь и заслоняя друг друга, синхронные переводы на французский и англосаксонский языки в исполнении Турецкого и Ананьевой.
Итальянского я не услышал и не увидел, соответственно, Катерины-красавицы и второго режиссера-итальянца. Спят, наверно, и хорошо, если не в одной широкой постели, сволочи… Вспомнился сон, и я снова увидел на миг их глаза, полные муки и предсмертного ужаса, когда они прижимались, плюща лица, к стеклам полыхающей машины… Чушь. Не было этого. Это был сон. Сон и только!
Я подошел, остановился в задних рядах. Гриша как раз смолк, и Поль Диарен, режиссер-постановщик, задал вопрос. Анна Ананьева перевела:
Григорий Иванович, месье Диарен спрашивает, почему наши «зеленые» протестуют против нефтепровода? Ведь он необходим. Он несет в дома простых людей свет и тепло!
— Никто не против трубопровода, как такового, — ответил Сергеев. — Все понимают его необходимость. Но зачем прокладывать его в четырехстах метрах от байкальского берега? А постановление об этом уже подписано.
Снова двойной перевод. Иностранцы залопотали разом, но Анна, соблюдая субординацию, передала лишь возмущенные слова режиссера:
— Это неслыханно! А если произойдет авария с утечкой?! Или террористы заложат мину?! Нефть попадет в уникальное озеро, окончательно испортив его экологию!
Сквозь толпу человек в тридцать я наконец протиснулся во второй ряд и увидел то, что навело иностранцев на экологическую тему. На темно-зеленом фоне моего замечательного забора «зеленые» написали баллончиком черной нитрокраски крупно, на все пять метров:
«Байкалу — да! Трубе — нет!»
Вот, уроды… точно меня теперь уволят без выходного пособия…
Кто-то вдруг прижался ко мне сзади всем телом, и одновременно я ощутил чью-то жадную ладонь у себя между ног… Этого только не хватало. Москвич, наверно, какой-нибудь домогается. В столице, говорят, каждый второй мужчина — гомик. Вырождающаяся нация…
Я развернулся резко, готовый дать отпор несанкционированному вмешательству, и… увидел сияющие темно-зеленые, как мой забор, глаза Жоан Каро. Улыбнулся в ответ, отвернулся. Совсем на старости лет с ума сошла… пусть даже под ее ладошкой все у меня оживало… Мужчине, я слышал, чтобы возбудиться, надо двенадцать минут. Гнусная ложь! Полминуты хватит… Жоан что-то шепнула мне на ухо, вероятно привстав на цыпочки, иначе бы не достала… Но я не поддержал забавной игры в толпе, убрал аккуратно ее руку. И шагнул вперед в свободное пространство у испорченного забора.
— Здрасте… — сказал я. — Я в три отсюда ушел, ничего такого не было… а в четыре написали вот…
— Все в порядке, — улыбнулась Анна Ананьева, — месье Диарен не сердится. Он полностью на стороне русских «зеленых»… А забор вы покрасите, пока остальные будут разбрасывать снег.
Сияющий режиссер что-то сказал и пожал мне руку, будто именно я был инициатором российской ветви всемирного экологического движения. Анна перевела:
— Он говорит, что доволен вашей работой, но эту замечательную надпись придется все-таки закрасить. В первой четверти девятнадцатого века в Сибири нефтепроводов не было.
Я невольно усмехнулся. Можно подумать; Франция того времени сплошь была покрыта газо- и нефтепроводами…
Тут подошел первый «КамАЗ», груженный грязноватым снегом, и толпа иностранцев принялась разбирать сваленные на тротуаре лопаты.
Среди них я увидел и Стаса. Надо же, соизволил явиться в такую рань… Впрочем, после того, что он сделал для раненого Бориса Кикина, отношение мое к нему переменилось. По-человечески Стас себя повел, молодец.
Жоан Каро на меня не обиделась, жизнерадостно махала мне широким пихлом. Посмотрю я на тебя, мать, через полчаса работы лопатой. Энтузиазма, чай, поубавится…
Войдя во двор, я увидел на пороге дома разбуженного шумом хозяина.
— Как забор? — спросил он. — Подходяще?
— Испортили забор «зеленые» козлы!
— Это кто такие будут? — недоумевал хозяин. — Мутанты, чё ли?
— Не важно, — отмахнулся я. — Краску и валик тащи. По новой красить буду.
А иностранцы накинулись на снег, будто впервые его увидели. Хотя, может, и впервые. Где бы они, почти сплошь южане, могли видеть его в таком количестве? Разве что в Альпах на горнолыжных курортах.
Поль Диарен через минуту-другую сбросил куртчонку, подавая пример, махал лопатой, как вертолет лопастями. Ганс Бауэр, оператор-постановщик, напоминал ветряную мельницу при порывистом норд-осте. Рядовые члены киногруппы пытались соответствовать или хотя бы демонстрировать энтузиазм. Интересно, надолго ли их хватит?
Чуть в стороне, опираясь о лопату, стоял недовольный какой-то типчик смазливой наружности. Он ни фига не делал, только смотрел на честных трудящихся с брезгливым выражением на породистой физиономии. А те развлекались по полной, как на коммунистическом субботнике. Кто-то смеялся, кто-то пел, кто-то молча сопел, надрываясь от непривычной работы. Один тунеядец-типчик, зараза, стоял и делать ничего не собирался. Кто это, интересно?
Первую машину разбросали влет. Вторая еще не подоспела. Киношники остановились, опираясь на лопаты, как на костыли, тяжело дыша. Это вам, ребята, не кино снимать! Тут пахать надо, как слепая лошадь!
Подошел повеселевший Гриша Сергеев, изрек глубокомысленно:
— Иностранцы все засранцы, а японцы — молодцы!
Я хохотнул:
— Это почему же они молодцы?
— Не знаю, — ответил художник-постановщик, — так в моем детстве говорили.
Я подумал, что он, пожалуй, застал пленных японских солдат, которые после поражения во Второй мировой строили в Иркутске дороги и дома. И умирали, умирали, умирали… Много японских захоронений вокруг города. Только недавно правительство Страны восходящего солнца начало перевозить и перезахоранивать на родине останки своих солдат…
Я вычел из текущего года Гришины неполные шестьдесят, и получилось, что да, мог он видеть их скорбные колонны, будучи мальчишкой-дошкольником.
— Гриш, — спросил я, — а что это за типчик-красавчик?
— Какой?
— Да вон стоит, не работает. — Я кивнул в сторону одинокой мужской фигуры.
Гриша мельком взглянул и отвернулся, чтобы не пялиться.
— Это английский актер, главную роль играет в фильме.
— А чего пришел тогда с лопатой, если не работает?
— Откуда мне знать? У режиссера спрашивай.
Спрашивать я, конечно, не стал, тем паче на улицу Грязнова въехал, обдавая народ смрадной едкой копотью, второй груженный снегом «КамАЗ». На самом деле он же — первый. Я понял, самосвал был всего один, и грузили его неподалеку, судя по грязно-серому цвету снега, в черте города. Оборачивался он в полчаса. За это время тридцать человек как раз успевали разбросать предыдущую кучу и немного отдохнуть.
Припорошить улицу хватило четырех машин, но Жоан Каро расплатилась, вероятно, за все пять договорных, потому что водитель кавказской внешности не возмущался и не орал. Напротив, улыбался, гад, ощупывая нагло мою француженку липким взглядом.
А английский актер так и простоял два часа в главной роли, не сдвинувшись с места, пока за ним не подкатил лимузин.
Остальные тоже разъезжались в легковых машинах и микроавтобусах.
Я решил остаться на улице и караулить забор от ретивых писателей-экологов. А чтобы не скучно было, взять бутылочку и распить с хозяином во дворе. Тот вышел на улицу, и по глазам его жалобным я понимал, что именно этого он от меня и ждет. Но не тут-то было…
Я махал ручкой Жоан Каро, в «шевроле» которой уже разместились режиссер, оператор и художник… так вот, я делал ручкой своей скверной девочке, когда ко мне подошла Анна Ананьева, переводчица, и тронула за плечо:
— Андрей, вам надо подписать договор.
— Зачем? — спросил я.
— Как зачем? А на каком основании вам платят деньги?
Я пожал плечами. Откуда мне знать их основания?
— Надо так надо. Где подписывать?
— Его надо еще написать, но не здесь же…
Она посмотрела по сторонам, будто искала место, то есть, как я понял чуть позже, смотрела, отъехал ли автомобиль мадемуазель Каро?
«Шевроле» показал нам задний бампер и потерялся среди других авто.
— Ко мне в гостиницу? — размышляла вслух переводчица. — Там люди, мешать будут… — Она вцепилась в мне локоть. — А вы далеко живете?
— Рядом.
— Тогда, может, к вам?
Это становилось интересным. Еще до знакомства, после одного только милого телефонного разговора мне, помнится, хотелось с ней — в особо извращенной форме с элементами классического садизма. Почему бы и нет? Если классического…
Съемки были назначены на семь, оставалось меньше часа. Интересно, успею или нет? В смысле — на съемки…
Когда мы с Анечкой уходили под ручку, на грязно-серый привозной снег повалили с небес чистые крупные хлопья. Снег шел настолько густой, что стало ясно, он в пятнадцать минут закроет двадцатисантиметровым слоем улицу Грязнова и весь остальной город.
Солнце еще не взошло, но восток окрасился красным. Снег ложился на деревья, дороги, крыши домов и редких в столь ранний час прохожих. Снег скрывал от глаз всю нашу российскую черноту и серость, всю нашу бедность и простоту, которая хуже воровства…
Снег шел крупный, пушистый, мгновенно тающий на ладони. И не осталось в мире больше ничего, ни земли, ни небес, только снег — снизу, сверху, везде. Только снег и Россия, потому что они — одно.
Шел снег. И красивая женщина, пусть и москвичка, шла рядом, прижимаясь к плечу. И краешек красного диска показался над лесистой черно-белой сопкой. И город проступал из сумрака, старый, с деревянным узорочьем по стенам домов, как оберег. Русский, как люди его населявшие. Как снег, падавший на него.
Вот тут бы и снимать. Не город — сказка.
ГЛАВА 25 Необязательный снегопад
Вид белого, чистого снега меня возбудил. До предела. До боли в паху. До безумия…
Как можно распространять сексуальное желание на явление природы — снегопад? Я распространял. Я хотел снег. И мне было плевать на любого рода безумие. Хотел — и все.
Мы вошли в прихожую моей квартиры. Анна успела расстегнуть одну только пуговицу на куртке, когда я накрыл ее руку своей. На куртке лежал снег. Он таял, но это не имело значения. На черных как смоль волосах тоже лежал снег и тоже таял. Анна вся была покрыта снегом, а потому — желанна. Замерла. Она не знала, как себя вести, и это было хорошо. Это…
Я коснулся снега на ее губах, и снег мне ответил растаявшими губами и языком. Он знал, как себя вести, и это было замечательно.
Снег был всюду — на щеках Анны, на лбу, на плечах, в волосах, на кончиках коричневых сосцов, как на вершинах заснеженных сопок-гольцов, но особенно много намело его между ног, целый сугроб. И он манил, манил меня, звал — холодный и горячий, влажный и сухой, белый и черный. Все — одновременно. В нем, как в солнечном свете, присутствовал весь спектр. Как нас в школе учили? Каждый охотник желает…
Я желал.
Руки мои лепили снежки, ноги вязли в сугробах. По пояс. По горло. Выше.
Трусики, как прозрачная кружевная снежинка. Она упала мне на ладонь и растаяла, оставив крошечное мокрое пятнышко. Я слизал его языком…
Снегурочка…
В этой северной стране возможно любить только снег. Или — не любить.
Я любил. Я ненавидел. Я — желал.
— Дай же мне раздеться, Андрей!
Я не ответил. Зачем? Зачем снимать одежду, мокрую от тающего снега? Ведь я желал не ее, я желал снег, на ней лежащий. И тот, что в ней, — тоже. Человек на девяносто процентов состоит из снега, женщина — на девяносто девять.
В этой стране все — снег, а потому все — желанно.
— Андрей, — она захныкала, — я хочу в постель… по-человечески…
Не получится по-человечески. Я не ответил.
Я встал на колени и нырнул головой в сугроб…
Я не человек. Не совсем человек. Вот сейчас я — кобель, лижущий истекающую соком суку…
Так к чему мне ее ревновать, так к чему мне болеть такому…
Анна раздвинула ноги. Она раздвинула их широко. Руками вцепилась в дверной проем.
У моих коленей зазвонил мобильник, выпавший из уроненной на пол сумочки. Кому он сейчас нужен? Кому нужны вести из потустороннего мира?
— Андрей…
Больше она ничего не просила. Она — получала. По полной. Постанывала.
— Андрей…
Клитор был мокрый и нежный, кисло-сладкий на вкус, как мякоть антоновского яблока из райского сада. Волосы на лобке щекотали нос. Пахло остро, как в Эдеме, мочой и грехопадением. Сладко. Кисло…
— Андрей…
Я вошел в нее всем своим телом. Анна закричала. Она корчилась на полу прихожей, как в агонии…
Меня на ее теле не было. Я был внутри. Хотя и снаружи тоже. Я был везде. Как снег.
Мобильник смолк.
А я растаял. Скатился на пол рядом с Анной, мокрый, обессиленный, опустошенный, пустой, как шаманский бубен…
Анна лежала и беззвучно плакала.
Мобильник зазвонил снова. Это был привычный телефонный звонок без всяких прибамбасов и попсовых мелодий. Анна была традиционна. Это было хорошо.
— Андрей…
Анна, не переставая беззвучно плакать, стала целовать мое лицо, не разбирая куда — в нос, в лоб, в подбородок…
— Спасибо, — прошептала и, обняв, прижалась всем телом, — это было… это… я не знаю, что…
Было хорошо. Я знал. И желание возникло снова. И не через двенадцать минут, как положено… кем?
Растаяв, снег превращается в воду, но вода — тоже снег. Снег — все.
Я взял ее на руки и внес в комнату. Моя неубранная постель напоминала развороченный, истоптанный сугроб. Надо бы белье сменить… Эта мысль мелькнула и угасла. К черту! Какая разница? Снег не разбирает, куда ему падать. Он падает всюду…
Я раздевал Анну, она мне помогала.
Я входил в Анну, она помогала тоже. И входила в меня…
Повторный снегопад был не столь бурным, но — затяжным. Я устал. Я взмок сам и в нее влил пол-литра семени. Я хотел от нее ребенка. Я это понял только теперь, когда он был зачат… Родится мальчик. Анне в момент его рождения исполнится двадцать два года. Все правильно. Я был в этом уверен.
— Назови его Михаилом.
— Кого? — не поняла Анна.
— Сына.
— Какого сына?
— Нашего. — Я провел ладонью по ее щеке. — Тебе придется переехать в Иркутск.
— Ты с ума сошел! — Отбросив мою руку, она села, спустив ноги с дивана. — То, что произошло… — Она замялась. — Было хорошо… правда… Но это еще не повод для знакомства!
Она так шутила. Замечательно. Женщина без чувства юмора не может стать моей супругой. Исключено.
Снова зазвонил мобильник. В третий раз. Или в четвертый?
— Тебе звонят.
— Слышу. К черту.
Она встала, серьезная и злая. Очень серьезная и очень злая.
— Я не знаю, чем завершатся наши отношения, скорее всего — ничем, но ты должен иметь в виду, Андрей, я не смогу жить нигде, кроме столицы!
— Я не люблю Москву, — отозвался я. — Как тебе такие варианты: Париж, Лондон, Берлин?
— У тебя что, в каждом из этих городов по особняку? — Анна усмехнулась. — Непохоже.
Встала, решительно прошлепала босыми ногами в ванную комнату, даже ухом не поведя в сторону трезвонящего телефона.
Я вытянулся в постели. Хотелось спать. Я припомнил, что последние двое суток спал урывками, причем сны сопровождались кошмарами. Один из них — с автокатастрофой на байкальском тракте, я помнил особенно четко…
К черту съемки. Я сделал там все, что от меня требовалось…
К черту Анну, там я тоже все уже сделал…
Глаза закрылись, я задремал.
Наше дело не рожать — сунуть, вынуть и бежать…
Я лежал, улыбаясь в полусне дурацкой подростковой поговорке…
А почему бы мне не переехать поближе к Москве? К Аннушке? Продам двухкомнатную в Иркутске, хватит купить однокомнатный сортир в дальнем Подмосковье… Там же могила брата Ефима, последнего моего родственника. Впрочем, он кремирован, а пепел развеян по ветру. Его могила — всюду…
Анна вошла, демонстративно топая пятками. Она меня разбудила. Она сказала:
— Я согласна.
А я смотрел на нее и думал, что больше не хочу эту крупную женщину с хорошей фигурой. И было странно, что вообще захотел. Она не в моем вкусе. Если бы не снегопад…
— На что ты согласна?
— Я согласна выйти за тебя замуж, но с одним условием. Ты продаешь эту халупу… она, кстати, твоя? — Я кивнул, и она продолжила: — Ты переезжаешь в Москву или мы оба — в любую столицу Европы или Северной Америки.
Хотелось предложить Африку и Океанию, но я понимал, не прокатит даже как шутка… И предложения, кстати, я ей не делал. Неужто так уверена в своих чарах? Глупая… Я снова посмотрел на нее, стоящую в обнаженной уверенности посередине комнаты — руки в бока, одна нога, согнутая в колене, опирается на сиденье стула… Нет, объективно — хороша. И что? Мало ли красивых женщин? На всех не женишься, века не хватит!
Неужто ей самой так уж замуж охота? И за кого? За меня, голодранца! Вероятно, в постели я перестарался… Но насколько я знаю москвичей, эта нация никогда не смешивала личное с общественно-значимым, престижным. Конечно, оргазм и москвичам не чужд, но разве придают они физиологии решающее значение? Для этого любовника завести можно — жгучего брюнета, а я мастью не вышел…
Ее мобильник зазвонил снова.
— Тебе звонят.
Так и не дождавшись ответа, Анна фыркнула и пошла в прихожую. Склонилась изящно, поднимая мобильник с пола. Я оценил. Она хорошо двигалась — легко, уверенно, как большая кошка, тигр, или бабр, с иркутского герба, сжимающий зубами маленького соболя. Я не желал быть на месте соболя, не желал, чтобы меня — зубами за хребет. Нет, не желал…
Она заговорила на французском. О чем, я не понял, но разобрал два имени — Катерины, переводчицы, и Марко Ленцо, второго режиссера. Анна произнесла их, вероятно переспросив, громко и испуганно. Потом отключила мобильник, но так и осталась стоять в дверном проеме, бессмысленно таращась в пространство.
— Что случилось?
Я привстал. Я знал, произошло что-то страшное…
— Марко и Катерина… — Она смолкла, не договорив.
— Что, Марко и Катерина?! — закричал я.
— Автокатастрофа. Разбились. Насмерть. Сгорели. В машине.
Она выталкивала из себя слова, словно выплевывала. Она заметалась, собирая одежду с пола, со стола, с кресла, — я разбросал ее по всей квартире.
— Где лифчик?! — закричала она в истерике. — Лифчик где?!
Я нашел его на этажерке. Подал.
Она перестала быть сексуальным объектом, была просто голой бабой, лихорадочно напяливающей на себя одежду. Это было понятно.
Я тоже одевался, но идти никуда не хотел. Мне надо было остаться одному, обдумать произошедшее.
— Съемку отменили?
— Нет. — Уже одетая, в куртке, она смотрела на меня почти с ненавистью. — Тебя ждать?
— Иди, догоню.
Она хлопнула входной дверью, каблуки часто застучали по лестничному бетону.
ГЛАВА 26 Быть человеком — недостаточно
Я не торопился. К черту съемки. Туда же — Анну. А меня самого куда? Я — убийца. Суток не прошло, как я убил двух человек. Красивую девушку и ни в чем не повинного итальянца…
Я мерил шагами квартиру, не считая шагов. Я не мог находиться на одном месте. Ничего другого я тоже не мог.
Прошел на кухню, распахнул дверцу холодильника, с минуту постоял перед ним, ничего не видя, и захлопнул дверцу.
Вернулся в комнату, включил зачем-то компьютер. Вошел в Интернет, потом в почтовый ящик. Писем не было, зато был очередной спам. Пробежал глазами, не вдумываясь в смысл, автоматически:
СВОДНЫЙ СПИСОК
составлен младшим научным сотрудником биостанции на мысе Покойников
ЧЕРНЫЙ
Великий шаман
род. 30 000 до н. э.
оз. Танганьика
Александр Македонский
род. 356 до н. э.
Пелла
умер 323 до н. э.
Чингисхан
род. 1155
о. Ольхон
умер 1227
Тамерлан
род. 1336
Ходжа-Ильчар
умер 1405
Отрар
Наполеон I
род. 1769
Аяччо
умер 1821
о. Святой Елены
Гитлер
род. 1889
Браунау
умер 1945
Берлин
Сталин
род. 1879
Гори
умер 1953
Москва
Татаринов Андрей
род. 1975
Иркутск
БЕЛЫЙ
Великий шаман
умер 7000 до н. э.
оз. Байкал
Демосфен
род. 384 до н. э.
Аттика
умер 322 до н. э.
Кретьен де Труа
род. 1130
Труа
умер 1191
Париж
Гутенберг Иоганн
род 1394
Майнц
умер 1468
Майнц
Гёте Иоганн Вольфганг
род 1749
Франфуркт-на-Майне
умер 1832
Веймар
Булгаков Михаил Афанасьевич
род. 1891
Киев
умер 1940
Москва
Эйнштейн Альберт
род. 1879
Ульм
умер 1955
Принстон
Татаринов Андрей
умер 2008
о. Байкал
Скачал, сам не знаю зачем, этот бессмысленный список. При чем здесь я?
Я — убийца. Жестокий, безжалостный… Урод. Достоин казни. Но российское правосудие не казнит за содеянное во сне. Если это был сон…
Российское правосудие не казнит вообще. Добренькое, мать его… Тогда я сам себя казню. Немедленно!
Потому что человек… человек ли? Потому что существо, умертвившее во сне двух человек, в следующий раз убьет десяток, сотню, тысячу! Да что там тысяча? Оно уничтожит весь мир, если материализуются его кошмары!
Нет, я должен поставить точку, покуда мне это не начало доставлять удовольствие. Кто знает, может, через некоторое время убийства мне станут нравиться? Может быть, я давно меняюсь, сам не ведая того?
Нет, не будет этого! Я приговорил себя к смерти и в отсутствие палача сам решил привести приговор в исполнение. И никаких обжалований! Никаких комиссий по помилованию! К черту эти интеллигентские сопли! К дьяволу!
Я вышел на балкон и начал снимать бельевую веревку, натянутую между двух кронштейнов, сваренных из рифленого арматурного прутка. Веревка посерела от непогоды и времени…
«Выдержит ли?» — подумал, скручивая ее в клубок.
Пустота зияла внутри, как в алтаре оскверненного храма место распятия. Да и было ли оно? Был ли храм хоть когда-то не осквернен?
Каждое движение совершалось через силу, вопрошало истошно: зачем? Ляг на диван, закрой глаза, спи, может, все само собой переменится, рассосется…
Я знал: не переменится, не рассосется — не прыщик. Ни само собой, никак. А сон… сон грозил новыми неприятностями. Роковыми.
Намотал, подбросил на ладони клубок размером с антоновское яблоко.
«Неумно и по́шло до предела, — подумал я, — станут еще кровавую записку под подушкой искать: мол, до свиданья, друг мой, до свиданья… Что может быть хуже бездарного плагиата? А разве бывает плагиат талантливый?.. Или все ж таки — с балкона?»
Я взглянул вниз. Высота третьего этажа не обещала ничего, кроме ушибов и переломов. Разве что — головой вниз? Так тело само извернется в последний момент, ему плевать на мои намерения, у тела железобетонные инстинкты, тысячелетиями проверенные, надежные. И не асфальт даже внизу — развесистый канадский клен, облетевший, конечно, да клумба с полурастаявшим грязным настом. Чуть дальше — куст сирени по пояс в черном сугробе. Но до него не допрыгнуть, как ни старайся… Я усмехнулся. На кой тебе туда прыгать, братец кролик?
Пора, пора подбивать под умозрительность ни к чему не обязывающих построений реальные основы. Табуретку, например.
Я вошел в комнату с серым клубком бельевой веревки в одной руке и табуретом в другой.
Осмотрел верх помещения — кроме крючка для люстры, ничего подходящего. Но выдержит ли? Впрочем, вспомнил, тот пристрелен дюбелем… пистолет бы… ладно.
Поставил табурет под люстрой. Оказалось — низко, не доставал до крючка сантиметров тридцать.
Стремянка стояла за холодильником. Пока ходил за ней, зазвонил телефон.
Трубку не поднял, перед лицом смерти любое земное дело — пустяк. Впрочем, и смерть пустяк, потому что ее попросту не существует. Да и не существовало никогда. Вас обманули, сэр…
После десятка раздражающих, истошных звонков телефон смолк.
Я ожидал ощутить от прикосновения к пыльному металлу потолочного крюка некий потусторонний холод. Не ощутил ничего. Обидно даже. Впрочем, так и должно быть. Если смерть всего лишь дверь, то что можно почувствовать, переходя из комнаты в комнату?
Продел веревку в отверстие крюка, завязал на двойной узел, а когда дело дошло до петли, оказалось, что подходящих узлов я вязать не умею. Нет у меня подобного опыта.
Сел на табурет, взялся за свисающую с потолка безобидную серую соплю. Хотелось заплакать и рассмеяться. Позор-то какой, даже уйти, как порядочный человек, не могу. Урод.
Снова зазвонил телефон, теперь уже сотовый.
Я заорал:
— Какого хрена надо? — и дернул за веревку.
Она с гнилым треском оборвалась посередине. Я бросил на пол оставшийся в руках конец, рассмеялся. Ну что тут поделать? Невезуха!
Сотик смолк, и сразу, почти без паузы зазвонил стационарный.
Трезвонят и трезвонят… Они что там, обалдели? Кто эти «они», я не знал, но обозлился очень. Сейчас я все им скажу, они у меня получат! По полной!
Я подошел и снял трубку.
— Да! — прокричал и подумал, что если для меня смерти нет, так, значит, и для других тоже. И убийства нет, потому что какое же это убийство, когда убить никого невозможно?
Я улыбнулся чему-то потустороннему, то ли треску в телефонных проводах, то ли голосу, произнесшему:
— Андрей, ты чего трубку не берешь? Спишь, что ли?
Я узнал голос Гриши Сергеева. Скажет тоже… Спать я теперь попросту боюсь. Приснится Светопреставление, проснешься, а рядом никого. Все ушли на фронт. Второй рот-фронт Армагеддона…
— Да, Гриша, задремал. Ночью-то не спал толком.
— Значит, так, через полчаса жду тебя в конюшне. От хлама освобождать ее будем.
Идти не хотелось, но обещал же…
— Слушай, Гриш, а больше некому?
— Некому. Кикин раненый…
— Он поправился! — перебил я своего шефа.
— Ты с ума сошел? Я видел его рану!
Не стал я Сергеева переубеждать, пусть думает, как думает. Ведь выздоровление Бориса действительно сверхъестественное какое-то. Не заживают подобные раны за сутки с небольшим.
— Тем более ему еще Бурхана рубить и куклу мертвого шамана доделывать, — добавил Гриша.
— Стаса возьми.
— Дозвониться до него не могу, — пояснил он и добавил, повысив тон, чуть раздраженно: — У тебя что, дела какие-то важные?
Я задумался. Помочь Сергееву и правда некому. Но если я сейчас отложу задуманное, то не соберусь больше. Это точно. Вероятно, подсознательно я искал повод повременить. Вот и нашел. И подумал, что рад, что не хочу умирать. Что сон мой — простое совпадение. И только.
— Ладно, Гриша, еду.
Еду, сказал я и спохватился. Знает он о смерти Марко и Катерины или нет? Уж очень спокойно со мной разговаривает, как будто ничего не случилось…
Сергеев не успел отключиться, стал повторять, куда и когда мне ехать. Я перебил его:
— Гриш, а ты знаешь о смерти?
— Конечно, — ответил он спокойно. — Все знают.
— И съемки не отменили?
— Чего их отменять? Кто он такой, этот итальянец? Без него снимут. Вот если бы режиссер-француз помер или актер-англичанин… — Сергеев сам себя перебил: — Ладно, некогда мне. Надо еще в одно место заскочить по дороге…
Он отключился, а я задумался. Вот, значит, как. Погибли два человека, а всем по фиг. Действительно, кто они такие, чтобы их оплакивать?
Просто быть человеком для этого, вероятно, уже недостаточно.
ГЛАВА 27 Сбруя художника-постановщика
Я взглянул за окно — светло и чисто, как на краю земли, на Севере, где растет Мировая Ель, крона которой в Небо, а корни — в Преисподней. Ель, на ветвях которой великое множество гнезд с яйцами — душами нерожденных шаманов…
Если я встану со стула, иллюзия исчезнет, а сидя города не видно, видна лишь полоска снега на дальней, незастроенной сопке-гольце да белесые, мутные небеса…
Сколько, интересно, прошло времени с тех пор, как я узнал о смерти Марко и Катерины? Взглянул на часы — восемь утра. Прошло всего ничего, крупица времени, насыщенная событиями и переживаниями так, что их хватило бы на месяц моей недавней размеренной жизни. Или на год. Или на 30 лет и 3 года? Именно столько мне недавно исполнилось. Именно столько в гнезде на вершине Мировой Ели зреет в яйце душа Великого шамана…
Это совпадение навело меня на странные мысли. Я вернулся за компьютерный стол и перечитал все три спама, пришедшие на мой электронный адрес в последние дни. Подумал: может, и раньше были подобные? Я же спам никогда не открывал. Но я был почему-то уверен — нет, не было таких писем. Все началось с моего последнего дня рождения, точнее — 33-летия.
Меня не то чтобы осенило, но дошло наконец, как до верблюда, — слишком уж много совпадений. Случайных? Я не бог весть сколько живу на этом свете, но успел понять — случайностей не бывает. Просто так даже кошки не родятся. Сперва все ж таки имел место родительский март…
События только на первый взгляд стихийны и непредсказуемы, но стоит поразмыслить, стоит вглядеться в таинственную глубь Зазеркалья, и открывается факт, простой до неприличности. Причинно-следственный закон действует безупречно. Но мы, к сожалению, часто имеем представление лишь о следствиях, а причины скрыты от нас за семью заговоренными печатями. Нет, в случаях простых и тривиальных причины очевидны… Впрочем, очевидны обычно ложные причины.
Скажем, уничтожены огнем два процветающих города. Причина: извержение вулкана или случайный (опять!) пожар. Все довольны, все смеются, закон выполняется, причины — на лицо… На рыло. Города назывались Содом и Гоморра. А истинная причина в содомии и геморрое их грешных жителей.
Это так, к слову, как наглядно-банальный пример из старой Книги…
Стоп. Исследование спама придется отложить. Через тридцать минут я обещал быть в Музее декабристов. Посмотрел на часы — уже через двадцать…
На тротуарах и проезжей части выпавший снег прохожие и автомобили превратили в грязное месиво. Но на клумбах, крышах и деревьях он лежал нетронутый, чистый, пушистый… Подумалось, что в детстве я был бы страшно рад такому снегу — податливому, мокрому. Им можно играть, из него можно лепить все, что угодно: хочешь — снежки, хочешь — снежную бабу… Очевидно, я подрос, снежки меня не вдохновляли, а вот бабы… Хоть и снежные, любые…
Меся грязь, моча ботинки, я шел в музей знакомой дорогой через центр города и размышлял, что вот она, еще одна ненормальность последних дней. Я вообще-то всегда женщин любил, но чтобы, как сейчас, только о них и думать… не было такого! Наваждение это какое-то. Наваждение и только!
Ну вот, я снова о них думаю, снова перед глазами ляжки, сиськи и губастые влагалища, снова трудно ходить и каждый шаг отдается болью… Я — маньяк, Господи… И за что же мне это наказание?
Зря торопился. Минут пятнадцать я простоял у запертых ворот конюшни, наблюдая, как по обширному музейному двору мужчина в рабочей одежде кругами водит под уздцы оседланного коня со странным седоком — девочкой лет пяти-шести. Она сидела довольно уверенно, по виду привычная к конным выездам, но было в ее посадке что-то… Не знаю, как сказать, но я понял, что ребенок нездоров. А когда мужчина спустил ее на землю и она, бедненькая, пошла к молодой женщине, ожидающей неподалеку, все мне стало ясно. Девочка дергалась при ходьбе, выбрасывая ступни ног высоко в стороны, тряслась вся… Бедный ребенок…
— Ду ю спик инглиш? — услышал я за спиной и обернулся.
Пока я наблюдал да сочувствовал, ко мне подошел мужчина. Лошадь, кстати, тоже. От обоих разило потом. Лошадиным, естественно. Но запах этот не был неприятен.
— Не сникаю, шеф, и не проси.
— Наш, значится… — Мужик улыбнулся, лошадь тоже показала здоровенные, здоровые зубы. — Тут в последнее время сплошь иностранцы шастают.
— А я что, неужто похож?
Мужик пожал плечами, лошадь замотала головой как-то неопределенно — сначала вроде сверху вниз, согласилась, а потом — слева направо, мол, нет, Андрюха, не похожа твоя рязанская рожа на лик жителя Роттердама. И при чем здесь Роттердам, не знаю…
— А чего не похож-то? — сказал мужчина. — Люди как люди. Ты вдобавок белой масти будешь, я и подумал, может, немец?
Я не указал ему на то, что обратился он ко мне не на немецком, а на псевдоанглийском. Вероятно, мужчина просто не знал больше ни слова ни на одном из иностранных языков. Но это все ерунда, интересовало меня другое. Спросить, однако, я ничего не успел, только рот раскрыл, как мужик протянул мне здоровенную ладонь.
— Иван.
— Андрей. — Представившись, я пожал его мозолистую, огрубевшую от физического труда лапу. Слушай, Иван, а девочка, которую ты на лошади катал, она, что…
Я замялся, не умея подобрать слова, но Иван, добрый малый, пришел мне на выручку.
— Церебральный паралич, — сказал коротко. — Их к нам много родители привозят, больных детей. Но не для баловства, для лечения.
— И что, правда помогает? — удивился я.
— Еще как. Ребенок лошадь погладит, проедет десяток кругов, по-другому себя чувствовать начинает. Сам, поди, видел, какая Маша на земле и какая на лошади была.
Видел. Разница огромная.
И лошадь согласилась с Иваном, заржала негромко, закивала: да, мол, помогаю я Маше и другим детям тоже, само собой…
— Чудеса да и только.
— Не чудеса, — возразил Иван. — Общение с природой, с Богом. А животина, лошадь, она сама природа и есть. И Бог, наверно, тоже…
Интересный мужик, я бы еще с ним поболтал, но во двор музея вошел Григорий Сергеев, увешанный конской сбруей, как новогодняя елка гирляндами и шарами.
— Давно стоишь? — поинтересовался он, сбрасывая в снег поклажу.
— Не очень.
— Здравия вам, — вмешался Иван. — А сбруя зачем?
— Для съемок, — ответил Григорий, отпирая висячий замок на воротах конюшни. — Взял вот у знакомых.
— Чего не сказали? Я бы приволок, сколько надо. У меня и старинная есть, в которую еще до революции запрягали, и современная…
— Так тащи! — обрадовался Григорий. — Бутылка с меня.
— Дык, я не ради водки… — Иван потупился. — Я искусства ради… но бутылку возьму, коли даете.
— Тащи, тащи, сочтемся!
Иван ушел, лошадь тоже, а мы с Сергеевым с тоской уставились на конюшенный бардак. Особенно мне не нравились габаритные листы ДСП. Мороки с ними будет по горло. Неизвестно еще, куда таскать. Да и снег выпал не вовремя. Необязательный был снегопад. Совсем не обязательный…
Куда таскать, Григорий, оказывается, уже знал. Заранее обговорил он это с хозяином конюшни. Всякого рода хлам можно было свалить тут же в углу двора, в десятке метров от входа. Снимать там не собирались. А вот стройматериал — стекло и листы ДСП надо было носить метров за тридцать в сарай.
Выкурив по сигарете, приступили. Пока таскали легкие конно-спортивные причиндалы — барьеры, стойки и столбики, я спросил у Григория, знает ли он подробности гибели членов съемочной группы? Вот что он мне рассказал.
Марко вместе с Катериной вчера после обеда поехали в поселок Листвянка. Не терпелось итальянцу посмотреть на знаменитый Байкал, дождаться не мог. Тем паче он сперва предполагал доехать до Кругобайкальской железной дороги, десятки туннелей на которой в начале XX века строили итальянские инженеры. По тем временам, да и теперь — уникальные сооружения. Мысль у Марко, оказывается, была: найти деньги и снять документальное кино о строительстве Кругобайкалки. Он уже и заявку подал, решения ждал. Не дождался, бедолага…
Приехав в Листвянку, они узнали, что путь по льду до железной дороги — ни к черту, на днях машина с людьми провалилась в полынью Водитель застращал Марко и убедил отказаться от поездки по байкальскому льду.
Провели они с Катериной в Листвянке несколько часов — байкальского копченого омуля ели, целовались потом на скалистом берегу, отдыхали, словом.
Возвращались в Иркутск в темноте. Водитель, вероятно, заснул за рулем, машина сорвалась в кювет, несколько раз перевернулась и запылала.
Водитель отделался ушибами, даже не сломал ничего, а Марко с Катериной сгорели заживо. Не сумели выбраться из салона — двери заклинило.
Я спросил Сергеева, когда произошла авария. Тот ответил, что водитель сразу позвонил по мобильному в милицию, что-то около десяти вечера. Но он, Григорий, присягнуть не может, не помнит точно.
Время в моем сне и наяву совпало. Обстоятельства тоже. Не было сказано ни слова про «КамАЗ», съехавший наперерез с несуществующей дороги. Но водитель мог его сразу не увидеть, а потом он растворился в воздухе…
Я предложил Григорию перекурить. Постоянно сбиваясь и заикаясь, я рассказал ему о своем сне. Сказал, что чувствую себя виновным в гибели людей.
Григорий меня успокоил, сказал, что я-то уж точно к их смерти не причастен, что подобное предвидение и дальновидение случалось неоднократно и зафиксировано документально в достоверных источниках. Извержение вулкана Кракатау, например, и гибель тысяч людей видели во сне несколько человек со всего мира. Причем с подробностями, как в моем сне. Еще он что-то нес о всемирном информационном поле, о случайном доступе в него отдельных индивидов… Короче, пытался, как мог, убедить меня в невиновности и преуспел в этом. По одной простой причине: сам себя я усиленно убеждал в том же…
Но вот что неприятно. Успокоенный, убежденный в своей невиновности, какой-то дальней, теневой частью сознания, я все-таки понимал, что все эти доводы — туфта. Убил Марко и Катерину именно я. Каким способом, не знаю, но убил точно…
Перекурив, мы продолжили. И оказалось, что напрасно я опасался за физическую форму своего шефа. В неполные шестьдесят, ни в ловкости, ни в силе он мне не уступал. Нисколько. Не успели мы устать по-настоящему, как листы закончились. Ну а стекло — дело техники. Вот только попались, как назло, две витринные «шестерки» (толщина шесть миллиметров), по тяжести мало уступавшие ДСП, да еще скользкие, во льду… Их мы тоже донесли, не разбили…
А потом началась работа художника. Григорий развешал по стенам свою сбрую… ну не свою, понятно, конскую. Потом сбрую, принесенную, пока мы беседовали, Иваном.
Сергеев что-то подкрашивал темно-коричневой морилкой, что-то переставлял, переносил несколько раз с места на место копну сена. Уходил к воротам, где будет установлена кинокамера, смотрел и снова переставлял и подкрашивал. Словом, Гриша работал.
Я выдернул из деревянных стен десяток-другой гнутых гвоздей и вышел во двор. Не стоит мешать, стоять над душой. Нужен буду — позовет.
Вспомнил о втором спаме, который назывался «Третий глаз». Зачем, интересно, он мне прислан? Что за способности придает владельцу этот несуществующий глаз? Ясновидение. Было. Дальновидение — тоже. Я понимал французскую речь Жоан Каро, не зная языка. Значит — телепатия? Но закончилось это довольно скоро. Когда Жоан подвезла меня к подъезду, я уже не понимал ни фига… Впрочем, в тот момент я устал, как собака, вот глаз и прищурился…
Я непроизвольно потрогал лоб. Не было там ничего постороннего. Гладкая кожа между волосней и бровями. Все.
А третий спам, так вообще полный кретинизм. Два списка — «черный» и «белый». В первом великие завоеватели и тираны: Александр Македонский, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон… С ними все ясно.
Во втором — ученые, философы, писатели… И я — в обоих. Вместе с каким-то мифическим Великим Шаманом. Мистификация кого-то из друзей? Некому вроде подобной херней заниматься, да и нет у меня друзей. Собутыльники в лучшем случае…
Кстати, пацанов из «белого» списка я не всех знал.
Демосфен — древнегреческий философ, этим мои познания и ограничиваются.
Гёте — великий германский поэт, написал пьесу всех времен и народов — «Фауст». О сношениях человека и дьявола. Во Вторую мировую был у немцев фаустпатрон и, к счастью, не доведенная до ума ракета «Фау».
Михаил Булгаков — русский писатель. О нем я, конечно, больше знаю. Тоже роман о дьяволе написал. О справедливом дьяволе, присвоившим себе функции Бога — судить и карать. Дьявол деятелен и агрессивен по-хорошему. Бог — ни во что не вмешивается. Он — не творческое начало. Он — не более чем некий символ. Чего? Бездеятельного, абсолютно нематериального и условного Добра. И что? Злу не надо побеждать, даже бороться с ним незачем. Подобное «Добро» ничем Злу не угрожает. Даже фактом своего существования.
Эйнштейн — физик, общую теорию относительности создал. Все во Вселенной относительно. И как частный случай вероятен такой тезис: Зло и Добро тоже относительны. Наибольшей популярностью в политике и в жизни в целом пользуется «меньшее из зол». Его обычно человек и выбирает…
Ладно, в «белом» списке — уважаемые люди. А кто такой Кретьен де Труа? Понятия не имею. Судя по имени, француз. Надо будет спросить у Анны Ананьевой, переводчицы, или у Жоан Каро телепатически в мыслях прочесть. Хотя вряд ли она только тем и занимается, что все время думает об этом де Труа…
ГЛАВА 28 Православные поминки и шаманская демонология
Боковым зрением я отметил некое движение на крыльце Дома-музея декабристов, прервавшее мои мысли. Повернул голову и увидел, как встревоженным мячиком со ступенек скатывается круглый директор Михаил Орестович Овсянников. На земле он остановился, оглядел двор. На конюха Ивана не отреагировал, но, увидев меня, покатился стремительно, минуя грязь и лужи, будто крученый мяч, поданный в ворота профессионалом с углового…
В узконосых, начищенных ботиночках, в строгом черном костюмчике, в старомодной дурацкой бабочке, в движениях нелепых, в подпрыгиваниях и скачках его был какой-то далеко не комичный трагизм. На нем лица не было. Буквально. Как шарик спущенный, как тряпица, накинутая на круглый костяной шар черепа…
— Вы слышали, Андрей?! — начал он, еще не добежав, не докатившись. — Какое горе! Какой ужас! Какой…
— Слышал, Михаил.
Он остановился, тяжело дыша. Глаза его были влажными. Лук, что ли, чистил?.. Слезы это были, слезы. И хохмочки, мысленные даже, показались мне неуместны. Михаил Орестович скорбел. Плакал. И не было в этом ничего смешного и нелепого. Он был искренен.
— Как же так, Андрей? Как же так? И позавчера, и вчера они сюда приходили, Марко и Катенька, молодые такие, красивые… И все расспрашивали, расспрашивали… Все ему интересно было — и про декабристов, и про Кругобайкалку нашу, которую итальянцы строили… А сегодня переводчик мне звонит, час или полтора назад, я уже не помню… ничего не помню… Турецкий, кажется, его фамилия, он с главным режиссером работает, Полем Диареном… Звонит и говорит: разбились, перевернулись, сгорели… Как же так, Андрей? Как же так?..
Из конюшни вышел Григорий Сергеев, привлеченный истеричными нотками в голосе Овсянникова. Поздоровавшись с директором за руку, Григорий опустил глаза. И не было в них скорби. И это было нормально. Мы говорили с ним как-то на тему смерти. Он считал, что нет в ней никакой трагедии, явление природы — и все, как дождь или снег. Был он атеистом, закоренелым и убежденным. Сам в Высшей Силе, в Боге не нуждался, а тех, кто искал в них утешения и защиты, почитал за слабосильных калек, не способных передвигаться без костылей. На мой вопрос: какой тогда в жизни смысл, ответил: никакого. Спокойно ответил, с достоинством.
Я вообще-то убеждений Сергеева не разделяю, но отношусь с уважением. Язычник навыворот, не боящийся жизни и смерти. Хотя боится ведь наверняка, скрипит, поди, зубами в бессонницу в свои-то почти шестьдесят… Но виду не подает, и не подаст никогда. Молодец. Уважаю.
— Григорий Иванович, Андрей, пойдемте в мой кабинет, — позвал Михаил Орестович. — Я там приготовил все… Помянем рабов Божьих, Марка и Катерину…
— Ладно, — согласился Сергеев, — дверь в конюшню только закрою.
Овсянников пошел вперед, а я подождал, пока Сергеев справится с замком.
— Кстати, — спросил я, — как съемки-то прошли?
— Нормально. А тебя почему не было?
Ну не объяснять же ему про Анну Ананьеву, переводчицу, про необязательный снегопад у меня в душе и ниже пояса. Решил под дурачка закосить:
— Так сделал же я все. Зачем я там нужен?
— Нужен, — сказал Сергеев строго. — Ты это брось, на съемках ты, как ассистент художника, всегда должен присутствовать. Мало ли что режиссеру или оператору в голову взбредет? А я там один как перст, помочь некому.
— Понял, больше не повторится, — смиренно ответил я, а про себя подумал: какой я, к черту, ассистент? Разве что внештатный…
На втором этаже особняка в кабинете директора музея стол был накрыт, как на русских поминках полагается. Но все было размеров уменьшенных, миниатюрных, излишне изящных. Не традиционные поминальные блины в палец толщиной, а прозрачные на просвет блинчики. Не граненые стаканы, сработанные по эскизу Казимира Малевича, а стопки богемского хрусталя, чуть помутневшие, антикварные. Не соленые огурцы, а корнишоны не крупнее младенческого мизинца. Не духовитое, с чесночком, кусками от души нарезанное слоистое сало, а тончайшие ломтики сырокопченой нарезки с копченой постной ветчиной на блюдце. И водка, соответственно, не в вульгарной бутылке местного разлива, а в резном, фигурном графинчике, граммов на двести пятьдесят, не больше. Даже хлеб у Овсянникова оказался не стандартных российских размеров, а миниатюрный «бородинский» кирпичик, усыпанный тмином.
Отдельно на салфетках стояло два белых блюдца, а на них — по стопке водки, накрытых кусочками черного хлеба. Для новопреставленных, понятно.
Все это отметил я автоматически. Когда мы с Григорием вошли в кабинет, Михаил Орестович уже стоял с поднятой стопкой. Он дождался, пока мы пройдем за стол, и провозгласил:
— За упокой христианских душ рабов Божьих, Марка и Катерины.
Мы выпили, как это принято на поминках, не чокаясь.
Сели. Овсянников снова налил всем водки, но на этот раз с места не поднялся, говоря тост:
— Буряты-шаманисты считали, что у человека три души. После смерти первая, высшая, улетает на Небеса, аналог христианского Рая, вторая ищет нового рождения, здесь явное влияние буддизма, а третья остается на земле в образе духа-боохолдоя…
Меня это заинтересовало, как все, касающееся бурятской мифологии. Гриша Сергеев откровенно скучал, ну да бог с ним.
— Кто такие эти балдахины… или как их там? — перебил я Овсянникова.
Тот недовольно на меня покосился, но ответил:
— Боохолдои. Но позвольте, Андрей, я тост завершу, а потом вам отвечу.
Я позволил, потому что добрый. Директор продолжил:
— Так вот, все три души после смерти остаются на земле три дня. Похороны тела только по истечении этого срока. Помянем, господа, теперь по древнему обычаю бурят, на исконной земле которых души Марка и Катерины разлучились с телами!
Овсянников побурханил, то есть коснулся пальцем поверхности водки и сбросил каплю на пол. Мы повторили его действия, причем у Сергеева на лице была такая тоска, что… Ладно, промолчал же. Промолчал и принялся за еду. Кстати, пока Михаил Орестович вещал, вошла тихо, как тень, одна из его сотрудниц, сухая бурятка пенсионного возраста. Поставила на стол блюдо бутербродов с маслом и красной икрой и удалилась, будто ее не было… Интересно, а не принимает ли директор в штат музея этих самых духов-балдахинов? Кстати, и платить им можно полставки…
Я вдруг поймал себя на мысли, что способен шутить. Значит, трагическая смерть мне тоже по фиг, как Грише Сергееву? Нет, конечно, но… Или все ж таки — по фиг? Не знаю…
Ничего по этому поводу решить я не успел, потому что Михаил Орестович стал отвечать на мой вопрос. Я в очередной раз подивился наличию у него знаний по самому широкому кругу вопросов.
— Боохолдой в узком смысле — призрак, привидение, домовой. В широком — дух вообще, в который превращается душа человека после смерти. Они невидимы, призрачны, их способны обнаружить лишь шаманы и колдуны, а также некоторые собаки. Обитают боохолдои в заброшенных юртах или домах, на кладбищах, перекрестках дорог, у подножия гор. Активны в темное время суток: бродят толпами, проказничают, устраивают игрища, разводят огонь, сбивают одинокого путника с дороги, сбрасывают с коня…
Овсянников увлекся, Сергеев равнодушно поедал четвертый бутерброд с красной икрой, я отложил свой надкушенный на край стола. Не до еды мне было. Я внимательно слушал. Возникла уверенность, что все сказанное директором мне еще пригодится. Нет, не так. Не просто пригодится, а информация эта для меня жизненно важна, необходима, чтобы выжить. Откуда взялась эта уверенность, не знаю, но она была. В последнее время я все больше и больше доверял своей интуиции.
Сергеев взял с блюда пятый бутерброд, Овсянников продолжил:
— Вообще шаманизм — религия чрезвычайно развитая, со сложной мифологией, и особое место занимает в ней низшая демонология, повествующая о множестве потусторонних сил, в большинстве своем — злых и нечистых.
Например, Ада-дух, оборотень, бес, представляется в виде маленького зверька с одним глазом во лбу и одним зубом во рту. Или в виде человечка со вторым ртом, расположенным под челюстью. Ада может превращаться в ребенка, собаку или дурно пахнущий надутый пузырь. Обитает в темном месте. Может быть добрым или зловредным, чаще последнее. Насылает болезнь или смерть. Панически боится филина.
Дахабари, буквально «сопровождающий, преследующий». Духи наиболее свирепые и зловредные. Это души женщин, умерших в муках от родов, женских болезней, истязаний мужа, души одиноких и беспомощных старух, а также злых и придурковатых женщин, к которым относились при жизни плохо. Словом, всех женщин, которые в жизни много страдали, а после смерти получили от богов право мстить людям за причиненные зло и обиды.
Муу шубуун — «дурная птица», оборотень в виде красивой девушки с ярко-красными губами, наподобие клюва. Ими становятся девушки, умершие, не удовлетворив свое чувство любви. Они являются юношам или молодым мужчинам, стараются обольстить их, чтобы съесть души, выклевать глаза и выпить мозги.
Эзыхе — дух в образе миниатюрной старой женщины, ночью высасывающей вымя дойной коровы, после чего оно опухает. Корова перестает доиться, и теленок заболевает.
Овсянников смолк, потянулся за минеральной водой. Видно, в горле пересохло после длинного монолога. А художник-постановщик, прожорливая бестия, успел слопать все бутерброды с икрой. Ладно, ограничусь сырокопченой нарезкой…
Откусив бутерброд с колбасой, я подумал, что дух Эзыхе в образе старухи мне лично ничем не грозит. Дойной коровы у меня нет, а если я и похож на животное, то уж точно не на теленка. Скорее на барана или осла. Или на самца-хорька, который, дождавшись, когда кормящая молоком детенышей самка покинет гнездо, вламывается совершенно по-хамски и оплодотворяет всех без разбору малолетних особей женского рода. Так что, достигнув половозрелого возраста, самочки первым делом рожают деток, а не тратят драгоценное время на бессмысленное женское кокетство. Позаботилась природа-мать о выживании мелких хищников. Но у людей подобное не проканает. Подобное у людей строго карается, а в российских тюрьмах таких хорьков опускают, делая из них «петухов» или «козлов дырявых»…
Пока я отвлекся, между Григорием и Михаилом Орестовичем завязался разговор.
— Нет, — говорил Овсянников, — не пойду я на ваше сборище. Меня покойный Марк просил подборку сделать историческую по поводу двух французов. Я сделал, показал Полю Диарену. Он Конте взял, а Алибера забраковал, сказал — не по теме, нечего, мол, съемочной группе головы морочить…
— А кто он такой, Алибер этот? — спросил Сергеев.
Овсянников с присущим ему пафосом, который не сумело погасить даже известие о гибели Марка и Катерины, поведал нам занимательную историю из середины XIX века, где сплелись воедино Россия, Франция, Англия и Германия, Европа и Азия, дружба и ненависть, коммерция и благотворительность, наука и религия, коварство и любовь…
История Жан-Пьера Алибера, удачливого негоцианта
Его Сиятельство граф Муравьев-Амурский, Генерал-губернатор Восточной Сибири и командующий войсками в оной готовился к окончательному отъезду из Иркутска. Однако за разборкой бумаг и множеством неотложных дел он все же не забыл о выставке месье Алибера. Не удовольствовавшись одним лишь созерцанием ее, граф написал Алиберу письмо:
«Монсеньер.
Выставка прекрасных изделий из графита, добытого в Вашей шахте, выставка, которую я сегодня осмотрел с большим интересом и с живым удовольствием в залах Сибирского отделения Императорского географического общества, заставила меня вспомнить о всех обстоятельствах, связанных с вашей пятнадцатилетней тяжелой работой в стране, так же как и об исключительной энергии, которую Вам пришлось проявить, чтобы достигнуть желанных результатов в таком обширном предприятии, как добыча графита…
Я Вас поздравляю от всего сердца и искренне радуюсь успехам Вашей светлой деятельности, за которую Вы ныне справедливо вознаграждены. Я не могу также воздержаться от того, чтобы не воздать Вам должное за то, что во время Вашего пятнадцатилетнего пребывания в Восточной Сибири Вы явили собой пример хорошего гражданина, полезного стране. Все свои усилия Вы направляли на развитие промышленности, во имя которой с благородной самоотверженностью принесли в жертву долгие годы и вынесли тягчайшие трудности; в меру своих сил Вы принимали участие в облегчении судеб человечества… Все эти обстоятельства побуждают меня, как главу страны, к приятной обязанности выразить Вам, Монсеньер, мою искреннюю признательность и просить Вас принять уверения в моем совершеннейшем уважении и моей преданности.
Иркутск, 23 августа 1860 г.».
Письмо это свидетельствует о том, что Муравьева-Амурского и во многом загадочного Жан-Пьера Алибера обоюдная симпатия связала на долгие годы.
Граф и предприниматель, чью кровь едва ли можно назвать голубой, схожи были не столько чертами характеров, сколько доходящим до фанатизма упорством в достижении цели. Связующим звеном в этой странной дружбе могла быть и жена Муравьева-Амурского — в девичестве мадемуазель де Ришмон, француженка, дворянка, представительница знатного рода, вследствие глубокого влечения к русскому генералу принявшая православие и ставшая Екатериной Николаевной Муравьевой. Алибер напоминал молодой губернаторше о родине, ей было приятно слышать безупречный родной язык и внимать речам отнюдь не глупого человека, понимавшего к тому же толк в подношениях. Алибер был скорей расточителен, чем бережлив, умел вести себя, и хотя биография его изобиловала пробелами, ее нельзя было считать темной.
Жан-Пьер Алибер появился на свет в 1820 году. Отец его занимался, по-видимому, торговлей, и по его настоянию Алибер в четырнадцать лет оказался в Лондоне. Обучался ли Алибер в колледже или постигал экономические выкладки Адама Смита частным образом, неизвестно, но, так или иначе, по части предпринимательства он преуспел, сумев к семнадцати годам организовать в Петербурге меховое дело.
В столице империи Алибер и познакомился с Пермикиным — известным искателем самоцветов, знатоком Сибири, знавшим Саяны, как свой рабочий стол со всеми его потайными ящичками. Письменные свидетельства утверждают, что в семье молодого тогда Пермикина живой и любознательный Алибер обосновался в качестве парикмахера и учителя французского языка, что очень уж напоминает комедию с переодеванием, хотя в тех же источниках упоминается, будто Алибер к тому времени разорился.
Как бы то ни было, радушие Пермикина, выступившего в роли милосердного самаритянина, помогло Алиберу попасть в Иркутск не на пустое место, а имея кое-какие связи. Сибирские воротилы без рекомендаций не очень-то доверяли приезжим искателям счастья, каковым Алибер и был. Однако к моменту прибытия на берега Ангары финансовые обстоятельства его не только поправились, но и позволили принять участие в делах благотворительности. Двенадцать тысяч рублей пожертвовал он в пользу жителей Троицкосавска, сильно пострадавшего от пожара. Репутация мецената прочно укрепилась за Алибером, помогавшим иркутским приютам, учебным заведениям и бедствующим людям из низших сословий. Сделает Алибер приношение и в пользу Католической церкви. Как ни странно, деловые качества не заслонили в нем ту сторону натуры, которая жила мыслью о высоких предначертаниях и земной тщете, не получающей благословения свыше без духа парящего.
В Иркутске Алибер появился не иначе как в 1843 году. В торговом подворье он закупает меха, засиживается в бойких заведениях, заводит знакомства с рудознатцами, наводит справки о золотых приисках. С проводниками он сам выбирается в горы, с берегов горных речек вглядывается в камни и валуны, рассматривает образцы пород и спустя какое-то время неожиданно все бросает, катит в Петербург, а затем направляется в Европу. Вояж по Германии и Франции с конечной остановкой в Англии связан с более чем пристальным вниманием к производству карандашей. Меха и золото в его деятельности отходят на второй план. Страстью становится графит.
Английские предприниматели еще в 1565 году открыли в графстве Камберленд месторождение графита, качество которого оказалось лучшим в Европе. Благодаря Борроудельскому месторождению Англия на несколько столетий стала монопольным поставщиком карандашей высочайшего качества. Вывоз графита из Англии в его естественном виде был строжайше запрещен. Карандаши, изготовляемые фирмой Брокмана, были дорогим удовольствием, но раскупались нарасхват.
Борроудельское месторождение было своего рода графитным Клондайком, однако в 1840 году оно истощилось, а лихорадочные поиски чего-то подобного на берегах Альбиона оказались безуспешными. Подходили к концу и запасы второсортного графита, цена на который успела подняться до 400 франков за килограмм. Химическая очистка низкосортных пород, прессовка и добавка масел резко снижали качество карандашей. Наткнуться в этих условиях на месторождение качественного графита значило бы оказаться под золотым дождем. Не эта ли мысль захватила Алибера, став его всепоглощающей страстью?
Молодой предприниматель, по-видимому, имел основания для въедливого и скрупулезного изучения работы карандашных предприятий и посещений рудников, где он также надеялся получить необходимые сведения. Оказавшись в Иркутске, вероятно, через Пермикина, успевшего обследовать Тункинскую котловину и скалы Саянского хребта, Алибер познакомился с Черепановым…
Местный казак, с задатками куперовского следопыта, упорно стремящийся выбиться в сословие мужей от науки, Черепанов, не имея должного образования, все же кое чего добился. Получил офицерский чин и заслужил репутацию пишущего человека. Его статьи печатались в газетах Петербурга, а востоковед Сенковский (Барон Брамбеус) помещал в своей «Библиотеке для чтения» выдержки из его дневников и колоритные повести сибирского аборигена. Будучи как бы «последним из могикан», послужив и постранствовав по дебрям Сибири, совершив поездку в Китай и побывав в Пекине, Черепанов поселился в Тунке, где занимал должность начальника пограничного поста.
С покровительствующим ему Сенковским он разругался из-за Великой Китайской стены. Кабинетный петербуржец отказался признать, что «стена эта сделана с целью еще более возвысить скалы и тем защитить страну от северных ветров и холода», а не для защиты от врагов, для чего было бы достаточно перегородить ущелья. Озлобившемуся на издателей Черепанову Тунка пришлась по душе, и здесь-то с ним произошел случай, проливающий свет на всю последующую деятельность Алибера с момента его первого отъезда в Европу.
Однажды к начальнику пограничного отделения пожаловали местные охотники буряты с просьбой одолжить им свинца Большой нойон должен понять их положение и не дать пропасть. Желая остаться другом местного населения, но не имея больших запасов свинца, Черепанов снял со стенных ходиков свинцовые гири, для красоты обжатые листовой медью, и, решив разыграть наивных гостей, сказал, что добудет свинец из красного металла. Приняв слова нойона за чистую монету, охотники ушли с мыслью, что русский начальник знается с всесильными духами. Слух о русском шамане распространился по улусам, и вскоре к Черепанову явился еще один гость. Из охотничьего торока он извлек темные куски минерала и объявил, что это тоже свинец и его у бурят большая гора, вот только растопить его не удается. Но если уж нойон сумел получить свинец из меди…
Кое-что в горном деле Черепанов смыслил и понял, что перед ним графит Наездами бывая в Петербурге, знал он и то, что плавильные тигли из графита казна и золотодобытчики Сибири завозят из Англии, терпя при этом большие расходы. Это и заставило его побывать на Ботоголе, а позже и застолбить месторождение. Но сначала кондовый литератор приказал крестьянину Кобелеву нарубить той руды тридцать пудов, после чего она была доставлена в Иркутск. Увы, Тельминская фабрика, изготовлявшая огнеупорные горшки, забраковала пробу. Поверхностный знаток, Черепанов не мог догадаться, что графит взят с первичной оголи, где природные катаклизмы смешали его с известняками и песком. Алибер был посмышленей и, узнав от Черепанова о Ботоголе, понял — вот он шанс, который надо использовать во что бы то ни стало. И несколько лет продолжалась игра. Заодно и тайные походы в Тунку.
Не в интересах Алибера было посвящать казака-литератора, над странными вымыслами которого посмеивалось ученое общество Иркутска, в свои замыслы. Между тем Черепанов, отправившись в 1846 году в очередной раз в Петербург, чтобы скрестить клинки с Бароном Брамбеусом и оставить в газетах свои статьи, захватил с собой образцы графита, надеясь, что казна согласится выкупить его участок. Хотя бы дорожные расходы таким образом оправдать. Однако министр финансов Вронченко не принял его предложения.
Наконец-то Алибер дождался своего часа. Всего за триста рублей выкупил он у Черепанова месторождение, стоившее миллионы. Черепанов полагал, что и он не внакладе. Посмеиваясь над кутилой-французом, он был уверен, что иркутская негоция рано или поздно оберет его до нитки. Черепанову позже пеняли, что за триста рублей он продал Алиберу семь помещичьих поместий. К счастью, казак был набожен, следовательно, видел в происшедшем промысел Божий и не роптал на судьбу.
Алибер тоже не чужд был веры, обладал горячностью изворотливого гасконца, но, как Штольц из «Обломова», отличался расчетливостью и упорством при реализации своих намерений. Тщательно была подобрана партия рабочих, закуплено необходимое снаряжение, и Алибер с передовым отрядом разбил лагерь у подножия Ботогольского гольца. Ожидания его начинали оправдываться: графита было много, хотя и не лучшего качества. Впрочем, среди карандашного камня попадались отличные образцы, что вселяло надежду на жильные пласты. Ясно стало и то, что обустраиваться следовало на годы.
Два сезона непрерывной работы ощутимых результатов не принесли. Графит выпиливали, складывали штабелями, но качеством он не радовал. Рабочие роптали на продуваемые насквозь бараки, откуда зимой страшно было взбираться по крутизне увала на голое плато, где ничего не росло — пояс тайги оставался ниже, а на гольце свирепствовали арктические ветры После мучительных раздумий Алибер понял, что надо играть ва-банк или свертывать предприятие. Он решил рискнуть.
За короткий летний сезон француз впрок завез на рудник продукты, инструменты и запасы взрывчатки, одновременно развернув уже капитальное строительство. На берегу речки у подножия Ботогола появились ферма и скотный двор, был разбит огород и отстроен вместительный дом. Алибер не поскупился закупить породистых коров, заржали в конюшне лошади, птичий двор огласился заливистым пением петуха, а для полного уюта были завезены собаки и кошки.
Однако основное строительство Алибер развернул на вершине гольца, буквально прорубив к нему дорогу от нижнего подворья в скальных грунтах — так, чтобы можно было вывозить графит без особых хлопот. Теперь от крытого входа в шахту вела галерея в общую столовую, а надстройку над шахтой с островерхой башней и цветными стеклами завершил флюгер, на котором красовалась надпись: «1847 год». Лично для себя в центральной части гольца Алибер выстроил виллу с верандой, а неподалеку поставил прочные дома для рабочих. Воздвиг он и часовню, увенчав ее католическим крестом. Из пустой породы и низкопробного графита рабочие соорудили стену и два ветрореза, защищающие поселок от леденящих душу вьюг и снегопадов. Было намечено построить дорогу от Ботогола до Голумети длиной в сто пятьдесят верст.
Теперь, когда были созданы все условия для горнорабочих, Алибер всю свою энергию направил на то, чтобы достучаться до жильного графита высокого качества. Работать стали круглосуточно, и на это никто не роптал. Во всей Сибири не было ни прииска, ни рудника, где бы за труд платили так щедро, а уж питались ботогольцы не в пример каким-нибудь золотоискателям, которые сухари запивали квасом, а о залежалую солонину ломали расшатанные скорбутом зубы. Шахта углублялась, не прекращались взрывы, но графит на — гора выдавался все тот же: низкосортный.
Затраты не окупались, нависала угроза разорения. Приходилось часто выезжать в Иркутск, чтобы обмануть и успокоить кредиторов, начавших пугать долговой тюрьмой. Алигер был дипломатичен как никогда. С одним из жестких пройдох (неким Занадворовым) он составляет товарищество, прекрасно понимая, что подставляет свое горло коварному и ненадежному компаньону, но все-таки этот альянс лучше, чем ничего. Главное — выиграть время.
Алибер успокаивается и продолжает благоустраивать Ботогол, делает геологические вылазки, надеясь наткнуться на самоцветы, и даже обзаводится крохотной метеостанцией и обсерваторией. Он ведет дневник и разглядывает по ночам звездное небо. В Ботоголе случаются гости. Для них у излучин речек поставлены беседки, в которых можно отдохнуть после охоты. И тут приходит страшное известие. Графитовая выработка истощилась. Взрывы показывают, что дальше начинаются твердые породы — сиенит. В нем обнаружены лишь незначительные признаки графита.
На дворе 1853 год. Позади шесть лет неустанной борьбы с горой, на которую было потрачено почти все нажитое прежде. Алибер не вылезает из шахты, опытные друзья советуют прекратить работы. Сиенитовая перемычка, отделяющая верхний слой графита от нижнего, может достигать десятков, а то и сотен метров. Надежд на тонкий слой мало, с гольца надо уходить. Алибер никого не держит. Целыми днями он заново обследует шахту, лазает по горе, рассматривая выходы пород, а вечерами уединяется в часовне, стоящей на самой вершине, получившей название Крестовой Он тут единственный католик. Здесь его алтарь с портретами святых мучеников, Евангелие и несколько картин на библейские сюжеты. Цветные витражи в предзакатный час преображают убранство часовни…
Укрепившись духом, Алибер снова решает идти ва-банк. Он отдает распоряжение пробиваться сквозь сиенит, не жалея взрывчатки. Работы возобновляются. Лишь 3 февраля 1854 года на дно шахты наконец выбросило обломки графита. Это случилось в боковой выработке, названной Мариинской. Обследовав пробу, Алибер, опустошенный и радостный, долго сидел у стола. Обломок ничем не уступал борроудельскому графиту. Все еще не веря в удачу, Алибер упаковал образцы и поскакал в Иркутск. Лабораторный анализ подтвердил его предположения. А вскоре он убедился в том, что графита в шахте много. Опубликованная им статья в журнале Географического общества укрепила его репутацию.
Однако осуществить свою мечту полностью, построив в России карандашную фабрику, французу не удалось. Из-за истощившихся средств Алибер не мог учредить карандашное производство, а на приглашение войти с ним в пай никто не отозвался. Обманул его и Занадворов, мечтая, видимо, довести компаньона до банкротства и за бесценок скупить Ботогол. Но Алибер избежал этого, заключив контракт на поставку графита с известной фабрикой Фабера в Нюрнберге. Он довольно быстро окупил затраты. Большую партию графита ему даже удалось отправить в Германию благодаря сквозному пароходству, которое было организовано неусыпной деятельностью Муравьева-Амурского.
Долог был путь русского графита в Гамбург — через Дальний Восток и три океана. По зимним дорогам его везли в крестьянских розвальнях, лежал он на складах Шилки, дожидаясь навигации, и утекал ручейком за границу. Везли его и по Сибирскому тракту. И все же Фаберу это было выгодно — накладные расходы окупались с лихвой.
Роль поставщика Алибера не устраивала. Это давало доход, но средств было недостаточно, чтобы самому построить карандашную фабрику. Он предпринимает еще одну попытку заинтересовать партнеров, организует в зале Географического общества выставку, которая становится сенсацией не только в Иркутске.
«В числе этих изделий, — как сказано в летописи Пежемского и Кротова, — были штуфы цельного графита весом до двух пудов, а также бюсты Государя Императора и Ермака, завоевателя Сибири, изготовленные из цельного графита. Были также отлично выточенные и отшлифованные вазы и карандаши всех сортов и форм».
Увы, никто из держателей капитала дальше поздравлений и похвал не пошел. Здоровье Алибера подорвано. Ведь он сам валил деревья, с помощью канатов затаскивал их на гольцовое плато, вскапывал огород, пытался развести сад, обучал сибирских аборигенов доить коров и ухаживать за скотиной. Все это не могло не сказаться на могучем организме француза. Болели от ревматизма суставы…
В Петербурге Алибер узнает, что техника очистки и прессовки графита сделала огромные успехи и хорошие карандаши теперь можно получать из низкосортных минералов. Он принимает решение сдать хозяйство рудника доверенному лицу. Что-то в нем надломилось. В 1860 году Алибер возвращается во Францию. Он достаточно богат, чтобы ни в чем себе не отказывать, но память о Ботоголе продолжает преследовать его…
Рудник на знаменитой горе через пять лет после отставки Муравьева-Амурского посетил Кропоткин, а в 70-х годах там побывал Черский. Оба отметили хорошую сохранность рудника, но позже его все же разграбили и сожгли, а к жизни вернули лишь в 1925 году. Естественно, личность месье Алибера в эти годы уже никого не интересовала…
ГЛАВА 29 Изобретатель карандаша
Вкрадчивый ли голос Михаила Орестовича меня загипнотизировал? Или от водки разморило? Расслабил жар от раскаленных батарей центрального отопления в кабинете или двое бессонных суток сказались? Не знаю, но глаза мои стали закрываться сами собой. Хоть спички меж век вставляй…
Директор дома-музея закончил доклад, и публика поаплодировала.
— История сия достойна благородного пера великого Александра Дюма-отца! — последовал напыщенный комментарий Григория Сергеева, явно насмешливый.
Мне захотелось в том же роде добавить: «Дюма-сына и Дюма-духа святого», но я сдержался. С уважением я отношусь к этому плодовитому во всех смыслах французу, а в юности, так вообще зачитывался его бестселлерами о мушкетерах, графинях, кардиналах и королях.
— Как же он прошел мимо подобной истории? — сетовал Сергеев. — Тут и выдумывать ничего не надо! Жизнь симпатичного авантюриста месье Алибера — готовый роман. А сцены прописать для маэстро — дело техники.
Овсянников согласился, да и мне спорить было не с чем.
— А вы читали роман Жюля Верна «Михаил Строгов»? — спросил директор.
Мы с Григорием переглянулись недоуменно. Ясно, не читали. Я так даже и не знал, что у Жюля Верна есть книга с русским именем.
— Вот и я, к стыду своему, не читал, — признался Овсянников. — Но знаю, что роман описывает путешествие русского дворянина, императорского посланника, в сопровождении французского и английского журналистов из Санкт-Петербурга в Иркутск. Сам писатель, кстати, в Сибири не бывал. В процессе работы пользовался книгами европейских путешественников, в основном — немцев.
Во, как забавно: путешествие русского, француза и англичанина на основе немецких путевых заметок… Но время, кажется, поджимало. Взглянув на часы, я подал голос:
— Господа, мне представляется, что мы имеем честь опаздывать на прием к господину режиссеру.
Это наваждение какое-то. Находясь в доме высокородного русского аристократа, я невольно старался соответствовать — нелепо и вульгарно. Вот-вот на плохом французском заговорю…
Михаил Орестович, консультант, в последний момент все ж таки решился пойти с нами. Добрались мы до гостиницы, где поселилась кинотруппа, довольно быстро. Поднялись на нужный этаж. Все уже были в сборе: режиссер-француз, оператор-немец и актер-англичанин. Собравшийся в номере интернационал дополняли: Турецкий, переводчик, несколько гримеров и осветителей москвичей, мы с Сергеевым — сибиряки, и Овсянников, полномочный представитель музейных работников и сексуальных меньшинств в одном круглом и румяном лице.
В самом дальнем углу скромно сидел единственный в европейской киногруппе монголоид, бурят по национальности, недавно утвержденный на роль ольхонского шамана. Как потом оказалось — артист Иркутского театра юного зрителя. Он там обычно злых бабаев и бармалеев играл, им детей пугали… Кстати, узнал я его сразу. Черты лица глиняной головы, вылепленной Борисом Кикиным, полностью соответствовали чертам лица бурятского артиста. Как Борис слепил его, не имея фотографии, не понимаю. Впрочем, это начинает входить у меня в привычку. В смысле — непонимание…
Мы разместились подальше от начальства, поближе к окну, из которого открывался чудесный вид на старый город с белокаменными церквями и деревянными домами. К несчастью, вид несколько портили две длинные кирпичные трубы на заднем плане, изрыгавшие черный дым.
Я осмотрелся. Не было моих девочек — ни Жоан Каро, продюсера, ни Анны Ананьевой, переводчицы. Впрочем, нечего им здесь делать, на этом, как мне кажется, излишнем сборище…
Француз был элегантен и раскован.
Немец — взъерошен и возбужден.
Англичанин — тих и благороден.
Француз вещал с пафосом художника, почувствовавшего натуру.
Немец в основном специализировался на операторских комментариях.
Джентльмен тактично молчал, вероятно мечтая о пинте шотландского виски.
Режиссер начал с призыва к присутствующим русским коллегам проникнуться сутью замысла. Для этого ему пришлось кратко изложить синопсис будущего фильма. И начал он с пролога.
Вдохновенной речи не мешал даже сбивчивый и неточный перевод. Борис Турецкий был, похоже, с глубокого похмелья. Есть, оказывается, и у московской нации эта чисто русская проблема…
Я невольно слился в экстазе с французским творцом и начал мысленно представлять, как все будет выглядеть на экране. Причем — в жанре анимации, рисованного мультика. Не знаю уж почему, но фигурки, сознательно скверно изображенные, кривлялись, строили рожи, произвольно меняли форму… Наверно, крыша у меня поехала от двухдневного недосыпа. Или уже трехдневного?
Под двойную трескотню Поля Диарена и Турецкого над их головами, будто на экране кинотеатра, разворачивалось действо.
Дети. Точнее, карикатуры на детей. Много. Всех рас и народов. У каждого ребенка в руке карандаш, размером в рост ребенка. Один рисует клыкастую бабочку, второй — робота-убийцу, третий — щербатый солнечный диск с подбитым глазом… И вдруг один из карандашей оставляет на бумаге косой дождь и страшную зигзагообразную молнию, перечеркнувшую несуществующий экран по диагонали…
Видеть все это было выше моих сил. Вмешательство в обыденную реальность чего-то неуместного, потустороннего раздражало страшно. Я опустил веки, но изображение не пропало. Наоборот, сделалось четче. Что за черт? Или опять у меня третий глаз открылся? Чушь!
А на ненастоящем экране — настоящая буря, разразившаяся в английском графстве Камберленд XVI века. Свирепствует ветер. Деревья вырываются с корнем. А сквозь ночь пробирается бедный пастух в поисках заблудшей овечки…
У пастуха черты лица английского актера, на чреслах — шотландская клетчатая юбка, килт, на костлявые плечи накинут плащ.
Вот он, бедолага, спотыкается и падает в яму — лицом в грязь, плашмя, как падают спиленные в тайге деревья. Когда поднимает голову, грязи на ней нет, но черты переменились. Теперь у него глиняная голова мертвого бурятского шамана. Она гримасничает. Она смеется. Надо мной?.. Вместо юбки и плаща — шаманский костюм для камлания, похожий на боевые доспехи средневекового латника, но щит и меч заменяют бубен и посох…
Я потер лоб двумя руками, потом зажмурился что было сил, до боли в глазных яблоках… Ничего не произошло. Я продолжал видеть дурацкий авангардистский мультфильм…
В потоках воды, среди спутанных корней, при свете беснующихся молний пастух узревает черный пласт, который принимает сначала за входную дверь в Чистилище. Но это оказывается знаменитый камберлендский графит…
Мультипликационная картинка замерла, будто кто-то нажал на кнопку паузы видеомагнитофона. Вероятно, потому, что в привычный уже монотонный франко-русский дуэт откровенным диссонансом вторгся совершенно немузыкальный тевтонский тенор. Влез немец-оператор, непонятно кому доказывающий, что он обожает снимать рисующих деток, гуляющих собак и ночные грозы. И все это без дешевых компьютерных эффектов и тупых комбинированных голливудских приемчиков. С ним никто не спорил. Француз, дав немецкому сумеречному гению потешить самолюбие, продолжил.
Моя картинка ожила.
На графитном руднике графства Камберленд усиленная круглосуточная охрана. Но злоумышленники подкупают стражей. И вот за контрабанду графита на континент по королевскому указу без суда и следствия рубят злодейские головы…
Немец снова не выдержал и, жестикулируя, показал, как ему видится сцена казни. Главное, мол, сфокусироваться на голове, которая, часто помаргивая, падает с плахи на помост и по лестнице скатывается, как футбольный мяч, под ноги опьяненных кровавым зрелищем обывателей… Аналогия с футбольным матчем не случайна…
Француз, не дав закончить немцу, завершил пролог шхуной, рвущейся через Ла-Манш к художникам европейского континента, жаждущим графита.
На этот раз немец почему-то не вмешался.
Начиналось французское кино.
Режиссер спел гимн неутомимой гильотине. Косой нож сначала собирает урожай дворян, а потом — революционеров…
Наш герой приходится племянником знаменитому придворному художнику Николя-Жаку Конте. Художник чудом избегает казни, бросает писать картины и превращается в изобретателя. Новые власти остро ощущают необходимость в его интеллекте, и вот уже Конвент заказывает ему изобретение карандаша. Конте додумывается до смеси, придающей твердость и прочность хрупкому графиту…
Немец безмолвствует.
И тут возникает главная проблема на пути массового карандашного производства. Отсутствие графита…
Гражданину Конте является во сне Святая Дева в обличье Свободы на баррикадах и указывает штыковой винтовкой, почему-то времен Русско-японской войны, направление поиска графита. Само собой, на восток. Вот к чему, значит, мне привиделось русско-японское ружье…
Немец упорно не сообщал, как он будет снимать пышногрудую деву с республиканским триколором. Скрытничал. Удивить хотел, вероятно.
Племянник Николя-Жака Конте, Жан-Николя Конте отправляется в Сибирь…
В это время режиссера бесстыдно перебила женщина предпенсионного возраста, гримерша, москвичка по национальности. На ломаном русском она спросила: является ли Николя-Жак Конте исторической личностью, или он литературный вымысел сценариста?
Вместо ответа на вопрос Поль Диарен предоставил слово Михаилу Орестовичу Овсянникову. Тот не заставил себя упрашивать, зачитал доклад с готовностью.
Николя-Жак Конте, изобретатель карандаша
Николя-Жак Конте (Nicolas-Jacques Conte) родился в местечке Сиз, во Французской Нормандии в 1755 году. Происходя из небогатой семьи, в раннем возрасте он проявил художественные способности, стремление к знаниям и склонность к кропотливой работе, что и превратило его в одного из величайших ученых своего времени. Портретист, талантливый создатель миниатюр, он поехал в Париж, чтобы стать учеником Греза. Конте помогал ему на занятиях «Кур Каре дю Лувр» («Квадратный двор Лувра») и рисовал многочисленные портреты аристократов, среди которых были члены королевской семьи. Великая Французская революция положила конец его карьере художника. Зато тяга к знаниям нашла выход в научных работах, особенно в области механики, физики и химии. Сначала он спроектировал и разработал приспособление для чеканки монет и затем усовершенствовал процесс отбеливания хлопка. В начале 1793 года Конте был назначен ответственным за «разработку полезных орудий индустриального искусства». Это сделало его одним из соучредителей «Национальной школы искусств и ремесел». В том же году Учредительное собрание поспало Конте в Медон. Там он трудился над усовершенствованием надувания воздушных шаров для армии и разработал водонепроницаемый лак, который позволил использовать их как наблюдательные посты во время сражений.
Во время Египетской кампании Наполеон Бонапарт воззвал к изобретательскому таланту Конте, поручив ему найти способ предохранять винтовки от ржавчины и улучшить конструкцию запала для пушечных ядер. Конте выполнил поручение. Он придумал также гениальную систему подачи сигналов, разработал новые технологии производства сабель, барабанов и труб. Являясь членом Египетского института, участвовал и в других научных разработках, например в изобретении барометра. И с поразительной точностью вычислил высоту пирамид Гиза.
В 1794 году Конте изобрел карандаш с искусственным стержнем в ответ на срочную потребность Конвенции, так как из-за войны с Англией английский графит из Камберленда перестал поступать во Францию. Ему пришла мысль смешивать графит с глиной, что в конечном счете послужило основой для классификации карандашей по степени твердости (Т, ТМ, М…).
За изобретение этого процесса, который и по сей день остается наиболее часто используемым, Николя-Жак Конте получил патент № 32 в январе 1795 года. Он основал фабрику, продукция которой с тех пор и поныне известна под именем карандашей Конте.
Современная компания «Конти» является наследником самых выдающихся производителей перьев и карандашей. В XIX веке на всевозможных всемирных ярмарках за свое изобретение Конте был удостоен многочисленных наград.
Название «карандаш Конте» тесно связано с крупнейшими произведениями искусства. При создании своих работ эти карандаши использовали такие художники, как Делакруа, Милле, Коро, Тулуз-Лотрек и Пикассо.
Жорж Серо по аналогии с картинами «маслом по холсту» создал сто рисунков под названием «Рисунки карандашом Конте».
Хемингуэй и Джон Стейнбек писали только деревянными карандашами. Стейнбек часто говорил «Я колю (царапаю) бумагу». Известно, что он исписывал 60 карандашей в день. Тулуз-Лотрек говорил о себе: «Я — карандаш».
ГЛАВА 30 Графитовый шпион
Поль Диарен поблагодарил консультанта Овсянникова и продолжил:
— Итак, племянник Николя-Жака Конте, Жан-Николя Конте, отправляется в Сибирь…
Я склонился к самому уху Григория Сергеева и прошептал, что совершенно запутался в этих Жан-Жаках Николя. Художник, вымученно улыбнувшись, кивнул.
— А как фильм-то называется? Я до сих пор не знаю.
— «Графитовый шпион», — ответил Григорий.
— А почему?
— Слушай. Режиссер для того и распинается, чтобы тебе, дураку, сюжет объяснить.
Я увидел, как губы у него зашевелились, он беззвучно выругался и добавил почти спокойно:
— Единомышленников он, видите ли, ищет…
А француз, пропуская авантюрные подробности, сообщил, что по пути мужественный племянник спасает дочь иркутского золотопромышленника от нападения банды беглых каторжников или огромной стаи волков-шатунов.
Я так и не разобрался, от кого спас отважный французский племянник скромную русскую девицу — от волков или каторжан? Или от медведей? Какую именно возможность она упустила вследствие иностранного вмешательства во внутренние дела империи — быть съеденной или изнасилованной? В особо извращенной форме… без соли и во все отверстия… Борис Турецкий переводил настолько скверно, что это надолго осталось для меня загадкой. Нет, Анна Ананьева все-таки много лучше работает. Особенно — в постели…
Между тем мультик мой продолжал радовать меня авангардистским натурализмом и жесткой порнографией с элементами зоофилии. Жгучая смесь, неудобоваримая. Повлияли тут, вероятно, комментарии оператора Ганса Бауэра и рассказ художника-постановщика о том, что приобрел тот в Европе скандальную известность после работы над документальным фильмом «Гамбургские гамбургеры», повествующим об интеллектуальном каннибализме его сограждан. Впрочем, я могу что-то путать…
А на несуществующем экране над головами иностранцев увлекательное анимационное действо продолжалось.
Понурые волки-каторжане в кандалах и рубищах на изможденном сером теле. Их конвоируют бурятские черные шаманы в синей форме императорской жандармерии.
Мимо медленно проезжает открытая повозка, запряженная тройкой североамериканских медведей-гризли. На повозке, интенсивно работая тазом и гримасничая, исполняет танец живота скромная девица, счастливая обладательница крутых бедер, дынеподобных грудей, осиной талии и оголенных ляжек. В мини-юбке. Трусики черного цвета. Кружевные.
Вид их заводит плененных хищников до предела. Они мгновенно поедают бурятскую охрану и, аплодируя, бросаются к танцовщице. Чаровница довольна — успех оглушительный. Волки-каторжане тоже довольны. Им остается насладиться успехом в полной мере — с зоофильским минетом и обсасыванием на десерт сочных мозговых тазобедренных косточек… Ладно. Все равно незапланированное вмешательство племянника изобретателя сорвало к чертям собачим тщательно спланированную вакханалию.
Вот он на горизонте — один. Толмачи, проводники и охранники дали деру, что вполне понятно и по-человечески.
Жан-Николя Конте, изящный, как комарик. В правой руке — тонкая, будто игрушечная, шпажка, в левой — маленький фонарик. Или наоборот, если он левша…
Подсознание сработало мгновенно — фонарик со шпагой на изображении поменялись местами.
Кстати, этот фонарь, неважно в какой руке француза, указывал на то, что я до сих пор не забыл классику русской литературы для детей. А один из главных дошкольных бестселлеров, конечно же, «Муха-цокотуха». Кто в детстве не мечтал, подражая маленькому отважному комарику, расправиться с черным пауком-обидчиком? Впрочем, что потом делать с освобожденной, сексуально привлекательной мухой, в пять лет я представлял смутно. Автор произведения, вероятно, тоже. Поэтому они у него плясали и пили чай. Из самовара. Идиоты.
А француз неплохо дрался, честное слово! Орудовал шпагой и фонарем, как самурай двумя мечами. Сплошная мясорубка. Клочки шерсти, отсеченные хвосты и конечности, кровь, образуя порядочную речку, бурным потоком впадает в озеро Байкал…
Мечта корейца или китайца. В итоге — аппетитно освежеванные волчьи тушки. И наш герой у ног девицы. Не прекращая танца живота, она призывно машет рукой, она улыбается маняще.
Далее следует сеанс стриптиза. Жану-Николя на голову поочередно сыплются лифчик, кружевные трусики и повозка, запряженная тремя медведями…
Жану-Николя Конте не пять лет от роду, он знает, что делать дальше.
Мужской стриптиз. Под бравурную музыку советских композиторов храбрый спаситель сбрасывает верхнюю одежду, то есть фуфайку и меховые варежки-верхонки, подходит к уже обнаженной мадемуазель и…
Это какое-то наказание! Изображение испортилось, как всегда, на самом интересном месте. Сначала по экрану пошли цветные полосы, потом на мгновение все наладилось и я увидел два тела, сплетенных в сладострастном поцелуе, но — снова заполосило. А через минуту и сам несуществующий экран окончательно и бесповоротно прекратил свое иррациональное существование. Так и не подсмотрел я, что принято делать у мультяшек в постели, не обогатил свой нищенский сексуальный опыт. А ведь мог перенять какую-нибудь специфическую рисованную позицию… Но — не прокатило. Обидно. Третий глаз мой, наверно, закрылся. Да и первые два не лучше — сами собой закрывались, против воли.
А режиссер перешел к основному.
— Сегодня мы начали работу над заключительными, сибирскими частями. Францию и европейскую часть России отснимем позже. Итак, прибыв в Иркутск, племянник заселяется в гостиницу «Гранд-отель».
— Была такая до самой революции на улице Карла Маркса, — шепотом прокомментировал консультант.
А я улыбнулся, даже спать расхотелось. «Гранд-отель» на Карла Маркса — здорово звучит. Впрочем, почти вся российская глубинка оставила коммунистические имена улицам и площадям. Ждет, вероятно, когда жестянки-указатели проржавеют и отвалятся сами…
— Завтра с утра съемки в конюшне и гостиничном номере, где к главному герою…
Режиссер жестом указал на актера-англичанина, тот поморщился, но промолчал.
— Будет приставать русская проститутка!
Интересное кино. Надо по возможности познакомиться с актрисой. Может, с ней удастся обогатить свой нищенский опыт?
— Потом герой отправляется в дом к золотопромышленнику, дочь которого он спас от смерти…
Ясно, зачем я обдирал забор и раскидывал снег…
— Но золотопромышленник, сам мечтающий о графитных залежах, ценящихся в Европе дороже золота, обманывает спасителя дочери. Он рассказывает доверчивому французу о Черном камне на Ольхоне. Только не уточняет, что это не графит, а неведомый черный минерал, которому приклоняются тамошние шаманисты и к которому нельзя приближаться под страхом смерти…
И тут наконец очухался немец, словно проснулся. В натуралистических подробностях сладострастно объяснил, как он изобразит гибель племянника от шаманского проклятия. Главное, не поскупиться на судороги и живописные корчи крупным планом…
Наступила пауза.
Переводчик перевел дух.
Кто-то из московских осветителей спросил:
— Выходит, что зазря погиб французик?
Режиссер с извинениями обратился к директору Музея декабристов, спросил, захватил ли тот отвергнутый доклад об успешном французе? Овсянников доклада не захватил, но и без него, по памяти дает скороговоркой полную биографию Жан-Пьера Алибера.
После рассказа об успешном предприятии все та же гримерша-москвичка высказала предположение, что эта история вполне тянет на вторую серию.
Переводчик перевел для француза и немца.
Те довольно рассмеялись, потом долго пожимали по очереди руку консультанта, хлопали его по плечам, обнимали. Тот расцвел от столь бурного мужского внимания. Румяное лицо его сменило цвет на закатно-бордовый…
— Все решает продюсер, — подытожил режиссер. — Если сборы будут приемлемыми, то вторую серию о сибирском негоцианте галльского происхождения снимем обязательно!
А я задумался о парадоксах — Жан-Пьер Алибер родился во Франции, выучился у англичан, открыл разработку сибирского графита, поставлял его через Монголию, Китай, два океана и множество морей в Европу на немецкую фабрику, которая делала самые лучшие карандаши того времени…
ГЛАВА 31 Недоступен
Выйдя из гостиницы после необязательного этого сборища, мы с Гришей Сергеевым сперва распрощались с господином Овсянниковым. Он побежал по каким-то своим делам, подпрыгивая, словно мячик. Проводив его взглядом, Гриша набрал на мобильном номер и прокомментировал собственные действия:
— Целый день Стасу звоню, не могу дозвониться, — убрал телефон в карман. — Вот опять он временно недоступен… Ты чем сегодня дальше заниматься собрался?
— Думал, пока светло, на улицу Грязнова зайти, нумерацию и указатели на дома обратно прибить.
— Слушай, — оживился Сергеев, — давай я хозяину дома, где ты забор колотил, бутылку поставлю, он все сам и сделает. А ты со мной до мастерской Стаса дойдешь. Неохота, понимаешь, одному…
То, что я к изготовлению забора непричастен, своему шефу я говорить не стал. А идея с бутылкой мне понравилась. Если честно, я и сам о подобном выверте подумывал. Но идти к Стасу не хотелось. У меня глаза самопроизвольно закрывались, я засыпал на ходу. Третьи сутки на ногах. В глазницы словно песок всыпали. Красные у меня глаза, вероятно, как у кролика. И навыкате. Все три… Я усмехнулся, и Гриша, повернувшись ко мне, недоуменно спросил:
— Ты чего?
— Так, анекдот вспомнил.
Мы уже шли. Было светло, но вот-вот должно было начать смеркаться. Мимо сновали люди по своим каким-то делам. Они считали — важным. Очень-очень.
Мысли мои тоже сновали. Самопроизвольно. Я не имел над их маршрутом контроля, да и не хотел иметь. В данный момент я вообще ничего не хотел. И никого. Ни Жоан Каро, ни Анну Ананьеву. Ни костюмершу-москвичку с мужеподобными формами… Или она была гримершей? Неважно. Не хотел я также встречную даму, безвкусно одетую, и другую — со вкусом… Прохожих было много, и я подумал, что все они, люди, живут, будто бессмертны с рождения. Будто у каждого на банковском счету — по доллару под хорошие проценты. Пройдет сотня-другая лет, и ты — миллионер. Радужная перспектива. Что значит сотня лет для бессмертного? Мелочь!
Они боятся рисковать. Живут, будто на кону нечто важное. А ничего столь уж важного нет на самом деле. Ну что ты можешь потерять в случае фиаско? По максимуму — жизнь. Так она и без того не твоя. Тебе дали ее взаймы, и ее ты при любом раскладе потеряешь. Причем ты подписал договор, не читая. Срок возвращения кредита для тебя тайна. Может, завтра, а может, еще десяток лет кредитор повременит… Но какая, в сущности, разница — когда? Жить надо так, будто умрешь на следующие сутки. Жить, видя ее, костлявую, но и желанную тоже, у себя над левым плечом чуть сзади. Видеть и не бояться. Перемигиваться заговорщицки, глядя поутру в зеркало: «Что, мол, моя хорошая, не пора еще? Не пора… Но если что, ты только скажи, я готов…»
Я всегда готов. И другим советую. Настоятельно.
Хозяин двора на улице Грязнова разбирал забор, который сам и сколотил. Зачем ему два? На предложение бутылки среагировал адекватно, потребовал две. Для приличия поторговавшись, сошлись на одной, но ноль семь литра. Приемлемый компромисс для обеих договаривающихся сторон. Хотя зачем ему водка, ума не приложу. Жители деревянных частных трущоб в центре пьют не водку из магазина, а технический спирт, который стоит раз в пять дешевле. Его тут на каждой короткой улице в трех-четырех точках продают. И милиция об этом, конечно же, знает. Почти в открытую, уроды, торгуют, значит, и ментам пошлину отстегивают с баснословных своих доходов…
Спирт я пробовал как-то у Бориса Кикина. И зарекся. Отрава отравой со специфическим ароматом паленой резины. Наутро после принятия внутрь этой дряни мне было настолько скверно, что думал — помру… Многие помирают. И освобождают дорогостоящую землю в центре растущего города. Скоро все они поменяют место жительства на благоустроенные, с теплыми сортирами райские чертоги…
Подобное положение всех устраивает. Бизнесмены скупают освободившуюся землю. Муниципалитет экономит на здравоохранении. Пенсионные фонды — на сокращении числа получателей пенсии…
Президент тут недавно вмешался. После публикаций в прессе о массовых отравлениях «спиртосодержащими суррогатами». Можно подумать, раньше травились не массово… Но тут написали, и президент из телевизора разразился гневной речью. Как всегда, призывал мочить в сортире…
Милиция после призыва даже вмешаться не успела. Те пацаны, что взяли ее на содержание, оперативно позакрывали свои «спиртосодержащие» пункты… Акция закончилась, точки снова торгуют, как ни в чем не бывало. Через неделю все вернулось на круги своя… А здоровью нации спекулянты спиртом ничем не угрожают. Наоборот, санитарами природы работают, оздоравливают население, убивая слабых и малоприспособленных…
Черный юмор пер из меня, точнее, бурлил во мне, распирая изнутри. Еще немного — и лопну… Ладно.
Вот что я думал, пока мы с Гришей Сергеевым продвигались к мастерской Стаса на улице Уткина.
— Кто такой этот Уткин? — спросил я.
— Какой, на хрен, Уткин? — уточнил Григорий.
— В честь которого улица.
— Мальчишку трахнули в Иркутске, ему семнадцать лет всего! — с выражением продекламировал Сергеев, как на уроке литературы.
— Что за порнография? — поинтересовался я.
— Это Уткин написал, комсомольский поэт. Жил где-то здесь, уехал в Москву в двадцатых годах прошлого века, прославился…
— Серьезно трахнули? — Не поверил я Сергееву, что комсомольский поэт писал про гомосексуалистов, нет, не поверил.
— Куда уж серьезней… Но не трахнули, конечно, а шлепнули, то бишь расстреляли. Душещипательная история. Кажется, и песня была. По радио слышал в рабочий полдень. — И добавил с грустью: — Хорошая была передача «В рабочий полдень», душевная…
Ностальгию его по прошлому понять нетрудно. Он же, Гриша, молодой был — и девки его, поди, любили, и не болел после застолья, как теперь, по три дня, и сердечко не пошаливало, и печень вела себя прилично. А социализм… Кто его вспоминает? Ну а если и вспоминает, то только хорошее. Не очереди и пустые полки в магазинах, не КГБ и «железный занавес», а то, что передача «В рабочий полдень» была душевная, а рекламы в телеэфире не было вовсе… А то, что соседа взяли, так сам виноват, враг народа!
— Где его, блин, черти носят? — сетовал Григорий после очередного звонка на мобильный Стаса, когда мы подходили к знакомому дому, выстроенному сумасшедшим архитектором в форме буквы «Ж».
Архитектор спился и умер. Это точно. Сначала он пил дорогие коньяки, потом дешевую водку и, как достойное завершение любой русской профессиональной карьеры, — технический спирт, производимый из паленой резины. Так я думал. И еще я думал: откуда в нашей стране столько паленой резины? И еще: паленой резины хватит на всех. Россия провоняла ею насквозь. Даже снег. Даже душа. Аминь.
— Как ни позвоню — недоступен… что за черт? Отключился он, что ли? — продолжал песнь о своем нерадивом ассистенте Григорий.
Я его не очень слушал. Я думал, что хочу на Ольхон. Там, должно быть, пахнет по-другому. Бурятским тарасуном пахнет… Впрочем, бурят не доят. Тарасун, со времен Чингисхана, готовят из молока молодых кобылиц. Откуда в наше время на Ольхоне кобылицы? Тем паче — молодые? Там, вероятно, пахнет, как везде в Российской Федерации — паленой резиной. И смертью. Я вдруг почувствовал ее пристальный взгляд и приторный запах. Смесь какая-то ладана из церкви, формалина из морга и цветущей черемухи с заросшего кладбища. Это детские еще ассоциации. С недавних пор к ним примешивался запах паленой резины — скорее всего, автомобильная покрышка, трущаяся об асфальт в тщетной попытке затормозить, — и вонь сгоревшей проводки из электросчетчика. Еще — дурманящий аромат свежей древесной стружки, пропитанной кровью, тоже, понятно, свежей… Чушь, конечно, но я невольно оглянулся и, мне показалось на мгновение, увидел глумливую старушечью ухмылку. Я вздрогнул. Остановился. Присмотрелся — не было никого за моей спиной…
Здоровый образ жизни надо вести, спать по ночам надо, а не трахаться с продюсерами за сотню баксов…
— Ты чего? — спросил Григорий.
— Ничего. Мужика, показалось, увидел знакомого.
— И что?
— Обознался.
— Ну, так идем? Долго собираешься стоять посреди улицы?
Я не ответил. Догнал двумя широкими шагами товарища, и мы свернули к нужному подъезду. Сергеев здесь, вероятно, бывал, шел уверенно. На ходу он снова достал мобильный и снова чертыхнулся после звонка:
— Стас временно недоступен!
У подъезда стояли люди. Много, человек двадцать. И две машины — милицейский «УАЗ» и «скорая помощь». Нет, припарковано у дома было машин значительно больше, но как-то не вызывало сомнений, что они — не в теме, а эти две — в центре событий.
Я давно чувствовал недоброе и подозревал, что слово «временно» из последней фразы Григория попросту неуместно. Уместно: «навсегда» или «во веки веков»… Аминь. Аминь? Что я несу?.. Действительно, что?
Народ стоял негусто, кучками по нескольку человек, а в пяти шагах от подъезда под окнами лежало нечто, накрытое белой простыней. Или некто? Да, вероятно.
Рядом стояли мент с тремя звездочками на погонах и два медработника в форменной одежде салатного цвета. Они переговаривались о чем-то, потом старлей приподнял простыню. Мы подошли уже достаточно близко, и я узнал Стаса. Он лежал, будто спал. Признаки насилия на спокойном красивом лице отсутствовали. Может, и правда утомился, прилег отдохнуть… Господи, что я несу?
— Забирайте, с ним все ясно — личность выяснена, в квартире — работают, — сказал старший лейтенант.
Мы подошли вплотную, остановились.
— Знаете, куда везти? — спросил мент.
Ребята салатного цвета кивнули. Оба. Старлей отпустил простыню, и она упала, не закрыв лица Стаса полностью. Никто поправлять не стал. Мент сел в машину, и через минуту она отъехала. Санитары переложили тело на носилки, потом затолкали в заднюю дверь «скорой». Помощи больше не требовалось. Ни медицинской, никакой. Стас был безнадежно мертв…
У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Не слон. Я взглянул на экран сотика — Анна Ананьева, переводчица. Не хочу сейчас с ней говорить. Даже если она по просьбе Жоан звонит, все равно — увольте. Убрал сотик в карман.
Пусто. Пусто внутри, будто на бесконечной, безлюдной равнине, где только снег и небо, отраженные друг в друге… небо и снег…
И не существовало ни Мирового Дерева, ни Матери-Хищной Птицы с железным оперением, несущей яйца-души. Ничего живого или псевдоживого. Не было даже мифа, потому что некому было его создать или просто услышать. Я — один. И снег. И небо. И моя тоска, и моя боль. Мое двусмысленное нежелание жить и умереть одновременно. Хотелось существовать в ином качестве, над жизнью и смертью, вне их. Но — как? Разве подобное возможно? Даже для небожителей-тэнгриев, даже для духов озер и рек, заснеженной земли и подземного мира… Возможно все, что мыслимо.
Я стоял на заснеженной бесконечной равнине под равнодушными пустыми небесами. И не было ничего ни вокруг, ни внутри меня. Не было даже мыслей…
— …Может, пойдем к Борису Кикину?
Я бездумно кивнул и понял, что Григорий Сергеев давно говорит что-то, но речи его плавно скользят мимо моих ушей. Но разве это имело хоть какое-то значение? Слова — они и есть всего лишь слова. Нечто, возникшее посредством голоса, сотрясающего воздух. В определенной последовательности чередующиеся звуки… Как нелепо. Как безнадежно. Зачем?
То, что последний вопрос я произнес вслух, дошло до меня, когда Григорий на него ответил:
— Как зачем? Я же говорил только что. К Боре Кикину — Стаса помянуть. Идем?
Почему нет? Стукаческого прошлого Стаса, если оно вообще не поклеп, я не знал, а вел он себя перед смертью вполне по-человечески. Да и вообще, о покойном либо хорошее, либо — молчи в тряпочку…
— Пошли. Выпьем за помин души.
«Скорая помощь», нещадно коптя, с трудом разворачивалась в узком пространстве меж припаркованными у подъезда машинами. И мне показалось вдруг, что я вижу, как витают над ней беспокойно две прозрачные, призрачные тени — души новопреставленного. Одна из них через два дня на третий вернется в бесконечное вращение колеса сансары в поисках нового бессмысленного рождения, а другая навсегда останется на земле, станет боохолдоем. Добрым или недобрым, как знать?
Есть еще и третья, высшая, но она отлетела мгновенно в момент смерти на Небеса, присоединилась к небожителям…
Значит, место в Раю забронировано за каждым? Точнее сказать, лучшая треть каждого человека достойна Неба и Вечности.
Но тогда что выходит? Две твои кровные трети — в зловонную дырку нужника? Обидно.
ГЛАВА 32 Полноправный член
Когда Боря Кикин открыл нам дверь, в нос мне шибануло наотмашь. Запах мертвечины усилился настолько, что заходить не хотелось. Что все-таки пропало у него в квартире? Я вроде бы все проверил, нет никакой тухлятины. Бывает, крыса под полом сдохнет и смердит потом неделями. Не помню, кто рассказывал, что полы из-за этого вскрывать пришлось. Может, и здесь крыса сдохла?
Прошли мы, как это в России принято, на кухню. Мало что здесь изменилось. Деревянный квартирант по-прежнему сидел в теплом углу и по-прежнему без головы. Впрочем, теперь она стояла посередине стола, уже отлитая в желтом воске. Классно получилось. Сергеев осмотрел ее придирчиво, как врач-терапевт, даже лоб потрогал, будто температуру смерил. Жара, вероятно, у головы не было, и Григорий ее похвалил. Потом переставил от греха подальше на подоконник.
Теперь я мог сравнить ее с внешностью живого бурятского актера. Получилось у Бориса не просто похоже, идентично. Вот только жизни в голове не было, да и нераскрашенной она оставалась — однотонный бледно-желтый восковой цвет. Как у покойника, честное слово… Впрочем, так и надо, покойника она и должна имитировать.
Весть о гибели Стаса Борис Кикин воспринял на удивление спокойно, без показного сочувствия. Впрочем, я уже обратил внимание, что после ранения и суточного своего сна, Боря переменился значительно. Не знаю, лучше он стал или хуже, но теперь он другой, малознакомый мне человек. Хотя то, что он перестал пить водку, просто замечательно, но, как оказалось, он и не ест почти…
А я, напротив, хотел и того, и другого, и, стыдно признаться, третьего… Пустота внутри меня, как вакуумный насос, жадно жаждала заполниться без разбору всем, чем возможно. Едой и питьем, наслаждением и страданием, страстью и болью…
Григорий Сергеев, выкладывая на стол продукты с бутылками, заканчивал скорбную повесть:
— Так вот он и погиб, Стас. Только непонятно, отчего? Что его толкнуло шагнуть с пятого этажа? Или, может, помог кто-нибудь?
— Ну, с балкона, бывает, и случайно срываются, — не согласился Кикин. — Вышел покурить, перегнулся за перила и — привет родителям.
— Нет там вообще балконов в крыле дома, где у него мастерская. А из окна вряд ли без посторонней помощи вывалишься.
Боря пожал плечами:
— Да я не спорю, может, и помог кто. Мало ли добрых людей? В тех службах, где Стас на жизнь зарабатывал, модно таким образом своих коллег на пенсию отправлять. Хотя в последнее время все больше спецьядами травят или…
— Хватит сплетни повторять, — прервал его Григорий. — Ты что, Борис, удостоверение сексота с его именем в руках держал?
— Не держал, вынужден был признать тот.
— Так чего тогда языком треплешь?
— Перестаньте, мужики. — Теперь уже я вмешался. — Нашли, блин, время… О покойном или хорошее, или ничего!
— Да суеверия все это! — Сергеев завелся не на шутку. — Религия — опиум для народа! Нет ни Бога, ни дьявола, ни ада, ни рая! А умирая, человек просто умирает, и все!
— Смерти нет, сказал Борис негромко.
Я посмотрел на него с удивлением.
— Не понял, как это — нет?
— Покуда ты живой, нет смерти, а когда умрешь, не станет тебя самого. Вот и выходит, что они не пересекаются никогда. Для живых нет смерти, для мертвых — жизни.
Нечто подобное я, кажется, где-то читал. Услышать вот такое, заумное, от Бори прежнего было непредставимо, а от теперешнего, смердящего — даже не удивляло. Что же все-таки настолько его изменило?
И еще одно. Был он теперь внешне — вылитый бурят, ничего европейского в чертах лица не осталось. Что, блин, за странные метаморфозы?
Григорий разлил, и мы подняли стаканы. Кикин тоже. Не мог он отказаться помянуть товарища, не по правилам это. Но лицо скривило отвращение, будто ему не водку, а мочу предлагали употребить…
После кратких слов Сергеева, не чокаясь, мы выпили за упокой души раба Божьего Стаса. Кикин протолкнул в один глоток, зажмурившись. Я следил за ним. Он поставил стакан, чихнул. В глазах его заблестели слезинки, кожа на монголоидном лице пошла бордовыми пятнами, которые на глазах приобрели фиолетовый оттенок. Через минуту Борис, зажав рот ладонью, опрометью помчался в туалет, где, судя по рычанию и стонам, его не просто рвало, выворачивало наизнанку.
— Что это с ним? — удивился Сергеев.
— Не приемлет организм алкоголя, пресытился, вероятно.
— Вот и отлично. Проживет дольше.
Я почему-то сильно в этом сомневался, но промолчал, оставил свои домыслы при себе. Кстати, как только Борис вышел, дышать на кухне стало легче. Трупный запах не исчез вовсе, но в отсутствие хозяина квартиры изрядно притупился, сделался не таким острым. Но что же все-таки смердит?
Я посмотрел по углам, заглянул в холодильник, в кухонные шкафчики. Нечему там было пахнуть.
— Ты чего ищешь? — поинтересовался Сергеев. — Вторая бутылка у меня в сумке, но мы и первую едва начали.
— Я не водку ищу. Воняет чем-то, а откуда, понять не могу.
Григорий шумно втянул ноздрями воздух, пожал плечами:
— Мерещится тебе. Ничем здесь не воняет.
Значит, не чувствует он. И Буратино, вальяжно развалившийся на стуле, тоже. А голову его восковую так вообще обдувало из щелей окна свежим морозным воздухом со двора… Но, кстати, и третьего глаза на бревне Григорий не увидел. И на иллюстрации — тоже. А я-то вижу, чувствую, пусть и не всегда. Странно.
Из сортира доносилось рычание саблезубого тигра, угодившего в костер коварного пещерного Маугли. Или бабра с иркутского герба, укушенного в нос юрким сибирским соболем.
— Гриш, пока Боря унитаз пугает, давай Бурхана посмотрим.
Сергеев проявил живейший интерес, и мы направились в дальнюю комнату-мастерскую.
После вполне понятной рокировки забракованная скульптура с отрубленным носом и глазами истукана с острова Пасхи лежала вдоль стены, а на ее месте в горе стружки и опилок посредине комнаты новое бревно. На этот раз мастер, очертив контуры лица, доводку начал снизу. В дереве уже проступили последовательно подбородок, оскаленная пасть, полная кривых, как сабля, зубов, надутые щеки. Глаза, кроме третьего, оказались нарисованы простым карандашом, который валялся поодаль.
Гриша стал рассматривать начатую деревянную скульптуру, а я поднял с пола карандаш. На одной из шести граней было написано на латинице: «Кохинор». И дальше: «made in Europe». Век живи, век учись. Про алмаз с таким именем я что-то слышал, вроде проклят он еще с древности и несчастья приносит. А то, что есть одноименная карандашная фирма, не знал. Откуда, интересно, карандаш — из Франции, Германии или Англии?
— Неплохо, неплохо…
Я услышал голос Сергеева, положил карандаш на подоконник и повернулся к Бурхану. Я его ничуть не боялся. От бревна исходило слабое голубое сияние, а несуществующий третий глаз, как припорошенный пеплом уголек в погасшем кострище, тускло алел во лбу монстра. Сияние было ровным, без всплесков, словно дремал дух Бурхана, заключенный в дереве. И слава всем богам, христианским и языческим. Пусть спит.
Григорий, конечно же, не видел в бревне ничего, кроме бревна, а я ему о сиянии говорить не стал, все равно бы не поверил.
— Этот Бурхан больше похож, — одобрил Гриша, — вот только успеет ли Боря закончить? Через два-три дня на Ольхон едем.
— Я-то еду?
— Конечно. Тем более — Стас погиб. Ты теперь, Андрей, полноправный член киногруппы, ассистент художника-постановщика.
Ничего не скажешь, приятно быть полноправным членом. Но какой ценой? Впрочем, о чем я? Я, что ли, Стаса устранил? Нет на мне его крови! Или есть?
При возвращении нашем на кухню мне попался на глаза шаманский бубен, что по-прежнему висел на обшарпанном ковре над Борисовым диваном. Я остановился как вкопанный.
— Ну, ты чего встал? — одернул меня Григорий. — Пошли еще тяпнем по сто грамм за упокой души.
— Иди, я сейчас.
Он ушел, а я остался стоять напротив бубна. И возникло вдруг во мне необъяснимое желание, в чем-то сходное с сексуальным, но, пожалуй, глубже. Да и направлено оно было явно на другой какой-то орган — не на низ живота, а на голову, точнее, на макушку — в ней заломило сладостно и больно. Седьмая, кажется, чакра — «Дыра Брамы»…
Мне хотелось прикоснуться к бубну, потрогать шершавую его, тугую кожу, погладить, прижаться щекой…
Я не заметил, как бубен оказался в моих руках. Осторожно провел ладонью по его теплой поверхности, и он словно отозвался на прикосновение, ожил — запульсировала кровь, заиграли мышцы под кожей…
Боря говорил или я еще где-то слышал, что бубен — ездовой конь, на котором шаман может достичь миров запредельных — Небес и Преисподней. Чушь, конечно, но было, было в нем нечто… не подберу слов…
Неожиданно для самого себя левой рукой я поднял бубен над головой, а правой ударил по его гулкой поверхности…
И не услышал ни звука. И не ощутил тугой барабанной кожи под пальцами.
Жесткая судорога прошла по телу, я упал на пол, но бубна не выпустил. И болезненная какая-то эйфория заполнила меня целиком, накрыла с головой, утопила…
Перед тем как погрузиться в небытие, я успел увидеть:
безграничную заснеженную равнину;
Мировую Ель с гнездами на ветвях;
Мать-Хищную Птицу с железным клювом и оперением, парящую в сумеречных небесах;
Дьяволицу-Шаманку, у которой один глаз, одно плечо и одна кость. Она укачивала меня в железной люльке и кормила вкусной запекшейся кровью. Я ел с аппетитом, и все мне было мало, мало…
— Еще! — кричал я Дьяволице-Шаманке. — Еще!!!
И она, добрая и ласковая Дьяволица, протянула мне своей единственной, когтистой лапой, похожей на птичью, замечательный кроваво-черный кусочек. Я ухватил его, потянул к себе, но он ускользал, ускользал… не откусить, не проглотить, не почавкать… Ну что же ты, милая Дьяволица? Почему жадной сделалась? Ну же!
ГЛАВА 33 Могила Ольхона
Я лежал на полу, а надо мной склонились Григорий с Борисом. Последний держал в руке бубен, вырванный, как я понял, из моих сведенных судорогой пальцев. Тело мое было чужим и меня не слушалось. Поза, в которой лежал, — замысловатой и неестественной. Словно первобытный дикарь в истерическом ритуальном танце замер вдруг, превратившись в одеревеневшую скульптуру, на полутакте тамтама…
Нечто похожее со мной, вероятно, и случилось. Я лежал навзничь, не касаясь спиной пола. Невероятным образом тело держалось на трех точках — на запрокинутом затылке и пятках. Руки и ноги, будто сделанные из мягкой проволоки, были разведены в стороны и перекручены. Эк меня скрутило…
А Григорий с Борисом уже поднимали, ставили на нога мое непослушное чужое тело. Но контроль над ним стал ко мне возвращаться. Постепенно, не сразу. Я попытался сделать шаг и покачнулся. Меня тут же усадили на диван.
— Как ты? — спросил Григорий.
Я захотел ответить, но не смог. Захотел улыбнуться, но вместо ободряющей, успокаивающей улыбки мышцы лица сложились в такую гримасу, что друзья перепугались до предела.
— Говорил я ему, нельзя даже касаться шаманского бубна непосвященным! — причитал Борис. — Это же смерти подобно! Все равно что младенца посадить на необъезженную лошадь!
— Ты-то сам тоже не посвящен, а бубен в руках держишь, — проворчал Григорий.
— Я другое дело, — заспорил Борис, — мне этот бубен от отца достался, а тому шаман с Ольхона подарил. Подарки не убивают!
— Слушай, Боря, хватит херню пороть! У Андрея эпилептический припадок, а ты заладил, как дурак: бубен, бубен… В задницу себе его затолкай!
Этого Борис делать не стал, не последовал доброму совету товарища. Он вернул бубен на гвоздь в стене, где тот раньше висел.
— Чего встал? — продолжал Григорий командовать. — «Скорую помощь» вызывай!
— Не поможет ему «скорая», — отозвался хмурый Борис. — Я знаю, что ему поможет.
Он вышел и через минуту вернулся с полным стаканом воды. Поднес к моим губам.
— Пей давай!
Я попытался, но больше текло по губам и щекам на рубашку. Немного попало все ж таки в желудок, и я понял, что это не вода, а водка. С ума он, что ли, сошел, целый стакан!
Я отобрал не расплескавшуюся еще половину и допил уже по-взрослому, одним махом. Поить меня вздумал… Что я ему, младенец на лошади?
Грубо отбросил протянутую Григорием руку помощи.
— Сам!
Встал с дивана. Взглянул победно на товарищей. Усмехнулся.
— Во, что водка с людьми делает! — прокомментировал Григорий. Посмотрите на него, ожил! А только что будто в припадке падучей бился!
Болезненная эйфория за гранью сознания не забылась. Она и не забудется теперь никогда. Она — часть меня… Я с опаской покосился на бубен. Ишь, как он, зараза, на меня подействовал…
Впрочем, рассуждать не хотелось. Тело обрело невесомость и силу одновременно. Я согнул правую руку в локтевом суставе, и раздувшиеся мышцы едва не порвали тонкую ткань.
Пусть смотрят, слабосильные дебилы, на мою мощь, на мою потенцию!
В штанах зашевелилось, напрягая богатырские мускулы…
Но к мужикам я равнодушен. С мужиками можно водки выпить для затравки, а уже потом…
Что будет потом, представлялось смутно, но точно что-то буйное, необузданное, первобытное… Как кровавая охота на мамонта. Как шаманское камлание над телом человеческой жертвы. Как убийство врага с последующим поеданием живьем… Об очевидной логической несообразности последнего предполагаемого действия не думалось. Возможным казалось все, любая нелепица.
Хотелось действовать. Почему я стою столбом, как робкий профессор ботаники?
Водки!
Женщин!
Зрелищ!
Немедленно!!!
Я прошел на кухню, не обращая больше внимания на двух людишек. Одному из них жить оставалось всего ничего — с четверть века, второй — почти покойник. Нетерпеливо дрожащие душонки его висели на последних нитках, вот-вот готовые оторваться и разлететься кто куда.
«Скорее! — вопили они. — Мы устали! Мы жаждем свободы! Помоги нам, Великий!»
Я не удостоил их ответом, не вмешался. Пусть все случится, как предначертано!
Я выпил всю водку со стола, полторы бутылки, прямо из горлышка и не напился. Потом съел всю еду и не наелся. Людишки что-то возражали — кричали, махали ручонками… Их действия не вызывали во мне ничего, кроме смеха. Громкого, демонического смеха:
— Ха-ха-ха-ха!!!
Я пошел к выходу. Оставаться здесь не имело смысла. Ничего интересного не предвиделось. Мне хотелось еды, питья, женщин и буйства.
Мне что-то кричали вслед, я не слушал. Но все ж таки где-то глубоко-глубоко в сознании, в той его части, где оставался еще слабый и смертный мой предшественник, шевельнулась неприятная мысль: «А не сошел ли ты с ума, Андрей Татаринов?»
Чушь! Я здоров! Здоровее не бывает!!!
По дороге домой я звонил Жоан Каро и Анне Ананьевой. Каждой — дважды. Недоступны. Недоступны? Для меня?! Они?! Недоступны?! Мне доступен весь этот мир! Легко! С потрохами!!!
В приступе ярости я едва не расхлестал сотик об асфальт. Остановила пришедшая в голову идея: проститутка! Как там ее звали?
Посмотрел в адресной книге мобильника. Ее звали Путана. Так я ее обозначил. По хрен, путана так путана…
Если это и было безумием, оно мне нравилось. Очень. Я купался в нем, как под водными струями нестерпимо ледяного душа. Или нестерпимо горячего?
Уже дома, пожирая из холодильника яйца вместе со скорлупой, сосиски вместе с целлофановой оберткой и откусывая от целого батона, я набрал номер.
— Андрей?! Это вы?
Она узнала мой номер, но не удивилась звонку, обрадовалась.
— Я не Андрей. Называй меня Кохинор, — неожиданно для себя самого произнес я хрипло. — Запомнила? Ко-хи-нор!
— Запомнила, запомнила. — Она явно не знала, о чем говорить со мной. — Как вы поживаете, Ко-хи-нор?
Дура. Будто не знает, что мне от нее надо.
— Приезжай.
— Конечно. Через два часа я освобожусь и…
— Немедленно.
Она смолкла на мгновение, вероятно приходя в себя от радости, потом произнесла, еле слышно:
— Хорошо, я еду, но… — и снова будто споткнулась.
— Говори, женщина!
— Я боюсь. В прошлый раз было здорово, правда, но еще раз… Можно, я возьму с собой подругу?
— Хоть двух! — разрешил я милостиво. — Как тебя зовут?
— Так же, как всегда. Мне говорят: приходи, и я прихожу…
Она пришла единая в трех лицах. Но как раз лиц-то я не запомнил. Впрочем, и не старался…
Имя первой было Вероника. Блондинка с печальными коровьими глазами, с обширной грудью, широким тазом и виноватой улыбкой… Я вставил ей стоя у входной двери. Она стонала, как ненормальная, и, виновато улыбаясь, все повторяла:
— Андрей… Андрей… Анд…
— Я — Кохинор! — поправил я ее. — Мой грифель остро заточен и тверд, как королевский алмаз, приносящий несчастья. Царственные несчастья!
Имя второй было Надежда. Рыжеволосая восторженная особа предпенсионного для путан возраста, хорошо за тридцать. Я овладел ею в дверном проеме между комнатой и прихожей. Сзади. Она кричала. Ей было больно, и это было хорошо.
Она выкрикивала сквозь слезы:
— Ты — Кохинор! Ты приносишь царственные несчастья! Урод!!!
Она кончила и рухнула на колени. И осталась лежать, ловя открытым ртом воздух. Как омуль, выброшенный на скалистый берег Байкала.
Имя третьей было Любовь. Она на это имя отзывалась, но я ее так не звал. Разве можно о любви в постели?
Она была худой и костлявой, жгучей брюнеткой, отзывчивой еще до прикосновения. Нервной и агрессивной.
Я взял ее на диване в традиционной позе. О да, она действительно была крайне традиционных манер! Она вертелась, как уж под вилами. Она кусала меня везде, где могла достать, а когда не могла — материла, как мегера. Длинными загнутыми когтями царапала мою спину и грудь, превращая их в кровавое месиво. И это было хорошо. Я разорвал на ней одежду в клочья. Я бил ее по щекам с размаху, а она все повторяла иступленно:
— Еще! Еще!! Еще!!!
А потом мы провалились с ней в Ад. И этот Ад оказался Раем. Языческим Раем…
Я лежал на диване, раскинув конечности, и женщины прижимались к моему телу со всех сторон. Они были всюду. Они гладили, целовали и плакали. Они причитали по мне, как по покойнику… Если уместно покойнику делать минет…
— Я — Кохинор, — говорил я слабым голосом, и женщины вторили мне:
— О да, ты — Кохинор! Твой грифель остро заточен и тверд, как алмаз, приносящий несчастья…
И они плакали, и я плакал. И от наших слез стало сыро, как в глубокой гулкой пещере или материнской утробе. И я вспоминал, как умирал уже неоднократно, унося с собой миллионы жертв. И впервые это случилось давным-давно, в те времена, когда люди не изобрели еще календаря. В те времена, когда земля была плоской и покоилась на хребте огромной рыбы, судорожно вцепившись в ее спинной плавник…
Я умер около острова Ольхон на байкальском льду в это же самое время года.
И тогда я встал, стряхнув с себя женщин и усталость.
Распихал по карманам всю свою наличность, как в рублях, так и в долларах.
— Поднимайтесь! — сказал я. — Мы едем на Ольхон. На мою могилу. Немедленно!
Женщины не возражали, но просили несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Я не дал им этого времени.
Я не стал надевать свитер, куртку и шапку. Я вышел на дорогу в джинсах и обнаженный по пояс. Со спиной и грудью, превращенными Любовью в кровавый полусырой бифштекс. Женщины тоже выглядели неплохо.
Завидев нашу компанию, водители прибавляли скорость. Наконец один ненормальный остановился.
— Я — Кохинор! — сказал я, и водитель почему-то нажал на газ.
Впрочем, у него все равно ничего не вышло. Я успел поднять легковушку за задний бампер и держал на весу, покуда девочки лезли в салон.
Я сел на переднее сиденье и дружелюбно улыбнулся водителю:
— Ольхон! Могила! Сотня баксов за каждого сбитого пешехода!
Он часто закивал. Он все понял и повез нас на Ольхон. На могилу…
Дорогой мы пили дорогой коньяк. Или недорогой? Или в придорожной кафешке за грязным столиком? Не помню. Все смешалось в Доме-музее князя Трубецкого… Или Волконского?
Шофер оказался записным мазилой. Или сто долларов ему лишние? Он что, миллионер за рулем подержанной японской иномарки? Как бы то ни было, ни одного пешехода мы не сбили. Все в последний момент уворачивались. Или пешеход пошел увертливый, ловкий с рождения? Черт знает. Да и он знает ли?
Но напоить мы таксиста все ж таки напоили. Да и куда бы он делся, когда такие веселые раскованные девчонки на ходу ему в глотку коньяк заливали?.. А вот насчет остального с девицами ему не обломилось. Хотя я не жадный, мог бы и угостить…
Как приехали, не упомню. Но вышли — аллея заснеженная, а вдоль нее могилки с крестами да со звездами да обелиски благородного камня. Благодать.
— Что это? — спросил я. — Куда ты нас, курва, привез?
— Куда просили, — ответил пьяный таксист, — на могилу Ольхона. Вон же памятник напротив. Читайте!
Я прочел. Точно Ольхон. Только не остров, поэт. Угораздило же псевдоним в честь острова присвоить. Плохой, наверно, поэт. А может, и хороший. Не читал и не тянет.
Пока я обелиск белого мрамора разглядывал, водитель смылся. А мы остались. Девчонки повисли на мне, грелись. Я, как печка раскаленная, и откуда только тепло взялось?
Зашли за памятник, там лавка. И бетоном залито, чисто. Обидно мне стало за поэта Ольхона — никто к нему не ходит, не следит…
— Привет, поэт! — прокричал я в ухо памятнику. — Принимай гостей из Преисподней!
А девочки: ха-ха-ха да хи-хи-хи…
А потом: стоя, лежа, раком и козерогом… Тропиком, словом.
А потом: автор «Кама сутры» отдыхал. Далеко отсюда отдыхал во времени и пространстве.
А потом, помню, я орал на все кладбище что-то про остро заточенный Кохинор, приносящий царственные несчастья. Орал так, что разбудил бы и покойника. Но не разбудил ни одного. К счастью.
ГЛАВА 34 Следы любви на спине
Телефон звонил долго-долго. Я услышал, но подумал сперва, что это в голове у меня так настырно звенит. Через минуту догадался про телефон, но не повел ухом. Остальными членами тела — тоже. Они все до одного ныли в унисон: мол, больно, Андрей! Ах, как нам больно и грустно, и некому морду набить в минуту душевной невзгоды…
Я им сочувствовал. Себе совокупному — тем паче. Не хотелось открывать глаза, двигаться… ничего вообще не хотелось. Апатия. Или… Я вдруг испугался, потому что вспомнил, что я — Кохинор, приносящий несчастья, и, следовательно, в лучшем случае лежу сейчас на могиле поэта Ольхона, в худшем — в собственной. Потому что, где умер, там и могила…
Надо бы мне открыть глаза да развеять сомнения, посмотреть, в конце концов, где я нахожусь. Так нет, с мазохистским каким-то удовольствием я начал вспоминать, что древние жители Ближнего Востока бросали своих мертвецов в пустыню на съедение диким зверям, монголы и буряты — в степь, эскимосы — в тундру… Про тундру, если честно, я выдумал, каюсь. А про пустыню и степь слышал или читал. Теперь уже и не помню, от кого и где… У русских мертвецы сами о себе заботятся. Предварительно нажравшись в говно, они добираются своим ходом до кладбища и там умирают вторично. Очень удобно, вдобавок родственникам не надо тратиться на похоронный обряд…
Я совершенно явственно представил себя лежащим в сугробе меж могил. На левой — безвкусный монумент с пятиконечной звездой, на правой — православный восьмиконечный крест. На мне — американские джинсы китайского производства. На обнаженных груди и спине — следы когтей, оставленные любовью…
Чушь в голову лезла. Надо выяснить наконец, где я и какой я? Покойный или живой? Если живой, срочно подниматься и бежать на съемки конюшни и гостиницы. Если мертвый, проникнуться и, отрешившись от суеты, думать о вечном…
Телефон зазвонил снова. Теперь уже другой, мобильный.
Если я живой, то это точно Гриша Сергеев меня потерял. А если мертвец, то понятия не имею, что в загробном мире сей звон означает. Может, заупокойный колокольный звон таким образом метаморфируется?.. Ладно.
Я дал самому себе страшную клятву, что, если окажусь живым, брошу пить, а если мертвым жить, после чего открыл глаза. И вздохнул с облегчением. Я дома. На диване. Слава богу! Перекрестился неумело. Сел. Голова кружилась, и подташнивало в меру выпитого накануне, то есть довольно интенсивно. Осмотрелся. Особого беспорядка не наблюдалось, наблюдался обычный для моей квартиры беспорядок.
Спал я в куртке, шапке и ботинках. Одеяла, подушки и постельного белья на диване не обнаружилось. Это нормально. Прошлой ночью, как всегда, мы с диваном адекватно друг другу соответствовали. Он одет, я раздет, и наоборот…
Существует одно золотое русское правило: утром, встав с постели, первым делом, не откладывая, сними ботинки, потом испей ледяной водицы из-под крана, и уже только после этих обязательных действий идут необязательные — чистка зубов, умывание и т. д.
Не в моих правилах нарушать без веской причины заповеди мудрых предков. Разувшись, прошел на кухню, пустил воду. Пока она протекала, думал, что Иркутск — единственный на земле относительно крупный город, в котором пить водопроводную воду не только возможно без вреда для организма, но даже вкусно. Исток реки Ангары меньше чем в сотне километров, так что из крана льется чистейшая в мире дистиллированная вода Байкала. И будет течь до тех пор, пока мы не засрем священное море окончательно. Ждать не слишком долго. Это мы умеем. Подумаешь, одна пятая часть всей пресной воды планеты… Насрать!
Выйдя из ванной комнаты, посмотрел свой сотовый. За время моего отсутствия в реальном мире, то есть со вчерашнего вечера, мне успели позвонить три человека: Жоан Каро, Анна Ананьева и Григорий Сергеев. Женщины вчера, последняя — дважды. А сегодня утром… Я посмотрел на свое запястье — на циферблате светилась восьмерка с нулями. В девять начало съемок. Успею…
Итак, к восьми утра я имею четыре не принятых звонка от художника-постановщика, своего теперешнего шефа. Это не считая звонков на домашний, который у меня простенький — без определителя номера и автоответчика.
Отчего, интересно, со стороны начальства ко мне такое внимание? Хотя ясно отчего, работать некому. Стас умер, Борис Бурхана рубит, один я остался… Надо бы, конечно, позвонить, сказать, что жив, здоров, на работу собираюсь, но общаться с Гришей хотелось не очень. Стыдно после вчерашнего. Как же я так нажрался, как последний придурок? Давно со мной такого не случалось…
Вдруг меня как током ударило неожиданной вспышкой воспоминания: бабы, проститутки здесь были! Аж три! О Господи, прости мою душу грешную…
И чем же я с ними занимался? Глупый вопрос. Чем я мог с ними заниматься? В шахматы, конечно, играл! А что потом? Потом мы куда-то поехали…
Деньги! Я вспомнил, как выгреб из закромов все наличные деньги, а безналичных у меня сроду не бывало… Вот и слетал, урод, в Москву на могилу к брату Ефиму…
Проверил карманы — пусто, не считая мелочи, что-то около двух сотен рублей. А доллары где? Просрал?
Распахнул дверцу секретера — доллары лежали аккуратной тоненькой стопочкой, ничего не пропало. Рядом стопка потолще — рубли. Чем же я, интересно знать, вчера с девочками расплачивался? На что коньяк брал?
Ах да, девочки мне на халяву достались, и коньяк, наверно, тоже они принесли…
А таксист? Я ему сказал: «Сотня баксов за каждого сбитого пешехода!» Ну я дебил… А если бы он десяток переехал? Это ж штука баксов! У меня и денег таких нет!
И куда мы с ним ездили, с таксистом этим? Вспомнил! На могилу поэта Ольхона и там… Надо же, не замечал за собой раньше склонности к некрофилии… Трахаться на кладбище, среди могил… урод…
Но довольно мазохистских самокопаний! Сейчас необходимо принять душ, он освежит, позвонить Григорию, похмелиться и бежать на работу. Именно в такой последовательности! Хотя можно было бы начать с пункта «похмелиться», но для этого придется выйти из дома… Нет! Никаких поблажек! Как говаривала очаровательная Жоан Каро: форверц!
Я сбросил несвежее тряпье и взглянул на себя в зеркало. Выглядел я так, как и должен выглядеть молодой мужчина в хорошей физической форме. Здоровая кожа, рельефная мускулатура, ни грамма лишнего веса. За ночь беспамятства ничего нового на теле не выросло, ничего старого не отвалилось. Но именно эта обычность меня и насторожила. Что-то должно было быть не так. Что?
Где следы когтей, оставленные Любовью? На груди они отсутствовали. Я повернулся к зеркалу спиной и заглянул через плечо. Нормальная ровная кожа без видимых следов насилия. Что за черт?
Одно из двух. Первое: шрамы заросли, как на собаке, точнее — на Боре Кикине. Отпадает. Даже ему потребовалось больше суток, а тут пять-шесть часов прошло. Если память мне не изменяет. Вероятно, изменяет все-таки.
Второе, наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что вся эта ночная хренотень мне привиделась — и девочки, и таксист, и мраморный обелиск поэта Ольхона на кладбище. Тогда, может, и шаманский бубен — сон? А Боря Кикин с Гришей Сергеевым — сновидческие образы, и только? Может быть, вся моя жизнь — сон?
Черт… Похмелиться надо немедленно, котелок совсем не варит. Как в яму, разом впадаю в дешевую метафизику и пошлый солипсизм… Что может быть опасней больного воображения непохмеленного русского человека? Разве что пьяный кураж того же русского. Бессмысленный и беспощадный. К себе, любимому, в первую очередь. Но под запарку и остальным мало не покажется, как пить дать…
Пить больше не хотелось, хотелось выпить. Но сначала — холодный душ. Потерплю пятнадцать минут. Раз голова и деньги целы, с остальным как-нибудь разберусь.
Аминь.
Выйдя из ванной, посвежевший и в настроении значительно выше относительно абсолютного нуля, я решился даже сварить кофе, хотя с похмелья его не потребляю, и без того тошнит. Я зашел на кухню и увидел на пустом столе лист бумаги. Как я его не заметил, когда пить заходил, ума не приложу. Или он только что материализовался из пустого пространственного эфира, как глиняная голова мертвого бурятского шамана? Чушь.
Я взял лист и прочел:
«Андрей, тебе стало плохо в квартире Бориса Кикина. Мы с ним проводили тебя домой. Как ты себя чувствуешь? Сможешь ли теперь работать? Позвони. Григорий Сергеев».
Я задумался. Что из записки следует? Во-первых, ясно, почему Гриша мне все утро названивал, а во-вторых… Выходит, прошлая ночь мне попросту привиделась. Не было ни проституток, ни таксиста, ни поэта Ольхона…
Ой, вру! Могилы поэта Ольхона точно не было, а поэт Ольхон, как явление мировой литературы, был, есть и будет.
Плохая поэзия бессмертна и неистребима!
ГЛАВА 35 Сибирское кинотворение
Не доходя пару кварталов до музея, я опустил в урну пустую алюминиевую банку из-под пива и засунул в рот пластинку жевательной резинки — первого из трех бесспорных достижений заокеанской цивилизации. Два других: голливудский массовый кинематограф и ковбойское хамство на государственном уровне. Вероятно, человечество достойно подобных данайских даров, раз жует, смотрит и получает от всего этого удовольствие…
Настроение было ни к черту. Дорогой вспоминались все новые и новые стыдные подробности прошедшей ночи. Во сне они происходили или наяву, не имело значения. Я был хам, и, что особенно отвратительно, это мне нравилось. Кохинор хренов, остро заточенный не с того конца…
У входа в Дом-музей декабристов припарковался грузовой автомобиль с крытой будкой. Откуда-то к нему мгновенно набежали несколько молодых мужчин в одинаковых форменных комбинезонах темно-синего цвета. Водитель, отомкнув ключом, распахнул дверь будки и вместе с остальными принялся выволакивать на подсохший асфальт обочины всевозможные железо, пластик и стекло: какие-то треноги, стойки, экраны, рулон черного плотного целлофана, прожектора, лампы и т. д. и т. п.
Я догадался, что это и есть технические работники с «Мосфильма», нанятые продюсером киногруппы в столице. Шустрые ребята. Они не ходили, бегали. Пока я шествовал, покуривая, до конюшни, один паренек с выбритым до блеска яйцевидным черепом успел обернуться туда, обратно и снова меня обогнал с громоздким каким-то ящиком в руках. Пацаны в синих комбинезонах честно отрабатывали вошедшие в поговорку «московские зарплаты». Так у нас некоторые фирмы в объявлениях о найме рабочей силы пишут: «…социальный пакет, ежегодный месячный отпуск в летнее время, перспективы быстрого карьерного роста, московская зарплата…» Хотелось добавить: «…и работать не обязательно…»
У раскрытых настежь ворот конюшни толпились незнакомые мужчины, женщины и одна оседланная лошадь. Чем занимались люди, я не понял. Они суетились, бегали туда-сюда, перекрикивались чуть ли не на дюжине языков, словно заблудившиеся в темном лесу, аукались в поисках тропинки…
Я понял, что они работали. Не понял, что делали конкретно? Впрочем, кино — целый мир, и я в нем чужак, не понимающий языка аборигенов. Ведь видел же я, они, общаясь на гремучей смеси франко-англо-русского, умудрялись и без переводчика понимать друг друга. Потому что — профессионалы, одного замеса люди. А будни съемочной площадки одинаковы, наверно, во всем мире.
И еще я понял, что киношники очень близки нам, русским. Нас роднит понимание бардака как образа жизни. Поэтому, вероятно, я мгновенно вошел в эту суматошную вселенную, и она мне понравилась. Я полюбил ее, а она, с операторским прищуром оценив мое рвение, соблаговолила принять, впустить и пережевать мою личность, оставив из всего меня, многогранного, единственное нужное ей качество — ассистент художника-постановщика. Баста.
Я более не человек с именем, фамилией и отчеством. Я более не имею возраста, пола, национальной принадлежности и гражданства. Я — ассистент, и этим все сказано.
Единственными разумными существами на площадке, которые не бегали угорело, не орали на тарабарском и не матерились на русском, были лошадь серой в яблоках масти, Поль Диарен, режиссер, Ганс Бауэр, оператор, и Григорий Сергеев, художник. Лошадь в нарядной сбруе степенно стояла у входа, привязанная за узду к ручке ворот, остальные неторопливо беседовали внутри конюшни. Конечно, через переводчика Бориса Турецкого.
Я подошел вплотную. Пусть Гриша меня увидит, я ведь так и не набрался смелости ему позвонить. И он увидел и вздохнул с облегчением:
— Слава богу, пришел. Я уже думал, опять одному крутиться… — Спохватился, спросил с деланым участием: — Как здоровье?
— Нормально.
— Где инструмент?
— В музее.
— Неси.
После нашего диалога художник снова повернулся к режиссеру. Тот объяснял ему дислокацию, указывая жестами то в один угол помещения, то в другой.
А московские парни уже строили у входа пятиметровую железную дорогу из готовых звеньев на пластиковых шпалах. К ним подошел оператор, что-то сказал по-немецки, и они его поняли, закивали. Стали разбирать часть пути и передвигать вправо от центра.
В просторном холле дома-музея мне встретился озабоченный директор в традиционном строгом костюме. Он, вероятно, и спит в нем.
— Представляете, Андрей, — пожав руку, поделился со мной Михаил Орестович Овсянников, — милейший Ганс Бауэр, оператор из Германии, сделал мне вчера замечательный подарок — фотоальбом своей соотечественницы. А я, вот горе-то, на немецком не читаю… да и голые африканцы, знаете ли, неприлично как-то…
Улыбаясь дружески, я предпринял слабую попытку поторопиться, но, вероятно предугадав эту попытку, Михаил Орестович пресек ее на корню, вцепившись в рукав моей куртки. Потом торопливо продолжил:
— А прелестнейший Уинстон Лермонт, актер-англичанин, подарил шотландскую юбку. Совершенно очаровательную, в крупную клетку… Но куда же мне ее прикажете надевать? Засмеют же…
Я чуть повел плененной рукой, и тогда Овсянников вцепился еще и во второй мой рукав. Затараторил:
— А образованнейший, талантливейший Поль Диарен, знаменитый французский режиссер, сделал мне совершенно удивительный, непередаваемо восхитительный подарок! Я совершенно без ума от него! Я…
Он, похоже, долго собирался сыпать эпитетами, до второго пришествия. Заткнул я фонтан довольно грубо:
— Извините, Миша, но меня ждут. Говорите, что же он вам подарил?
— Одну минуту, Андрей! Поль Диарен подарил мне глоток парижского воздуха! — провозгласил Овсянников торжественно.
— В каком смысле?
— В прямом! В банке! — пояснил Михаил Орестович, как будто слова его что-то проясняли. Впрочем, он сам об этом догадался по недоуменному выражению моей физиономии. — Правда-правда! Баночка, как из-под пива или колы, а на ней написано: «Глоток парижского воздуха». Я же говорю по-французски и читаю. Не бегло, правда.
Что мне было сказать хоть по-французски, хоть по-русски, хоть на эсперанто мертворожденном? Красиво. Молодцы. Но для того чтобы туристы покупали воздух в банках, он должен быть из легендарного Парижа. Впрочем, продаем же мы в Японию питьевую байкальскую воду. Почему бы не заполнить свободную еще нишу байкальским же воздухом? Звучит неплохо, да и почище, чай, будет, чем парижский или любой другой городской.
— Это здорово, Михаил, но чем вы в таком случае озабочены?
— Я озабочен?
— Конечно. Это заметно.
После недолгой паузы директор музея освободил мои руки, переложив их себе на голову, на макушку.
— О да! — возопил он, воздев те же конечности к небесам. — Что я, недостойный, могу подарить им в ответ? Чем отдариться?!
— Надо что-нибудь чисто сибирское, колоритное, — сказал я в задумчивости и сразу же предложил приемлемый вариант: — Можно чучело белки подарить со стеклянными глазками и кедровой шишкой в лапках. Дохлую белку у нас традиционно всем иностранцам дарят.
— Я думал об этом, — тяжело вздохнул Овсянников, — но, знаете ли, мир стремительно «зеленеет». Как отнесется к насильственно умерщвленному в Сибири невинному зверьку европейское сообщество?
— Омуля соленого подарите в пятилитровом сувенирном бочонке. Я видел такие на рынке. Есть еще десяти- и двадцатипятилитровые, но это, по-моему, перебор. Или дохлую рыбу европейцу тоже нельзя?
— Рыбу можно. Но, знаете, я уже дарил подобный бочонок одному канадскому другу из Этнографического музея провинции Онтарио. Он был несказанно рад, но дома открыл и омуль оказался сильно пересоленным.
— Хорошо хоть, что не с душком.
— Андрей, вы не любите омуля традиционного байкальского засола? — удивился Овсянников. — Не любите с душком?
Я даже отвечать не стал. Мерзость какая… Я хоть и коренной сибиряк, не понимаю, почему должен жрать тухлую рыбу? Из уважения к традициям? У китайцев, древнейшей и культурнейшей нации, между прочим, в деликатес тухлые яйца зачислены. Что же теперь, из любви к Конфуцию и Лао-Цзы пропастину жрать? Увольте.
И тут я вспомнил про Бориса Кикина с его народным промыслом.
— У меня приятель есть, шаманские бубны и онгоны на продажу мастерит. Подумайте, Михаил, чем не подарок? Чисто сибирская экзотика. Нигде такого больше нет, разве что в Улан-Удэ или Монголии… Хотя нет, там теперь буддисты, а шаманистов почти не осталось. Так что, считайте, изделия эксклюзивные.
— Онгоны и бубны? — повторил Михаил Орестович. — Я подумаю, и если ничего другого в голову не придет… Спасибо, Андрей.
Он отошел в задумчивости, а я спохватился, что простоял с ним значительно дольше, нежели позволительно. Я бежал с позвякивающей сумкой и размышлял, что можно еще подарить декалитр чистейшей в мире байкальской воды вместе с цинковым ведром. Вот только впустят ли их в самолет с подобным багажом? И если впустят, примут ли ведра в багаж или зачислят в ручную кладь? В первом варианте может расплескаться весь ценный груз, во втором — им придется шесть часов до Москвы, а потом два до Парижа держать ведра, как грудных детей, на коленях… Черт-те что в голову лезло…
— Где тебя черти носят? — поинтересовался Григорий. — Давай, начинай быстро! Эту хреновину разобрать — оператору мешает.
Он показал на деревянную конструкцию от пола до потолка, перегородку одного из двух загонов. Потом сделал еще пару указующих жестов:
— В стену забей штук шесть гвоздей, сбрую перевесим, стог в другом углу будет, а весь пол надо сеном жиденько прикрыть, чтобы земли не видно было… — Добавил задумчиво: — Не нравится немцу наша земля…
А я подумал, что, покуда им нравится наш природный газ, немцы будут мириться с любыми выгибонами нашего правительства, и даже с настольно-транзитным клоуном из Белоруссии…
Начал я с гвоздей — минутное дело.
А железную дорогу ребята в синей спецодежде уже проложили и взгромоздили на колеса платформу с операторским креслом, следом дорогостоящую германскую камеру куда надо поставили.
Оператор смотрел в глазок визира с разных позиций.
Режиссер отчитывал кого-то за что-то на старобургундском. Этот кто-то что-то отвечал на вульгарной латыни. Они понимали друг друга без переводчика.
Борис Турецкий был без надобности французским, немецким, английским, московским и русским киношникам. Они говорили на своем языке жестов и образов.
И, глядя с небес не на вавилонское столпотворение, вульгарную вакханалию агрессивных богоборцев, друг друга не разумеющих, а на сибирское кинотворение, где каждый понимал каждого, сказал бы Господь: «Это хорошо!»
И не думал в тот момент никто из создателей, окупится ли фильм, принесет ли рекордные кассовые сборы и награды престижных кинофестивалей, всех заворожил, очаровал, подчинил себе с потрохами процесс съемки. И это действительно было хорошо. Очень.
Я крушил деревянную перегородку.
Григорий вешал на гвозди конскую сбрую.
Серый в яблоках конь, грустно глядя в пространство, ел хлеб с руки актера-англичанина, загримированного под француза начала XIX века.
Парни с «Мосфильма» устанавливали прожектора, тянули проводку, оклеивали снаружи окна конюшни кусками черного целлофана.
Гримерша настырно отвлекала артиста от общения с лошадью, лезла ему в лицо напудренной ваткой.
Оператор, как любознательный подросток, баловался с креслом: поднимет — опустит, поднимет — опустит… Время от времени смотрел в глазок камеры и качал головой.
Я выносил лишнее дерево за ворота.
Сергеев покрывал земляные полы тонким слоем сена.
Турецкий, оставленный без работы тотальным пониманием, помогал художнику…
Остальные тоже что-то делали. Я не понимал что, но понимал — так надо.
Наконец запылали софиты.
Люди перестали отбрасывать тени.
Оператор распорядился, и осветители что-то чуть сдвинули в своем хозяйстве.
Платформа с камерой, дав гудок, поездила по железнодорожному пути туда-сюда.
Актер выругался на латыни.
Гримерша отошла на безопасное расстояние.
Стог сена переместился из левого в правый угол не без моей помощи.
Цвет утоптанной половой земли перестал резать глаза оператору, цвет сена ему нравился.
Осветители, не сговариваясь, будто по команде отступили в тень.
Мы с Григорием тоже, но режиссер увидел гвоздь в стене и закричал, словно резаный.
Я выдернул гвоздь гвоздодером.
Оператор показал большой палец жестом доброго древнеримского телезрителя.
Режиссер закричал: «Ахтунг!»
Оператор прильнул к глазку камеры.
На площадке никого не осталось. Плотная толпа сгрудилась за спинами режиссера и оператора…
Ведя лошадь под уздцы, англичанин неспешно прошел в конюшню. Тени не отбрасывал. Послушная лошадь — тоже. Актер ее погладил, она, благодарно проржав, опустила голову и стала поедать сено… Все. Снято.
Все были довольны, но сделали зачем-то еще пять дублей. После второго мы с Григорием Сергеевым отошли от конюшни перекурить.
— Что со мной вчера случилось у Кикина? — спросил я шефа.
— С тобой эпилептические припадки раньше случались? — ответил он вопросом на вопрос.
Я пожал плечами:
— Вроде нет.
— У меня брат эпилепсией с детства страдает. Я видел несколько раз его припадки. С тобой вчера похоже было… Язык не прикусил?
Я подвигал им довольно интенсивно во рту, потом показал товарищу, боли не ощутил.
— Вроде нет.
— Вот и ладно. Как чувствуешь себя?
— С похмелья. Я до магазина сгоняю? За пивом?
— Не переусердствуй. — Григорий взглянул на часы. Полчаса тебе на пиво, потом на второй этаж идем. После обеда гостиницу снимать будут, подготовиться надо.
— Подготовили же все еще позавчера.
— Мало ли?.. Может, режиссеру или оператору снова что-нибудь в голову взбредет? Тем более кровать до сих пор не привезли. Собрать ее надо. Так что не переусердствуй с пивом-то.
— Постараюсь.
Покуривая, я пошел, вспоминая, где здесь ближайший магазин, торгующий спиртными напитками. На остановке трамвая, кажется, в трех минутах ходьбы. Остановка так и называется «Музей декабристов».
ГЛАВА 36 Русская диаспора российской столицы
Выйдя за ворота, я услышал окрик:
— Земляк!
Осмотрелся. Земляков не увидел. Увидел у «мосфильмовской» машины трех москвичей. Прошел разделяющий нас десяток шагов. Улыбнулся:
— Привет, ребята.
— Похмелиться не желаешь, земеля? — спросил один из троицы, с симпатичной мордашкой — курносый, конопатый, рыжеволосый и коротко остриженный. На русского похож. Впрочем, с тех пор как я на днях перепутал все нации на углу Грязнова и Дзержинского, ничего утверждать не берусь.
— Я, как тебя увидел, сразу понял — наш человек, с похмела! — добавил с улыбкой второй, тоже симпатяга — бритый, кривозубый, глаза навыкате.
— Хватит болтать, балаболки! Видите, мужика трясет всего, слова вымолвить не может! — вступил третий, в натуре писаный красавец — два резца отсутствовали, под заплывшим правым глазом фиолетовый фингал. Был он постарше остальных — под сорок или чуть за. Лысый, но не бритый, волосы выпали по собственной инициативе, лишь две полуокружности сероватого пуха празднично обрамляли макушку.
Мужик гостеприимно распахнул дверцу автобудки.
— Заходи, земеля, погрейся!
Я увидел внутри импровизированный стол, причем накрытый. На картонной коробке — газета «Правда», на ней — наломанный хлеб, толстонарезанное сало, вскрытая банка кильки в томате, очищенная луковица и посредине порожний пока, граненый, хрущевский, двухсотпятидесятиграммовый стакан. Украшение стола в отсутствии бутылки. Впрочем, интуиция и жизненный опыт мне подсказывали: была, была она, родимая! Где-то прячется, ждет только команды и вынырнет из небытия, из кармана внутреннего или тайника какого — не важно. Повадки винно-водочные я с юности изучаю и давным-давно познал, где она водится, как размножается, на кого охотится, от кого хоронится… Это у русского человека мужеского пола на генном уровне в анналы занесено, в кровь вошло, и не вышибить, не вылечить…
У москвичей, вероятно, тоже. Хотя не очень эти трое в темно-синих комбинезонах на москвичей походили. Совсем не походили. По внешнему виду, так наши, русские…
Я не заставил себя уговаривать, полез в будку первым. За мной — остальные. Дверь заперли на задвижку, электрический фонарь зажгли. Ишь, как у них все предусмотрено…
— Ваня, осветитель и водитель этой колымаги по совместительству, — представился первый, рыжий и конопатый, доставая откуда-то из-под мышки пол-литра водки.
— Петя, пиротехник, пока без работы, — виновато улыбнулся второй, — не стреляли…
Он, с выпуклыми глазами аквариумного вуалехвоста, перехватил из рук рыжего пузырь и распечатал — одним профессиональным движением сорвал с горлышка бутылки кокетливую жестяную шапочку. Я понял, что нахожусь среди мастеров своего дела.
— Вася, реквизитор, весь в работе. — Третий, естественно-лысый, не глядя на стакан, налил в него, рассчитав, вероятно, дозу по булькам. Похоже, он был у них за главного, раз на разливе, как Ленин в октябре…
— Андрей, ассистент художника-постановщика, — представился и я, с усилием подавив порыв назвать себя Андрюшей.
— Московского разлива, — сказал первый, протягивая мне стакан.
— Хлеб местный, — сказал второй, предлагая ломаную краюху.
— А на Ольхоне водку продают? — поинтересовался третий.
— Водку продают везде! — изрек я народную мудрость и выпил.
Потом — они, как это на Руси принято, из одного стакана.
Пацаны оказались лимитчиками, родом из сел и деревень Рязанской, Тульской и Калужской губерний. С космополитичной Москвой их связывала лишь прописка по теперешнему месту жительства да темно-синие комбинезоны «Мосфильма». Не вымерла покуда русская диаспора в иноземной столице. Но их дети будут уже москвичами… Хотя я слышал, что настоящим, коренным москвичом негласно считается лишь житель столицы в третьем поколении, остальные — лимита…
Я с грустью подумал, что был уже прецедент в мировой истории — граждане Рима. Впрочем, Москва пусть и зовет себя напыщенно — Третьим Римом, до империи ей далеко, не потянет. Хотя, как знать?..
После первой бутылки без перерыва, неясно откуда в руках осветителя Вани возникла вторая. Действо повторилось: пиротехник Петя вскрыл, реквизитор Вася разлил по булькам. Профессионалы, что ни говори, да и «Мосфильм» студия легендарная…
Но когда Ваня из рукава извлек третью, я запротестовал:
— Я пас! Мне еще работать!
— А нам? — удивился Вася с уникальным глазомером. — Нам разве не работать?
В том, что они станут отвлекаться на такую ерунду, я сильно сомневался, но промолчал. Покинул насквозь русскую будку. За пивом, понятно, не пошел. Пиво без водки — деньги на ветер. Пиво после водки — гарантия скорой отключки с головным оглушительным треском наутро. Если утро случится. Бывает, и не случается вовсе…
ГЛАВА 37 Она, она «зеленая» была!
В конюшне снимали уже другой эпизод в том же интерьере — смерть серой в яблоках лошади главного героя. По сценарию ее отравили русские недоброжелатели француза, вероятно, агенты царской охранки, легендарной предшественницы ЧК — КВД — КГБ. Все ясно, западного зрителя решили пугануть традиционным способом. Россия во все времена — Империя зла. Сценаристу браво!
Лошадь умирать не хотела. Сперва я заподозрил ее в великорусском шовинизме, тоталитаризме и сталинизме, но оказалась, что лошадь привезли из Франции. Вероятно, европейцы считали, что последних своих лошадей мы доели во время голода в Поволжье и блокады Ленинграда…
Словом, лошадь, подчиняясь мощнейшему инстинкту самосохранения, умирать отказывалась напрочь. Точнее — ложиться, изображая предсмертные судороги.
Оказалось, что у лошади есть тренер — сорокалетняя француженка со сходными с подопечной чертами лица. Несмотря на их похожесть, лошадь капризничала, не желала ложиться. Ее можно понять. Она же не корова, лежать не в ее природе. Кони даже спят стоя…
Что с ней, бедной, только не делали…
Когда стало ясно, что на уговоры тренера ей глубоко насрать (что она буквально и сделала дважды, засыпав пол конскими яблоками), за дело принялись дюжие осветители под командой решительного оператора. Осветители оплетали веревками сначала две, потом все четыре конечности, дружно дергали. Лошадь падала и тут же поднималась. Удержать ее на земле не могли никакие путы. Свободолюбивая французская лошадь, ничего не скажешь.
Все издергались, устали, в первую очередь само животное. Вероятно, все-таки в ее предках присутствовало несколько поколений ослов. Упрямством она им не уступала.
После краткого совещания режиссера с лошадиным тренером послали за ветеринаром. А пока его ожидали, киногруппа набросилась на горячий чай и кофе, на бутерброды с ветчиной, колбасой и сыром. Термосы с кипятком и продукты привозили каждый съемочный день по утрам. Мы с Григорием тоже испили по пластиковому стаканчику черного кофе из пакетика, что-то съели.
Вдруг к воротам Дома-музея декабристов подкатил, мигая и воя, кортеж представительских иномарок. Из средней вышли парень и две девушки — рыженькая и черненькая, одетые в джинсу и спортивные куртки, красивые, молодые, но, вероятно, важные персоны. Потому что их мгновенно обступили дюжие телохранители со стандартно-кирпичным выражением откормленных морд. У чернявой в руках оказалась навороченная цифровая видеокамера, и она без разбору принялась снимать все подряд, меня в том числе.
Руководил делегацией, направившейся к французскому режиссеру, мужчина в строгом костюме и при галстуке. Его лицо мне сразу показалось знакомым, но откуда я его знаю, вспомнить не смог. Впрочем, и не пытался особо.
Вероятно, была предварительная договоренность, потому что возле свободолюбивой лошади в жарких лучах софитов собрались французский режиссер, немецкий оператор и актер-англичанин, исполняющий главную роль, а остальные киношники тактично отступили. Мой знакомый, но неузнанный мужчина подвел молодых людей к иностранцам. Борису Турецкому наконец-то нашлась работа по специальности. Оператору — нет, на видео снимала темноволосая девушка.
О чем они говорили, слышно не было, наверно, обменивались любезностями, трясли друг другу руки, широко улыбались с риском вывихнуть челюсти… После минутного диалога рыжеволосая девушка интенсивно помахала рукой. Один из телохранителей кивнул, сходил к машинам и вернулся с трехлитровой банкой чего-то черного и непрозрачного. Передал девушке, та вручила банку иностранцам. Что за хрень происходила у меня на глазах, я так и не понял. Странный какой-то подарок. Ладно бы бочку пересоленного омуля, дохлую, облезлую белку или шаманский бубен, Борей Кикиным произведенный, но трехлитровую банку… Странно.
Ветеринарная «скорая помощь» пришла незамеченной. Но ее, как оказалось, ждали. Врача со шприцем наперевес охранники тормознули еще на подходе, тщательно обшмонали в поисках более страшного оружия. Ничего не нашли.
— Кто они такие? — спросил я у Григория. — Что за важные шишки?
— Ты газеты читаешь? — вопросом на вопрос ответил мой шеф. Что, блин, за идиотская манера?
— Я телевизор смотрю.
— Местные каналы?
— Центральные. Что у нас в околотке творится, меня мало интересует. Что тут может происходить? Мышиная возня.
— Зря ты так, — огорчился за меня Григорий. — Надо местную прессу читать, местные каналы смотреть. Тогда бы ты знал, что рыжеволосая девушка — дочь иркутского губернатора, а парень — ее жених.
— А темненькая девчонка кто?
— Не знаю, тоже, наверно, какая-то важная персона, раз с дочкой губернатора на дружеской ноге.
Я, язвительно устремив взор в поднебесье, сложил молитвенно руки и вымолвил с трепетным восторгом:
— Надо же, какие люди!
Потом добавил уже всерьез и зло:
— Знаешь, Григорий, насрать мне и на губернатора, и на его семью.
— Ну, не скажи, я читал, у него рейтинг высокий…
— И на рейтинг его насрать! — перебил я шефа, но тот словно и не заметил моих грубых физиологических действий, продолжил, как ни в чем не бывало:
— Может, в самом недалеком будущем наш губернатор президентом России станет или на худой конец — возглавит федеральное правительство.
— Все равно — насрать, — не сдался я, но к ребятам присмотрелся внимательней. Как у них скулы от дежурных улыбок не сводит? Улыбаются и улыбаются… как идиоты.
Парень совершенно обычный. Студент-старшекурсник по виду, гуманитарий. Но не ботаник очкастый, не заморыш — подтянутый. Видать, спортом каким-то занимается. Что сейчас в моде у золотой молодежи — горные лыжи, акваланг?
А девчонка классная. Аппетитная. Мне такие нравятся тоже. Под распахнутой, свободного покроя курткой угадывалась спортивно-рельефная фигура шахматного коня. Джинсы в обтяжку подчеркивали соразмерную длину стройных задних конечностей. И личико славное. И зубки ровные. И мышцы играли под гладкой кожей. И ржала… извиняюсь, смеялась замечательно. А волосы просто шикарные — густые, длинные, распущенные, словно грива ухоженной гнедой лошадки… Эти сравнения возникли, вероятно, из-за сегодняшних съемок в конюшне. Прости, гнедая, обидеть не хотел, несмотря на то, чья ты дочка. То, что именно она дочка, я понял по тому, что лапал жених именно ее, бесстыжий… Эх, дочка, дочка, кабы нам с тобой встретиться пораньше…
Шутка. Высокородная девица приятна во всех отношениях, как на вид, так, вероятно, и на ощупь, но по-настоящему головокружительное впечатление произвела на меня ее черноволосая подружка или родственница, фиксирующая все на видеокамеру. И меня, кстати, тоже. В ответ на мой вожделенный взгляд она помахала мне рукой с умопомрачительной улыбкой и снимала, пока я, как ненормальный, размахивал всеми своими конечностями. Совершенно невозможная красавица с небольшой, но заметной примесью азиатской крови. А фигура с тончайшей талией… А улыбка, обворожительная, как магическое заклинание… Глаза, чуть раскосые, блестели то мокрым антрацитом, то черным жемчугом попеременно. Ах, спасите меня, держите крепко, иначе, вырвавшись, я брошусь грудью на цепь охраны, ощетинившуюся штыками… Куда это меня понесло от вожделения? Не было никаких штыков. Ладно.
А они уже шли обратно в окружении телохранителей. Зачем, спрашивается, приезжали? Трехлитровую банку подарить, вероятно, с мазутом?
Мужчина, показавшийся мне знакомым, отделился от остальных и направился прямиком ко мне. Бросил на ходу недовольный взгляд исподлобья в Гришу Сергеева, и тот, словно по команде, безропотно ретировался. Мне мужчина, напротив, улыбнулся.
— Здравствуй, Андрей.
Пожимая его нетрудовую и немозолистую ладонь, я вымученно улыбнулся в ответ и вспомнил. Ну, конечно! Мастерская покойного ныне Стаса, выдержанный коньяк, крутой бизнесмен и, возможно, человек из внутренних органов, бывший или настоящий гэбист. Как же его зовут? Дай бог, память…
— Ты меня не узнал?
Черт, вертится где-то рядом… Русское имя с фамилией, напоминающей отчество… Я вспомнил.
— Узнал, конечно. Здравствуйте, Николай. Как дела?
Дурацкий вопрос. И сам я улыбался, как придурок. И ситуация — хуже нет… Надо бы этого ухоженного орла послать на три буквы, а я улыбаюсь, как приятелю. Боюсь? Чего скрывать? Боюсь.
— Дела, Андрей, у прокурора. — Он обозначил улыбку. — Ты не забыл наш недавний разговор, точнее — договор?
— Помню.
— Ты еще сомневался, поедешь на Ольхон или нет. Видишь, я все устроил. Не передумал помогать нам?
Ишь, как он повернул… Ничего конкретно я ему не обещал. Хотя он мог истолковать мои слова по-своему. Но, главное, ничего я не подписывал… Хотя сфабриковать любую подпись под любым документом для любых спецслужб легче легкого…
Я ответил виноватой улыбкой и неопределенным пожатием плеч. С ними только так — ни да ни нет. Может, со временем рассосется, и оставят меня в покое? Я прекрасно понимал, что не рассосется, не оставят, что отвечать придется скоро и со всей определенностью: да или нет? Не хотелось очень. Роль сексота, а попросту — стукача, мне отвратительна. Но не прельщала меня и роль отовсюду гонимого мученика. Времена, слава богу, не те — не расстреляют, в концлагерь не отправят, но жизнь осложнить могут и теперь… Хотя кому я нужен, мелкая сошка? Или нужен?.. Чтоб вы сдохли, суки!
Николай Алексеев снова истолковал мои неопределенные действия так, как ему хотелось. И панибратски похлопал меня по плечу.
— Вот и славно, Андрей. Поезжай на Ольхон. По приезде, если выполнишь, как надо, задание, получишь гонорар, кстати, визитку возьми. — Протянул мне невзрачный, серой бумаги прямоугольник. — Если что, сразу звони, помогу. — Пожал мне руку. — Удачи!
Он ушел догонять золотое губернаторское трио, которое уже разместилась в длинном, как индейское каноэ, заокеанском авто. А я остался стоять, растерянный, с рукой, будто обгаженной или будто я соплю ею смахнул с лестничных перил в чужом зассанном подъезде… Визитку сунул в задний карман.
Подошел Гриша Сергеев.
— Что за человек?
Я усмехнулся. Вот я сейчас возьму и всю правду ему выложу. Еще чего не хватало.
— Так, знакомый один.
— Ну, Андрей, у тебя и знакомые… — сказал художник с некоторой даже завистью.
А я убрал наконец руку за спину. Надо бы вымыть ее с мылом.
На площадке между тем продолжился съемочный процесс, ненадолго прерванный вмешательством зеленой поросли региональной российской власти. Впрочем, я тоже про папашкин рейтинг что-то слышал, по центральному каналу, кстати. Так что, может, и не региональной, а федеральной в перспективе…
Ветеринара, смущенного после лапанья лихих охранничков, под руки подвели к стойкой лошади, и он без жалости вкатил ей лошадиную дозу успокоительного. Что ее не успокоило. Во всяком случае, на ногах она продолжала стоять — на четырех ей все-таки легче, чем нам на двух…
Я так и не узнал, чем завершилось это тотальное издевательство над животным, Григорий увел меня в дом-музей. Привезли кровать, и, подозреваю, рязанский реквизитор Вася к этому делу был непричастен. У него было алиби. Подойдя к крыльцу, мы услышали нестройное вокальное трио:
По улице ходила Большая Крокодила, Она, она Зеленая была!— Откуда сей хор народных инструментов имени Пятницкого? — поинтересовался Григорий Сергеев.
— «Мосфильмовцы» отдыхают, — пояснил я, — в будке.
Вовремя они запели, я за них порадовался. Чуть бы раньше, и точно нарвались бы на неприятности регионального, а то и федерального уровня.
В двери музея мы с Гришей вошли под ударный второй куплет антикварной песни:
Увидела француза И хвать его за пузо! Она, она Голодная была!!!ГЛАВА 38 Изумруды и жемчуга
Русская ли народная песня мне подняла настроение? К слову, не только его. Или двести пятьдесят граммов водки московского разлива подействовали как виагра? Не знаю, но я снова полюбил человечество, и особенно женскую его половину. Которую… которую… Ах, не было у меня слов, одно только желание распирало меня как изнутри, так и снаружи во вполне определенном месте. Хотелось молиться на женщину, пасть к ее ногам, припасть меж ног… Много чего хотелось, что можно называть по-разному, но суть — одна. Брать и отдавать одновременно, то есть боготворить, то есть любить, то есть иметь, в конце концов!
Вот только не говорите мне о высоком и низком, о дозволенном и недозволенном, о возможном и запретном. Чушь. В любви все дозволено, все возможно, все высоко! Запреты наложены целомудренными кастратами и расчетливыми евнухами. Отринь их!
Любая любовь — благо.
Любая любовь — тайный смысл человеческого существования и прижизненный пропуск на небеса. А тайный, потому что не прятал его Творец, на виду оставил — разумейте. Но человек в потайных местах его ищет, да все не там, не там…
Не любивший — убог и ограничен. Кем бы он ни был.
Иммануил Кант, бесспорно, величайший мыслитель среди смертных, сказал на склоне лет: «…очень рад, что избежал механических телесных движений, лишенных метафизического смысла…»
Мне по-человечески жаль кенигсбергского старца. Проглядел, не ощутил, не прочувствовал… или попросту не мог? Не знаю. Но где еще искать метафизику, как не в «механических телесных движениях»? Не в сексуальной близости? Не в любви?
Метафизика ею не ограничивается, но любовь, в том числе телесная, дверь в нее, не минуя которую в гулкие, темные коридоры ее подземелий ходу смертному нет.
Любовь — отмычка к любому замку, подъемный мост любого замка.
Аминь.
Мы с Григорием поднялись на второй этаж дома-музея. В комнате, смежной с той, в которой предполагались послеобеденные съемки, я увидел Жоан Каро и Анну Ананьеву. И подумал: почему чертова наша мораль противоречит нашим желаниям? Почему я должен выбирать одну из двух, если мне нравятся обе? Каждая по-своему. По-настоящему.
И я пошел навстречу с улыбкой, предназначенной обеим разом и каждой в отдельности. Я развел руки в стороны, и места бы в моих объятиях хватило не только им, всем женщинам Земли. Но Анна осталась стоять, потупив взор, сжала в руках карандаш, смяла блокнот. Одна только Жоан, молодая, улыбающаяся, с яркими изумрудами вместо глаз, будто подсвеченными изнутри, шагнула мне навстречу. Обняла порывисто, прижалась тесно, а потом, уже в объятиях, подняла глаза и посмотрела. Ах, как посмотрела! И глазки влажные, блестящие, и плечи чуть подрагивают…
— Андрэ…
О майн гот!
Ну чего тянуть? Чего ждать? Может быть, не будет у моря хорошей погоды уже никогда? Слышите? Никогда! Слово-то какое страшное, безнадежное…
Только здесь и сейчас! На привезенной только что, несобранной кровати, на коробках этих картонных, на матраце, запакованном в плотный целлофан, на паркетном полу музея, на земле, на облаках!
Жоан Каро, Анна Ананьева, темноволосая девушка с видеокамерой, раскосыми глазами и примесью азиатской крови, мужиковатая гримерша из Москвы, лошадиный тренер из Нормандии и даже переводчица Катерина из загробного мира… все, все, все!
И чего, черт возьми, бояться? Это же естественный процесс, свойственный человеческому организму, как необходимость есть, дышать, жить и умирать. Ну же! Ну!
Я услышал рядом тактичный кашель и поднял голову. Это Григорий. Я прочитал недоумение и немой вопрос в его округлившихся глазах.
Да, Гриша, да! Она моя. Я люблю Жоан. Я желаю Жоан. Я всегда буду любить ее и желать, покуда жив, покуда жива Жоан!
— Кровать надо собрать, Андрей. Обед скоро, а потом съемки.
— Соберем, Гриша, успеем.
А потом я услышал «цок-цок-цок» по паркетному полу острыми каблучками-копытцами. Это Анна покидала помещение. Я успел увидеть, обернувшись, только ее прямую спину в дверном проеме. Хлопнула дверь. С треском. На месте, где она раньше стояла, остались лежать на полу смятый блокнот и сломанный пополам карандаш. У Анны сильные руки, переломить его не просто…
Жоан Каро лопотала что-то на своем неземном, французском, развалившись вальяжно на антикварном венском стуле. Миша Овсянников в обморок бы упал, увидев, как Жоан на стуле вертится, как он шатается и жалобно поскрипывает… Миши близко не было. К счастью для его здоровья.
Гриша Сергеев ушел в импровизированный гостиничный номер. Двигал мебель, перевешивал с места на место картины, писанные маслом, в богатых золоченых рамах. Гриша отступал, смотрел, перевешивал снова. Такая у художника работа — смотреть и переставлять.
А я собирал современную кровать. В инструкции она была обозначена как «кровать деревянная», хотя этот как раз натуральный материал в конструкции отсутствовал напрочь. Пружинный матрац, обтянутый веселенькой, в цветочек тканью, пластик, металл и спинки из фанерованных листов древесно-стружечной плиты. Впрочем, надо признать, слово «дерево», пусть и в усеченной форме, все же присутствовало, в отличие от знаменитого романа О’Генри, где, вопреки названию, не было ни полстрочки ни о королях, ни о капусте.
Собирать современные кровати не многим сложнее, чем спать на них. Несколько болтов, гаек и шурупов. Плевое дело. Особенно под музыку божественной галльской речи из уст красивой женщины, глядящей на тебя с вожделением.
Идиллия длилась не долго. Я затягивал болты уже собранной конструкции, когда в комнату вошел импозантный мужчина моих примерно лет или чуть постарше и поздоровался с мягким славянским акцентом:
— Здравия, друже!
Потом, перейдя на французский, заговорил с Жоан, и та, надеюсь, по инерции смотрела на него так, будто собиралась отдаться. Немедленно. По этой причине мужчина мне не понравился. Тем более что после нескольких реплик Жоан поднялась со стула и пошла за ним к выходу. Одно меня все-таки успокоило. Проходя мимо меня, сидящего на корточках, женщина взъерошила мне волосы и заговорчески подмигнула.
— Ауфвидерзеен, Андрэ!
Может, ей, как и мне, мало одного партнера? Тоже хочет объять необъятное — заполучить всех мужчин разом? Но почему-то эта наша похожесть радовала меня мало. Совсем не радовала.
— Что за мужик увел Жоан? — спросил я у Сергеева. Он как раз подошел посмотреть, как у меня продвигаются дела с кроватью.
— Карел, продюсер из Чехии, помощник Жоан. Может обходиться без переводчика, русский знает сносно, да и условия местные тоже. Говорит, работал недавно в Харьковской области.
— Европейцы что, кино снимали про самостийную Украину? Это им интересно?
— Не знаю, что им интересно, а что нет. Французы делали фильм о современной Франции, а все натурные съемки на природе к нашим соседям перенесли. В России снимать недорого, а на Украине так вообще даром. По европейским, понятно, меркам.
Мы внесли готовую кровать в комнату, и Григорий скрыл от глаз зрителей вульгарную современность старым покрывалом до самого пола. Мы отошли к дверям, где будет стоять кинокамера, и художник-постановщик улыбнулся, довольный.
— Кровати не хватало. С ней все встало на свои места. И уже неважно, где висит картина, где стоят стулья…
И правда: уютно, старинно, стильно. Вот только проживать в подобном номере начала XIX века желания у меня не возникло. Сортир-то все равно на дворе, на сибирском морозе…
А потом подвезли обед из трех блюд в разовой посуде из какого-то местного ресторана. Борщ, салат, бифштекс с жареным картофелем. Вынесли пять ярких пластиковых столиков со стульями. Места всем за ними, конечно, не хватило. Разместились, кто как сообразил.
Григория позвали за свой стол режиссер с оператором, и при посредничестве толмача Турецкого меж ними завязалась оживленная беседа. О будущих съемках, вероятно.
Оставшись в одиночестве, я прихватил миску с первым и устроился на верхней ступеньке крыльца дома-музея. Разорвал целлофановый пакет со стерильными ложками, вилкой, сдобной булочкой, куском черного хлеба и бумажной салфеткой. Осмотрелся. Виден отсюда был весь двор, как на ладони… На чьей, интересно, ладони лежит двор дома-музея, Иркутск, Российская Федерация, планета Земля? Кто Он? Верховный Бог всех ветвей официального христианства или Демиург первых христиан-гностиков, еретиков-богомилов и прочих? Он объединял в себе черты Бога и Сатаны, добро и зло, черное и белое… Ладно, хватит, борщ стынет.
Киногруппа обедала.
Актер-англичанин, тщательно пережевывая непривычную пищу, сидел один. Впрочем, все стулья от его стола растащили активные москвичи. То, что артист обедал один, меня не удивило. Надменный и малообщительный тип. Истинный джентльмен, каким его представляет российский обыватель. Я с удивлением вспомнил, что до сих пор не слышал от него ни слова. Может, он — звезда немого кинематографа?
За столиком руководства сидели шестеро. Больше говорили, чем ели. Остынет же!
Москвичи сдвинули два стола. Галдели, гоготали. На вид — так чисто русские люди.
За европейским столом тоже было людно и весело. В подавляющем большинстве — французы. Картаво каркали, взрывались смехом, жестикулировали, как стереотипные итальянские регулировщики.
Из «мосфильмовской» будки вывалилось, в меру пошатываясь, вокальное трио ярких представителей русской диаспоры российской столицы. Дверь в будку не закрыли. Из нее выползали клубы сигаретного дыма, как из подбитого танка. И как только танкисты живыми остались? Угорели, впрочем, по полной. Короткими перебежками продвигались к выдаче обеда…
А возле того сарая, куда мы с Григорием таскали стекло и листы ДСП, освобождая конюшню, на врытом в землю дощатом столе разместились… О боже, я поперхнулся куском хлеба. А лучше бы мне захлебнуться в миске с борщом, чтобы не видеть, как за высоким столом расположились Жоан Каро с новым помощником — Карелом из Богемии. На еду они внимания не обращали. Они щебетали, суки! Карел что-то говорил, Жоан смеялась, запрокинув голову. Он снова говорил, и она снова смеялась…
Я чуть с места не вскочил, но осадил себя, словно жокей не в меру прыткую лошадь. Сидеть, урод! Кто ты ей? Никто! Кто она тебе?.. Вопрос… Нет вопросов! Случайная связь. Забудь! А хочешь, вспоминай, но не обольщайся, кретин! Между вами ничего другого попросту невозможно Получил нежданное удовольствие, потешил больное самолюбие и — довольно!
Легко сказать: не обольщайся, забудь Не мог я теперь забыть, не мог не обольщаться. И не желал я ее делить ни с чехом, ни со словаком, ни с чертом, ни с дьяволом, будь они неладны, все четверо!
Надо что-то делать. Если я буду спокойно сидеть и смотреть, как у меня уводят женщину, ее действительно уведут! И она уйдет. И права будет. Потому что во все времена за женщину надобно драться. Когда-то дрались на мечах и копьях, на шпагах и дуэльных пистолетах, теперь — любыми способами. Все дозволено в драке самцов. Нет больше дуэльного кодекса чести…
Убью богемскую суку! Убью на хрен!
Они, чехословаки, в восемнадцатом году присягу нарушили, адмирала Колчака большевикам сдали на заклание, предали, бросили, бежали домой, увозя в эшелонах на миллиард царских рублей серебром, точнее — тридцать сребреников из золотого запаса Империи!
А теперь бабу у меня отбить хотят, ренегаты! Я их… точнее — его. Я его… Я…
— Андрей, можно рядом с тобой расположиться?
Анна Ананьева, переводчица, стояла на забетонированной площадке перед крыльцом, и ее лицо было почти вровень с моим. Я не услышал, не заметил, как она подошла. Со своим борщом в темно-коричневой пластиковой миске, со своим индивидуальным пакетом с ложками, хлебом и салфеткой, со своей улыбкой, сияющей, будто не она час назад ломала карандаш и мяла блокнот… Он лежал теперь на подоконнике. Я поднял. И остатки карандаша тоже. Осмотрел. Никакие у нее не сильные руки, обычные. Просто французский карандаш «Конти» тоненький, слабенький на излом Ладно.
— Ради бога, Аня.
Она присела рядом. Двигаться мне не пришлось, и без того сидел вплотную к перилам. Она стала рвать целлофан пакета, неумело, неловко.
— Давай, помогу.
Она протянула мне пакет.
— Много в жизни чисто мужских дел, с которыми женщине справиться одной — проблема.
Я одним движением порвал целлофан.
— Спасибо.
— Не за что.
Она засмеялась:
— Анекдот вспомнила. Сидит Петька на рельсах Транссиба. Подходит Чапаев и говорит: «Петька, подвинься, я сяду».
Я хохотнул для приличия. Старый анекдот. Как все про героя Гражданской войны Чапаева и его бессменного ординарца Петьку. Скоро, вероятно, и они забудутся. Кто теперь помнит анекдоты про записного борца за мир — Леонида Ильича Брежнева? Характерная отвратная дикция: «Я повторял и буду повторять всегда, что нам нужен мир. И по возможности — весь!» Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Делегаты встают и поют «Интернационал»… Так, говорят, писали в материалах съездов КПСС. Сам я этого не помню, конечно, подобную галиматью не читал. Отец рассказывал, что их в институте конспектировать заставляли…
Я старался отвлечься, думать о чем угодно, лишь бы не смотреть в сторону Жоан и Карела, лишь бы не лелеять свою ревность, не потакать ей. Клин клином вышибают. Вот хоть Анна, чем мне не пара? Тем паче было у нас уже с ней, о чем не жалею. Красивая девушка, а уж по возрасту француженке в дочери годится…
Я скосил глаза. Дочка кушала. Аккуратно, правильно, загребая борщ ложкой от себя.
— Будешь булочку? Я не хочу.
— От сдобы полнеют, — улыбнулась она. — Впрочем, буду. В обозримом будущем мне это не грозит.
Я посмотрел оценивающе. А она, как кошка под ладонью, прогнула спину, плечи отвела чуть назад. Вышло, будто виртуальным образом я погладил ее тело… роскошное тело, подобное свежему снегу… молодое, сильное, податливое… Ах, какое податливое, отзывчивое, желанное… Да, черт возьми, желанное!
Уже не виртуально я положил ладонь ей на талию, а она сделала вид, что не заметила. И правильно, люди же вокруг. Отставила миску с недоеденным борщом в сторону. И глаза черные-черные, жемчужные на белом-белом снежном поле лица, словно поволокой подернуло или туманом морозным. И губы с полусъеденной вместе с первым алой помадой приоткрылись чуть. А лицо словно каменное, из белого мрамора сработанное античным греческим скульптором…
И показалось мне, что вижу и слышу я, как оборвался смех француженки, как замерла ее рука в движении, поправляющем прядку волос белесых, как погасли глаза ее изумрудные… Не мог я этого видеть, не смотрел в ее сторону, однако видел явственно.
И потянулся я, работая на публику, лицом к лицу Анны, и, едва не касаясь губами ее ушной точеной раковины, прошептал:
— Я хочу тебя, Анечка…
А она и бровью повести не подумала, сидела как изваяние древнегреческое, лишь губы зашевелились неслышно на выдохе. По ним я прочел: «Я тоже…»
И сделалось мне, как никогда, весело. И захотелось сказать громким трагическим шепотом: «В полночь возле амбара. Приходите, не пожалеете!»
Анна опередила меня. Улыбнувшись, сказала в полный голос, не таясь:
— А мы с вами, Андрей, так договор и не подписали… Непорядок.
— Какие проблемы, Анна? Сразу после съемок и подпишем.
— Так после съемок?
— Да.
— У вас.
— Конечно.
Она поднялась со ступенек лестницы, сказала весело:
— Давайте вашу обещанную булочку, Андрей, не жадничайте!
А у сарая, куда мы с Гришей Сергеевым таскали стекло и ДСП, освобождая конюшню, Карел по-прежнему говорил и говорил без передышки, но Жоан Каро его не слушала. Теперь она отвернулась от него. И от крыльца тоже. Смотрела в пустое пространство. Смотрела бессмысленно и безнадежно.
ГЛАВА 39 Двенадцать дублей
Григорий Сергеев вернулся от столика руководства, как оплеванный. Закурил, сел рядом на ступеньки крыльца.
— Сплошные наезды. Достали. Никто ни хера не делает, а свою работу валят на меня. Снег привезти — художник, кровать… кровать ладно. Ее я выбирал, но не привозил. То — я, се — я! Надоело! Работаю и за художника, и за продюсера, и за грузчика! Жанка твоя…
— Ее зовут Жоан, и она не моя, — поправил я автоматически. Мне нравилось мелодичное звучание ее имени. До сих пор нравилось…
— Да хоть горшком назови, только в печь не ставь! — огрызнулся Григорий, уточнение «не моя» проигнорировал. — Жоанка твоя рогом не шевелит!
Ага, рог у нее, вероятно, заметен многим. Моя работа. Я наставил! Я был горд собой, как школьник, на уроке труда соорудивший кособокий табурет.
— Жоанку твою обдирают, как липку, все, кому не лень! Мне режиссер счета показывал. Везде в два, а то и в три раза дороже, чем обычно. Фирмы борзеют. Врубаются, что имеют дело с иностранцами, и задирают цены выше московских!
— Тебе-то, Гриша, какое дело? Пусть зарабатывают. Не из твоего же кармана доллары. Все равно не прогадают, все равно в Сибири дешевле, чем в Европе, снимать.
Он вдруг успокоился, бросил окурок в урну. Докурил он, кстати, стремительно. Говорят, это вредно, быстро курить. Всякая дрянь сгореть не успевает и — прямиком в легкие. Курить надо медленно, неторопливо, получая от вредного процесса максимальное удовольствие… О чем я, господи? Курить вообще не надо. И я брошу, но не сейчас, через год. Если до 34 лет доживу, впереди еще 11 гарантированных лет останется. Тогда появится смысл беспокоиться о здоровье, а до дня рождения — бессмысленно.
— Это я, Андрей, так, к слову. Накипело, понимаешь… — продолжил Григорий. — Теперь о деле. Режиссер куклой мертвого шамана интересуется…
— Буратиной, — подсказал я.
— Ну да, так его Борис называет. Я, кстати, на первом курсе художественного училища тоже его рисовал. В робе сварщика почему-то, теперь не помню. И так же мы, студенты, его называли — Буратиной. Почти такой же чурбан был, только у нашего Пиноккио пальцы в суставах не сгибались…
Я приготовился к получасовым воспоминаниям о счастливых годах юности и молодости художника, но, к счастью, время поджимало, и Григорий сам себя прервал. Не без сожаления.
— Ладно, хватит соплей. Ты когда у Бориса Кикина в последний раз был?
— Вместе с тобой вчера вечером, когда бубен в руки взял и в обморок грохнулся.
— Ну да, конечно. — Григорий зашарил по карманам, продолжая вопрошать, ни к кому конкретно не обращаясь: — В каком состоянии у Кикина Бурхан и Буратино? Работал он вчера и сегодня или нет?
— Какие проблемы? Позвони, — предложил я и понял, что сотовый Григорий и нашаривает по карманам.
Нашел. Достал. Вызвал. Трубку Кикин поднял сразу, и Сергеев повторил ему последние вопросы. Просветлел ликом, услыхав удовлетворивший его ответ. Отключился.
— Все в порядке. Трезвый. Работает. К вечеру, сказал, закончит. К вечеру и надо. Режиссер вечером смотреть придет… — Усмехнулся. — Буратину, кстати, Боря назвал онгоном…
Что ж, правильно назвал. Если я верно понял Борькины объяснения, что такое онгон. Вот только чей Буратино онгон? Какого бога или духа? Вопрос, на который может ответить только Борис. Он его демиург. Спрошу при случае.
Я посмотрел в сторону сарая. Карел ушел, зато подошла Анна Ананьева. Повторялась ситуация часовой давности на втором этаже музея. Только теперь переводчица сияла, а продюсер злилась.
Все повторяется, но всякий раз чуть-чуть по-иному. Вот и у Буратины, которого примерно сорок пять лет назад рисовал первокурсник Гришутка Сергеев, пальцы не сгибались в суставах, и щеголял он в брезентовой робе электросварщика. И не было в его азбуке даже слова такого — онгон…
Мы с Григорием вошли в широкий музейный холл, и я думал, что, может, не повторяется, а не прерывается просто некий процесс, все длится и длится, как один бесконечный рефрен жизни и судьбы. Бессмысленный? Многозначный? Как знать?
Нет, повторяется все-таки.
Повторилась и подготовка к съемкам на втором этаже Дома-музея декабристов. Снова железная дорога для операторской камеры, суетня, суматоха, гримеры, осветители… Пьяный реквизитор Вася из города Рязани родом, как примета новизны и небуквального повтора.
Дубль первый.
Француз в гостиничном номере иркутского «Гранд-отеля».
Ходит, садится, встает, ходит.
Изучает венецианский пейзаж с каналами и гондолами на картине в золоченой раме.
Смотрится в мутное старое поясное зеркало.
Пишет за столом дорогостоящим карандашом фирмы «Фабер», пижон. Взял бы гусиное перо, пернатых в Сибири невпроворот…
Ложится на кровать, единственный современный предмет в интерьере, что стараниями художника не заметно под старым покрывалом до пола.
Сапоги на покрывале, нога на ноге, руки под головой. Отдыхает.
Без стука в помещение вторгается молодая особа сексуального вида. Немудрено, она — актриса Иркутского театра юного зрителя. У нас так принято, детям — лучшее…
Они говорят каждый на своем языке. Ситуацию разумеют тоже каждый на свой лад.
Она — работает, скромно предлагает свое тело за определенную плату в луидорах.
Он думает, что мадемуазель ошиблась номером.
Она думает, что иноземец сомневается в достоинствах ее форм. Демонстрирует, оголяя левую грудь. Он, вероятно, гомик. Пугается, бежит к дверям, но те распахиваются сами. У жуликов все продумано. Входит дюжий молодец, сообщник и коллега мадемуазель во всех смыслах. Он артист того же иркутского театра.
Девушка прячет грудь. Обидно. Обвиняет француза одновременно в попытке изнасилования и неуплате гонорара за роскошный секс в ее исполнении.
Француз пытается спорить, но в чужой стране с чужой полицией связываться опасается. И правильно делает. Расплачивается с напористой путаной и продажным коридорным.
Француз обеднел не слишком, взамен приобрел богатый жизненный опыт, русские заработали на хлеб насущный. Все довольны. Кроме режиссера. Тот машет руками, прерывает сцену. Импульсивно объясняет актерам через переводчика Турецкого, что они играют детский утренник.
А что им еще играть? Они так привыкли в Иркутском ТЮЗе.
Она — распутная, липучая снежинка.
Он — зайчик. Крупный, мускулистый зайчик. В сибирских лесах такие водятся. Носят гордое имя: «байкальский заяц-русак». Повадки породы натуралистами мало изучены, но общеизвестно, что безлунными, темными ночами они напиваются до соплей самогоном, бьют волкам серые морды до полусмерти и насилуют лис или куниц. Кого поймают. При встрече с медведицей тоже насилуют, если в стае три и больше пьяных зайцев, а самогон был крепким, выше семидесяти градусов… Сибирские нравы. Нормально.
Словом, режиссер догадался, что он — зайчик, она — снежинка, это ладно, не очень они эти факты и скрывали. Но режиссер в своих наветах дошел до того, что женскую обнаженную грудь объявил «какой-то ненастоящей» и «вялой». Это слишком. Актриса возмущена до предела. Грудь — ее гордость. Она — настоящая. Ни грамма силикона! Сибирячка не Памела Андерсен, не резиновая кукла из секс-шопа! Предлагает режиссеру оценить лично и, не полагаясь на визуальные искажения, — ощупать.
Оператор аплодирует, показывает большой палец. Ему нравится живое возмущение женщины. Режиссеру тоже.
«Вот так надо играть! — говорит француз. — Развязно, жестко, напористо! Грудь, как флаг впереди наступающей колонны. Ура!»
Дубль второй.
Все то же, но актриса поняла режиссера буквально. Оголила обе груди и поперла ими, как в штыковую, на ошалевшего англичанина, играющего охреневшего француза. В ходе стремительного наступления попыталась сбросить юбку. Не успела. Заела ржавая застежка антикварного туалета, и оператор остановил съемку. Свет ему чем-то не понравился. Осветители подсуетились: что-то включили, что-то выключили, короче, исправили положение.
Дубль третий.
До явления полуобнаженной актрисы дело не дошло. Режиссера не устроила картина, которая раньше устраивала. Художник-постановщик заменил венецианский пейзаж с гондолами на сицилийский с виноградом. Я перевесил.
Дубль четвертый.
Дубль пятый.
В толпе других киношников я смотрел эту многократно повторяющуюся сцену из открытых вторых дверей. Я никогда больше не сумею воспринимать действие на экране доверчиво, как неискушенный зритель. Даже в самые интимные моменты первого, скажем, поцелуя или трагической гибели я буду видеть десятки суетящихся вокруг людей.
Я подумал, что нет в мире вообще ничего тайного, интимного, потому что всегда существует свидетель — человек, бог, дух, неважно. Ты никогда не остаешься один, даже когда рядом нет никого…
Дубль двенадцатый.
Отснято!
Но режиссер не прощается. Он зовет всю киногруппу на митинг, организованный местными «зелеными» и антиглобалистами. Призыв перенести трубу подальше от Байкала не оставил француза равнодушным. Он возмущен бесстыдством продажных властей и алчных нефтегазовых монополий.
Демонстрирует трехлитровую банку с чем-то черным, говорит, что это — вода озера Байкал после аварии нефтепровода…
Так вот зачем приезжала дочка губернатора и компания! Они, оказывается, «зеленые» активисты! Не знал. Вот она, проблема «отцов и детей» во всей красе. Папа прокладывает трубу, дочь протестует.
Нонсенс. Дочь губернатора — «зеленая». И та девушка, что мне понравилась — с раскосыми глазами, черноволосая — тоже, выходит, «зеленая»?
ГЛАВА 40 «Трубе — нет! Байкалу — да!»
В советские времена демонстрации, шествия и антиимпериалистические митинги трудящихся в Иркутске устраивались на главной площади города — Кирова. До Октябрьского переворота, именуемого позднее социалистической революцией, главная площадь носила несколько имен… Тут надобно сделать небольшое отступление.
В районе центральной площади старого Иркутска располагались некогда четыре православных храма и один католический: Спасская церковь, Богоявленский собор, Тихвинская церковь, Казанский кафедральный собор и Католический костел. Стояли на площади и другие здания: городской Думы, Мещанских торговых рядов, Гауптвахты. А в 1777 году по проекту знаменитого итальянского зодчего Джакомо Кваренги был построен двухэтажный Гостиный двор с изящной сводчатой галереей. Новая постройка была настолько красива, что по ее имени стали именовать и всю площадь — Гостинодворской. До этого она звалась по-разному: Кремлевской, Спасской, Тихвинской, Военной и Сперанского. Надеюсь, не долго ждать, когда площадь сменит имя Кирова, большевика-ленинца, на другое, более приличное…
Именно на этой многострадальной площади и проходил митинг «зеленых» в защиту Священного озера Байкал.
Киногруппа загрузилась в легковушки и микроавтобусы. Жоан в свой «шевроле» демонстративно меня не позвала, хотя проводила печальным взглядом, когда я втискивался в переполненный москвичами низкорослый южно-корейский микроавтобус.
Я был разочарован. Шума много, а у здания бывшего обкома, возведенного на месте взорванного некогда Казанского кафедрального собора, собралось всего-то две, от силы три сотни протестующих. Мы влились в редкую толпу, растворились в ней настолько, что минут через десять я обнаружил — многие без остатка. Гостиница, где проживала киногруппа, находилась через площадь в пределах видимости. Тонкие струйки киношников туда и потекли. Сначала ближайшего зарубежья — москвичи, потом остальные иностранцы. Григорий Сергеев, не предупредив меня, тоже незаметно куда-то свалил. «Шевроле» Жоан Каро я вообще тут не видел. Вероятно, она на митинг и не рвалась, укатила вместе с чехом-помощником. Ну и пусть. Мне нет теперь до нее дела, до изменщицы…
Сам я задержался лишь потому, что узрел в первых рядах давешнюю троицу во главе с губернаторской дочкой. Последняя мало меня интересовала, а вот черноволосая красавица с примесью бурятской крови интересовала весьма и весьма, чтобы не сказать больше… Она снимала мероприятие на видео, дочка с женихом держали в руках по трехлитровой банке с черной водой или краской.
Выглядело из моих задних рядов все это так: ступеньки крыльца здания областной администрации, метрах в пяти цепь милиционеров, экипированных резиновыми дубинками, прозванными в народе демократизаторами, касками и щитами, по форме напоминавшими шиты древнеримских легионеров. С внешней стороны цепи беснующийся оратор с мегафоном в руке. Дальше — протестующие, у многих банки в руках. Они подошли бы и ближе, да менты не позволяли. Стояли с окаменевшими лицами, им, пожалуй, и самим было неловко. Байкал — святое для иркутян озеро. Но служба есть служба, приказ есть приказ, и с места им не сойти…
Вокруг переводчика Турецкого сгруппировалось интернациональное трио оставшихся киношников — режиссер месье Диарен, француз, оператор герр Бауэр, германец, и, к моему удивлению, молчаливый актер мистер Лермонт, англичанин. Они стояли по стойке «смирно», с лицами серьезными и сосредоточенными слушали синхронный перевод о продажности федеральных властей, лизоблюдстве региональных властей, алчных нефтегазовых монополистов России и остального мира. Докладчик выкрикивал в мегафон претензии к правительствам Евросоюза, Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики, при трусливом попустительстве и невмешательстве которых только и возможен наглый беспредел президента и правительства Российской Федерации. Потом он громогласно и троекратно прокричал известный лозунг, подхваченный толпой:
«Трубе — нет! Байкалу — да!»
После чего случилось самое интересное, я порадовался за богатое воображение «зеленых» устроителей, честное слово! Ради одного только этого стоило прослушать общеизвестную галиматью оратора!
Множество людей подошли вплотную к милиционерам и стали швырять через их головы на ступеньки крыльца бывшего обкома КПСС трехлитровые банки с черной дрянью. Менты не знали, как реагировать. Подобное развитие событий предусмотрено не было, соответственно, и приказы, как вести себя, не получены. Вот и не реагировали.
Наш режиссер замешкался, не сразу понял смысл происходящего. Подбежал одним из последних. С тяжелой атлетикой француз, вероятно, не дружил, ядро не толкал за университетскую сборную. И потому швырнул свой снаряд неумело, тот выскользнул из его рук и упал на милиционера из оцепления. Банка скользнула по каске и разбилась под ногами ментов, как противопехотная граната, окатив близстоящих грязной водой.
Потерпевший мент ничего не сделал, не поняв, за что же его так, ни в чем не повинного? Но сосед его обрызганный взмахнул своей резиной не колеблясь. Попал удачно, в лоб. Француз коротко вскрикнул и ретировался, закрыв ладошкой отбитое место. Но к актеру с оператором возвращался уже неторопливым героем. Сиял, как юбилейный советский рубль с ликом Ленина. Будет потом на родине рассказывать, как пострадал за святое дело защиты чистоты Байкала, достояния всего прогрессивного человечества…
Разве так защищают? Разве эти идиотские акции имеют хоть какое-то значение?
Ага, сейчас губернатор от страха штаны испачкает, позвонит по прямой связи в Кремль. Там переполох случится, перепугаются все до смерти. США угрожает России ядерной войной. Европа — категорическим отказом от потребления российских энергоносителей. Нефть дешевеет на Лондонской бирже до доллара за баррель. Поднебесная империя предупреждает, что перекроет поток эмиграции, а без китайской рабочей силы производство Федерации попросту остановится. Правительство с премьер-министром — бегом в отставку. Государственная дума президенту — ультиматум импичмента, после чего мгновенно самораспустится от позора и безысходности. После всего этого президент, натужно охая, своими руками перетаскивает трубопровод за сто километров от байкальского берега… Нет, за тысячу!
Чушь какая в голову лезет…
Старушка-уборщица на крыльцо бывшего обкома выйдет, осколки стекла веником сметет, грязную воду половой тряпкой смахнет.
Губернатор ухом не поведет, похихикает, а президент вообще ничего не узнает. Кто его по пустякам отвлекать станет, докладывать?
Вот и все возможные последствия шумной акции с битьем посуды.
Губернаторская дочь и ее жених освободились от стеклотары успешнее, чем неловкий француз. Впрочем, им изначально ничего не угрожало. Все менты города, как пить дать, знают их в лицо.
Покончив с экологическими делами, золотая троица направилась к поджидавшему их представительскому автомобилю.
Провожая взглядом аппетитную фигурку метиски, я думал лениво, что, да, хорошо, конечно, что ребята за чистоту окружающей среды борются, идут наперекор папашке, без пяти минут президенту или премьеру всея Руси, в силовых акциях участвуют, банками ловко швыряются… Но что-то не видно последовательности в их действиях. Почему телохранители, автомобиль престижный, заокеанский, с личным водителем-гэбистом? Не спешит отказываться девочка от свалившихся на нее случайным образом по факту рождения личных привилегий. Может, и правильно делает. Какой дурак отказался бы?
Я смотрел, как они подошли к машине, как дверь перед ними распахнул пресловутый водитель, может, кстати, вовсе и не гэбист. Потом вразнобой хлопнули дверцы, и машина уехала.
До свидания, черноглазая красавица, вряд ли когда еще свидимся. Впрочем, Иркутск — город маленький…
Немец и англичанин с завистью изучали шишку на лбу француза. Сегодня его день. Он — герой, пострадавший от деспотических действий деспотических властей деспотической дикой страны.
Браво, Поль!
Ура, месье Диарен!
Надо было смотреть, дебил криворукий, куда банку бросаешь. Чуть человека не покалечил, пусть и мента, чучело…
ГЛАВА 41 Невозможное нападение
Не я пошел, ноги понесли меня по улицам бесцельно, словно щепку поток талой воды. Словно тополиный пух, горячий июньский ветер…
К француженке тянуло неодолимо, как магнитом железку. Но француженка, кажется, для меня потеряна. У нее теперь новый воздыхатель, с которым она может объясняться по-человечески, по-французски, а не на том искореженном немецком пятиклассника троечника, на котором общались с ней мы.
Но не это главное. Карел — красивый мужчина моих примерно лет, перспективный, вероятно, и вообще в европейском кинопроизводстве — свой человек. А я? Сбоку припека. Закончатся съемки, и при любом раскладе — гуд бай, май лаф, гуд бай…
Вдобавок по стереотипному всемирному представлению французы — нация ветреная, непостоянная.
«Разве можно посадить ветер в клетку?» — вопрошал один немецкий писатель, которым я зачитывался в юности. Кстати, в «Триумфальной арке», лучшем его романе, русский друг главного героя говорил о женщине, похожей на мадемуазель Каро и носившей то же имя: «Она — стерва. Был бы ты русский, ты бы меня понял…»
Я — русский. Я — понимаю.
До свидания, зеленоглазая красавица, вряд ли когда еще свидимся. Впрочем, Земля — планета маленькая…
Смеркалось. Опять смеркалось. Последнее время все у меня происходит в это таинственное время, когда уже не свет, но еще не тьма. Впрочем, что здесь таинственного? Дважды в сутки подобное происходит. Вот только знать бы точно, что в жизни моей за сумерки? Предрассветные или послезакатные? Что впереди меня ждет — свет солнечный или тьма кромешная?
Впрочем, что впереди, то и ладно. Ко всему должно быть готовым. Помни, смерть ждет чуть сзади над левым плечом… или правым? Как я себе тогда придумал? И придумал ли?
Оглянулся резко — ни за левым, ни за правым плечом смерти не было. Некогда ей над моими плечами прохлаждаться. Дела у нее важные — косить и пожинать… пожинать и косить…
Марко и Катерина, за ними Стас, фамилии которого я так и не узнал, а теперь и не к чему…
Эй, милая девушка в белом с косой распущенной, кто у тебя в списке следующий? Может, я?
Молчит. Не отвечает. Ну и бог с ней. Впрочем, Бог и без того с ней всегда, а она при Нем бессменно — бич Его и меч разящий…
Божьим бичом, кажется, Тамерлана звали… или Чингисхана? Хотя какая разница? Оба этого прозвища достойны. Оба — великие завоеватели, великие мерзавцы и душегубы, слепые орудия безжалостного, мстительного Господина… Или с нами, людьми, только так и надо? Иначе — с катушек слетим, страх потеряем и начнется российский беспредел во вселенских масштабах…
Ноги несли меня по улице Карла Маркса в сторону набережной реки Ангары. Я не стал мешать ногам бездумно выполнять свои функции. Пусть несут.
Слева памятник Ульянову-Ленину с протянутой рукой. Постамент заляпан красной краской. Правильно. Какой еще краской мазать отца красного террора? Впрочем, до него самого не достать — постамент высокий.
Зато у памятника Александру Вампилову — я проходил как раз мимо — постамент не выше перевернутой лодки-плоскодонки. Почему-то сегодня драматургический знаменитый метис полностью утратил европейские черты. Чистой воды — папа, который, как известно, был древнего бурятского рода.
На фасаде краеведческого музея вместо германских фамилий исследователей и путешественников значились странные какие-то имена: Ата Улан тэнгри, Эрлен-хан, Эрью Хаара-нойон, Эхэ Нур хатан…
По бурятской мифологии, первый — предводитель сорока четырех восточных, злых небожителей, второй — повелитель царства мертвых, третий — его помощник, четвертая — женщина, ханская жена… Что за чушь, откуда я это знаю? Знаю точно.
У памятника российскому императору Александру III оказалось далеко не российское лицо. С раскрытой клыкастой пастью, с выпученными глазами и третьим глазом во лбу, это было лицо бурхана, которого Борис Кикин вырубал на тотемном столбе…
Господи, прости мою душу грешную… Я перекрестился. Император оскалился еще шире, на воркующих у ног его голубей упали клочья густой серой пены с клыков, третий глаз подмигнул мне заговорчески…
Я побежал по гаревой дорожке набережной. Я не знал куда.
Вместо головы первого космонавта Юрия Гагарина на пьедестале стояла глиняная голова мертвого бурятского шамана. Смердила. Полуразложившаяся желтая глина отваливалась кусками…
Я бежал.
Перед моими глазами мелькали ели и березы обочин Байкальского тракта…
…на клумбе справа пылала подержанная японская иномарка с заклиненными дверями, за стеклами ухмылялись незнакомые нечеловеческие лица…
…мое зеркальное отражение из мастерской Стаса щурилось всеми тремя глазами… и никакой это был не дефект амальгамы…
…Мать-Хищная Птица с орлиной головой и железными перьями, как ненормальная, откладывала яйца в вороньих гнездах на разросшихся кедрах сквера…
…Дьяволица-Шаманка, у которой один глаз, одно плечо и одна кость, укачивала меня в железной люльке и кормила вкусной запекшейся кровью…
…три черных Черта вбивали в мою голову копье, срывали с моего тела куски мяса и разбрасывали их в разные стороны в качестве жертвы, потом варили кости в котле…
…три Духа в облике Волка, Ворона и Барана собирали мой новый скелет, и если не хватало какой-либо кости, для ее замены должен был умереть кто-то из членов семьи, но таковых не оказалось, и умирали чужие люди, те, что рядом…
Я пришел в себя в подъезде на лестничной площадке у дверей Бориса Кикина. Приоткрытых дверей. Я взялся за ручку и отдернул руку, словно током меня шарахнуло. Я не хотел входить. Меня влекло туда, словно магнитом безвольную железяку. Ну же, Андрэ, форверц!
— Хрен вы угадали, — прохрипел я, непонятно к кому обращаясь. — Не пойду я туда, не заманите…
Я повернулся на месте и… замер, не сделал шага. Потому что услышал Борькин крик:
— Андрей, спаси-и-и! — истошный, визгливый, бабий какой-то. — Ан-дре-е-ей!!!
Рывком распахнул дверь. На кухне никого не оказалось, шум борьбы доносился из комнаты. Я бежал несколько шагов, как несколько километров. Я услышал чавкающий удар и нечеловеческий, ничего, кроме нестерпимой боли, не передающий крик:
— А-а-а-а!!!
Боже мой… нет Тебя, Боже… что там творится в Твое вечное отсутствие?
Борис орал, лежа на полу навзничь с раскинутыми руками. Лицо его было рассечено по диагонали от правого уха до левой скулы… не лицо — кровавое месиво…
Над поверженным телом возвышалась фигура голой деревянной куклы, Буратины, с занесенным для последнего удара уже окровавленным плотницким топором…
Я не успел удивиться, не успел даже подумать о невозможности подобной ситуации. Ударил куклу ногой в бок, и она отлетела к включенному без звука черно-белому телевизору легко, как вязанка дров…
Я склонился над Борисом, который, перестав орать, смотрел на меня округлившимися глазами, шевелил рассеченными, вывернутыми губами, а кровь стекала множеством струек с лица на пол, образуя две черные лужицы у щек…
— Боря… — Я не знал, что сказать, как ободрить тяжелораненого. — Боря, сейчас я «скорую» вызову, потерпи…
— Андрей! — закричал он вдруг невнятно и истерично.
Я не сразу понял смысл его возгласа, но одновременно с ним Борис поднял руку, указывая мне за спину.
Развернулся и встал с корточек я мгновенно. И вовремя. Я увидел, как с топором в руке ко мне осторожно подбирался Буратино. Восковое лицо его было как живое. С мимикой был полный порядок. Буратино ухмылялся глумливо, черная ненависть кипела в карих глазах. Топор в правой руке подрагивал. Я видел, что он меня боится, но не понял почему. Преимущество в вооружении было на его стороне…
Я огляделся — ничего, похожего на оружие, поблизости не оказалось. Над диваном на расстоянии вытянутой руки висел шаманский бубен. Не бронзовый щит, конечно, но чтобы отвлечь, сгодится. Я снял бубен с гвоздя.
Враг был уже рядом. Зажав топор деревянными пальцами обеих рук, он размахнулся и рубанул. Я отскочил в сторону, и широкое лезвие рассекло диванную обшивку. Я бросил бубен в восковое лицо, и Буратино замер, не успев поднять топор над головой. Не став раздумывать, что вызвало этот эффект, я ударил куклу ногой в живот. Буратино переломился пополам, и я поймал его острый подбородок на свой кулак. Буратино упал навзничь, выронив топор, и не пытался больше подняться. Вероятно, потерял несуществующее сознание. Отбросив оружие в сторону от греха подальше, я ударил ногой по деревянным почкам. Кукла охнула на выдохе. Я ударил еще. И еще. Она хрипела, а я бил, бил и бил что есть силы. Я ненавидел эту деревяшку всем своим существом, я желал ей немедленной смерти. Я бил, бил и бил…
Кто-то, ухватив за под мышки, потащил меня назад, прочь от ненавистного деревянного тела. Кто это мог быть? Ну не Боря же с рассеченным пополам лицом… Значит — враг!
Я развернулся, вырвался и, не глядя, ударил наотмашь, по-крестьянски в чье-то лицо и только после удара узнал Григория Сергеева, отлетевшего к стене и сползавшего по ней на пол. Потом посмотрел на Буратину. Он больше не хрипел, вообще не шевелился. Я его, похоже, убил… Убил неживую деревянную куклу?
— Ты с ума сошел, Андрей! — сказал, поднимаясь, Григорий. — За куклой сейчас придут, а ты ее уродуешь!
Сам он псих! Рядом человек кровью истекает, а он о преступной кукле беспокоится.
Я молча прошел к телефону, набрал короткое 03, назвал адрес…
Когда санитары выносили носилки с потерявшим сознание Борисом Кикиным, я увидел среди набившихся откуда-то людей в залитой кровью комнате режиссера, оператора и актера. Они были перепуганы жутким видом раны и лужами крови на полу. А безъязыкий англичанин все повторял шепотом, как заведенный:
— Ноу… ноу… ноу…
Часть 2 Ольхонский морок
Автор благодарит мужчин и женщин,
бурят, русских и нерусских, православных,
буддистов, шаманистов и атеистов,
из времен прошлых, настоящих и будущих,
острова Ольхона и города Иркутска,
что поведали ему о мифических
Небесах и Преисподней,
без познания которых невозможно
понять мир людской, Срединный.
ГЛАВА 1 Пиррова победа здравого смысла
Не знаю, в какой реальности я пребывал целую ночь — во сне, наяву ли? Скорее всего — в серой дыре меж ними. Я провалился в нее, как в прорубь, с головой. Выныривал на тусклый свет ночника над диваном, на блекло-синий свет окна — подо мной бутик модной одежды с неоновой вывеской, не гаснущей и ночью.
Я хватался за эти огни, за реальность, как за кромку льда, которая обламывалась под ладонями, и снова погружался с головой в бредовую жуткую муть. И снова дрался с бесноватым деревянным монстром. И снова Борис Кикин получал удар по лицу плотницким топором с широким блестящим лезвием…
Эх, Борька, Борька, выживешь ты или нет? Главное ведь, только жить начал, пить бросил, и на тебе… выставка в Париже… гравюры в Дрезденской галерее… смерть от рук куклы, которую сам же и оживил… золотые у тебя руки, кретин.
Не умирай, папа Карло, хренов, не умирай, пожалуйста!
Чувствую, если выживешь, все у тебя будет — и Париж, и Дрезден с Лондоном в придачу. Еще не вечер, Борис. Еще не вечер…
И снова реальность со светящимся ночником, с мерцающим окном, со столом, с компьютером, со шкафом, со страхом и тоской. Но едва я успевал вздохнуть, набрав в легкие глоток воздуха, как тонул опять… и опять… и снова…
Когда прозвенел будильник, я автоматически встал и столь же автоматически оделся. С удивлением обнаружив в коридоре собранную сумку с ручным плотницким инструментом, набросил ее на плечо и вышел на улицу.
К гостинице, где проживала киногруппа, по утреннему городу я брел на автопилоте, как пьяный ночной самолет к родному аэродрому. Я и был пьяный, хотя не пил с тех пор ни грамма. И не помнил я с тех пор почти ничего. Точнее, помнил, но смутно-смутно. Словно не Борьке Кикину, а мне бесноватая деревянная кукла рассекла голову, и вместо крови посыпались на пол несвежие ржавые опилки…
Хорошо живет на свете Винни Пух, оттого поет он эти… Вот сейчас мне только песни петь. Вслух.
Кое-что я все-таки помнил, но не понимал. Помнил, Анна Ананьева, переводчица, приходила, и пресловутое «кое-что» у нас все-таки получилось. А вот каким образом, для меня загадка. Я отсутствовал в реальном мире. Впрочем, тело-то мое в нем оставалось…
Давным-давно рассвело. Снег давешнего необязательного снегопада сошел всюду, переполнив влагой подсохшие было тротуары. И снова слякотные лужи днем, а утром — тонкий ледок, который хрустел на все лады под ногами прохожих. И возникало ощущение, что иду я по поверхности огромного водоема, и лед трещит и вскрывается, и вот-вот разверзнется ужасающая бездна, и весь город утонет в черной полынье, будто его и не было вовсе.
Встречный мужчина, в трех шагах от меня, взмахнув вдруг руками и выбросив перед собой ноги в лучших традициях тхеквондо, с агрессивным «бля!» рухнул навзничь. Под ним хрустнуло, будто доска обломилась, но под лед мужик не ушел, только штаны забрызгал.
— Не ушиблись? — Я протянул руку. — Давайте помогу.
— Чип и Дейл хренов. — Мужчина встал самостоятельно. — Иди ты, знаешь куда?
И я пошел. А что мне оставалось делать? Тем более и времени до отъезда на Ольхон оставалось немного.
А «бля» у русских означает то же, что у японцев «банзай».
Проснулся я уже более-менее адекватным, и вторым моим ужасом после порубленного Кикина стала тревога за собственную судьбу. Почему я до сих пор на свободе? Почему не в КПЗ? Почему не кричит на меня непохмеленный следователь: «Сознавайся, сука!», а другой, похмеленный, протягивая сигаретку, обещает явку с повинной?
Я вспомнил, что с меня и Григория Сергеева показания менты снимали еще на месте преступления. Но даже и тогда, находясь в шоковом состоянии, я словом не обмолвился о том, что преступник — неживой деревянный бандит по кличке Буратино. Понимал, что никто в здравом рассудке мне не поверит, что примут меня за сумасшедшего, а то и за маньяка… Нет, кажется, начал я свои показания именно с Буратины… Или не с него? Не важно. Важно то, что и меня и Сергеева менты отпустили без всяких подписок и так далее. Почему? Этого я не помнил. И как до дома шел — тоже. И что дома делал.
Но что все-таки произошло? Мне необходимо было в этом разобраться, необходимо объяснить хоть как-то. Ну если не объяснить, то хоть придумать правдоподобное объяснение. Как ученые эксперты делают? Видят фотку, скажем, с НЛО и выносят вердикт: атмосферное явление, дефект пленки или фотомонтаж, а скорее всего — все это разом. Обывателю становится легко и весело, все умным дядям верят, потому что на то они и доценты с кандидатами, чтобы объяснять атмосферные явления всякие.
Итак, вчера я вошел в квартиру Бориса Кикина и увидел… то, что увидел. Но это же явный бред, тем паче неизвестно чей. Что было на самом деле? Действительно, что?
Кроме собственного умопомешательства, ничего на ум не приходило.
Поищем аналогий. Например, глиняная голова, вылепленная Борисом в полной отключке и неожиданным образом полностью совпавшая с фотографией реального человека. Отпадает. Это маловероятное, но в принципе возможное совпадение, и только.
Кто-то за мной запирал дверь, когда тот же Борис был в той же отключке. Снова не то. Дверь запирал хозяин на ржавом автопилоте.
Потеря сознания и видение предполагаемого предка после прикосновения к шаманскому бубну. Пить надо меньше. Недвусмысленные симптомы белой горячки либо эпилептического припадка на той же алкогольной почве. Не было вроде у меня проблем со спиртным… Значит, появились.
Даже роковые числа нашей семьи можно объяснить сбрендившим многократным совпадением, потому что каждые взятые отдельно смерть или рождение были всего лишь смерть или рождение. Никакой мистики.
Мистика была. Это я знал точно. И то, что я не свихнулся и видел в квартире Бориса именно то, что происходило, тоже знал точно. Вот только объяснить ничего не мог. Может быть, поездка на Ольхон даст ответ? Каким образом, я не знал, но то, что это так, был уверен. Откуда, черт возьми, такая уверенность? Что я там могу узнать, что увидеть? Остров как остров. И люди на нем живут как люди — буряты и русские, вполне мирно. Вот только электричества на Ольхоне нет, а так — то же, что и везде.
Так и не придя ни к какому решению, я подошел к гостинице и увидел цыганский табор, снимавшийся с временной стоянки. Вот только вместо традиционных кибиток и лошадей — разномастные автомобили: микроавтобусы, южнокорейские и наши «УАЗы», грузовые, полугрузовые, с прицепами и без них.
Лошади, кстати, все же были. Две. Серые в яблоках. Французской национальности. Актриса и ее дублерша. Впрочем, как я уже знал, разницы никакой не было, они не ссорились из-за сомнительной киноактерской славы. Снимали ту лошадь, у которой было лучше настроение. Уровень настроения определяла лошадиный тренер. Мы пытались с ней общаться, когда снималась конюшня, но общение оказалось невозможным — французский тренер не знала ломаного немецкого. Хотя улыбалась искренне, показывая лошадиные зубы. В хорошем смысле…
Лошади стояли в оборудованном под загон прицепе, и видны были только их серые в яблоках головы. Лошади беспокойства не проявляли, смотрели со спокойной печалью на человеческую суету. Смотрели и молчали. Привыкли, наверно, к загону. Неужто их из Франции так и везли через весь континент до Иркутска? Вряд ли. Европейские все-таки лошади. В аэробусе, вероятно, прилетели. Бизнес-классом.
Напротив центрального входа в гостиницу на обочине стояли три «УАЗа» и корейский микроавтобус, последним в ряду. К нему я и направился. Рядом курил водитель, молодой бурят по национальности. Я видел его уже на съемках.
— Привет.
— Привет-привет.
Он меня тоже узнал, но не улыбнулся, пожимая руку. Для человека восточного, в том числе и бурята, неулыбчивость, кстати, явление редкое. Они же тебе улыбаются, как отцу родному, даже если через минуту намерены перерезать глотку. Этот был хмур, как предгрозовое небо. Может, случилось что?
— На Ольхон? — спросил я, улыбаясь за нас обоих разом.
— На Ольхон, на Ольхон, — согласился хмурый водитель.
— Скоро?
— Скоро-скоро.
Хорошо поговорили. Интересно, если спросить, как его имя, он ответит: имя-имя? Но ничего спрашивать я не стал. Водителю нечего стало удваивать, он потерял ко мне интерес, затоптал окурок и ушел к себе за руль.
Я снял сумку с плеча, бросил ее на асфальт и достал мобильник.
Четыре микроавтобуса. Три из них уже забиты под завязку москвичами и прочими иностранцами, последний — пустой. Мне-то куда садиться? Пусть начальник решает.
Я нажал кнопку вызова.
— Привет, Андрей, — услышал я голос Григория Сергеева. — Ты где?
— У входа.
— Жди меня. Режиссер тут не вовремя совещание устроил. Ехать надо, а он… Ладно, жди. Когда-нибудь он наговорится.
Вот и слава богу. Указания получены, велено ждать.
Покуривая, я наблюдал, как киношные автомобили один за другим отправились в путь, на Ольхон. Кроме моего знакомца с «Мосфильма», все водители были местными, дорогу знали.
Кто из нас, иркутян, хоть разок да не отдыхал на Малом море Байкала? Благодатные места. Вода теплая, относительно, конечно, природа… Чуть ведь не сказал: «чудная»! Эпитет этот к Сибири, а тем паче к Байкалу вовсе не приложим.
Дикая, священная, как море, мистическая? Может быть. Но уж не чудная, точно. С Днепром не путать.
После того как все машины ушли, из последнего, пустого микроавтобуса вышел водитель-бурят. Теперь луноподобное лицо его сияло, вероятно, отраженным светом. Водитель закурил.
— Зря ты, паря, с москвичами в «УАЗе» не уехал. У меня-то в салоне лишних мест нет.
— Как — нет? — опешил я.
— Так и нет, — объявил он гордо. — Я начальство повезу: режиссера, там, оператора, бабу эту, продюсершу…
— Что ж ты сразу-то не сказал?
— А ты чего сразу не спросил?
Вот гад! И улыбается, будто рубль нашел!
Все, что я думаю про водителя, его мать, отца и прочих родственников до двенадцатого колена включительно, выложить я не успел. Бурят, ухмыляясь, вернулся на свое мавританское место за баранкой. Мавр сделал свое дело…
В это время из гостиницы вышел наконец Григорий Сергеев. Один. Хмурый, как черт. Впрочем, с чертями лично я не знаком, может, они веселые? Веселые и находчивые…
— Втык получил, — пожаловался Сергеев.
— За что?
— За тебя. Ты какого черта Буратину покалечил? Зачем ногами его пинал?
— Так он же, гад… он же…
Я аж захлебнулся негодованием. Да если бы я не вмешался, этот деревянный маньяк Борьку бы в капусту изрубил!
— Он же…
— Знаю, знаю, — усмехнулся Григорий. — Ты еще вчера лейтенанту рассказать успел, какой ты герой, как ты Кикина от куклы спас. Лейтенант уже номер психбольницы набирать начал. Я его еле отговорил: мол, стресс у парня, шок — друга порубили. А то лежал бы ты, Андрюша, сейчас в палате на улице Гагарина в модной смирительной рубашке, сплошь обколотый всякой дрянью.
Уже не возмущаясь, я вяло произнес:
— Гриш, но ты же сам видел, это же Буратино Борю топором…
Сергеев с размаху швырнул мне под ноги окурок и заорал как резаный, точнее, рубленый:
— Заткнись! Пить надо меньше, урод! Белая горячка у тебя! — Продолжил, чуть успокоившись: — Ты чего думаешь, отпустила бы тебя милиция, если бы Борис не назвал имя того, кто его покалечил?
То, что меня отпустили, мне сразу показалось странным. На месте преступления никого, кроме меня, не было. А куклу деревянную кто же заподозрит? Это все равно что письменный стол подозревать в серийных убийствах на сексуальной почве.
— Боря преступника назвал? — спросил я смиренно. — Правда?
— Не назвал, написал. Говорить он не может. У него, сам видел, лицо пополам рассечено. И губы тоже.
— И кто преступник?
Григорий Сергеев пожал плечами:
— Не знаю. В интересах следствия подобную информацию не разглашают.
Я задумался. Кто это мог быть? Собутыльник случайный? Так Боря теперь не пьет. Тут же сам себя и осадил: кто, кто? Конь в пальто! Пусть они думают про меня, что хотят, но я собственными глазами видел, как Буратино его топором ударил!
Но тут снова сомнения вернулись. Уж не сошел ли я с ума? Или, правда, белая горячка?
«Двухтумбовый письменный стол, фанерованный под орех, сперва изнасиловал в особо извращенной форме, а потом нанес потерпевшему восемнадцать ударов в живот крестообразной отверткой…»
Вот как выглядят мои показания в глазах милиции. Да и в любых других глазах — тоже…
Здравый смысл регулярно берет верх. Даже если он безнадежно проиграл, выигрыш все равно остается за ним.
Здравый смысл лжив и коварен. Берегись здравого смысла. Подумай, может, не настолько он здрав, как кажется с первого взгляда?
Я об этом подумал и пришел к выводу, что да, нет у здравого смысла никаких шансов на этот раз.
Но — чудо! Он опять сверху, опять торжествует, опять…
Еще одна пиррова победа здравого смысла.
Герр генерал, еще одна такая победа, и здравый смысл останется без рассудка!
Григорий Сергеев вопросом вывел меня из ступора:
— Ты чего с москвичами не уехал?
— Ты же сказал: жди, я и ждал. Откуда мне было знать, что этот микроавтобус только для белых и мест нет?
Григорий задумался, а руки его самопроизвольно полезли в пачку за сигаретой. Курит, блин, одну за другой, не бережет себя художник!
— Ладно, разместимся как-нибудь, — щелкнул зажигалкой. — Опять на меня наезды будут.
— Я его сильно покалечил, Буратину этого? — спросил я виновато.
— Ерунда. Я полночи не спал, но все исправил. Уже реквизитору его передал. Все нормально.
Я порадовался за своего знакомца — естественно-лысого, щербатого симпатягу. Будет у Васи теперь собутыльник, если корефаны — водитель Ваня с пиротехником Петей пить откажутся. Это маловероятно, вряд ли они откажутся. Русские люди все-таки, пусть и с московской пропиской.
— Гриш, а ты не знаешь, как у Бориса состояние?
— Знаю, звонил. У меня в той больнице хирург одноклассник. Сказал, что операцию сделали, вроде успешно прошла, жизнь вне опасности. Теперь Кикин спит, после наркоза отходит. Я думал ему свой мобильный телефон оставить, но врач сказал, что он еще долго говорить не сможет, с такой-то раной… В общем, в порядке все.
Да уж, в порядке. Если это — порядок, то каков же в этом мире беспорядок? Подумать страшно.
— Гриш, а в микроавтобусе этом кто едет?
— Режиссер, оператор, актер-англичанин, продюсер, Карел, ее помощник…
— А Жоан разве не на «шевроле»? — перебил я художника.
— С ума сошел, там же асфальта нет, ни одна иномарка не пройдет, кроме внедорожника, конечно.
— Ясно. Кто еще?
— Анна и Борис, переводчики, еще тезка твой французский — Андрэ, фотограф.
— А фотограф зачем?
— Как зачем? Неуч. Фотосессию будет проводить. Показу фильма обычно предшествует рекламная кампания. Тут фотографии и понадобятся: где снимали, как, природа Байкала, люди вокруг. Все в фильм не впихнешь, а фотографа сюжет не ограничивает. Он может снимать, что и как хочет, в меру фантазии и таланта.
Григорий Сергеев тяжело вздохнул. Продолжил с дрожью в голосе:
— Лучше бы мне фотографом работать, а не художником-постановщиком. Знал бы заранее, ни за что не согласился бы. Собачья работенка…
А я подумал, что кокетничает Гриша. И знал бы заранее, все равно пошел. Французы платят прилично, пусть и меньше, чем в Европе принято. Так где она и где мы? Мы в Азии, тем паче в самом теплом ее уголке — Восточной Сибири, и этим все сказано.
— Ладно, Андрей, сумку подальше под сиденье задвинь. — Григории пнул ее ногой, и она весело звякнула всеми своими инструментами. — А сам в угол забейся и молчи в тряпочку. Может, и не заметят тебя.
Так я и сделал, размышляя, что не прав Сергеев, что тактичные европейцы и без того меня не замечают. Даже Жоан Каро, продюсерша, как ее назвал молодой бурятский водитель.
Из автоматических стеклянных дверей гостиницы они вывалились веселой гурьбой и сразу же ринулись штурмовать южнокорейский микроавтобус. Сплошные иноземцы: француз, француженка, немец, англичанин, чех, москвич и москвичка. До полного счастья водитель бурят и художник с ассистентом — русские. А может, и мы не русские? Может, сибиряки тоже потихоньку становятся отдельной нацией? Черт знает…
Увидев меня, чуть удивленная, но обрадованная Анна Ананьева села рядом.
— Андрей, и ты с нами?!
— С вами, Аня.
— Здорово! — Взяв меня под руку, она прижалась тесно-тесно. — Говорят, шесть часов ехать. Долго. Обними меня! Я буду спать на твоем плече! Всю дорогу!
Жоан Каро и Карел устроились лицом к нам на переднем сиденье. Жоан кивнула мне с вымученной улыбкой. Я кивнул в ответ. Жоан отвернулась к окну.
— Обними меня, Андрей! — повторила Анна с ноткой театральной истерии в голосе, и я все понял. Девушка демонстрировала сопернице свою полную и безоговорочную победу. А я был призом и полем боя одновременно. Надо же, какая честь. То-то вся душа у меня перепахана взрывами, сожжена напалмом. Вся душа — как Борькино лицо, перечеркнутое пополам кровавым диагональным шрамом…
С места, что рядом с водителем, к нам повернулся сияющий мой тезка — Андрэ и навел фотоаппарат с несоразмерно длинным объективом.
— О-ля-ля!
Он щелкнул пальцами, вероятно привлекая внимание, и вспышка ударила по глазам так, что я чуть сознание не потерял, честное слово. Боюсь я теперь молний в любых проявлениях, не знаю уж почему. Раньше они мне по фиг были — атмосферное явление, и только. А теперь пугают. И манят, притягивают. То есть сквозь ужас, сквозь панический страх внешней оболочки сознания ощущаю я необъяснимую, не сравнимую ни с какими удовольствиями эйфорию. Одновременно.
— Форверц, — сказала Жоан Каро на плохом немецком, глядя на меня в упор своими зелеными неземными глазами, потом повторила, прибавляя громкость, будто принимая вызов Анны, с нотками истерии в голосе: — Форверц! Форверц! Форверц!!!
Микроавтобус тронулся, водитель-бурят, вероятно, неплохо знал плохой немецкий язык.
И тогда я обнял Анну за плечи, и она с готовностью ткнулась лицом в мое предплечье.
Зеленые лучи глаз словно буравили меня, жгли, просвечивали насквозь…
Я не мог этого выдержать. Я повернулся к Анне.
— Сколько тебе лет?
— Скоро двадцать два.
Все сходится. Именно столько лет и должно быть будущей матери моего ребенка.
ГЛАВА 2 Перевод из таблоида
Водитель нам достался лихой. Уже через час мы обогнали все киносъемочные машины, хотя выехали позже минут на десять.
Обедать традиционно остановились в придорожном кафе недалеко от большого бурятского улуса Баяндай. Здесь следовало свернуть с Качугского тракта, по которому мы двигались из Иркутска, в сторону села Еланцы, а там уже и до переправы на Ольхон недалеко. Здесь же обычно заправляли и машины.
Кафешка была обыкновенная, таких, наверно, десятки тысяч у российских дорог, если не считать того, что весь персонал оказался бурятской национальности. Семейное, скорее всего, предприятие. И предлагали соответственно блюда национальной кухни: позы, пельмени, борщ и чебуреки.
Отобедав, решили дождаться остальных и дальше уже двигаться колонной до самого Ольхона, а точнее, до усадьбы Никиты, где киногруппа должна была разместиться. Французы несколько раз повторили: «Никита́», с ударением, как это у них принято, на последний слог.
Мы с Григорием Сергеевым курили чуть в стороне от остальных.
— Откуда на Ольхоне голливудские названия? — спросил я.
— Какие, к черту, голливудские? — переспросил Григорий.
— Никитá, — воспроизвел я с французским прононсом.
Григорий хохотнул.
— Ты ударение ставь по-человечески. Нормальное русское имя. Так хозяина усадьбы зовут. Мы с ним знакомы. Нормальный мужик.
Вот оно как. Нередкое явление. Усложняем, за океаном где-то ищем, а искомое рядом, и надо лишь сместить акцент, поставить привычное ударение.
— Мне вчера вечером жена скандал устроила, — пожаловался Григорий. — Не хотела, чтобы я на Ольхон ехал, ни за какие деньги.
— Что так? — вяло поинтересовался я.
Григорий достал из внутреннего кармана свернутую газету, протянул ее мне:
— На-ка вот, почитай по дороге.
Я сразу узнал местный откровенно «желтый» еженедельник «№ 11».
— На развороте перевод-перепечатка из какого-то европейского таблоида, — уточнил Григорий.
Когда после получасового ожидания мы отправились дальше, Анна, положив голову мне на плечо, мгновенно уснула, а я раскрыл газету и прочел вот что.
Роковое проклятие мирового кинематографа
Есть место на глобусе, которого упорно избегают деятели кино Избегают прославленные, известные, популярные и даже середнячки — крепкие профессионалы, мечтающие об успехе. Избегают — все как один, начиная с продюсеров и кончая вторым помощником старшего осветителя.
И это, как ни парадоксально, не какой-нибудь затерянный в джунглях кусочек амазонской сельвы и не безымянный сахарский оазис, а одно из чудес природы, внесенное в список Всемирного наследия. Мечта любого вменяемого туриста шести континентов. Самое глубоководное озеро планеты Земля, гордость Сибири — Байкал.
Об этом антикинематографическом феномене нет ни слова, ни полслова ни в толстых справочниках, ни в тонких журналах, ни в массовых газетах, ни в элитном глянце, ни в основательном Брокгаузе, ни в разудалом Ларуссе, ни в чопорной Британнике, ни в Большой Энциклопедии аномальных явлений.
Но факт остается фактом.
За двадцать пять миллионов лет существования Байкала в его акватории снят всего один художественный фильм.
Полнометражная широкоэкранная черно-белая картина сделана известнейшим режиссером, трижды лауреатом Сталинской премии, а также Государственной и Ленинской, Героем Социалистического Труда, профессором ВГИКа, почетным академиком и прочее, прочее, прочее, не менее статусное, статутное и статуйное.
Лживая сказка о чистейшем озере, в действительности обгаженном никому не нужным целлюлозным монстром, вышла на экраны.
Но мастерски выверенные кадры не благоухали ядовитыми сбросами в чистейший из чистейших водоемов мира.
Коллектив единомышленников получил Государственную премию и букет житейских проблем.
В результате главный режиссер полностью утратил остатки таланта. Жена, не менее известная актриса, наставила лицемеру и фарисею рога. Любовница бросила орденоносца, превратившегося в правозащитной среде в изгоя и пугало.
Главная байкальская героиня отделалась выкидышем.
Ее киношный отец повторил сюжет, но в фарсовом исполнении. Прежде чем скончаться, он еще долго мучился от болезни с неустановленной этиологией.
Главный положительный герой запил по-черному и довел бедную печень и сердце до губчатого состояния.
Балерина, выделывавшая батманы на фоне дымящихся труб, разошлась с мужем, почти гениальным режиссером, у которого брат тоже был почти гениальный режиссер, а папа обоих носил неофициальный титул отечественного гимнюка.
Конечно, от общества строителей развитого социализма скрыли, что за время съемок фальшивого шедевра имело место несколько трагических случаев. Ассистент оператора попал на железнодорожных путях под цистерну с метиловым спиртом и подвергся расчленению. Трое участников массовки утонули, отправившись на рыбалку и попав в байкальский семибалльный шторм. Шофер грузовика, перевозившего реквизит, погиб в автокатастрофе на трассе Иркутск — Байкальск. Более ста участников съемок поразили кожная экзема и хронические заболевания верхних дыхательных путей.
Репутация Байкала как места, не благоприятствующего творческим кинодостижениям, укрепилась после гибели в его стылых водах самого великого, после Чехова, русского драматурга двадцатого века.
Александр Вампилов по отцу происходил из древнейшего бурятского рода. Пьесы Вампилова переведены на сто три языка и до сих пор с успехом идут на бесчисленных международных подмостках. Особенно мистическая «Утиная охота». Эту пьесу, где явь неотделима от сна, а сознание — от подсознания, еще не удалось правильно поставить ни одному театру мира.
Так вот, в мемуарах лучшего друга Вампилова черным по белому написано, что драматург утонул через три дня после того, как начал писать историческую пьесу о Чингисхане на Байкале, утонул напротив Шаман-камня, там, где берет начало Ангара.
Как рассказывается в легенде, дошедшей из глубины веков, этот Шаман-камень швырнул разгневанный Байкал вслед убегающей дочери. Но своенравная Ангара вопреки отцовской воле слилась с ветреным богатырем Енисеем.
Но не смог эзотерический гигантский валун разлучить влюбленных. Так и несутся бурные супруги к Великому Ледовитому океану, несутся, несмотря на каскад из гидроэлектростанций и других индустриальных гигантов, сооруженных во времена комсомольских строек и ударных лагерных зон.
Молодежный энтузиазм и блатную романтику давно разменяли на иностранные инвестиции и крохи из стабилизационного фонда.
Давно пал железный занавес, и холодная война сменилась всеобщей террористической угрозой, а Байкал так и оставался территорией, запретной для киношников.
Даже глобальный циничный голливудский спрут, раскинувший жадные до экзотики щупальца по многим киногеничным ландшафтам, не рисковал связываться с байкальской натурой, боясь угодить в финансовую катастрофу.
Да и страховые компании, отвечающие за жизнь суперстаров обоего пола, боялись собственного разорения ввиду непредсказуемости таких печально известных байкальских ветров, как Сарма, Баргузин, Ангара и Култук.
Хотя для Голливуда тема Байкала наиболее актуальна.
Как доказано последними археологическими раскопками на обоих континентах, предками индейцев Северной и Южной Америк, всех этих воинствующих племен с красивыми названиями, всех этих охотников за скальпами и коллекционеров сушеных голов являются выходцы с байкальских берегов.
Еще в незапамятные времена, когда доживали свой век последние мамонты и водились в тайге саблезубые кошки, одним ударом лапы убивавшие круторогого лося, случился Великий исход.
До сих пор всемогущая наука не смогла даже на уровне гипотезы объяснить, почему беспощадный и отчаянный прибайкальский люд однажды снялся с насиженного места и рванул на северо-восток. Почему исконные ольхонские жители навсегда покинули родную Азию ради неродной Америки При этом жестокие эмигранты поголовно уничтожали разрозненных и мирных аборигенов.
Может, эта доисторическая кровавая миграция имеет какое-то отношение к неприятию Байкалом попыток запечатлеть его тайную суть и величавую природу?
Даже при проведении коротких подводных съемок опытная команда легендарного Кусто, покорителя мира безмолвия, испытала на себе гнев Байкала. При первом же погружении затонул глубоководный аппарат, а члены экспедиции едва избежали массовой гибели. Спасшиеся аквалангисты еще Долго рассказывали о бесконечной прозрачности и зловещем ощущении необратимого засасывания. Такого сочетания изумительной красоты и смертельной опасности аквалангисты не испытывали еще ни разу, хотя у каждого в послужном списке хватало дерзких и рекордных погружений.
Позже специалисты объясняли этот жуткий эффект двумя возможными причинами: энергетикой, идущей от мантии земли через разлом, и пресностью воды.
В начале двадцать первого века наметились робкие попытки кинематографического освоения недоступного и коварного Священного моря. В Сибири никто не называл и не называет Байкал озером — только морем. Тем более что геологи, специалисты по тектонике земной коры, считают Байкал не чем иным, как зачатком нового океана.
Нарушить сложившееся табу попытались отчаянные немцы Раскрученный телевизионный канал затеял байкальскую эпопею. Остров Ольхон, самый крупный на Байкале, был выбран местом рискованного бытового эксперимента.
Недалеко от этого сакрального острова, прозванного в народе приютом богов и отделенного от материка проливом, обозначенным на картах «Малым морем», находится подводный гигантский разлом, глубиной до 1666 метров.
В поселок Хужир высадили поздней осенью киногруппу и добровольцев из Баварии. Отчаянную семью представляли: папа — сорокалетний безработный механик, уволенный с автозавода при сокращении штатов, мама — домохозяйка, бывшая славистка, и мальчишки-близнецы подросткового возраста Телебоссы обязали экстремалов-бюргеров продержаться на суровом острове с октября по апрель, ни больше ни меньше.
Каждому члену семьи полагалось по 15 килограммов багажа, включая одежду. А также 100 евро на всех в месяц, что по тогдашнему курсу составляло 3000 рублей Гораздо ниже российского прожиточного минимума. Впрочем, местные жители получали еще меньше и спасались исключительно натуральным хозяйством и рыболовством — маломорский омуль считается непревзойденным блюдом, особенно в горячекопченом виде.
Мужественным немцам дали в пользование полуразвалившуюся избу с печным отоплением. Разумеется, горячая вода отсутствовала, и удобства располагались во дворе. Питанием четверку смелых должны были обеспечивать: пестрая корова, десяток заполошных кур и кучерявая овца. Жене и мужу не возбранялось устраиваться на любую, самую тяжелую и грязную работу. Впрочем, безработица на острове была повальной.
В дебюте экстремального реалити-шоу все складывалось вполне удачно. Погода не свирепствовала. Корова скупо, но доилась, курицы неслись, ответственная овца готовилась к рождественскому закланию.
Первую серию о приключении баварской семьи на Байкале дали в германский эфир под Новый год. По самым скромным оценкам, ее посмотрели 7 миллионов телезрителей.
В общем, планировалось шесть серий, но на третьей все пошло наперекосяк. И семейство героических бюргеров, терпеливо и мужественно выживавшее в сибирских суровых реалиях, пришлось срочно эвакуировать.
Почему дальнейшее развитие экстремального бытия компания перенесла с Байкала за Полярный круг, как можно дальше от острова Ольхон, до сих пор остается загадкой. То ли корова перестала доиться, то ли куры — нестись, то ли отец неугомонных близняшек, тоскующих по цивилизационным благам, чем-то ненароком обидел тамошнего черного шамана… Официальная версия гласила, что немецкий канал и хужирская администрация рассорились по причине задержки обещанного финансирования.
Известна попытка голландцев заслать своего лазутчика с камерой в байкальские пределы. Но он, так и не завершив разведку, вернулся на родину, где неудачника выперли за профнепригодность и злоупотребление спиртным. Никто не поверил россказням о сумасшедшей буре, не пустившей его к Байкалу. Документального видеосвидетельства о черном небе, летающих соснах и вырванных с корнями березах он предъявить не смог. Поднятая смерчем коряга разнесла вдребезги ветровое стекло машины, а следующая, похожая на голову лешего, угодила в камеру и превратила чудо электроники в хлам.
Еще в прессе промелькнули трагические подробности о сухопутных французах, снимавших на Байкале эпизод для своего душещипательного фильма о казацкой серой лошади, которая в царские времена проскакала от Владивостока до Москвы, протестуя галопом против замены конской тяги паровозами.
Весенний лед проявил коварство, и жеребца, исполнявшего главную роль, унесло на оторвавшейся льдине. Напрасно ржал конь, требуя вертолета, судна на воздушной подушке и прочей человеческой техники. Спасатели прибыли, но слишком поздно. Льдина с четвероногим артистом навсегда исчезла в нахлынувшем тумане.
В Санкт-Петербурге, у Петропавловской крепости заканчивали картину с дублером, которого с превеликим трудом отыскали в конюшне под Вологдой.
Внимательный зритель заметит, что в титрах лошадиная фамилия обведена траурной рамкой.
Английские документалисты тоже убедились в недружелюбности коварного Байкала.
Их моторка в прекрасный солнечный день внезапно пере вернулась на шальной волне, порожденной непредсказуемыми байкальскими ветрами — то ли Баргузином, то ли Сармой, то ли Култуком.
В общем, чуткие на сенсации, катастрофы и экстремальные обстоятельства массмедиа приготовились отслеживать, а не будут ли впустую истрачены деньги, выделенные Брюсселем в пику заокеанским делателям блокбастеров.
Удастся ли европейской сборной команде осуществить амбициозный проект под рабочим названием «Графитный шпион»?
Удастся ли чуть подзабытым звездам, согласившимся за умеренную плату на рискованную экспедицию, вернуть себе и европейскому кино былую славу?
ГЛАВА 3 Трещины во льду
— Стоп, машина! — пробасил Григорий Сергеев, и микроавтобус остановился.
Пассажиры проснулись. До этого дремали все, шестичасовая езда укачает любого.
Режиссер поднял взлохмаченную голову.
Оператор, сморщив конопатое лицо, взъерошил рыжий ежик волос.
Актер хоть голову и поднял, но, вероятно, так и не проснувшись, бессмысленно таращил глаза в пространство.
Жоан улыбнулась мне грустно, без мимики, одними глазами, но я понял, что это улыбка.
Карел потер виски, протяжно и тихо выдохнув: «О-о-о…»
Борис Турецкий, словно и не спал, выглядел малосольным огурцом.
Андрэ повернулся с переднего сиденья и зачем-то снова всех сфотографировал, предварительно ослепив.
Анна Ананьева подняла голову с моего плеча, до боли вцепилась в локоть и произнесла испуганным шепотом:
— Что случилось?
Григорий Сергеев ее услышал, а может, и нет, не важно. Он ведь для того всех и разбудил, чтобы объявить с интонацией Левитана:
— Дамы и господа, леди и джентльмены, мадам и месье, товарищи! Мы находимся на льду Священного моря Байкал! Вы здесь впервые, попрошу проникнуться моментом…
Ошарашенные иностранцы понимали только то, что произошло нечто.
Ошарашенные переводчики не переводили дыхания, слушая байкальского Левитана в скромном лице почти шестидесятилетнего художника из Иркутска.
— Ну, что же вы? — обратился к ним Сергеев. — Работайте, мать вашу!
Борис Турецкий пришел в себя первым, прочистил горло.
— Сергей Иванович, повторите, пожалуйста.
Сергей Иванович повторил на русском.
Борис Турецкий воспроизвел на английском.
Анна Ананьева — на французском.
Чех понимал все языки, немец — английский. Сергеев продолжил вещание, сопровождаемый двойным эхом:
— Мы находимся на льду Священного моря. До материкового берега около километра…
— Полтора, — уточнил водитель.
— До материка полтора километра, до острова Ольхон… — Сергеев запнулся на мгновение, — не знаю точно, но еще порядком.
— Три с половиной, — снова вмешался водитель. — Пролив Ольхонские ворота что-то около пяти километров.
— Предлагаю покинуть салон автобуса и ступить на байкальский лед! — закончил после уточнений художник.
На легком, но продирающем насквозь ветерке все мгновенно проснулись.
Они вели себя странно — неуверенно, боязливо и одновременно восторженно, как малые дети.
Сначала разошлись в разные стороны шагов на пять-десять, робко улыбаясь, потом, словно по команде, сгрудились у машины. Кто-то хохотнул. Кто-то вскрикнул.
Англичанин вдруг, разбежавшись, проехал на ногах по ровному прозрачному участку метров пять. Взвизгнул тонко, по-бабьи, чем вызвал взрыв ответного смеха. По-доброму.
Жоан села на лед, и слезы побежали из ярко-зеленых блестящих глаз. И это при том, что блаженно улыбаться она не переставала.
Я хотел подойти, но Анна держала локоть, будто клещами.
Андрэ, цокая языком и повторяя свое «о-ля-ля», щелкал и щелкал затвором фотоаппарата. Щелкал, не выбирая ракурса, потому что бессмысленно что-то выбирать, когда красота — всюду, все триста шестьдесят градусов округи…
— Дамы и господа! — продолжал Григорий Сергеев. — У вас под ногами тонкий лед, а подо льдом полтора километра самой чистой и холодной в мире воды!
Солнце сияло. Его лучи отражались от заснеженных скал, ото льда. Солнце было сверху, снизу, везде. Солнце слепило глаза. Куда ни повернись, оно слепило глаза.
Лед не был ровным, он был шершавым, как терка, хотя абсолютно прозрачных, словно отшлифованных участков тоже хватало.
Как старый асфальт, лед сплошь был в трещинах разной глубины и размера.
Никогда не прекращающийся ветер сдувал снег со льда, но в двух десятках шагов от нас на ряды замысловатых торосов намело сугробы в рост человека.
Материковый берег был скалист — темно-серый камень с пятнами снега на нем.
Пологий островной берег просматривался хуже, был много дальше.
И все это под Вечным Синим Небом, верховным владыкой древнего народа, которому поклонялся еще Чингисхан.
Высокое Вечное Синее Небо не вмешивается в низкие земные дела людей, но оно существует незыблемо во веки веков, и этого довольно.
Из того места, где мы находились, если не знать заранее, невозможно было определить, где остров, а где материк. Но может, и не было разницы? Может, Ольхон — это и есть вся Евразия от Испании до Камчатки?
В полутора-двух километрах впереди был виден островок, не островок даже, просто скала, выпирающая изо льда. Чуть дальше просматривалось нечто более объемное.
— Это острова? — махнув рукой, спросил я Григория.
Тот кивнул.
— Тут много небольших островков тянется вдоль берега, и все имеют имена. Я только не помню их ни фига. А вон тот мыс, смотри, — он показал рукой, — называется Кобылья Голова. Правда, похоже?
Я посмотрел и никакого сходства не обнаружил, может, потому что далеко или ракурс не тот, но зато вспомнил отрывок из рукописи моего предполагаемого предка Михаила Татаринова, штурмана в ранге капитана.
— Может быть, именно там бывал Чингисхан и оставил таган с лошадиной головой.
— Ты чего, Андрей, совсем уже?.. — удивился Григорий. — Ты где таких басен наслушался? Или сам придумал? Не был здесь Чингисхан никогда!
— Не был так не был, — не стал я спорить, но усмехнулся в отсутствующие усы.
Вполне вероятно, шустрые пацаны из внутренних наших органов уже и могилу великого завоевателя оборудовали. Может, уже на какой-нибудь скале стоит себе бронзовый памятник работы Церетели. А чего, хватит ему столицу обставлять, пусть у нас в глуши чего-нибудь поставит — конное, массивное, чтобы из Народного Китая видно было!
— Андрей! — услышал я испуганный, с надрывом шепот Анны, и повернулся. — Андрей, иди скорей сюда!
Она находилась в десятке шагов от меня на участке абсолютно ровного, прозрачного льда.
Она шептала, будто боялась вызвать горную лавину.
Она стояла, будто на чем-то шатком — раздвинув ноги, разведя в стороны руки.
Ученик канатоходца, впервые вставший на канат под куполом цирка. Без страховки. Неверный шаг — и смерть.
Я подошел.
— Смотри! — Анна показывала пальцем себе под ноги. Я посмотрел и ничего не увидел. В смысле, ничего необычного. — Трещины!
— Это мелочь, Аня. Ты знаешь, какой толщины здесь лед?
Я сделал шаг к ней, она закричала:
— Не подходи!
— Анна, успокойся!
— Мы все сейчас провалимся! Все!
Истерика. Человека в этом состоянии уговаривать бессмысленно.
Нас разделяло несколько шагов. Когда я пошел к Анне, она завизжала как резаная, честное слово. Я затылком почувствовал, как все остальные, насторожившись, повернулись в нашу сторону. И что, интересно, этот негодяй с девушкой делает?
Она замахала руками, обороняясь, пусть и неумело, но однажды острый алый коготок рассек мне ладонь. Ну и ладно, переживу.
Я взвалил ее на плечо и понес к автобусу.
— Дверь открой! — крикнул Григорию, и он торопливо отвел дверь в сторону.
Я забросил Анну, как куль с картошкой, на ближнее сиденье и захлопнул за собой дверь.
— Ну, успокойся, моя… все… все… все…
Обнял, а она уткнулась в мою грудь и наконец заплакала. Слава богу, слезы — первый признак выздоровления.
Правильно, что я затащил ее в автобус — обычный пол, привычные сиденья, обстановка, в которой она без страха скучно провела последние шесть часов, ее успокоили, вернули уверенность. А то, что машина стояла на том же самом льду, не имело значения.
— Анечка, лед под нами метровой толщины, — приговаривал я, наглаживая девушку по волосам. — Ты можешь себе представить — метровой!
Я преувеличивал. В эту ненормально теплую зиму лед был не толще семидесяти-восьмидесяти сантиметров.
— Он может выдержать несколько тонн на квадратный метр. Никакой опасности нет! По зимнику груженые «КамАЗы» ездят, а уж тебя, моя легонькая, стройная девчонка… Таких, как ты, миллион нужен на квадратный метр, и то, наверно, выдержит!
— Полтора километра холодной воды! — шептала Анна. — Я боюсь…
— Ложь! — возмутился я. — Беспардонная ложь! Полтора километра в другом месте, а здесь у берега мелко! Метров сто, не больше!
Это ее утешило. Она улыбнулась, красивая, вся в слезах, косметика по лицу размазана… А еще говорят, умываться можно, и хоть бы что… Не китайской же она косметикой пользуется, точно, французской… халтурщики…
— А трещины? — не унималась девушка.
— Это от перепада температур. Они неглубокие, вроде коготками котенок поцарапал. Это не страшно.
Не рассказывать же ей, что бывают и сквозные, широкие, что легковые автомобили, бывает, тонут в них вместе с пассажирами… Она и без того вся дрожит до сих пор. Пусть лучше думает — котенок поцарапал.
Анна хлюпнула носом еще пару раз для приличия и вытерла лицо ладошками, разместив остатки косметики аккуратно по всей поверхности, и сама догадалась об этом.
— Я — страшная?
— Что ты, дурочка, ты — самая красивая!
Робкая улыбка.
— Правда?
— Самая-самая!
И она поцеловала меня без дураков в губы, будто мы в постели, а не в микроавтобусе на байкальском льду, который сплошь в трещинах-царапинах.
Боковым зрением я видел, что остальные пассажиры обступили машину и следят за нами внимательно. «Окна-2». Не скрою, я ждал аплодисментов. Особенно со стороны Жоан Каро, продюсера…
Вот, блин, попал. Теперь у нас с Жоан уже точно все кончено. Обидно. Не начавшись толком. Полетали в «шевроле» по ночному Прибайкалью — и хватит.
В окошко деликатно постучали, я скосил глаза — Григорий. Но Анна от меня не отрывалась, подсознательно, вероятно, чувствуя, что пока длится поцелуй, ничего страшного произойти не может. Она пряталась в поцелуе, как ребенок в темноте под одеяло с головой. Ведь стоит только расслабиться, ослабить объятия, и разнесет нас мгновенно ветром — Сармой или Култуком по двум оконечностям Священного моря. В Нижнеангарск ее унесет, на Север, где впадает в Байкал бурная Нижняя Ангара…
Григорий Сергеев постучал вторично и подал голос:
— Анна, Андрей, ехать надо!
Я с трудом оторвал ее от себя. Я посмотрел в ее глаза мутного черного жемчуга, словно туманом подернутые. Она улыбнулась мне одними губами и ушла на наше место на заднем сиденье, к окну, косметичке и зеркальцу.
Открылась дверь, все молча прошли в салон. На льду остался один только Андрэ, фотограф.
Микроавтобус тронулся.
— Он что же, не едет с нами? — спросил я Григория.
— Хочет пофотографировать. Его потом какой-нибудь «УАЗ» подберет, мы далеко от остальных оторвались.
Всю оставшуюся дорогу до усадьбы Никиты пассажиры молчали, прятали глаза, будто стали невольными свидетелями чего-то неприличного и даже постыдного. А что, собственно, произошло? С юной девицей случилась истерика. Бывает.
Впрочем, возможно, каждый, пусть не столь экзальтированно, переваривал слова байкальского Левитана о том, что лед тонок, а под ним — полтора километра самой чистой и холодной воды на планете. И трещины. В которые время от времени проваливаются южнокорейские микроавтобусы вместе с иностранными пассажирами.
ГЛАВА 4 Дом № 11
Деревня Хужир со смешанным бурятско-русским населением расположена на побережье острова Ольхон со стороны Малого моря. Примерно посередине острова, чуть смещена к югу.
Расположена на равнине, продуваемой ветрами насквозь, из-за чего зимой снега здесь почти не бывает, так, серая наледь да крошка меж камней.
Пейзажи Ольхона напоминают скорее степную Бурятию или Монголию, чем западный берег Байкала — таежное Приангарье, к которому остров относится административно.
В старину, вероятно, Хужир выглядел как обычный бурятский улус с войлочными юртами и деревянными домами, сложенными в виде тех же юрт, но теперь по виду это обычная русская деревня. Лет уже, наверно, сто как буряты стали строить бревенчатые русские избы, теперь чаще из бруса, обшитого вагонкой, украшенного русским узорочьем: ставни, наличники, двери, под крышей — везде деревянная резьба со стандартным узором цветочной геометрии.
Усадьба Никиты оказалась в центре деревни, обозначенном присутствием поблизости кирпичного здания сельсовета с российским триколором над крыльцом и магазина с большими стеклянными витринами, тоже красного кирпича. Не похож он был на деревенское сельпо, хотя, как я потом выяснил, ассортиментом от него не отличался. Те же смешанные товары, от резиновых сапог до хлеба и водки.
В смутные перестроечные времена на острове закрылись все советские предприятия, в том числе рыбзавод и лесопилка. Последняя, впрочем, по причине естественной — леса на Ольхоне почти не осталось. Остановили также генератор на дизельном топливе, и остров погрузился во тьму. Безработица была повальной, но, к счастью, люди с голоду не пухли. Во-первых, Байкал с жирным омулем, которого стало много больше после прекращения промышленного лова. Во-вторых, снова Байкал, почти первозданный, не обгаженный человеком, на берега которого хлынули любопытные туристы со всего света. Им надо было где-то жить. В социалистические времена гостиниц здесь не строили вовсе. Не считало областное и союзное руководство Байкал с Ольхоном чем-то необычным, достойным внимания публики. Чего здесь смотреть? Да и холод собачий. Отдых ассоциировался с температурой плюс тридцать пять, грязным песчаным пляжем, теплым пивом и потными женщинами в закрытых купальниках.
Те из местных «новых русских», точнее, «новых деревенских» жителей, кто не страдал алкоголизмом в последней стадии и имел вдобавок голову и руки, открыли что-то вроде импровизированных турбаз с койками, столовыми и русскими банями. Остальные — работали на них.
Таким рачительным хозяином, причем, говорят, самым богатым, и был Никита. На него работали человек пятнадцать деревенских, в том числе — два таджика-гастарбайтера кололи дрова, топили бани (их было три) и чистили сортиры.
Усадьба была огорожена двухметровым забором. Внутри — двухэтажное бревенчатое здание столовой, кухня — на первом, обеденный зал — на втором этаже. Остальные строения были из бруса — бани и полтора десятка домиков под номерами. Разместить Никита мог одновременно человек сорок, как раз наша съемочная группа, а кормил в своей столовой всех туристов Хужира, которых и в зимнее время хватало. Они проживали в других деревенских «турбазах», помельче.
О приезде съемочной группы Никита знал заранее, с ним договорились еще летом.
Когда наш микроавтобус въехал во двор, хозяин уже встречал нас. В возрасте примерно под полета лет, высокий, худой, с белесыми, почти бесцветными волосами, с невидимыми ресницами и бровями, курносый, некрасивый, но чуть лукавая какая-то полуулыбка делала его лицо привлекательным, симпатичным… своим, что ли? Хотелось, ближе к полуночи, хлопнуть его по плечу и воскликнуть: «Ну, чё, паря, хлопнем еще по сто грамм и на боковую?»
Рядом с Никитой стояла сорокалетняя женщина, румяная, дородная… полной или толстой ее назвать язык не поворачивался. Просто конфигурация у нее такая, причем она полностью соответствовала крупным чертам лица и их выражению. Русская баба, в хорошем смысле. Поди, еще и косу носит до попы. Платок, повязанный по-монашески, до бровей, этого увидеть не позволял.
Когда мы покинули салон микроавтобуса, «баба» заговорила на французском языке. Не могу знать, насколько чисто, но бегло, уверенно, как на родном.
Я сперва подумал: надо же, как круто зарабатывает «новый деревенский» Никита, что переводчицу на работу принял. Оказалось все проще — переводчица ему даром досталась, и зарплату платить не надо. «Русская баба» со знанием французского и английского (латинский не в счет) оказалась его законной супругой Ольгой, выпускницей Иркутского института иностранных языков. Удачно у мужика все совпало. Полный сервис. В смысле — дородный, румяный, с предполагаемой косой до попы…
По понятным причинам Ольга специализировалась на иностранных туристах. Она и повела их заселяться, дорогой непринужденно болтая на трех языках, не считая латыни.
С Никитой остались мы с Григорием Сергеевым и водитель. Кроме меня, хозяин всех знал. Водитель жил в соседнем материковом селе — Еланцы, а Григорий приезжал на Ольхон по нескольку раз за год. Останавливался, впрочем, не за деньги у Никиты, а у деревенского приятеля.
Нас заселили в один дом с фанерной дощечкой, на которой было написано «№ 11». Вход в него сплошь зарос какими-то ветвистыми кустами, теперь, конечно, голыми. Под кустами — две врытые скамьи, а рядом угадывалась обледенелая клумба. Летом, вероятно, здесь зелено и ухоженно. Жив останусь, приеду обязательно. Номер дома, показалось мне, предрекает еще одиннадцать, как минимум, лет существования. Дай-то бог. Не важно, какой концессии. Насколько я понял, до революции крещеные буряты поклонялись всем известным богам — буддийским, шаманским, христианским. На всякий пожарный. И правильно. Чем больше заступников, тем спокойнее жить. И в древнем имперском Риме, помнится, к богам поверженных народов относились лояльно и уважительно, включали в собственный пантеон…
Комната и внутри оказалась пусть и по-спартански скромной, но уютной. Большая кирпичная печь, оштукатуренная и побеленная, четыре самодельных деревянных кровати, дюралевый рукомойник, с раковиной и ведром под ним, встроенный в стену шкаф и столик, чуть выше журнального. Что еще надо? Чисто и тепло. Недавно протопленная печь негромко пощелкивала кедровые орешки за чугунной заслонкой.
Я задвинул сумку с инструментом под кровать.
— Обед через полчаса, — объявил хозяин и добавил торжественно: — Исключительно из местных продуктов!
Мы вроде уже обедали в Баяндае, но есть хотелось все равно, из-за длинной дороги, наверно. Тем паче из местных продуктов…
Мы закивали.
— Еще одно, — продолжил инструктаж хозяин, — электричества, сами знаете, на острове нет, но у меня электрогенератор на мазуте. Свет будет, но погаснет в одиннадцать вечера.
— Почему так рано? — возмутился художник.
— Мазут ныне дорог, не укупишь, — ответил Никита и повторил: — Обед через полчаса, а пока, пойдемте, я покажу туалет, бани, столовую.
— Да мы знаем, — отмахнулся Григорий Сергеев и, сбросив ботинки, завалился на кровать. — Устал как собака…
Водитель тоже интереса не проявил, ушел к своему южнокорейскому дизельному брату.
С Никитой пошел я один.
Я вообще-то отвратительно ориентируюсь. Ну в лесу понятно, городской я в нескольких поколениях, но и в городе ни черта не могу запомнить. В Москве несколько лет прожил, но знал ее лишь крошечными островками вокруг станций метрополитена. А чтобы от одной станции к другой на наземном транспорте проехать — боже упаси, сразу впадал в заблуждение и панику.
Никитин двор мне тоже показался бессмысленным нагромождением одинаковых построек. Единственное двухэтажное здание — столовую я, конечно, запомнил сразу. Бани — даже не пытался, хоть и кивал с улыбкой хозяину. В баню все равно с Григорием пойдем, баня — не первая необходимость. Вот туалет — первая. Дорогу к нему запомнить назубок надо, чтобы не плутать, если припрет. Мало ли чем здесь кормят?
Строение для сортира нетипичное, больше на мини-баньку походит — брусовое, шифером крытое, и дымок из трубы идет.
Я к дверям, и хозяин за мной. Он что, своих гостей и в сортир провожает? Это сервис такой, по-русски навязчивый?
Вошли. Две фанерные крашеные кабины на подиуме, между ними высокая железная печь типа «буржуйка» топится. Оригинально.
Я скосил глаза — Никита настороженно следил за моей реакцией. Я захохотал, хозяин расслабился, присоединился.
— Класс! — выдохнул я сквозь смех. — Никогда ничего подобного не видел!
— Местная достопримечательность, — пояснил Никита. — Я этот сортир всем гостям самолично показываю. Реагируют, как при социализме на Аркадия Райкина!
— Зачем это? — Я кивнул на печь.
— Слушай! — Он перешел на «ты» ненавязчиво и необидно. Я же говорю, хороший психолог, знал с кем и как себя вести. — Они ко мне еще летом приехали, два москвича, представители нашей какой-то фирмы, которая представляла французскую какую-то фирму. «Зимой, — спрашивают, — у тебя тепло?» — «Тепло, — отвечаю, — даже жарко, дров не жалею». — «А туалет теплый есть? Европейцы, — говорят, — народ нежный, без теплого туалета никак не могут, и лучше бы биотуалет…» Ну, я им честно говорю: «Био не обещаю, но к приезду зарубежных товарищей теплый туалет будет!» Ударили по рукам, оставили мужики задаток, на него я сортир и построил.
Посмеялись вместе, Никита ушел, а я решил исследовать странное строение до конца. Точнее, до толчка. Типичный. И уже написать успел какой-то урод карандашом на свежевыкрашенной, белоснежной стене кабинки: «Я здесь сидел и горько плакал, что мало ел и много какал».
Ясненько, значит, со жратвой у Никиты неважно. У народа сплошное расстройство желудка…
ГЛАВА 5 Один американец…
Когда я вернулся в дом № 11, меня ожидал маленький сюрприз… Хотя, почему маленький? Среднего роста. На последней свободной в нашей комнате четвертой койке сидел, поблескивая выбритым черепом, мой знакомец, русский москвич пиротехник Петя. Мы обнялись с ним как с родным, к счастью, без троекратного лобызания.
— Андрюха, хорошо, что ты здесь! Узнал, где водка продается?
— Сразу за околицей в магазине на манер городского со стеклянными витринами.
Григорий Сергеев покосился на нас неодобрительно.
— Так я сгоняю, — вызвался пиротехник.
А я подумал, что возможно и другое толкование профессии Петра: «техник пира», то бишь по-русски — «мастер пьянки».
— Андрей, ты что после обеда собираешься делать? — поинтересовался Григорий.
Вообще-то я ничего делать не собирался. Я считал, что оставшаяся вторая половина дня в полном моем распоряжении. Я вот водки выпить был не прочь с хорошим человеком редкой профессии, мастером по стрельбе, взрывам и выпивкам.
Я пожал плечами.
— Завтра с утра намечены съемки у мыса Три Брата, он на севере от Хужира. А я даже не знаю, съемочная площадка в каком состоянии. Я с Никитой договорился, он машину выделил с шофером. Давай, Андрей, съездим, проверим, если надо, мужикам поможем. Дом местные готовят. Может, сделали все, а может, и нет.
— Гриш, какие проблемы? Конечно, поедем.
Я повернулся к огорченному пиротехнику:
— Не грусти, земляк, в другой раз вмажем!
Сначала дело, выпить — потом. Народная мудрость.
Телевизионной рекламе кто же верит? Почему я поверил рекламе наружной, ума не приложу. Впрочем, это еще вопрос: считать ли надпись, сделанную на стене туалетной кабинки, наружной рекламой? Или внутренней?.. Неприличная чушь в голову лезла, да еще за столом…
Словом, обед в столовой Никиты состоял из четырех блюд: солянка с копченостями, ароматная, в меру кислая, омуль, запеченный в фольге, салат с кальмарами и чай или кофе на выбор — банки и пакетики аккуратно сложены на отдельном столе. Все было вкусно и сытно. Реклама, точнее, антиреклама, как всегда, обманула.
Когда мы с Григорием покинули столовую, остался у меня один только вопрос. Если обед, как обещал хозяин, состоял из продуктов местной флоры и фауны, то с каких, интересно, пор в Священном море завелись тихоокеанские кальмары? Впрочем, морская нерпа прижилась в Байкале, может, и кальмары туда же? Запустил, скажем, какой-нибудь придурок парочку разнополых особей, они и размножились…
Водитель был из местных, бурят не бурят — не понять. С полуевропейскими чертами, да и цвет волос не черный — бурый какой-то с проседью. Звали Мишей. Фамилию я не спрашивал. Машину его звали «Нивой», в меру разбитая, но ходкая. Выехав из деревни, мы спустились на байкальский лед и рванули на север на хорошей скорости.
— Михаил, — спросил Григорий Сергеев, — ты не знаешь, сделали мужики зимовье?
— Не знаю, давно там не был.
После этого неопределенного ответа Григорий потерял интерес к разговору.
— Андрей, у тебя, случаем, не Татаринов фамилия? — поинтересовался Миша.
Бросив руль, он чиркал спичкой, прикуривал. Машине, впрочем, врезаться было не во что. Кругом ровный лед и полное отсутствие торосов на горизонте. Метрах в ста справа скалистый берег острова, материковый левый берег чернел в отдалении, едва различимый в туманной дымке. Солнце опустилось и уже не слепило глаза.
— Моя фамилия Татаринов. А что?
— Про тебя один человек спрашивал, говорил — приедешь с иностранцами.
— Я на Ольхоне впервые, никого здесь не знаю. — Я был удивлен. — Что за человек? Местный?
— Да как сказать, вроде местный, а вроде нет. Родом-то он отсюда, но я его лет пятнадцать не видел. Как уехал после средней школы в Иркутск учиться, с тех пор, считай, не было его… Николай Хамаганов. Знаешь такого?
— Впервые слышу, — ответил я и подумал, что шапочно знаком я со многими иркутскими бурятами, вот только по фамилиям почти никого не знаю. Может, и этот Николай Хамаганов собутыльник мой какой-нибудь или, скажем, недолго работали вместе? Посмотреть надо, сразу все ясно станет.
— Он недели две назад заявился, — продолжал водитель. — Потянуло, говорит, на землю предков. Я, говорит, шаманить теперь стану. Ни больше ни меньше, я — черный шаман! Во как.
— Круто, — согласился я.
А Григорий Сергеев в разговоре участия не принимал, сидел себе на переднем сиденье, покуривая, и смотрел прямо перед собой. Планы, вероятно, строил. Художник-постановщик — должность ответственная. Это тебе не мелочь по карманам тырить… Что не так по декорациям, с него спрос в первую очередь.
— У вас на Ольхоне что, шаманы и правда есть?
— Есть, конечно. Как без них?
— А этот Хамаганов, выходит, самозванец?
— Да как сказать?.. Николай из древнего рода черных шаманов, так что ему, однако, на роду написано. Но он древнему искусству не обучался; посвящения не принимал. — Михаил задумался на мгновение, потом прикурил новую сигарету и продолжил: — Хотя сейчас не то что в старину. Сейчас и без посвящения камлают. И ведь сильные шаманы среди них попадаются… Не знаю, Андрей, самозванец он или нет. Вечное Синее Небо знает, да еще Эрлен-хан, владыка мертвых…
— А чего он от меня-то хотел, этот черный шаман без посвящения?
— Не знаю. Николай сказал, вечером к Никите придет. Сам у него и спросишь.
Больше получаса ехали мы на север от Хужира, и за все это время ни разу не попалось мне на глаза хоть что-то, напоминающее о человеке. Не считая дороги, конечно, хорошо укатанной колесами автомобилей. А по берегу — голые скалы, кое-где поросшие сосной и лиственницей, да белые пятна в расщелинах, откуда ветер не сумел выдуть снег.
Наконец Михаил притормозил, повернул руль, и «Нива» въехала в заснеженный распадок, ограниченный двумя скалами, метров двести шириной. Над крутым обрывом на двадцатиметровой высоте стояло зимовье — бревенчатый сруб без крыши, окон и дверей. Вокруг сруба росло полтора-два десятка раскидистых сосен. Они здесь не такие, как в тайге у Иркутска, формой кроны больше похожи на лиственные деревья, особенно издали. Я сперва путал. Оно и понятно, деревья тут растут на голой почти скале, корнями, как зубами, вгрызаясь в камень…
— Приехали, — сказал водитель, останавливаясь вплотную под обрывом.
Мы вышли. Из зимовья слышались перестук молотков, мужские голоса.
Наверх вела тропинка в глубоком снегу. Круто, но, чтобы подняться, мастером спорта по альпинизму быть не обязательно. Мы и поднялись.
— Точно, приехали, — выдохнул Григорий, осмотрев завтрашнюю съемочную площадку. — Тут конь не валялся…
Навстречу нам из недостроенного дома вышли трое мужиков с молотками в руках.
— Что же вы, мать вашу, меня, уроды, подставляете? — заорал Григорий Сергеев. — Завтра утром здесь снимать будут, а у вас не готово ни хрена!
— Начальник, да ты успокойся, — ответил рыжебородый мужик, полубурят по виду, в белом тулупе, вероятно, бригадир этой бригады «ух». — Успеем до завтрева, нормально все.
— Что — нормально?! — Григорий тона не понижал. — Где крыша, Филипп?
— Я за крышей «жигуля» отправил к Никите.
— За крышей — «жигуля»?
— Ну да. Мы решили обрешетку набить…
Мы с Григорием синхронно подняли головы. Обрешетка точно была — прибитая вкривь и вкось из разнокалиберных брусков, доски и даже тонкого кругляка. Какой, интересно, материал можно положить на такую обрешетку?
— …закрыть ее брезентом, а сверху засыпать снегом.
Григорий задумался, а бригадир продолжил:
— Командир, не шифером же ее крыть! Знаешь, сколь он на острове стоит? Не укупишь!
— Ладно, пусть будет брезент. С крышей разобрались. — Григорий вошел в дом, осмотрелся. — Полы на месте, хорошо.
Это он назвал полами — разной толщины доски, приколоченные как получится, со щелями в два-три пальца. Впрочем, дубовый лакированный паркет в сибирском зимовье вряд ли выглядел бы более уместным.
Посредине единственной комнаты стояла железная печь, какие обычно используют в банях. Дымящая труба ее была выведена в оконный проем. Рядом на полу лежала кучка дров. Рабочие здесь грелись.
— Печь, как закончите, не увозите. Пусть стоит, после съемок заберете, — продолжал инспекцию художник-постановщик. — Где дверь?
— Есть дверь! С торца зимовухи стоит. Четыре гвоздя только прибить. Мы ее не ставили, чтобы доску заносить не мешала.
— Прибивайте, — велел Григорий. — Скоро сюда режиссер с оператором нагрянут. — Тяжело вздохнул: — Ох и получу я за вас по полной программе…
Рыжебородый только мотнул головой, и его подчиненные бегом бросились выполнять — один в волчьей седой ушанке, другой в очках на резинке вместо дужек. Финансы, вероятно, не позволяют новые купить, а может, на острове магазина «Оптика» нет, не знаю…
С мужиками мы познакомились, но их имена я мгновенно позабыл. Так и остались они для меня: «рыжебородый», «в волчьей ушанке», «очкарик» и «жигуль» — это тот, что ездил за брезентом. Впрочем, вру, имя рыжебородого я запомнил — Филипп. Был он года на три меня старше, и с ним мне еще предстояло встретиться. И не с ним одним, кстати…
Дверь действительно присобачили за пять минут. Вместо петель рачительные мужички использовали куски толстой резины от старой автомобильной камеры.
— Рамы есть! — ответил с энтузиазмом бригадир на незаданный вопрос художника. — Подходят — чики-чики, стекла вот только не хватило. Не новое же покупать… не укупишь… Мы собрали старья, сколько могли, — не хватило…
— Ладно, ставьте, что есть, посмотрим.
Григорий повернулся ко мне:
— Пошли, у нас с тобой еще одно дело есть.
Мы вышли. Зимовье стояло на более-менее ровной площадке над обрывом, а в десятке метров от него начинался довольно крутой подъем, тоже заснеженный, поросший сосной и лиственницей.
— Гриш, — спросил я, — а мы не облажаемся? Пол неровный, весь в щелях, вместо крыши — брезент, и вообще все на соплях склеено.
— Не дрейфь, — утешил меня художник, — в кадре все будет выглядеть естественно и непринужденно.
Вот оно как… я и не знал.
Григорий осмотрелся, выбрал одно из деревьев неподалеку — невысокую раскидистую сосну с множеством веток, росших почти от самой земли.
— Эта подойдет.
Повернулся ко мне:
— Ты сценарий фильма читал?
— А ты мне его давал? Я в руках его не держал даже.
— И правильно. Не фиг всякими глупостями голову забивать. Что тебе надо знать, я в двух словах расскажу. Значит, главный герой находит в заброшенном зимовье труп черного шамана. До него уже добрались волки…
— А волки откуда? — перебил я художника.
— Будут волки, не твоя это забота, — отмахнулся он и продолжил: — Главный герой достает свой большой черный пистолет и начинает палить по несчастным животным.
— Экшн, — вставил я со знанием дела.
— Что? — Малообразованный шестидесятилетний художник, вероятно, не знал простого русского слова.
— Это называется экшн. Он теперь в кино обязателен. Экшн и драйв.
— Ты, Андрей, меньше телевизор смотри, Пушкина лучше читай.
— Не люблю поэзию.
— Читай прозу.
— Я и прозу не люблю.
— А что любишь?
— Женщин люблю, и еще выпить в хорошей компании. Но женщин люблю больше. С ними, кстати, и выпить можно, и все остальное. Тогда получается — два в одном.
— Дурак! — махнул на меня рукой Григорий. — Мало тебя в детстве пороли.
Я не стал его разочаровывать, говорить всю правду, что в детстве меня не пороли вообще. Ни разу. Может, надо было?
— Ладно, слушай дальше, неуч. Главный герой разгоняет волков, находит в вещах шамана бутылку водки, садится рядом с ним у печки — греется и пьет водку, что равнозначно. Выпив всю бутылку, засыпает, и ему снится, будто бы шаман жив и хочет его убить… Это будет играть актер-бурят из Иркутского ТЮЗа… Потом главный герой приходит в себя и хоронит мертвеца на дереве, чтобы, значит, волки не достали…
— Лишили серых заслуженного обеда. Обидно.
Григорий на шутку не прореагировал. Я заметил, мало кто способен оценить чужое остроумие. Это все зависть. Зависть и дурное воспитание. Некоторых, я думаю, слишком много пороли в детстве. Все мозги выбили из заднего места к чертовой матери…
— Словом, — продолжал художник, — надо соорудить на дереве настил из досок, куда герой затащит нашего Буратину…
Буратину… Меня как током ударило. Ну конечно, именно его, гада, и будет таскать актер-англичанин, играющий главную роль. Значит, мне еще предстоит с ним встретиться, значит…
Меня затрясло. Попробовал закурить, выронил на снег сигарету. Поднимать не стал, вынул другую. Руки ходили ходуном… Что за херня такая — ходун?..
Да я на месте обделаюсь, если снова увижу Буратину этого подлого, да я…
— Эй, что это с тобой? — заволновался Григорий.
— Ничего. Все нормально.
— Лезь на дерево.
Я полез. В двух метрах над землей художник меня остановил.
— Здесь, на развилке. Сучья спили и прибей три доски. Только чтобы ровный настил получился, аккуратней спиливай, понял? — Подал мне открытый перочинный нож. — Сделай засечки.
Я приставил лезвие к одной из веток чуть выше разветвления.
— Пойдет?
— Нормально, — одобрил Григорий. — Работай.
Я спустился, вернул ножик и пошел за инструментом.
Буратино, будь он неладен…
Я успел закончить с устройством аранга… Кстати, черных шаманов так не хоронят. На аранга выставляют людей и животных, убитых молнией, и не всегда, но часто — белых шаманов. Черных сжигают, и дело с концом. Впрочем, зачем такую незначительную мелочь знать французскому сценаристу?
Словом, я закончил с аранга, а мужики вставили полуостекленные оконные рамы, покрыли избу брезентом вместо крыши и уже забрасывали лопатами наверх снег, когда подъехали проверяющие — режиссер, оператор и переводчик Борис Турецкий. Художник-постановщик повел их показывать свое съемочное хозяйство.
Как я понял, начальство все в принципе одобрило, единственное, оператор велел разобрать до половины одну из торцовых стен. Там у него будет стоять камера.
Режиссер сам попробовал взобраться по моей сосне, причем цепляясь за ветки одной рукой. Другой он якобы придерживал на плече труп бурятского шамана. Полю Диарену показалось, что не хватает одной ветки. До утра отрастить я ее вряд ли успел бы, прибил ступеньку.
То, что в рамах не хватало стекла, оператору понравилось очень. Он вставил в пустой проем осколок, забракованный мужиками при остеклении, меньших размеров, криво сколотый по одной из сторон. Немец отошел на несколько шагов, посмотрел в визир (я теперь знал, как называется этот простой прибор, похожий на фотоаппарат-«мыльницу»). Оператор еще чуть отступил и снова посмотрел.
— Зер гут! Ка-ра-шо!
Я хотел предложить выбить все стекла, но передумал. Слишком «карашо» обычно «плёко».
Начальство уехало, Григорий Сергеев с ними, а я остался помогать мужикам разбирать стену. Дело нехитрое, ломать — не строить.
— Кто они по национальности будут? — спросил рыжебородый бригадир.
— Оператор — немец, режиссер — француз, — ответил я. — Есть еще чех, англичанин, был итальянец.
— Американцы с вами есть? — спросил мужик в волчьей ушанке.
— Американцев нет.
— Жаль.
Мужик с размаху рубанул топором по бревну и вдруг заорал во всю глотку как резаный, на мотив «зеленой крокодилы»:
Один американец! Засунул в жопу палец! И вытащил оттуда! Говна четыре пуда!!!ГЛАВА 6 Бурят в шаманском прикиде
В усадьбу Никиты привезли меня в раздолбанном «жигуле» в сумерках, а из столовой после ужина я вышел уже в полную тьму. Каким-то невероятным образом, наверное случайно, я отыскал свой дом № 11.
В неярком мигающем свете водитель микроавтобуса читал журнал «За рулем», пиротехник Петя спал, похрапывая и наполняя комнату духом водочного перегара и заскорузлых носков, а Григорий Сергеев, оказывается, ждал меня, предложил сходить в баню. Я порядком взмок на разборке стены, помыться было не лишним, но эти бани… Ох уж эти бани…
Кто, скажите, обманул целый стопятидесятимиллионный народ, объявив, что бани полезны для здоровья? Что может быть полезного в пассивном сидении под потолком тесной клетушки, обшитой осиновой дранкой, на верхнем полке (ударение на последний слог) голым, потным, при температуре сто градусов по Цельсию? И ведь какой-нибудь придурковатый энтузиаст еще плеснет на раскаленные докрасна камни ковш воды, и повалит пар, густой, обжигающий изнутри и снаружи. Так ведь находятся еще бесстыдные кретины, которые в чем мать родила выбегают, распаренные, и ныряют в прорубь или сугроб, если водоем, к счастью для них, рядом отсутствует…
Увольте меня от подобной процедуры! То ли дело дома, в благоустроенной квартире — встал под душ, смыл пот и получил попутно удовольствие от барабанящих по затылку водных струй…
Впрочем, как-то на досуге я разгадал причину любви русского народа к русским баням. Она устрашающа, как гнев Господень, и проста, как ситцевые трусы.
Дело в том, что когда русский человек после смерти попадает в Ад, в его атмосфере он ощущает себя привычно, как на родине. Сказываются изнурительные банные тренировки при жизни. Тяжело в ученье, легко в бою. Сурово, но факт. Ну а то, что русский человек после смерти попадает именно в Ад, обсуждению не подлежит. Это аксиома. Если же он попадает все-таки в Рай, значит, он нерусский на самом деле, прикидывался при жизни сознательно или в заблуждение его ввела фальшивая запись в пятой графе краснокожей книжицы.
Словом, все ясно со мной: в банях меня тошнит, от омуля с душком — с души воротит. Может, я — папуас с острова Новая Гвинея? Ну уж нет!
— Пошли, Гриша, попаримся. Давненько я в баньку не захаживал, все как-то не получалось. Люблю я это дело, соскучился!
Мы попали не в баню, нет. Мы попали в вагон метро в час пик, переполненный сексуальными извращенцами. От подобного тесного и потного обилия голых мужиков мне нехорошо сделалось, противно и голова закружилась. И запашок, блин…
Ладно тебе, Андрей Татаринов, привыкай. В Ад попадешь и не заметишь даже, вроде в баньку сходил…
В предбаннике одежду не на что было повесить, в парной — не протолкнуться, свободных тазов нет, за кипятком — очередь. Люблю я русскую баню, особенно, когда мыться всем приспичило одновременно.
Ничего. Дождались, получили освободившиеся шайки, отстояли очередь за кипятком. Вошли.
Сесть было не на что, потому что на верхнем полке лежал на животе английский актер, а на нижнем стоял мой знакомец — естественно-лысый реквизитор Вася и охаживал его березовым веником. Хорошо охаживал — от души, с размаху.
— Еще? — спрашивал реквизитор.
— Ис-чо! — истошно вопил англичанин после каждого удара, и Вася делал ему это «исчо».
Фингал под глазом сделался фиолетовым, потная лысина блестела. Демонстрируя отсутствие передних зубов, Вася улыбался, точнее — хищно скалился. Увидев меня, кивнул:
— Вишь, по-человечески нехристь заговорил, по-русски! — и хлестанул, как казак шашкой, разрубающей до седла.
— Ис-чо!
— Вася, хватит, ты убьешь его на хрен! Завтра снимать будет некого!
— Ни хрена с ним не сделается!
— Ис-чо!!!
Англичанин подскочил с полка и, хохоча, выбежал из парной.
— В сугроб пошел нырять, — пояснил реквизитор. — Я ему заранее весь банный процесс описал через переводчика.
— Какой сугроб, окстись? Нету в Хужире снега!
— Захочет, найдет. — Вася агрессивно потряс излохмаченным веником, видимо, вошел в раж. — Давай, земляк, ложись, я и тебя сделаю!
— Спасибо, в другой раз.
Попарились. Помылись.
Григорий Сергеев меня порадовал. Молодец мужик, с понятием. Когда мы вернулись в дом № 11, он поставил на стол чекушку водки.
— Специально на после бани взял.
Водителя в комнате не оказалось. В микроавтобус он, что ли, ночевать ушел? Пиротехнику Петру, понятно, предлагать мы не стали. Теперь он спал на животе, но храпел все равно. Вот, блин, наказание…
Разлили. Выпили. Закусили ломтиками копченого сала с черным хлебом. Это уже я догадался в дорогу взять.
Григория мгновенно сморило, и он лег в постель, а я, напротив, чувствовал себя необычайно бодрым и деятельным. Вот только куда их на ночь глядя девать, эти бодрость и деятельность, если — взглянул на часы на сотовом — через полчаса свет погаснет?
Решив перед сном еще раз полюбоваться на эксклюзивный теплый туалет, вышел во двор. Полной тьмы не было. Это со света так показалось. Постоял у дверей пару минут, глаза привыкли и стали видеть. Три источника света.
Звезды на Ольхоне — с кулак, яркие, сочные, будто остров не в центре Священного моря, а в ядре Галактики, где ночи нет по определению.
Растущая луна висела над горизонтом, без четверти полная.
Возле двухэтажной столовой горел костер, вокруг сидели несколько человек. Я пошел на свет.
Было в усадьбе Никиты, оказывается, предусмотрено и место для костра с врытыми лавками вокруг. На них сидели Поль Диарен, режиссер, Ганс Бауэр, оператор, Жоан Каро, продюсер, Карел, ее помощник, переводчик Борис Турецкий да чуть поодаль стоял, лукаво улыбаясь, Никита, хозяин заведения. Это те, кого я знал. Незнакомец был всего один, но какой! Цирк, да и только! Незнакомец был бурятом в нарядном шаманском прикиде. Он стоял у самого костра, весь освещенный, разглядеть его труда не составило.
На его костюме, похожем на старорусский кафтан, сшитом, как я потом узнал, из шкуры теленка, блестело множество разнообразных подвесок из стали, бронзы и меди. На плечах — изображение птиц, на груди — пластинки-ребра, как у скелета. Слева на кольце была подвешена шкурка колонка, в образе которого, вероятно, выступал дух помощник шамана. Ниже талии подвешены слева три бронзовых колокольчика и изображения волка и медведя. Справа к кольцу на груди подвешен жгут-змея с коралловыми глазами. Здесь же — изображение лошади и стремя. Ниже талии, спускаясь к краю подола, висели колокольчик и два бубенца в виде голов жаб. По рукавам проходила скрученная проволока, которая заканчивалась изображением ладоней.
Бурят в шаманском костюме говорил, вероятно, отвечая на вопрос. Турецкий переводил синхронно, как мог.
— Эпос у нас богатый, однако не хуже любого европейского!
Режиссер что-то сказал на французском, и Борис Турецкий обратился к нарядному незнакомцу:
— Месье Диарен спрашивает, не могли бы вы рассказать нам что-нибудь из богатого бурятского эпоса?
Незнакомец мог. И хотел. Вот что он поведал иностранцам у костра в усадьбе Никиты в деревне Хужир на острове Ольхон.
Легенда о сотворении мира
Верховный Бурхан позвал однажды Эрлен-хана, Владыку Царства Мертвых, и велел ему создать Землю, животных и Человека-Адама, а из ребра его — Жену-Еву.
Эрлен-хан все сделал, как велел ему Бурхан, Владыка Богов.
Из чего ему было создавать Землю? Ничего же под рукой еще не было!
Тогда Великий владыка-тэнгрий сел на корточки и испорожнился — так появилась грешная Земля.
Эрлен-хан помочился сверху — так возникли соленые моря и океаны.
Эрлен-хан плюнул — и на Земле потекли реки, появились озера.
Эрлен-хан высморкался — из его слизи возникли рыбы многих пород.
Потом он насильственно двумя пальцами вызвал рвоту — в небе полетели птицы, по земле побежали звери.
Но Человек — не зверь и не птица, хотя может быть тем и другим при желании.
В Человеке — частица Верховного Бурхана, именно поэтому он — Человек.
Из чего Эрлен-хану было создавать Человека?
Взял он лук, пустил стрелу в пробегающего оленя и убил его Сорвал он с головы оленя рога, а тушу бросил, где лежала.
Набежали к туше падальщики-шакалы. Схватил Эрлен-хан одного из стаи и оторвал облезлый хвост.
Пролетал в небе белоголовый орел могильник в погоне за белым лебедем. Крикнул на них Владыка Мертвых, и с перепугу обронили птицы по перу. Подобрал и перья Мудрый Творец.
Взял также Эрлен-хан рыбий плавник из озера и дохлого червя из навоза.
Все пригодно для создания Человека по образу и подобию Великого Бурхана!
Соорудил Эрлен-хан очаг из камней и спалил на нем: рога оленя, хвост шакала, перо орла, перо лебедя, плавник рыбы и дохлого навозного червя.
И понял Творец — этого недостаточно, чтобы создать Человека.
Вырвал он один волос из бороды Верховного Бурхана и тоже бросил в пламя.
Потом Эрлен-хан собрал пепел, помочился в него, плюнул и капнул своей адской спермы, после чего замесил, вылепил и обжег Человека в самой жаркой печи своего Царства Мертвых.
Но чтобы создать человеческий род, мало одного Адама.
Эрлен-хан расчленил Человека, вынул из него одно ребро и собрал снова. А из ребра он создал Жену Человека — Еву.
За все за это отдал Великий Бурхан одну из трех душ всего живого после смерти в подчинение Эрлен-хану, Великому Владыке Царства Мертвых, творцу Вселенной.
А Ева родила Адаму 77 сыновей и 88 дочерей. Все сыновья, как один, были великие батыры, каждый мог одной левой рукой поднять 77 пудов, а правой — 99. Все дочери, как одна, были красивы и круглолицы, каждая родила своему мужу 55 сыновей и 44 дочери.
Созвали сыновья Адама однажды суглан, на котором решили построить большой столб до облаков. Бурхан услышал, осерчал и дунул на них. Все сыновья Адама упали на землю и уснули, никто не ушибся. Проснувшись, они больше не понимали друг друга.
И решил Бурхан дать каждому веру.
Татарин, один из сыновей Адама, опоздал на суглан. Видит он, что все обедают, а сороки и вороны клюют крошки. Подняв к небу руки, Татарин закричал: «Ай, Алла!» — и принялся чертить вороньи и сорочьи следы в книгу. Так появилась татарская вера.
Пришел бледнолицый Казак, сын Адама, он тоже на суглан опоздал. А Татарин барашка кушал так, что жир бараний во все стороны летел. Попал и в Казака. Стал он жир стирать: со лба стер, с живота, потом — с плеч. Увидел это Бурхан и дал Казаку христианскую, русскую веру.
Бурят, еще один сын Адама, взял книгу с верой у Бурхана, напился пьяный и в пути лег спать у копны сена, спрятав туда веру. В то время шли мимо овцы, съели все сено, а вместе с ним и книгу с верой. Теперь шаманы режут баранов, шкуру вешают на дерево и в лопатках находят веру.
ГЛАВА 7 Объявленная смерть
Бурят в шаманском костюме смолк.
Не поворачивался у меня язык назвать его шаманом, хоть убейте, не поворачивался. И не то чтобы заподозрил я в его легенде фальшивку с эпатажным физиологическим уклоном. Нет. Подобной физиологии в архаических сказаниях хватает. Взять хоть старорусские сказки в первозданном виде, не приглаженные докторами да кандидатами от этнографии. Куда их деть, всех этих бравых солдат и хитрых мужичков-работников, с наслаждением трахающих генеральских да поповских жен во все возможные отверстия? Невозможные — тоже. Причем открытым текстом, где каждый орган и действие названы своими исконными именами. Теперь это — непечатная матерщина, привнесенная в невинный, белый и пушистый, русский язык монголо-татарскими оккупантами. При чем здесь монголо-татары?
Честнее и откровеннее архаические сказания, а значит — циничнее. И нет ничего в цинизме дурного. Он — обратная, темная сторона истины, ну а предметов с одной только стороной не существует в реальности. В ирреальности — тем более.
Так что дело не в содержании рассказанной легенды, вполне вероятно, что она истинна. Подозрения во мне вызвала сама личность бурята моего примерно возраста в шаманском прикиде Хотя вроде с чего бы? Вел он себя вполне по-шамански, разве что в бубен не стучал, не было в руках бубна, да без подтанцовки обходился. Говорил, эмоционально жестикулируя, поставленным голосом, будто со сцены Иркутского театра юного зрителя. Бубенцы на подоле позванивали, отзываясь на каждое движение, металлические прибамбасы на одежде поблескивали отраженным светом костра.
«Шоу, — подумалось мне, — чисто шоу, триумф одного актера…»
С другой стороны, шаман обязан иметь актерские навыки, профессия у него такая. Он в одном лице и актер, и режиссер, и гример, и реквизитор. Иначе публика, то бишь жители подконтрольного селения, его и слушать не станет, не то что верить. А обладает он магической силой или нет, дело десятое…
Стоп, оборвал я себя, мысленно, конечно. Как так — десятое? Разве не шаманская сила в шамане главное? Разве личность его имеет значение? Вот ударил он в бубен, вошел в экстаз, и уже не человек, Дух говорит человеческими устами. Как ни были бы умны и образованны мы, смертные, весь наш ум, все образование — ноль без палочки по сравнению с мудростью Духов-боохолдоев и всемогуществом Тэнгриев-Небожителей. Мы со Срединным-то, своим миром толком не разобрались — обгаживаем его, трубопроводы по берегу Священного моря пускаем… А о Верхнем и Нижнем мирах имеем и вовсе смутное представление. Если вообще не отрицаем их существование. Многие и отрицают, но это их проблемы, а не потусторонних миров…
— Браво! — сказал режиссер.
Слово не требовало перевода, Борис Турецкий его и не переводил. И надо же, бурят раскланялся! Аплодисментов, правда, не хватало… Только я так подумал, как Жоан Каро зааплодировала, к ней присоединились остальные. Премьера прошла успешно…
Откуда он, интересно, взялся, этот мастер разговорного жанра? Никита, верно, привел. Может, у него программа такая по привлечению иностранных туристов?
— Андрей Татаринов? — спросил меня бурят, не переставая кланяться и посылать воздушные поцелуи в очарованную публику.
Я стоял в освещенном костром круге, и народный сказитель, вероятно, давно меня заметил. Но знает-то он меня откуда? Я его точно впервые вижу… И тут до меня дошло: это же Николай Хамаганов, о котором несколько часов назад говорил мне водитель «Нивы»! Тот самый блудный бурят, что пятнадцать лет отсутствовал на родине, а теперь возник из ниоткуда и объявил себя черным шаманом. Он еще спрашивал обо мне. Но это мало что объясняло, я его не знал. Впрочем, все монголоиды для европейцев на одно лицо, тем более если мы встречались с ним в пьяной какой-нибудь компании… Ладно, поживем, узнаем. Или — не узнаем. Часто наше знание или незнание не имеет никакого значения. По сравнению с мировой революцией, как говаривали в недавнем нашем большевистском прошлом…
— Я — Андрей Татаринов.
— Разговор есть. Не уходи никуда, ладно?
Я неопределенно пожал плечами. Точно мы с ним водку пили, и, наверно, на брудершафт, иначе чего он мне панибратски «тыкает»?
Оператор что-то сказал на плохом английском, Борис Турецкий все-таки его понял, перевел, может, и не дословно.
— Ганс Бауэр интересуется, сохранились ли в бурятском народе на острове Ольхон древние шаманские обряды?
Оператор, не дожидаясь ответа, добавил еще несколько фраз, переводчик продолжил:
— Господин Бауэр говорит, что его очень и очень интересуют культовые обряды архаических народов… — Москвич запнулся. — Извините, Николай, это звучит не оскорбительно?
— Нет, нисколько, — улыбнулся в ответ, теперь я уже точно знал — Николай Хамаганов. — Архаический народ — это звучит гордо!
И горько — хотелось мне добавить, но я сдержался. Ишь, какой образованный, с высшим образованием, вероятно. Или не с высшим? Театральное училище, кажется, дает среднее специальное. А Высшая школа партийного актива какое давала?
— Так вот, — продолжил Борис Турецкий, — господин Бауэр говорит, что был бы счастлив запечатлеть на пленку какой-либо этнографический обряд древнейшей на планете религии: шаманское посвящение, свадьбу или похороны. Он понимает, что все это на заказ не делается, но вдруг что-нибудь случайным образом совпадет с их пребыванием на острове? Вместе с режиссером они готовы оплатить беспокойство в долларах или евро.
Хамаганов с видимым сожалением покачал головой:
— Шаманское посвящение исключается, это сакральное действо. Даже случайное присутствие на нем посторонних карается смертью, а о съемках и речи быть не может. Свадеб в ближайшее время не предвидится, а вот похороны… Вы что-нибудь знаете о шаманских похоронах? Вообще о человеческой душе?
Бурят смолк, переводчик заговорил на английском, выслушав ответ, вернулся на русский:
— О шаманских похоронах и о бурятской душе господа не знают ничего.
Хамаганов удовлетворенно кивнул, а затем прочел целую лекцию.
Представления бурятских шаманистов о душе и смерти
У каждого человека, даже европейца, имеется душа — сынэс, которая невидима, воздушна, находится в теле. Она в то же время материальна, отличается от тела, может по своему желанию покинуть его — странствовать по земле, побывать в мире духов и вернуться на место.
Душа обладает всеми способностями и недостатками человека, может голодать, веселиться, радоваться, злиться, мстить. Свойства ее зависят от личных качеств, возраста и физического состояния того, кому она принадлежит: у детей душа детская, у умных — умная, у сердитых и жадных — сердитая и жадная.
Но человеческая душа на самом деле — это три души.
Первая — добрая — имеет доступ к высшим божествам — тэнгриям — и заботится о своем хозяине.
Вторая — средняя — тоже находится в теле. Иногда ее преследуют духи, ловят и едят, тогда человек заболевает и умирает. После смерти она становится боохолдоем — призраком, привидением, духом.
Третья постоянно находится при теле. После смерти хозяина остается на месте, оберегая его кости.
Первая душа, как только приходит время умирать человеку, ловится духами Эрлен-хана и уводится на суд. Вторая становится боохолдоем и живет так, как жил ее хозяин Третья со временем снова родится человеком.
Душа обитает в печени, легких и сердце. Именно они приносятся в жертву богам при заклании священного коня, быка или козла и сжигаются на специальном жертвеннике вместе с костями, кожей и копытами.
Душа покидает тело во время сна, но она может выскочить от испуга в любое время через нос, рот или выплеснуться вместе с кровью. Выскочившая от испуга душа сама не возвращается в тело, ее нужно вернуть путем обряда «хурылха», пригласив шамана. Иногда убежавшая душа упрямится, не желая вернуться к хозяину. Тогда человек становится вялым, сонливым и, если не принять мер, может умереть, а беглянка-душа отчуждается и превращается в боохолдоя.
Душа отождествляется с тенью (хыыдэр). Нельзя наступать на тень человека, бросать в нее острые предметы, в противном случае душа обидится, будет ранена или убита. Тождественны с душой понятия «жизнь» и «дыхание», означаемые словом «амин». Выражения «амяа татаха», «амяа гараха» и «амяа гээхэ» соответственно означают «испустить дух, дыхание», «кончить жизнь» и «потерять душу, дыхание», то есть умереть.
Болезнь и смерть происходят по трем причинам.
Во-первых, по воле Владыки Подземного Царства Эрлен-хана. В этом случае вопрос о жизни решен, никто не в состоянии предотвратить смерть.
Во-вторых, смерть может быть случайной, насланной какими-либо низшими духами — ада, анахай, муу-шубуун. От подобной смерти можно избавиться посредством брызганья и жертвоприношения.
В-третьих, смерть как предопределение Неба — тэнгри, смерть как избранничество, например от удара молнии.
После смерти человека душа при теле остается в течение трех дней. Хоронят его на третий день.
Загробная жизнь — продолжение земной. Человек не просто умирает, а переносится в другой мир. О покойнике говорят: «наха бараа», то есть «кончил лета свои», «мынхероо» — «перешел в вечность», «эхе эсэгэдээ ошоо» — «отправился к праотцам». Слово «ыхээ» («умер, сдох») звучит грубо, оскорбительно, употребляется редко, главным образом по отношению к тем, кого не любили и презирали.
Слово «хоронить» звучит иначе и многовариантно. Наиболее употребительны выражения «хыдоолыылхэ» — «сопроводить, отправить», «хадагалха» — «спрятать» (от людей), «хээрэ абаашаха» — «увезти в поле, в лес». При воздушном погребении, то есть при выставлении трупа на специальный помост — аранга, говорили «ындэрлэхэ» — «поднять, возвысить», а при сожжении — «хынгэлхэ» — «облегчить» (для вознесения души на небо вместе с дымом).
На умершего надевали в лучшую одежду, снабжали пищей (но только не молочной), табаком, трубкой, деньгами, предметами труда и оружием. Нередко вместе с усопшим или рядом в другой могиле погребали коня в полном снаряжении. В старину богатых и знатных людей хоронили с их слугами-рабами, чтобы они продолжали службу у своих господ и в потустороннем мире.
Могилы покойников образуют на том свете улусы, каждая могила или гроб становятся домом, в котором живет душа — боохолдой. Покойники не любят одиночества, поэтому хоронить их следует на общем кладбище, в противном случае они примут меры, чтобы кто-то из улусников умер и стал их соседом.
Кладбище — место пребывания боохолдоев, оно нечисто и небезопасно. В обычное время его не посещают, не ухаживают за могилами, как это принято у христиан.
Душа умершего и дух, как отдельное мистическое существо, не отличаются друг от друга, смешиваются, сливаются. Душа — совершенный двойник человека. Мир духов, то есть потусторонний мир, — почти полный двойник реального мира.
Души покойников, переселившись в новый для них мир, становятся не просто духами, образующими какую-то безличную массу, а существами конкретных разрядов, иерархических групп с определенными функциями и назначением.
Души выдающихся людей, предводителей родов и племен, шаманов и в загробном мире сохраняют свое высокое положение эжинов, нойонов и ханов. Становятся покровителями определенной области — рек, озер и гор.
Души людей, обладавших каким-либо талантом или мастерством, и в загробном мире пользуются уважением.
Души умерших кузнецов становятся кузнечными духами, добрыми и светлыми.
Души умелых охотников превращаются в духов-онгонов, помогающих в охоте живым добытчикам.
Считается, что меткие стрелки, мастера своего дела, талантливые сказители и певцы долго не живут на земле, так как небожители-тэнгрии и другие высшие божества спешат забрать их к себе.
Души шаманов и шаманок, прошедших обряд посвящения и пользующихся известностью, считаются избранниками тэнгриев, хоронят их по шаманской традиции. В одних случаях покойников выставляли на аранга, в других — сжигали.
Человек, пораженный молнией, считался избранником Неба. Труп выставляли на аранга. Душа убитого возносилась на Небо, где представлялась тэнгриям и получала право называться заяном. Потомки или ближайшие родичи такого человека приобретали особое положение «нэрьеэр утха», позволявшее им стать шаманами или шаманками.
Души людей, умерших неестественной смертью, души обиженных и несчастных людей становились либо своеобразными «святыми мучениками», либо попадали в разряд низшей демонологии.
Души идиотов, глухонемых, людей, занимавших в жизни самую низшую ступень, презираемых и унижаемых, и в загробном мире оставались существами низшими и зловредными. В народе их называют «дайдын богуут» — «всякая земная нечисть».
Души обыкновенных людей превращаются в боохолдоев — призраков, привидений, домовых. Боохолдоев великое множество, они ведут ночной образ жизни — гуляют, веселятся, разводят огонь, ездят на конях, учиняют шутки над людьми. Места их обитания — кладбища, пустые или заброшенные дома и юрты, темные углы, перекрестки дорог. Они безобидны, но напугать могут. Так же как «земная нечисть», они боятся шиповника, боярышника, будан-зерен и филина.
Некоторые черные шаманы и шаманки сознательно вредят обществу, ловя и поедая души людей. В таких случаях всем улусом выносили решение об их наказании, вплоть до смертной казни. Для исполнения приговора выкапывали глубокую яму в виде колодца, спускали туда виновного головой вниз, закапывали живьем, а сверху всаживали осиновый кол. При таком обряде душа казненного не могла вырваться и отомстить, оставалась навеки в земле, не причиняя никому зла.
Николай Хамаганов смолк, бубенцы на подоле шаманского костюма звенеть перестали.
Ишь, какой кровожадный… Впрочем, сжигала же в Средние века в Европе святая инквизиция ведьм и колдунов на кострах. Да что там средневековая инквизиция, уже в эпоху Просвещения повсеместно практиковались публичные казни! Кто-то из русских классиков присутствовал, а потом описал демократическую Швейцарию середины XIX века!
Многое из того, что Хамаганов рассказывал, я уже знал. И вроде правильно он все говорил, однако ощущал я какую-то изначальную фальшь в его словах, сам не знаю почему. Я ведь не великий знаток бурятского шаманизма, так, слышал кое-что, и только.
Прослушав английскую версию, заговорил режиссер.
— Месье Диарен интересуется, — перевел Борис Турецкий, — что, в деревне Хужир кто-то умер? И если да, то можно ли снять обряд похорон?
— Снять обряд можно, — ответил Николай Хамаганов, — я лично вас приглашаю. В Хужире никто пока не умер, но скоро умрет. Через два дня. А на третий день после смерти будет воздушное погребение — выставление на аранга.
— Откуда вы знаете о грядущей смерти?
— Шаман знает многое из того, что недоступно простым смертным.
— Может быть, тогда вы знаете, кто именно умрет?
— Да, знаю. Умрет черный шаман.
— Кто конкретно?
— Я.
ГЛАВА 8 Целая Вечность и еще минут десять
— Доннэр вэтэр… — тихо произнес Ганс Бауэр.
На уровне местоимений, междометий и матерщины русский язык он еще не забыл, смысл ответа Николая Хамаганова из иностранцев после русскоязычного чеха понял первым. Понял и ужаснулся. За ним следом французы, когда Борис Турецкий перевел пугающее краткосрочное пророчество черного шамана.
— Вы умрете через два дня? — спросила Жоан Каро дрожащим голосом.
— Да, — ответил шаман.
— Вы говорите об этом спокойно?
— А что здесь страшного? Смерти нет. Есть переход в другой мир. И потом, вы ведь тоже умрете. И прекрасно знаете это, однако не впадаете от этого неоспоримого факта в истерику.
Может, и впадает. Может, просыпается ночью и плачет в подушку от обиды и бессилия. Смерть — это так несправедливо. Особенно если ты — атеист и она для тебя финиш, конец спринтерской дистанции. И — привет родителям…
— Я горд, что умру и буду похоронен на сакральном острове Ольхон, острове великих Духов, — продолжал пугать черный шаман. — Сам богдо Чингисхан похоронен здесь!
— Я слышал, — заспорил немец, — что великий завоеватель похоронен в монгольской степи в месте, где он родился, возле какого-то озера. Разве это не так?
— Конечно так! Для непосвященных. Кто же станет афишировать тайное знание? А место захоронения останков Темучина — страшная тайна. Но пришло, пришло время ее раскрыть! Я могу показать вам истинную могилу Чингисхана. Завтра!
— Вы разрешите нам ее снять? — поинтересовался режиссер, через переводчика, понятно. Без особой надежды на согласие поинтересовался, судя по интонации. Да и не верил месье Диарен костюмированному буряту. А кто бы поверил? Уж не я, точно.
— Можете снимать. Встречаемся завтра здесь… — Хамаганов повернулся к Никите: — Когда у тебя обед?
— В два часа, — ответил хозяин.
— Встречаемся в три, — продолжил шаман. — Я отвезу вас на могилу Чингисхана, расскажу о том, как он был похоронен, покажу останки великого Небесного Богдо.
Киношники посовещались, мешая французский язык с английским, потом оператор произнес по слогам:
— Ка-ра-шо. Ф драй час.
— Мы при́дем, — добавил чех Карел с мягким западно-славянским акцентом, игнорируя русскую букву «ё» и смещая ударение.
Когда Хамаганов коснулся моего плеча, я вздрогнул. Отвлекся, не отрываясь, смотрел на Жоан, зеленые глаза которой в отблесках костра, казалось, горели черными огоньками. Не обращая внимания на помощника Карела, она улыбалась мне. Она… Да что уж я размечтался-то, идиот? Кончилось у нас все безвозвратно. Не простит мне Жоан Анны Ананьевой, переводчицы. Нет, не простит…
Я повернулся к шаману:
— Отойдем, Андрей Татаринов, разговор есть.
Сияя всем своим круглым, как шар, лицом, Хамаганов отсалютовал киношникам:
— Гуд бай, мадам и месье! До завтра!
Потом подхватил меня под руку и, звеня дурацкими бубенцами, увел во тьму к одной из бань.
— Ну, здравствуй, Андрей Татаринов. Рад тебя видеть.
А вот я почти его не видел, глаза еще к темноте не успели привыкнуть. Да и радости особой не испытывал.
Он нащупал мою ладонь и крепко ее пожал.
Да кто он такой, в конце концов?!
— Откуда вы меня знаете, Николай Хамаганов?
— Привет тебе от Николая Тимофеевича, — сказал он шепотом, многозначительно, словно пароль в шпионских фильмах: «Здесь продается славянский шкаф?» — «Славянский шкаф продан, купите германское трюмо…»
Имя-отчество не говорили мне ни о чем. Абсолютно.
— Кто такой Николай Тимофеевич?
Ответить Хамаганов не успел, потому что мы услышали мужские голоса, потом дверь бани распахнулась и на пороге возникла своеобразная парочка. Реквизитор Вася, русский человек с московской пропиской, и Уинстон Лермонт, шотландский актер в главной роли французского шевалье. Сейчас он исполнял другую роль. Он безвольно висел на плече Василия, как мокрое белье на веревке, натянутой между столбом и забором.
Было уже далеко за одиннадцать. Мазутный генератор Никиты смолк, и свет всюду погас.
Василий умудрялся держать одновременно зажженную стеариновую свечу, британского киноактера и половину бутылки русской водки.
— Нет, Уинсти, — говорил реквизитор, — ты меня не понимаешь. Россию умом не понять, Уинсти. Ты меня понимаешь?
— Йес, — отвечал Уинсти.
— Ес-ес — обэхээс… Ни хрена ты не понимаешь, нехристь, — продолжал Вася. — Россию не измерить ни общим аршином, ни в метрической системе СИ, ни в этих ваших футах-стерлингов… Ты меня понимаешь, Уинсти?
— Йес, — отвечал Уинсти.
— В нее, Уинсти, можно только верить. В смысле, в Россию. Поверь мне!
Они вывалились наконец из бани и, продолжая содержательную дискуссию, петляя, удалились во тьму. Куда, интересно? Хоть бы Василий довел его до кровати, а то заплутает, бедный, и пропадет, замерзнет в дикой Восточной Сибири на самом краю света.
— Понимаешь, верить, как в Бога! Ты веришь в Бога, Уинсти?
— Исчо, Васья! — истошно закричал вдруг Уинсти грамотно поставленным голосом заслуженного артиста Великобритании. — Ис-чо-о-о!
Они удалились на безопасное расстояние, и Хамаганов ответил на мой вопрос:
— Андрей, ты не можешь не знать Николая Тимофеевича Алексеева. Вы встречались с ним в Иркутске накануне твоего отъезда на Ольхон. Встречались и договорились о сотрудничестве.
Николай Алексеев… До меня наконец дошло, о ком говорит бурят. И что за сотрудничество, тоже стало ясно. Но я же от денег отказался, ничего конкретно не обещал этому гэбисту бывшему, а возможно, и настоящему. Тоже мне, бизнесмен… Сами оттуда не выходят. Бывает, конечно, что внутренние органы отторгают человека — через прямую кишку, но чтобы взял и — мол, пока, ребята, счастливо оставаться! Верится с трудом… Впрочем, черт знает? Небогатый у меня опыт общения с внутренними нашими органами. И слава богу.
— Понял, — сказал я. — Теперь все понял. При случае товарищу Алексееву тоже привет передай. Большой души человек, крупный предприниматель, можно сказать, планетарного масштаба!
То ли глаза привыкли к темноте, то ли ущербный диск луны вышел из-за облаков, но видел я теперь сносно. Видел баню, двор, видел боковым зрением, как киношники расходились по номерам, но один из них остался у тускнеющих углей догоревшего костра. Огонек сигареты обозначил оставшегося.
Видел я и довольную улыбку Николая Хамаганова.
— Вот и хорошо, Андрей, что вспомнил, — сказал он и добавил командирским каким-то голосом: — Благодарю за службу!
Вероятно, он ждал, что я отреагирую адекватно, типа: «Служу России!» или что там теперь принято говорить? Но я не отреагировал никак. Какая служба? Что он несет?
Я промолчал, и он продолжил:
— Иностранцы были хорошо подготовлены, все прошло как по маслу. Сейчас работаю я, ты только присутствуешь, но после моей смерти вся ответственность за выполнение поставленной задачи ложится на тебя, товарищ Татаринов!
Вспомнив Николая Алексеева, я, конечно же, вспомнил и наш с ним разговор. Еще и Стас участвовал, царствие ему небесное, рабу Божьему…
Значит, Хамаганов тот самый псевдошаман, который в положенное время должен беззаветно отдать свою псевдо-жизнь за дело… Чье, кстати, дело? Рука Москвы маловероятна. Игра явно была затеяна деятелями губернского уровня. Хотя как тут разобраться? С моей колокольни не видно ни черта, больно она низкая…
За спиной губернатора — президент. Так говорят, но так ли это в действительности? Каков масштаб происходящего — областной или общероссийский? И какова истинная цель? Я же не знаю ни фига. Я нахожусь в положении того слепца, который, ощупав слоновий хвост, назвал слона веревкой…
Впрочем, мне-то что за дело? В любых этих масштабах раздавят меня, как муравья, и не заметят. Словом, следует сидеть на своей колокольне тихо-тихо, ну и понятно, не подпрыгивать, чтобы, не дай бог, себя не обнаружить.
— Что я должен делать? — спросил я.
— С тобой свяжутся. — Николай Хамаганов пожал мне руку. — До встречи, товарищ.
Он растворился во тьме бесшумно, профессионально.
Михаил, водитель «Нивы», говорил нам с Сергеевым, что Николай Хамаганов отсутствовал на Ольхоне пятнадцать лет. Я знаю, где он находился все это время. На задании. В стане злобных врагов нашей многострадальной Родины. На агентов-монголоидов спрос, вероятно, немаленький. Может, он и государственные награды имеет…
«Но пасаран!» — хотелось воскликнуть, показав сжатый кулак кромешной тьме, окружающей Отчизну, но я сдержался.
В нашей неравной борьбе главное оружие пролетариата — конспирация, а уже потом — булыжник.
Сам не знаю зачем, я вернулся к догоревшему костру. Тот, кто сидел, неузнанный, на лавке, уже докурил, и я не мог угадать, кто там оставался, не торопился в постель в жарко натопленном номере.
Я достал сигарету и склонился над подернутыми пеплом углями. Прикурить захотелось от естественного источника, а не от российского газа, заключенного во французскую зажигалку, произведенную в Народном Китае.
Я дунул — пепел поднялся в воздух, обнажив яркие угли, переливающиеся всеми оттенками красного и синего, дрожащими, словно живыми. Короткий язычок лизнул тьму и погас.
С лавки засмеялись тихо и тонко. Женским голосом. Женщина была здесь только одна…
Я дунул еще — и вот уже несколько язычков поднялось из жаркого марева, но не прикорми их деревом, исчезнут, как не бывало.
Подбрасывать дрова я не стал, огонь погас, но краем глаза, не поднимая головы, я успел увидеть улыбающуюся Жоан Каро. И чему она, интересно, радуется? Улыбается чему?
Сунул в угли тонкую ветку. Она загорелась мгновенно. Я поднес ее к сигарете, но прикурить не успел — погасла.
— Комен зи мир, Андрэ, — услышал я и поднял голову.
Она сидела нога на ногу, облокотившись на колено, а другой рукой, вытянутой, держала зажженную зажигалку. Природа, казалось, затаила дыхание — ветра не было, и газ горел ровным желто-синим пламенем, освещая лицо женщины с изумрудными глазами. Они горели не отраженным светом, нет. Словно свежие угли погасшего костра, изнутри они переливались всеми оттенками зеленого, дрожали, будто живые, отдельные существа… Может, и правда отдельные?
Я поднялся. Я смотрел на нее, онемевший, застывший, превратившийся в чугунный памятник Командору. Смотрел и не смел подойти, точнее, не мог — металлические конечности меня не слушались. И я понял вдруг всю правду про эту женщину. Никакая она не француженка. Она вообще здесь, на Земле — проездом. Она — инопланетянка. Потому что не бывает в этом грешном мире таких изумрудных глаз, такой красоты, такой женственности. Одно только ее присутствие вызывало во мне жгучее желание, одна только улыбка, блеск глаз, изгиб тела… О чем я? Разве можно подобную неземную красоту грубо и жестко затащить в постель? Прости мою душу грешную…
— Андрэ! — повторила Жоан. — Что ты там стоишь, дурачок, иди же ко мне!
Из какой ты Галактики, милая? И почему я понимаю опять твой инопланетный диалект? Впрочем, этому я как раз удивился не очень, был уже прецедент с полетами, причем на этот раз понимание наступило без побочных эффектов — ни жжения во лбу, ни потери сознания не случилось.
И я пошел на свет глаз, как на огонек светофора.
Я шел медленно-медленно, словно продираясь сквозь затвердевший вдруг воздух.
Я плыл в нем, как в поминальном киселе.
Я преодолевал несколько шагов, нас разделяющих, целую Вечность.
Проигнорировав зажигалку, я встал на корточки, положил голову ей на колени и прошептал без всякой надежды на понимание:
— Я люблю тебя, Жоан. Прости меня.
Острые коготки вошли в мои волосы. Они перебирали, почесывали и царапали. Кончики пальцев касались нежно щек, лба и ушей. Так, вероятно, знакомятся слепые, запоминая топологию нового лица… Но мы уже знакомы с тобой, Жоан. Мы уже были друг в друге, друг другом, частью единого андрогина. Мы… Или я все придумал и ничего у нас не было? Я испугался. Вдруг та ночь в летящем «шевроле» — плод моего больного воображения, и только?
— Глупый, глупый, — говорила Жоан. — Разве может старая больная обезьяна обижаться на молодого красивого самца?
Я обнял ее за талию. У нее была тонкая талия. Очень тонкая.
— Сядь рядом, Андре. Так неудобно. Я хочу тебя поцеловать.
Я сел. Я тоже хотел ее поцеловать. Я просто хотел ее. И теперь точно знал — все у нас было. И будет.
И губы встретились, не могли не встретиться, потому что были созданы Творцом Эрлен-ханом для этой встречи, для этого поцелуя с терпким дымным привкусом Преисподней, с головокружительными ароматами эдемских садов и степного разнотравья обитаемых Небес.
И пошел вдруг снег, я видел его, не открывая глаз.
И легкие резные снежинки опускались медленно и плавно на нас, целующихся, на усадьбу Никиты, на деревню Хужир, на остров Ольхон, на Байкал, скованный льдом.
И это было, как благословение свыше.
Утром придет буйный ветер Сарма и сметет, словно березовым веником, снег к берегу острова или к противоположному, материковому.
Но нам-то с Жоан какое до всего этого дело? Мы целовались. Мы целовались целую Вечность и еще минут десять, не меньше.
Но все кончается, даже Вечность.
— Я люблю тебя, Андрэ, — прошептала Жоан, и я невероятным образом увидел в уголках ее глаз жемчужины слезинок.
— Я хочу тебя, Андрэ, хочу немедленно. Я умру, если этого не случится!
— Ты не умрешь, — сказал я, и, кажется, она меня понимала. Ты не умрешь никогда, Жоан!
Я встал с лавки. Она встала тоже.
Я взял ее на руки, она засмеялась.
— Не надо. Я толстая и тяжелая.
— Ты изящная и легкая. Как снежинка.
Я понес ее к воротам усадьбы.
Я понес ее к чернеющему вдалеке лесу.
Я понес ее сквозь тьму, снег и морок острова Ольхон.
И она была невесома. Невесома и желанна.
А потом мы легли на мою куртку посреди заснеженной степи, и нам было хорошо. Мы были счастливы Мы были счастливы долго-долго, целую Вечность.
Ущербная луна бесстыдно подглядывала за нами в узкую щелку между облаками.
И я смотрел сверху, как на лицо Жоан падает снег.
Падает и не тает.
ГЛАВА 9 Мать-Хищная Птица
Проснулся я от нечеловеческого крика в диапазоне от отвратительного ультра- до ужасающего инфразвука, одинаково не воспринимаемых человеческим ухом, но по-разному действующих на психику.
И были в нем одном голоса всех птиц — существующих и несуществующих, мыслимых и немыслимых, порхающих за окном в городском сквере и обитающих в Преисподней мировой мифологии.
Тонкий писк синицы, болтливый щебет воробья, музыкальный посвист виртуоза-соловья, пронзительный, истошный крик чайки, картавое карканье ворона, гибельное пение пернатых сирен-полудев, пугающий рев благородного грифона, царственный клекот белоголового орла-могильника…
И ведь слышал я этот крик не впервые, должен бы был уже привыкнуть. Но привыкнуть к нему невозможно. Всякий раз, слыша его, я содрогался, мурашки плотными рядами выступали на коже, а сердце падало в отсутствующие трусы. Я был гол, как кость. Я плавал в теплой, густой, как поминальный кисель, жидкости, заключенной в…
Я развел руки в стороны и нащупал гладкую вогнутую поверхность. Я находился в замкнутой сферической полости, под завязку заполненной жидкостью, но каким-то немыслимым образом мог дышать. Или попросту обходился без воздуха? Не знаю.
Я с самого своего рождения плавал в теплом киселе и одновременно проживал в городе Иркутске недалеко от набережной Ангары, потом в Москве у станции метро «Динамо» и снова в Иркутске.
Я учился, работал, ел, пил не одну только воду, спал с женщинами, не смыкая глаз, плача, хоронил близких и в то же самое время плавал в замкнутой сфере… Яйцо! Вот как называется место моего заточения. И ведь не был никогда для меня загадкой этот факт, но я скрывал его даже от самого себя…
Я что же, цыпленок-бройлер или зеленый крокодил? Неуклюжая черепаха или гремучая змея? Чушь. Я — человек. Мое имя — Андрей Татаринов. Мне 30 лет и 3 года. В настоящий момент я нахожусь на острове Ольхон вместе с международной съемочной киногруппой в качестве ассистента художника-постановщика. И еще знаю точно: я — не птица, а уж пресмыкаться — тем паче увольте!
Я снова содрогнулся, услышав повторный псевдоптичий крик, а следом, что еще ужаснее, потому что впервые, — оглушающий, страшный удар по стенке. Яйцо затряслось, завибрировало, по всей его поверхности пошла сеть трещин, и после второго, не менее мощного удара оно раскололось на мелкие осколки, как разлетаются стекла автомобиля во время аварии…
Я сидел, до боли зажмурив глаза и зажав ладонями уши, на скорлупе и по пояс в ней, мокрый — в какой-то липкой слизи, оглушенный, ошарашенный и напуганный до смерти.
Псевдоптица крикнула в третий раз, и я вжал в плечи голову, а затем постарался сжаться сам. Мне захотелось превратиться в крошечное зернышко, незаметное под скорлупой, несуществующее. Хотелось просто не быть, покуда все не закончится… Что — все? Я не знал.
Я открыл глаза и увидел вокруг себя переплетение осиновых стволов в телеграфный столб толщиной. Дно — ровная круглая площадка метров десять в диаметре. Сухая трава и мох настолько плотно закупоривали щели меж древесных стволов и ветвей, что густая жидкость расколотого яйца еще не вся просочилась вниз, я сидел в луже. Стенки имели высоту в два человеческих роста, не меньше. Через такой плетень не перепрыгнуть даже легкоатлету без шеста…
Словом, я понял, что яйцо, из которого я только что вылупился, лежало в гнезде, свитом неизвестной птицей из цельных осиновых стволов. Каковы же размеры этой птички, если даже для слона гнездо великовато?
Я поднял пару блестящих, будто полированных, скорлупок величиной с ладонь и толщиной в два пальца. Стукнул их друг о друга — они зазвенели. Металлическая скорлупа? Какая пернатая тварь способна нести подобные яйца? И какой силы должен был быть удар, чтобы вдребезги расколоть эту танковую броню?
Мне сделалось страшно. Я так думал. Потому что по-настоящему страшно мне стало чуть позже, когда гнездо тряхнуло, я оглянулся на звук и увидел лапу. Зеленую чешуйчатую лапу какого-то гигантского ящера. Крокодила? Нет, скорее уж тираннозавра.
Я медленно поднял голову, дабы обозреть существо целиком. Если вообще возможно увидеть двухэтажный дом, находясь в его подвале, под фундаментом. В моем случае — под животом, таким же как лапы, — зеленым, чешуйчатым… Господи, боже, сейчас эта тварь сожрет меня и вряд ли насытится. Судя по габаритам желудка, ей таких, как я, человек пятьдесят на обед нужно. Или сто…
Тварь переступила с ноги на ногу, сотрясая гнездоподобное сооружение, затем я увидел орлиную голову с осмысленными, человеческими глазами изумрудного оттенка, рассматривающую меня в упор. Вы не поверите, в этих глазах светились любовь и доброта!
Значит, она сожрет меня с любовью…
Птица не стала этого делать. Она ухватила железным клювом меня за загривок, который невероятным образом не оторвался вместе с шеей, после чего взмахнула широкими крыльями с зазвеневшим металлическим оперением, подпрыгнула и поднялась в небо. Скорее даже — в Небо. Потому что среди человекоподобных существ, больше похожих на тени, с зыбкими границами тел, я увидел других, крылатых, с монголоидным разрезом глаз. Ангелы в бурятско-монгольском варианте? Больше разглядеть я ничего не успел — все тонуло в дрожащем мареве, да и Птица скоро опустилась.
Я посмотрел вниз и вспомнил, что на самом краю Срединного мира, далеко-далеко на Севере, в особенном пространстве, недоступном простым смертным, растет огромная раскидистая Ель. Ничего живого нет вокруг, только Ель, Небеса и снег, чистый, как отражение Небес.
На ветвях Ели — гнезда, в гнездах — яйца, в яйцах — души нерожденных шаманов.
На нижних ветках — слабых, на средних — средних, на верхних — сильных, а на самой вершине, на границе миров Верхнего и Срединного, одно-единственное гнездо. Обычно оно пустует. Великий Шаман рождается на Земле раз в несколько столетий, что в мирах сопредельных означает несколько мгновений или эпох. Время в них течет по-разному. Оно, как и многое другое, подвластно Небожителям, как Белым, так и Черным.
Мать-Хищная Птица с орлиной головой и железными перьями садится на Дерево, сносит яйца и высиживает их. Для рождения малых шаманов требуется 1 год, средних — 2, сильных — 3, а Великого — 30 лет и 3 года.
Вот оно, значит, как… Спам, с которого все началось, оказался не просто красивой архаической метафорой и не пошлой стилизацией под одержимого этнографа XVIII века, записывающего предания диких северных народов Сибири. Спам оказался правдой, чистой, как снег под ногами, как небеса над головой.
И Мать Хищная Птица, вот она, несет меня в своем железном клюве, звеня железным оперением крыл.
Значит, пришло мое время. Как пришло, каким образом и что это за время, я не имел ни малейшего понятия. Но не стоит забывать, я только-только вылупился, а велики ли знания новорожденного? На уровне инстинктов, разве что…
Прямо по курсу на горизонте зачернела тайга, и уже через несколько минут под крыльями быстроходной Хищной Птицы, идущей с околозвуковой скоростью, замелькали, сперва нечасто, а затем сплошь, кроны сосен, лиственниц, елей, берез и осин — исконно сибирских деревьев.
Скоро я увидел большую круглую поляну, окруженную вековыми соснами, а в геометрическом ее центре — черную войлочную юрту на снежном фоне. Из срединного отверстия в крыше юрты валил густой дым, настолько черный и копотный, что я подумал — там жгут резиновые покрышки отечественного производства.
Мать-Хищная Птица снизилась.
Ни одного человеческого или звериного следа я не увидел на первозданном снегу вокруг юрты.
Мать-Хищная Птица сделала круг над поляной и опустилась возле жилья. Не предупредив, она разжала свой никелированный клюв, и я рухнул с шестиметровой высоты в глубокий снег. Я погрузился в него с головой, но не достиг дна. Я опускался все ниже и ниже. Есть ли под снегом земля? Мне показалось, что нет, и я буду продолжать падение, покуда не окажусь на противоположной стороне планеты. А потом — назад, и так до бесконечности…
К счастью, этого не случилось. Орлиный клюв снова подцепил меня, поднял и поставил при входе в юрту у занавеси из медвежьей шкуры, бурой с фиолетовым отливом. Оказавшись рядом, я поразился циклопическим размерам входного проема, да и высота его была такой, что трехметровый великан прошел бы в юрту, не пригибаясь.
Мать-Хищная Птица крикнула, но больше я не боялся ни ее крика, ни ее саму. Она действительно моя мать. Мистическая мать моей новорожденной души. И она будет помогать мне в будущем, чем только сможет, потому что я ее мистический, ирреальный сын. Она любит меня. Она — могущественна и добра. Если уместно говорить о доброте безжалостного хищника. Разумного хищника. Более безжалостного, чем все зверье Срединного мира. Более разумного и мудрого, чем все земные академии, вместе взятые.
И еще я понял, что Мать-Хищная Птица не просто бездумно кричала, она говорила со мной. Она желала мне удачи. Она прощалась.
Мать-Хищная Птица, взмахнув звенящими крыльями, поднялась в воздух. Я помахал ей рукой.
— Прощай, Мать-Хищная Птица! Спасибо тебе!
Она ответила мне из поднебесья. Крикнула и многократное эхо повторило за ней:
— Прощай — прощай — прощай…
Она была красива и чем-то напоминала восточного дракона. Сверхмогучая, массивная, но изящная в своем легком полете назад к Мировой Ели с неисчислимым множеством гнезд на ветвях. Я же не один у нее. Нельзя ей надолго отлучаться, ведь если не греть яйцо, оно замерзнет здесь, в особенном, недоступном для смертных пространстве, а на Земле умрет человек. Разобьется в авиакатастрофе при посадке «боинга» в иркутском аэропорту, или найдут его тело без видимых следов насилия где-нибудь в кустах неподалеку от входа на станцию метро «Преображенская площадь»…
Я смотрел вслед улетающей за горизонт Птице, когда заметил боковым зрением некое движение. Повернулся к юрте. Отодвинув в сторону мохнатый полог, на меня смотрело чудовище. Женского пола, голое. Оно стояло в дверном проеме, пригнувшись. Оно мило мне улыбалось. У нее был единственный глаз во лбу, одна громадная, как дыня, грудь, свисающая до пупка, одно плечо. Другое словно срезано, правая рука росла прямо из грудной клетки.
— Сынок! — воскликнула она жизнерадостно и вышла из юрты в снег.
Когда она заговорила, я обратил внимание, что и зуб во рту всего один — искривленный, длинный, спереди на верхней челюсти. Я попятился.
Шла она странно — ноги не сгибались в коленных суставах, и я понял — суставов не было вовсе.
Шла она, как на ходулях, скоро передвигая негнущиеся конечности. Я продолжал пятиться, но шансов уйти от нее не было. Да и куда бы я ушел? Кругом незнакомый лес, и слой снега над бездной.
— Сынок! — Она протянула ко мне руки, и я увидел, что и на них по аналогии с ногами локтевые суставы отсутствуют…
Я так и не понял, как она оказалась в одно мгновение рядом. Но не ударила, не укусила острым вампирским зубом. Напротив, ласково взяла на руки, как младенца, и принялась, укачивая, баюкать:
— Баю-баю, бай-бай-бай, спи Андрюша, засы-пай!
Впрочем, я и был младенец — дня еще не прошло после вылупления из яйца…
Но как она сумела взять меня на руки в отсутствии суставов на конечностях? Я понял, руки ее были, словно каучуковые, гнулись в любом месте, плотно обволакивая мое тело. Имея подобную анатомию, на хрен, спрашивается, скрипучие ненадежные суставы, подверженные артриту, ревматизму и вывихам?
Одноглазая ведьма занесла меня в юрту, не переставая напевать:
— Придет серенький вол-чок и укусит за бо-чок!
Глаза сами собой стали слипаться, но я мужественно боролся со сном. А ласковая ведьма положила меня в железную люльку и принялась укачивать. Потом сунула мне что-то в рот:
— Ешь, моя радость! Ешь и спи!
Я вынул кусок изо рта, понюхал, осмотрел со всех сторон и наконец понял, что это за хрень — запекшаяся черная кровь. Чья, интересно?
Я снова засунул кусок в рот, тщательно разжевал — очень вкусно. Я заурчал от удовольствия. И ведьма была ничего себе, сексапильная… Я вдруг вспомнил — никакая она не ведьма, она — Дьяволица-Шаманка. Красивая. А то, что грудь всего одна, заводит. Пусть одна, зато какая! О-го-го!
Мне надоела бессмысленная борьба со сном.
Я закрыл глаза.
Я уснул.
ГЛАВА 10 Собачья смерть
Я проснулся.
Услышал, как кто-то негромко мычит неподалеку без слов на мотив «Зеленой крокодилы». Преследует меня эта мелодия последние дни.
Открыл глаза и увидел Гришу Сергеева возле рукомойника. Глядя в зеркальце, пристроенное на полке для мыла, он брился опасной бритвой. Ловко, уверенно. Попеременно надувал щеки, открывал рот, строил рожи, срезая мыльную пену вместе со щетиной.
Надо же, кто-то все еще пользуется стальными опасными бритвами. Я-то думал, они остались в каменном веке. Впрочем, тогда, вероятно, художники-постановщики брились кремниевыми…
Я непроизвольно провел ладонью по колючей щеке. Бриться в спартанских условиях я не собирался, даже станка с собой брать не стал.
— С добрым утром, господин ассистент! — жизнерадостно объявил Григорий. — Поднимайся. Минут через десять завтрак, а потом на съемки поедем.
В том, что утро именно доброе, уверен я был не очень. Вот вечер, да — лучше не бывает. Помирили нас с француженкой байкальский поздний вечер, ущербная луна и снегопад над голой степью. А ночь — так себе, чушь какая-то снилась кошмарно-сказочная.
Я поднялся с кровати. Ни пиротехника Пети, ни водителя из местных не наблюдалось. Пиротехник, поди, похмеляться пошел, а водила спал в корейском микроавтобусе. Когда я ночью вернулся, его кровать была аккуратно застелена — не ложился бурят.
— Ты в чем лицо вымазал? — спросил Григорий.
— В чем?
— Откуда я знаю? — Он протянул мне зеркальце. — Посмотри.
Я взглянул. Точно. Губы и даже кончик носа перепачканы чем-то черным. Что за черт?
— Тебе еще долго? — спросил я.
Григорий не ответил, принялся с фырканьем умываться и смывать пену, интенсивно позванивая носиком рукомойника. Мне этот звук напомнил птичку с металлическим оперением, вылетевшую из моего сна.
Наконец Григорий освободил умывальник, и я смог смыть липкую черноту с лица.
В комнате запахло пронзительно и резко, напомнив мне раннее детство и деревенского дедушку из центральной полосы России. Я обернулся и понял почему. Художнику-постановщику было, вероятно, не под шестьдесят, а под сто шестьдесят лет — он освежался после бритья «Тройным» одеколоном! То-то, я заметил, комары на него не садились, когда мы как-то лет пять назад выпивали на заболоченном берегу речки Ушаковки…
Завтрак подавали вполне приличный — запеканка, булочки, еще что-то. Но есть мне не хотелось. Я был сыт настолько, что о съестном даже думать было неприятно, тем паче нюхать — меня подташнивало. Выпил черный кофе без сахара, чем и ограничился.
Откуда взялась эта сытость? Ночью, помнится, когда вернулся, была мысль залезть в сумку за салом и хлебом. Жрать хотелось нестерпимо. Остановило отсутствие электрического освещения на отсталом острове…
Съемочная группа дружно загружалась в микроавтобусы. Жоан Каро я, как ни выискивал, не увидел. Где она, интересно? Или отсыпается после бурной ночи в степи?
Доехали без приключений.
Ночной снегопад оказался на руку — присыпал ровным пятисантиметровым слоем и наши следы, и брезентовую крышу. Бутафорский сруб издали выглядел как настоящее сибирское зимовье. Вблизи, впрочем, тоже. Кто-то успел разжечь огонь в печурке, белесый дымок над срубом клубился.
То, что дым почти бесцветный, оператору не понравилось. Один из водителей презентовал дырявую резиновую камеру, которую решено было сжечь на съемке общего плана. Но начать предполагалось не с него, а со сцены обнаружения трупа и отстрела волков главным героем.
Ассистенты оператора и вчерашние рабочие, приехавшие раньше, уже успели поднять тяжелую кинокамеру по крутому заснеженному откосу и установить ее с торца сруба, там, где накануне мы убрали полстены.
Осветители принялись заклеивать щели светонепроницаемым целлофаном, устанавливать приборы, тянуть проводку от подъехавшего вместе с нами дизельного генератора отечественного производства на базе автомобиля «КамАЗ». Его решено было поставить настолько далеко, насколько хватит длины провода. Вырабатывая электроэнергию, громыхал он, будто кузнечный цех.
Пиротехник Петя, зря я на него грешил, даже не похмелялся, работал. Объяснял актеру-англичанину через Анну Ананьеву устройство антикварного по виду пистолета с длинным стволом. Из таких в кино стреляются дуэлянты галантных эпох.
Вот только отворачивался Петр, старался не дышать на зарубежного товарища. Напрасно комплексовал пиротехник. После вчерашней парной в компании с реквизитором Васей выхлоп, поди, от британца тоже, как из забродившей пивной бочки.
Вчерашний рабочий-очкарик стоял чуть в сторонке со здоровенным лохматым псом на веревке. Тот тихонько поскуливал, лежа в снегу у ног хозяина.
Я подошел, поздоровался.
— Зачем собаку привел?
Очкарик загадочно улыбнулся:
— Это не собака, а волк.
Я присмотрелся, потом протянул руку. Пес оскалился и встал на лапы в напряженной стойке. Врет мужик У волка хвост направлен вниз, промеж ног поджат, а у его псины — вверх, еще и загнут колечком. Сибирская лайка, как пить дать, может, с примесью дурной…
— Ну, не чистый волк, угадал, — наблюдая за мной, торопливо поправился мужик. — Но полукровка точно. Его мамашу, суку, волчара обрюхатил, зуб даю!
— А на съемки привел зачем?
— Увидишь.
Монотонный скулеж кобелька перешел в жалобный вой. Что-то ему, лохматому, не нравилось. Что?
Мужик пнул собаку ногой в валенке.
— Тихо ты, ирод! Я те повою!
Появился соблазн разбить товарищу очки. Вместе с рожей. К счастью для него, меня позвал Григорий Сергеев — режиссер с оператором принялись осматривать наше хозяйство. Как всегда, при визире и переводчике Турецком.
Почти все их устроило. Чуть передвинули печь. Добавили поленьев на полу да мусора по углам. Аккуратные работяги утром, как приехали, тщательно вымели полы привезенным веником, идиоты. Мусор с глаз долой закопали в сугроб. Ничего. Раскопали. Вернули на пол. Добавили промасленного тряпья от водителей.
По собственной инициативе занесли деревянную чурку, вогнали в нее по рукоятку топор. Режиссеру понравилось, а оператор пришел в восторг и не скрывал этого — экспрессивно матерился на ломаном русском.
Были претензии к окну. Но не к тому факту, что оно местами зияло отсутствием стекол. Это как раз всех устроило. Не понравилось режиссеру то, что оно прозрачное, а не заиндевевшее. Художник через Бориса Турецкого пытался объяснить, что и не может оно быть иным в холодном зимовье — перепад температур невелик, и морозные узоры попросту невозможны. Поль Диарен понимал законы физики, но не одобрял. Он желал, чтобы в его фильме стекло в зимовье было заиндевевшим. И — точка.
Тогда Григорий Сергеев плюнул на стекло. Правда-правда, так он и поступил: набрал в рот слюны и плюнул. А потом присыпал снегом. И снег прилип. И стекло сделалось как бы заиндевевшим.
— О, русиш спецэффект! — воскликнул Ганс Бауэр. — Голливуд есть капут!
Одного плевка художника оказалось недостаточно. В оплевывании стекол приняла деятельное участие вся съемочная группа.
Стекла зимовья заиндевели.
Чуть в стороне реквизитор Вася усадил Буратину, наряженного в шаманский костюм с множеством металлических подвесок, на деревянную чурку в позе роденовского «Мыслителя». Улыбался, демонстрируя кривые передние зубы, и покуривал русскую «Приму». Следы похмелья на лице не проступали. Успел, вероятно, подлечиться утром остатками банного банкета.
Я старался в их сторону не смотреть, из-за деревянного бандита, конечно. Зато на бурятского актера с идентичным лицом смотрел и радовался. Он в оплевывании стекол участия не принимал, не до игрищ. Отойдя в сторонку, шевелил губами, повторяя и повторяя единственную свою реплику: «Ты умрешь, бледнолицый!»
Да, сегодня его день. Всю свою жизнь пятидесятилетний актер Иркутского ТЮЗа ждал минуты, когда запылают софиты, режиссер крикнет: «Мотор!», зашелестит кинокамера, чинно мотая пленку, а он войдет гордо в кадр, бряцая блестящими прибамбасами на кожаном шаманском прикиде, и произнесет зловещим шепотом: «Ты умрешь, бледнолицый!» Напуганный шевалье в него из пистолета, а он хохочет — пуля проходит сквозь тело, не причиняя вреда. Буряты пули не боятся! Француз дрожит, шаман надвигается…
Что тут сказать? Звездный час. Может, американцы увидят — оценят, в Голливуд позовут на роль Чингисхана в будущем блокбастере «Завоеватель мира»?
Так он думал, беззвучно шевеля губами. А что? Все бывает, нет ничего невозможного, может, и позовут. Слова только не перепутай, приятель…
И еще об одном я подумал невесело. Полная идентичность с бесноватой деревянной куклой в чертах лица и одежде не показалась мне доброй приметой. Как бы чего не вышло…
Привезли собак, которые должны изображать волчью стаю. Из «УАЗа»-микроавтобуса их выскочила на поводках целая стая — среднего размера, серой масти с оттенками от близкого к бурому до седого. Выскочив, насторожились, растерялись — поджав хвосты, нюхали снег. Седой кобель пометил колесо.
Следом вышел мужчина в цивильной одежде, по виду — москвич. Так оно и оказалось. Собаки были какой-то редкой у нас канадской породы, считается, что похожи на волков. Хозяина нашли через интернетовский сайт, договорились об аренде и сроках.
На мой взгляд, приезжие собачки на волков похожи много меньше, чем местные сибирские лайки, среди которых и полукровок полно. Они же живут с волками бок о бок, и перемешиваются, и грызутся, короче, сосуществуют по естественным природным законам. Ну а московско-канадские гастролеры и волка-то живого вряд ли видели, разве что хозяин их в зоопарк водил в познавательных целях…
По команде режиссера мужик в очках на резинке подвел к стае своего лохматого пса. Москвичи сибиряка не приняли — натянув поводки, ощетинились, зарычали. Полукровка был в полтора раза крупней и, если бы не хвост крючком, — вылитый волчара. Он оскалился, и после его басовитого рыка москвичи поджали хвосты, попятились.
— Фу, Нойон! Нельзя! — прикрикнул хозяин и — снова валенком в бок. Вот скотина…
Словом, не приняли собаки друг друга. Седому вожаку стаи конкурент был без надобности, а Нойон вообще не понимал, бедолага, зачем его привели в этот сумасшедший дом, точнее — на сумасшедший берег.
Посовещавшись с оператором, режиссер решил снимать собак отдельно. Сначала — стаю, потом — полукровку.
— Нойон, — повторил Поль Диарен. — Это имя?
Хозяин подтвердил.
— Что оно означает?
— На бурятском и монгольском языках — начальник, господин. Он у меня вожак! Я вам лучшую в деревне собаку привел, почти чистого волка. У него и отец, и дед из леса были. Собачьего мало чего осталось, только вот хвост…
Ну это мелочь. Сколько я волков в кино видел, кроме документальных фильмов, конечно, у всех хвост вверх задран. Оно и понятно. Какой дурак-режиссер станет настоящих волков снимать? В кадре всегда собаки.
Московскую стаю запустили в зимовье освоиться, привыкнуть к иркутскому актеру, усаженному на чурку у раскаленной печки. Подбрасывать дров не велели, печь должна была погаснуть, и уже главный герой первым делом ее растопит, после того, конечно, как разберется с псевдоволками канадского происхождения с московской пропиской.
Собаки к буряту привыкли быстро. Седой вожак пометил чурку под ним, слегка забрызгав дорогостоящий кожаный прикид. Актер не прореагировал, не до того. Он вдохновенно исполнял роль трупа. В него еще в театральном училище вдолбили, что искусство требует жертв. Он был готов на любые жертвы. Дурак.
Наконец собак вывели, дверь распахнули.
Бурят замер с закрытыми глазами в позе сидячего мертвеца.
Режиссер крикнул: «Мотор!»
Оператор запустил камеру.
Хозяин позвал своих собак, и они побежали на его зов. Обежали вокруг дома. Он же оставался снаружи.
Стоп!
Хозяина переместили в мертвый угол зимовья, и все прошло, как было задумано.
Высоко задрав ногу, на этот раз вожак целенаправленно пометил спину актера. Тот стерпел.
Отснято.
Сделали еще три дубля, после чего объявили перекур с чаепитием.
Чаю мне не хотелось, а о бутербродах и речи быть не могло. Мутило меня от одной только мысли о еде. Что я такое съел накануне? Или прав оказался сортирный поэт, что сидел в теплом месте и горько плакал?
Григорий пошел к термосам и бутербродам, а я остановился, прикуривая, когда ко мне обратился переводчик Борис Турецкий:
— Жоан просила передать, что уезжает вместе с Карелом по делам в Иркутск, но через два-три дня вернется. — Он улыбался. — Еще просила передать вот это.
Борис протянул мне свернутый пополам лист из ученической тетрадки в клеточку. Я развернул и охренел, честное слово. Сверху латинскими буквами было написано:
«Ich libe dich!!!»
А ниже нарисовано сердечко, пронзенное стрелой, с лужицей крови, вытекшей из ранки, и следы от напомаженного красного поцелуя…
Что тут сказать? Детский сад. Но — приятно. Аж до слез, подступающих к горлу, приятно.
Я поднял голову. Турецкий тактично оставил меня наедине с запиской. Ну а Карела к Жоан я больше не ревновал. Нормальный братушка, брат-славянин. Что я на него взъелся? Это все ревность, будь она неладна. Ну я-то хорош. И серебро из царского золотого запаса ему припомнил, и адмирала Колчака, выданного иркутским Советам. Все это так, но что, одни только чехи пользовались моментом? Японцы, вон, золота поболе во много раз с Белой Армии взяли, а ни одного штыка, ни одного патрона не поставили. Большевистский лозунг: «Грабь награбленное» был в ходу на всех уровнях, от уголовной беспредельщины до императорских правительств…
Все-таки взял я чай без сахара и подошел к Григорию Сергееву, беседующему со вчерашним бригадиром в белом тулупе. Филиппом его зовут. Его только имя я и запомнил.
— Я когда «Живи и помни» прочел, — говорил рыжебородый, — подумал: новый Гоголь явился. Вещь, к романам Федора Михайловича приближающаяся. Еще одно усилие писателя, и вот он, взят уровень классика, но…
Он сам себя прервал, раскуривая русскую папиросу. А я подумал: надо же, говорит как интеллигент собачий, а вчера у него «до завтрева», «не укупишь»… Прикидывался? Работягу из себя корчил?
— Что значит твое «но», Филипп? — поинтересовался Григорий.
— Но — не случилось, так и остался в отдалении. А все почему? В политику ушел, в публицистику — и сгубил свой талант к чертовой матери.
— О ком вы? — спросил я.
— Да так, об одном писателе, — отмахнулся Григорий. — Тебе это не интересно. Это не про баб и не про выпивку.
Я чуть обиделся, но виду не подал. Я, между прочим, тоже читал кое-что. По школьной программе. Толстого «Войну и мир» — первые два тома про войну проглотил, остальные, правда, про мир, не осилил. И еще… еще… Стал вспоминать и не вспомнил. Неужто это был мой единственный прорыв в русскую классическую литературу?
Но я нашел что ответить, причем ответить честно:
— Меня, Гриша, не только бабы и выпивка интересуют, меня вот бурятский шаманизм увлек в последнее время.
— О, это ты по адресу! — обрадовался непонятно чему художник. — Филипп все о нем знает, он сам шаман!
Рыжебородый поморщился, будто лимон съел без сахара и коньяка.
— Ну что ты, Гриша, несешь? Какой я шаман? Так, хобби, не более. — Повернулся ко мне. — Но кое-что знаю. Если правда интересно, Андрей, приходи.
Он объяснил куда, впрочем, и объяснений особых не потребовалось. Я еще на подъезде к усадьбе Никиты обратил внимание на его двухэтажный дом с тремя маковками, как у старорусского терема.
Съемки продолжились.
Сперва засняли, как в присутствии стаи псевдоволков и живого сидячего трупа англичанин из-за пояса рвал пистолет. Так, что сыпалось золото с кружев розоватых брабантских манжет… Откуда в голову пришла эта фраза, понятия не имею. Анекдот, вероятно, какой-то вспомнился. Не было у актера на полушубке кружевных манжет. А пистолет точно рвал, но не палил из него. Это, как я понял, должно было произойти в следующем эпизоде.
Сделали несколько дублей и увели столичных псов кормиться на байкальский лед. Почти без паузы привели лохматого Нойона. Он упирался, идти не желал, попеременно то выл, то рычал. Хрипел, когда очкастый хозяин волоком тащил его на веревке. В зимовье его отвязали. Пес забился в угол и не подпускал к себе даже хозяина.
Режиссеру мизансцена понравилась не очень, но все-таки он решил снимать. Подозвал британца, сказал что-то на английском. Тот покачал головой:
— Ноу.
Француз разразился экспрессивной речью, махал руками, брызгал слюной.
— Ноу, — повторил актер, вынул из-за пояса пистолет и протянул его режиссеру.
Тот замер на минуту, потом взял оружие. Британец развернулся и покинул помещение.
Поль Диарен держал длинноствольный пистолет в вытянутой руке, словно тот был ядовитой гадюкой, способной ужалить. Потом крикнул что-то на французском. Борис Турецкий коротко ответил и выбежал из зимовья. Через минуту вернулся с пиротехником.
— Петр, — говорил Турецкий, — режиссер хочет, чтобы вы застрелили собаку. В кадре должна быть кровь, иначе не будет сборов.
— Почему я? — удивился пиротехник. — Это не моя работа. Собак стрелять я не нанимался.
Переводчик перешел на французский, выслушал ответ.
— Петр, месье Диарен понимает, что это не ваша работа. Он предлагает сто долларов.
— Нет, — ответил пиротехник.
— Пятьсот.
Петя покачал головой. Перевода не требовалось.
Взбешенный француз закричал что-то.
— Лишние из кадра! — завопил Турецкий. — Мотор!
Нойон скулил совершенно по-щенячьи. Вжался в угол, смотрел на людей слезящимися глазами. Он все понимал. Все-все.
Поль Диарен поднял оружие. Рука его заметно дрожала. Он опустил пистолет и взял его уже двумя руками. Снова поднял.
Камера шелестела негромко.
Пес поскуливал.
Раздался выстрел.
Камера продолжала шелестеть.
Пес, взвизгнув, смолк. Пуля попала в самую середину лба. Кровь потекла из ровного отверстия в черепе на грязный дощатый пол, образуя лужицу.
Меня затошнило. Я успел забежать за угол сруба.
Меня рвало долго-долго в чистый, неистоптанный снег.
Меня рвало черными сгустками тщательно пережеванной запекшейся крови.
ГЛАВА 11 Могила Чингисхана
К двум часам дня киногруппу привезли в Хужир. Проигнорировав обед, я пошел в магазин за сигаретами. Погано было у меня внутри, а вот курить хотелось очень.
Миновав сельсовет с триколором, вошел в городской по виду магазин, который на деле оказался типично деревенским. Сельпо оно и есть сельпо, хоть за стеклянными витринами, хоть в дощатом сарае.
Купив курево, полюбовался на блестящие резиновые калоши. Точно такие же, вероятно, в середине прошлого века надевал пресловутый Алеша. На пенсии, поди, давно… «Те, что вы присылали на прошлой неделе, мы давно уже съели…» А это уже про зеленое земноводное крупных размеров, что при остром дефиците резиновых изделий хватает за пузо толерантных граждан дружественного Евросоюза.
В ассортименте также валенки трех ходовых расцветок — белые, серые и черные. Фасон, впрочем, единственный — тупорылая сибирская классика.
Выбор продуктов широкий, география тоже, но все продается существенно дороже, нежели в Иркутске.
Дабы способствовать развитию сельской торговли на местах, купил американской жевательной резинки и спички фабрики «Сибирь» из города Томска.
Подбрасывая и ловя коробок, вышел в стеклянные двери и встал как вкопанный. Тошнота подступила к горлу. Тошнота и ненависть. Потому что к магазину приближался тот самый мужичок в очках на резинке вместо дужек, хозяин застреленного полуволка. За спиной он нес холщовый мешок. Чуть не доходя, перебросил его с одного плеча на другое, и я увидел на серой дерюге проступившие кровавые пятна. Ясно стало, что у него, гада, в мешке…
Чикнув спичкой, я прикурил сигарету. Руки дрожали. Нервный стал, как барышня.
— Здорово, Андрей! — сказал мужик и, бросив мешок у ног, протянул руку, которую я проигнорировал. Он сделал вид, что не заметил этого, засунув руку в карман, извлек заокеанскую банкноту. — Сотню долларов не разменяешь, однако? Ближний «Обмен валюты» в Еланцах, здесь только летом откроют, не сезон. А у Никиты свой курс, отличный от Центробанка, занижает, деспот!
Я молчал, борясь со страстным желанием разбить очки и выбить искривленные темно-коричневые зубы. Сами скоро выпадут… Нойон — его собака, его собственность, и не стоит мне впрягаться не в свое дело. Всех подонков перебить — кулаков не хватит, да и жизни тоже. Даже — вечной.
— Где баксы заработал? — спросил я, зная ответ заранее.
Мужик оживился.
— Дык, вчерась, покуда вы с Григорий Иванычем битое окно немчуре казали… — заговорил нарочито по-свойски, по-простому, — подошел к нам переводчик ихний, чернявый. «Режиссер, — говорит, — спрашивает, можете ли вы за сотню „зеленых“ продать ему большую собаку, мастью похожую на волка?» Филипп, бригадир, отвечает: «Мочь, мол, можем, а зачем?» — «Завтра ее в кадре застрелят, — говорит чернявый, — чтобы, значится, кровища хлестала и зрители трепетали…» Мужикам, однако, валюта без надобности, а я вот Нойона утром привел…
Он пнул мешок валенком, как раньше пинал живую собаку.
Мутная пелена затмила глаза, дыхание участилось, но я все еще держат себя в руках. Пальцы, однако, непроизвольно стали сжиматься в кулаки, ломая недокуренную сигарету. Очкарик ничего этого, вероятно, не заметил, иначе заткнулся бы и ноги унес от меня… от греха… Продолжил, глупый слепец:
— Жаль, конечно, добрая собака была. Ну да ладно. Шкуру на унты сниму, а из тушки добрый супец вечером сварганю… Надо бутылку «белой» взять, а у меня тока баксы, заместо человеческих денег…
«Добрая собака»… «добрый супец»…
Я не целил ему в очки, вообще видел все смутно — одни только размытые очертания предметов без подробностей. Я ударил правой — под кулаком чавкнуло и хрустнуло. Мужик, всплеснув руками, повалился навзничь. Не стал я его бить ногами, но совсем не бить — не мог. Поднял за грудки с земли и повторил экзекуцию. Третьего удара не потребовалось. Очкарик не двигался, хотя и дышал, я проверил.
Меня отпустило. Я снова мог воспринимать действительность адекватно. Поднял оброненную стодолларовую банкноту, потом, порывшись в своем кармане, нашел тысячу рублей одной купюрой. Открытой ладонью пару раз хлестанул по щекам бывшего очкарика. Тот открыл глаза. Из носа текла кровь. Он утер ее рукавом фуфайки.
Я бросил ему на грудь обе бумажки — нашу и американскую.
— Это тебе на новые очки, урод.
Он, похоже, меня не понял, может, и не узнал вообще, но деньги взял, поднес вплотную к близоруким глазам. Улыбнулся.
Кровь из носа продолжала идти, заливая лицо и ворот новой нарядной фуфайки. Из правой ноздри шла почему-то сильней, чем из левой…
Я забросил окровавленный мешок за спину и пошел за околицу.
Если я ничего не напутал из лекции по низшей демонологии директора Музея декабристов Миши Овсянникова, души существ, умерщвленных насильственно, превращаются в потустороннем мире в духов злобных и кровожадных, вроде всевозможных ада, дахабари и анахай. Но Нойону-полуволку, мне почему-то казалось, подобная участь не грозила. Не знаю, откуда взялась эта уверенность. Тоже мне, знаток бурятского фольклора…
Выйдя за деревню, я скоро обнаружил высокий холм с одиноким деревом на вершине. Раскидистым, с разветвленным стволом — по виду лиственным.
Поднялся на холм, перешагнув, не дойдя десятка метров до вершины, остатки стены из необработанного камня сантиметров тридцать высотой. Вероятно, это и есть та самая древняя курыканская стена, камни из которой в советское время растащили на строительство волнолома. В теперешнем виде не впечатляла.
Дерево оказалось опавшей реликтовой лиственницей. Я слышал о подобных. Первым из европейцев увидел их на Ольхоне и описал ссыльный поляк Черский.
К ветвям дерева были привязаны множество разноцветных ленточек и лоскутков ткани. Рядом вкопанная резная коновязь и кучка камней полуметровой высоты — обо. Непростое, значит, место. Даже Место — жертвенное, посвященное местному духу-хранителю, умершему шаману, вероятно почитаемому при жизни. Такое Место я и искал.
Развязал холщовый мешок, аккуратно вынул окаменевшее уже тело пса с ровным пулевым отверстием во лбу. Почти чистым. Лишь в шерсти вокруг запеклась черная кровь.
Забросил за спину. Придерживая за передние лапы, взобрался на лиственницу и оставил тело в развилке ветвей. Спустился.
Прощай, Нойон-полуволк. Пусть хорошо тебя примет местный дух-хранитель.
Хоть и не убивало его молнией, казалось мне, что достоин пес воздушного погребения. Казалось, правильно я все сделал.
Нашел в кармане чистый носовой платок, разорвал его на три полосы и привязал их к голым ветвям жертвенного дерева. Зачем-то перекрестился. Царствие тебе небесное, Нойон-полуволк…
Я возвращался в деревню по укатанному проселку, когда навстречу мне попались две машины — микроавтобус-«УАЗ» и «мосфильмовская» «будка». Пропуская, я отступил на обочину, но машины остановились. Передняя дверь «УАЗа» распахнулась, и я увидел Николая Хамаганова.
— Садись, — велел он, и я безропотно прошел в салон.
Там уже разместились режиссер, оператор, переводчик, художник и британский киноактер, на которого я смотрел теперь с уважением.
«И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял…»
Это Высоцкий, сам того не ведая, про него спел. Ну и про пиротехника Петра, конечно. Но Петя — наш, хоть и с московской пропиской. А этот… Надо выпить с ним вечером водки, помянуть убиенного пса, побрызгать, побурханить за помин собачьей души…
Минут через пять встали у невысокого холма с юртой белого войлока на макушке. Следом за Хамагановым мы пошли налегке, а «мосфильмовцы» поперли кинокамеру с треногой. Еще, значит, и снимать будут…
Шаман подобрал с тропинки камень, размером с яблоко, повернулся к публике и поднял его над головой. Все поняли без перевода, подобрали из-под ног по булыжнику, немец — два.
Поднялись, не утомившись. Ребята в синих комбинезонах обогнали нас на половине дороги. Водитель Ваня помахал мне рукой, светясь конопатым лицом.
Юрта была абсолютно новой, муха не сидела. Или предметы культа неподвластны времени? У коврового полога при входе Николай Хамаганов остановился. Слева была навалена куча камней — обо. Шаман аккуратно положил свой камень сверху.
— Важно, чтобы камень не упал и не устроил обвал. Это дурная примета.
После перевода иностранцы старательно пристроили и свои камни.
Подождав, пока оператор разместится за кинокамерой, Николай Хамаганов привычно открыл вещание. Он был сегодня не в шаманском кафтане, а в джинсах и черной кожаной куртке, однако выглядел настоящим шаманом, отдыхающим от камлания.
Загадка места захоронения
В монгольских, китайских и европейских источниках могилу Чингисхана относят в самые разные области Азии — от Байкала до Алтая и Тибета.
В книге «О делах черных татар», в приложении писал посол Сунской династии Шиуй Тин: «Я, Шиуй Тин, лично нашел и увидел дух Темучина на берегу реки Керулен, в местечке, окруженном горами и водами».
В «Истории монгольского народа» записано: «Останки Чингисхана, согласно его завещанию, привезли на родную землю и похоронили в местечке Ехэ Утэгэ возле Хэнтэйского хребта».
В китайской летописи «Зоу Мо Зи» есть запись: «По обычаю захоронения ханов Юаньской династии цельное дерево разрезали на две части, по размеру тела делали углубления, затем соединяли и превращали в гроб. Туда клали останки, снаружи красили, три раза опоясывали золотым кольцом, выносили на север к месту духа, закапывали глубоко. По государственному обычаю не сооружали гробницу-мавзолей. Закончив захоронение, пускали туменный табун, чтобы копыта сровняли землю. Затем над могилой совершали обряд жертвоприношения, зарезав верблюжонка, оставляли караул из тысячи всадников. На следующую весну, после того как вырастет трава, откочевывали, потому на ровной земле люди не могли найти могилы. Совершая повторный обряд жертвоприношения, водили верблюдицу — мать убитого верблюжонка. Там, где верблюдица завывала, определяли место захоронения».
В «Истории монголов Доссона» говорится: «Когда многие полководцы, сопровождая останки, вернулись в Монголию, чтобы не разглашать весть о кончине хана, войска, охранявшие тело хана, убивали всех встречных, которые попадались на пути. Только доехав до Большого дворца Чингисхана у истока реки Керулен, огласили траурную весть. Останки поочередно доставляли до все дворцы хатунш для церемонии прощания. Многочисленные ванны, принцессы и полководцы, получив известие о смерти, обнародованное Тулуем, из всех земель и улусов обширной территории ханства собрались на траурные церемонии. Из дальних мест люди приезжали только через три месяца. После окончания траурных церемоний останки похоронили возле одной из гор Бурхан Халдуна у истока трех рек: Онона, Керулена и Толы. Раньше Чингисхан был в этих местах. Отдыхая в тени одного дерева, он сказал будто бы, чтобы его похоронили здесь. Поэтому сыновья, выполняя завещание, похоронили его здесь. После похорон растущие поблизости деревья превратились в чащу и трудно было узнать, под каким он похоронен. После этого еще несколько человек похоронили здесь. После похорон тысячу человек из Урянхайского аймака оставили для охраны могилы. Их не брали на военную службу. Еще рисовали там портреты всех ханов и освящали их благовонными фимиамами, горели лампады. Посторонних людей туда не пускали. Также не имели право ходить туда и люди из четырех дворцов Чингисхана. Эта традиция соблюдалась в течение ста лет и после смерти Чингисхана».
В «Путевых заметках Марко Поло» отмечается: «Всякого Великого хана, также глав рода Великого хана Чингиса, где бы он ни умирал, привозили к подножию горы под названием Алтай и хоронили там. Из дальних мест хоть сто дней перехода, все равно привозили туда. Это стало незыблемым обычаем, которого нельзя нарушить».
В «Путевых заметках посольства в Россию» Зан Пен Хе говорится: «В девяти газарах севернее города Куй Хува (современный Хухэхото) есть гора Чи Лиян Шан (семьдесят темных гор). Есть молва, что здесь похоронены все ханы и хатунши Юаньской династии и не воздвигались гробницы и мавзолеи».
В «Полных записях относительно чахоров» сообщается: «Духи-онгоны многих хатунш и тайжи Юаньской династии находятся к северу от долины Ухэр Чулуун (камень-бык) в горах Зан Мао Шан… Духи ханов Юаньской династии находятся на севере. После похорон по могилам пускали десятитысячный табун, чтобы топтали, и сровняли землю, и не вставляли знаков. С духами привезенных хатунш так же поступали».
Николай Хамаганов смолк. Опустил голову, спрятав лицо в ладонях. Слушатели замерли, наступила полная тишина. Даже природа, казалось, затаила дыхание — ни малейшего движения воздуха. Слышно стало, как прославленная своей бесшумностью кинокамера германского производства перематывала широкоформатную пленку…
Это что, тоже было предусмотрено сценарием Николая Алексеева, иркутского предпринимателя от внутренних органов? Возможно, не удивлюсь.
Вдруг Хамаганов поднял руку, затем — голову. Черные глаза горели актерским вдохновением. Он продолжил, будто со сцены, играя интонацией и тембром поставленного голоса:
— Но это все предисловие, господа. Предисловие, и только. Год примерно назад в Санкт-Петербурге были обнаружены документы востоковеда и литератора Сенковского, известного более под псевдонимом Барон Брамбеус. В них есть ссылки на не дошедшие до нас рукописи Михаила Татаринова, исследователя бурятского фольклора и религии, автора «Описания о братских татарах, сочиненного морского корабельного флота штюрманом ранга капитана Михаилом Татариновым». Так вот, Сенковский утверждает, что первый и единственный европеец, прошедший в восемнадцатом веке шаманское посвящение, недвусмысленно указывает на остров Ольхон как на могилу великого Богдо Чингисхана! Причем место, указанное Михаилом Татариновым в середине восемнадцатого века, легко вычислялось по запискам кабинетного ученого Сенковского, сделанным в середине века девятнадцатого, и было найдено в начале двадцать первого!
Николай Хамаганов сделал драматическую паузу, как, вероятно, его учили в Высшей школе партийного актива, а потом закричал вдруг как резаный:
— Вот оно! — указывая на юрту белого войлока. — Здесь покоятся дорогие останки великого Чингисхана!
Добавил уже спокойно, с интонацией прожженного насквозь экскурсовода:
— Пройдемте, товарищи, — и отодвинул ковровый полог на входе, пропуская зарубежных гостей, ну и, понятно, нас с художником.
Мы вошли. Следом парни в униформе занесли кинокамеру, установили.
Круглая комната. Центральное место занимал подвешенный к потолку большой серебряный сундук, слева и справа еще два поменьше. За сундуками на стене — какая-то волосатая хрень на наконечнике копья, над ней живописный портрет мужчины-монголоида средних лет с жидкой бороденкой. По стенам вокруг — искривленные полумесяцем сабли в богатых ножнах, округлые щиты, копья, луки, колчаны со стрелами, золотое или позолоченное седло… Впечатляло, нечего сказать.
— Вы видите перед собой серебряные гробницы с прахом властелина и двух его жен-хатунш, — объявил Николай Хамаганов. — За гробницами — символ Чингисхана на конце копейного наконечника в виде пучков кисти гривы лошади гнедой масти. Когда в год Красной Свиньи ровно семьсот восемьдесят лет назад изготовляли этот посмертный символ, брали гривы нескольких сот гнедых жеребцов во всех аймаках Монголии и соединяли их.
А я задумался о двух женах-хатуншах. Выходит, шаманисты многоженцами были?
Пока я размышлял, кто-то бесцеремонно попросил открыть гробницу завоевателя. К моему удивлению, Ханганов молча отбросил крышку сундука, и мы увидели… Мы увидели сероватый пепел. А древесный он или какой другой, как определишь на глаз без судебно-медицинской экспертизы?
Режиссер, впрочем, пришел в восторг. Аж потрогал воровато пальцем пыль на дне гробницы.
— Николай, скажите, — задал я вопрос, когда драгоценный сундук наконец заперли, — сколько жен было у Чингисхана?
— Много, — ответил шаман. — В четырех дворцах сидели старшие хатунши, еще несколько законных жен и без счету рабынь-наложниц. Кстати, у двух третей граждан современной Монголии присутствует ген Чингисхана, то есть он в буквальном смысле может считаться отцом нации.
— А рядовые монголы тоже были многоженцами?
— Мужчина брал столько жен, сколько мог прокормить.
Последний ответ понравился мне не очень. Проблематично в наше время на зарплату ассистента художника-постановщика прокормить двух привередливых жен-иностранок — француженку и москвичку. Я уже не заикаюсь о рабынях-наложницах. Тоже, поди, немалых денег стоят. Не укупишь…
Мы возвращались в Хужир, трясясь на ухабах. Киношники оживленно переговаривались на английском. А я размышлял о том, что на вершине холма, рядом с белой войлочной юртой Чингисхана, вполне хватает места для серой войлочной юрты товарища Мао Цзэдуна и черной, тоже войлочной — Владимира Ульянова-Ленина. Надо при случае подбросить эту идею Николаю Тимофеевичу Алексееву. Для привлечения иностранных туристов.
ГЛАВА 12 Старое место Монгол-Бурхана
В Хужире Григорий меня порадовал. Мы не возвращаемся больше к мысу Три Брага в бутафорское зимовье, а готовим следующую съемочную площадку. Жаль, конечно, не увижу бенефис бурятского актера, зато не увижу и то, как англичанин таскает кровожадного Буратину. Тут же мне пришла в голову мысль, что как только отснимут эпизод в зимовье, деревянная кукла станет без надобности, и я смогу завершить то, что в квартире Бори Кикина не позволил мне сделать Григорий, то есть разъять ее на мелкие составные части, а лучше — предать огню. Займусь этим вечером, если транспорт найду. Далековато будет, не дойти пешком до Трех Братьев…
Реквизитор Вася, специалист по русским баням, выдал нам лиственничный столб с клыкастой физиономией Бурхана. Не слишком церемонясь с архаичным богом, он сбросил его из фургона в придорожную пыль.
Вместе с художником мы погрузили столб в кузов малогабаритного японского грузовичка, следом — штыковую лопату и увесистый лом. Предполагалось врыть столб на крутом байкальском берегу недалеко от деревни.
К подножию скалы добрались минут за десять, и то только потому, что водитель петлял, стараясь подвезти нас как можно ближе. Пешком напрямую, пожалуй, идти до Хужира столько же.
Отпустили грузовик, сказав, что возвращаться за нами не обязательно, сами дойдем. Подняли столб с псевдочеловеческим лицом по крутой тропинке.
— Здесь. — Григорий попытался вогнать штыковую лопату, но она, войдя на два пальца, звякнула о камень.
Мы стояли на голой скале, выступавшей далеко в море. Впереди с трех сторон — байкальский лед, вдоль и поперек изъезженный машинами, за спиной в голой почти степи угадывались строения Хужира. Когда вскроется лед, здесь, вероятно, красиво. Красиво и страшно.
— Гриш, ты место неудачное выбрал. Как тут яму рыть? Один камень кругом.
— Понимаешь… — Художник рубанул штыком поодаль — снова характерный звон. — Местные из стариков еще помнят, что именно здесь стоял раньше Бурхан. Значит, есть где-то земля.
Григорий снова ударил лопатой — земли не было. Была непробиваемая скальная броня. Я поднял лом. Что-то место это мне напоминало. Возникло ощущение, будто я уже бывал здесь. И Бурхана видел…
Не ковыряя ломом наугад, закрыл глаза…
Существует общепринятое мнение, что с открытыми глазами человек видит много лучше, чем с закрытыми. Как любое общепринятое мнение — полная чушь. С открытыми глазами видно не лучше, а больше. Излишние предметы отвлекают, создают ненужные подробности, уводят к черту от истины. Часто — буквально. Закрой глаза и смотри. И увидишь.
Заостренный стальной прут в руках, как антенна, как громоотвод, улавливающий небесное электричество, словно дыхание тэнгриев, жителей Верхнего мира…
Я видел. Я видел то, что происходило давным-давно или произойдет в будущем. Я не знал. Знал одно — Григорий не там копал, там — скала, а вот чуть дальше над обрывом…
Я открыл глаза, подошел уверенно к самому краю утеса и вонзил с размаху лом. Тот прошел в землю, будто в масло, до половины. Я чуть не свалился по инерции вниз с тридцатиметровой высоты. Но не свалился, устоял.
— Здесь раньше стоял подобный столб, — сказал я.
— Откуда знаешь? — спросил подозрительный художник.
Что я мог ответить? Рассказать ему, что иногда я теперь вижу с закрытыми глазами? Вижу то, чего не существовало, или существовало, но не здесь, не в нашем Срединном мире? Может, рассказать ему о третьем, светящемся красным глазе Бурхана, которого он, вероятно, никогда не увидит?
Я пожал плечами.
— Подумал, что если ставить на утесе столб, то идеальное место — на самом краю, на границе сфер — земли, воды и неба.
Григорий как-то странно на меня посмотрел, но промолчал, а я взял из его рук лопату и принялся копать. В почве попадалось много трухлявого дерева, потом вперемешку с красноватой глиной пошли черные камни. Подобными трамбуют ямы, вот только цвет странный. Каменный уголь, что ли?
Я доставал камни руками и складывал в отдельную кучу.
— Что за минерал? — спросил у Григория.
— Низкосортный графит. Его здесь много.
Когда я углубился сантиметров на семьдесят, Григорий меня остановил. Примерили — подходяще. Художник держал столб вертикально, а я забрасывал яму рыхлой глиной и камнями. Трамбовать ломом не очень-то удобно, но больше было нечем, трамбовал. Графит крошился.
Управились в час. Кабы не отыскалось место, где стоял старый столб, без отбойного молотка не справились бы вовсе. Ломом прочную скальную породу не очень-то подолбишь… Тут же и подумалось, что в старину пользовались исключительно киркой да лопатой. И обрабатывали ведь камень, и строили, и до сих пор стоят их храмы, мосты и амфитеатры…
Григорий засобирался, хотел еще попасть на съемки. Я не хотел. Больно надо на Буратину глазеть. На краю утеса, рядом с клыкастым Бурханом мне было на удивление комфортно.
— Ты иди, я посижу еще здесь.
— Как хочешь. Сегодня ты больше не нужен, а завтра поедем с тобой на заброшенную ферму. Через пару дней там съемки, но работы много.
— Где это? Далеко от деревни?
— От Хужира на юг минут сорок езды по льду. Километров пятнадцать-двадцать не доезжая переправы на материк.
Прихватив лопату, Григорий ушел, а я устроился на краю обрыва, привалившись к столбу головой. Закурил.
И чего я раньше Бурхана боялся? Симпатяга парень — два глаза навыкате, третий хитро прищурен, пасть оскалена, клыки, как у тигра-людоеда, во лбу над третьим глазом — человеческие черепа… Спать хотелось очень, глаза сами собой закрывались, хоть спички меж век вставляй… Хотя зачем их вставлять? Зачем бороться со сном?.. И черепа во лбу… Сколько их — пять или семь? Это показалось мне крайне важным: пять или семь… Странно, если в городе я сутками не мог заснуть, на Ольхоне меня постоянно клонит в сон, в любое время суток… Пять или семь?.. Подняться и посмотреть не было сил. Желания тоже. Гладкая строганая поверхность округлого лиственничного бруса почему-то грела щеку.
Пять или семь? Да хоть пятьдесят семь! Какая мне, на хрен, разница?
Недокуренная сигарета вывалилась из пальцев и полетела с тридцатиметровой высоты на байкальский лед.
Я уснул.
ГЛАВА 13 А смерть ждала на линии прибоя…
Я проснулся.
Разбудил меня двадцатипятилетний парень, приставленный моим найжи, крестным отцом, мне в ученики, а заодно и в услужение. Был он среди девяти «сынков»-подростков, присутствующих при моем посвящении восемь лет назад.
— Богдо Михал-нойон, к тебе пришел человек.
Тыканье братских татар давно перестало меня раздражать, привык, вероятно.
— Кто пришел, Банзар?
— Русский шаман.
Что он мелет? Я — единственный русский шаман, и вряд ли скоро появятся другие. Кого имел в виду мой ученик?
Я поднялся с подобия кровати, сооруженной самолично из обтесанной сосны и покрытой звериными шкурами. Давно я привык обходиться без постельного белья, а вот спать на полу так и не научился. Впрочем, чистое домотканое полотно стелил я под себя и под медвежью шкуру, коей укрывался.
С помощью Банзара надел кафтан из хорошо выделанной оленьей кожи — повседневную свою одежду. Камлал я в другом, сплошь увешанном подвесками и онгонами. Плеснул в лицо ключевой водой из медного таза, расчесал голову и бороду золотым гребнем.
— Зови.
— Он не хочет входить, господин. Он ждет тебя снаружи.
Я усмехнулся. Гость, вероятно, священнослужитель. Аборигены в его понимании закоренелые во грехе язычники. Это в лучшем случае, в худшем — сознательные сатанисты, поклоняющиеся врагу рода человеческого. И я не могу его осуждать, сам имел точно такие же представления еще шесть-семь лет назад. Что они для вечности? Мгновение.
На женской половине было пусто. Жена с детьми укочевала к родственникам в дальний улус на северной оконечности острова Ольхон.
Я прошел мимо кипящего на огне бронзового котла с бараниной — дым белесой струйкой утекал в срединное отверстие войлочного потолка. Потом мимо невысокого столика из березы — тоже моя рукотворная самодеятельность, на коем стоял чайный сервиз изящного китайского фарфора. Над вздернутым носиком заварочного чайника с золотыми крылатыми драконами поднимался парок. У заезжих китайских и монгольских лам, которые одновременно и приторговывали, я покупал для себя чай черный, крупнолистовой. Братские татары предпочитали зеленый, плиточный, с молоком, солью и бараньим салом. На мой вкус это уже скорее суп, чем чай. Густой и тошнотворный. Я даже запаха его не переносил в своей юрте.
— Чай будешь, господин?
— Потом.
Отодвинув холщовый полог, я вышел. Так и есть, поодаль стоял православный священник, причем знакомый — отец Феофан, настоятель Владимирской церкви в Иркутске.
Я подошел, смиренно поклонился и поцеловал протянутую его длань.
— Благословите, батюшка.
Он молча перекрестил мою склоненную главу. Потом протянул конверт, взяв его из рук мгновенно возникшего за спиной церковного служки с объемным саквояжем.
— Ваша сестра, Ольга Афанасьевна, просила передать.
— Разрешите?
Отец Феофан кивнул. Я вскрыл надушенный конверт и пробежал глазами недлинное послание. Сестрица в своем амплуа — снова призывы немедленно вернуться в город, жалобы на безденежье и запойного муженька, невысокого ранга чиновника при аппарате иркутского губернатора… Кто теперь, интересно, в должности? Уже и не упомню, шесть лет как не наведывался я в Иркутск, да и вообще не выезжал с острова.
— Через два дня я возвращаюсь, — сказал батюшка. — Поедете со мной, Михаил Афанасьевич? Дома вас заждались.
— Нет, — ответил я коротко.
— Вы забыли нас, — посетовал священник. — Забыли православие, родню, друзей, долг перед Государыней, в конце концов! Вы же русский офицер!
— Я вышел в отставку шесть лет назад, — возразил я. — Я не нарушал присяги, данной Ее Величеству Императрице Екатерине.
— Когда в последний раз вы исповедовались, причащались, вообще молились в храме Божьем? Тоже шесть лет назад?
— Вот он, мой храм! — Я развел руками. — И я молюсь в нем каждодневно! Посмотрите, отец Феофан, на эту степь, эти холмы, горы на берегу Священного моря! Это ли не Божья благодать? Высокие Небеса здесь низко, рукой дотянуться можно с вершины скалы!
Батюшка онемел. Предвидя семибалльный шторм, готовый разразиться и смыть меня за борт, я постарался перевести разговор в более спокойное русло:
— Не желаете чаю с дороги? У меня замечательный, редкого сорта из Китая. Такого и в Санкт-Петербурге не сыскать.
Отец Феофан покачал головой.
— Тогда не изволите ли прогуляться? Здесь удивительной красоты природные виды.
Отец Феофан кивнул, и я, прихватив из юрты заранее подготовленные манускрипты, повел его к Байкалу на выступающий утес, расположенный неподалеку от улуса. Любимое мое место для созерцания, молитв и медитаций.
— Что нового в Иркутске? — спросил я.
Мы неторопливо шли по чахлой красноватой степи. Хужир, построенный еще курыканами, предшественниками братских татар на острове, стоял на солончаках. Здесь плохо росла трава.
— Был большой пожар, — ответил отец Феофан. — Половина города выгорела.
— Это печально, — прокомментировал я равнодушно.
Не было мне дела до русских городов Сибири, до Москвы и Санкт-Петербурга, и уж тем паче до Лондона, Парижа и остальной христианской Европы. Моя Родина здесь, на сакральном острове Ольхон, горячем сердце Великого Байкала.
— Владимирскую церковь тоже не сумели спасти, сгорела как свечка…
— И это печально, — повторил я, не почувствовав ни малейшего сожаления.
— Советом попечителей решено заложить каменную церковь на месте сгоревшей, деревянной. Патриарх всея Руси благословил, да и губернатор иркутский, Немцов Федор Глебович, поддержал богоугодное начинание. Всем миром собираем средства…
— Это замечательно. — И снова в сердце ничего, снова — равнодушие.
— Да, — сказал отец Феофан с нескрываемой гордостью, — Владимирская церковь станет седьмым по счету каменным храмом истинного Господа в городе!
Я сдержал усмешку. С трудом. Адепты любой религии поклоняются истинному Господу, остальные — ложному. Это так похоже на людей. Стереотипность мышления, ограниченность и узость кругозора — главные атрибуты смертного человечества. Главные и, вероятно, спасительные. Иначе, потеряв веру в истинного Бога, ты остаешься один на один с алогичным ужасом существования. Беззащитный, жалкий, но свободный. Готов ли ты к этой безжалостной свободе? Нужна ли она тебе?
Как объяснить им, что нет богов истинных и ложных? Что Господь — един. Что он пребывает в тебе и одновременно разлит по всей Вселенной, как не открытые еще атомы водорода. Как все это объяснить? Невозможно.
У подножия скалы я остановился, достал из кожаной наплечной сумки два манускрипта, кои писал долгими вечерами при свече или лучине вот уже лет десять подряд. Труд мой был закончен.
— Батюшка, у меня есть к вам просьба. Выполните ли вы ее?
— Все, что в моих силах, сын мой.
Я протянул ему две стопки листов, упакованных в плотный пергамент.
— Не соблаговолите ли передать это в Иркутское географическое общество с дальнейшей пересылкой в столичные университеты?
— Что это? — Любопытный священник развернул пергамент. — О, какая интересная бумага… розоватая…
— Это китайская, рисовая, лучшая, вероятно, в мире. Я купил ее у тех же заезжих лам. А текст… Первый, «Описание о братских татарах, сочиненное морского корабельного флота штюрманом ранга капитана Михаилом Татариновым», я сделал восемь лет назад. Второй недавно закончил. Он главный. Называется «Правдивые путешествия отставного штюрмана ранга капитана Михаила Татаринова на Небеса и в Царство Мертвых, его беседы с духами Чингисхана, Наполеона и Гитлера».
— Кто такие Наполеон и Гитлер?
— Первый из них недавно родился, он еще ребенок, а второй родится через сто двадцать девять лет после первого. Все трое принесли или принесут многие страдания и беды на Русскую землю, многие миллионы наших соотечественников лишатся жизни. Но, зная будущее, возможно его избежать. Или смягчить последствия, по крайней мере.
Отец Феофан вопросов более не задавал, на меня смотрел, как на умалишенного, но рукописи взял. Что ж, будем надеяться, они найдут своего адресата…
Мы поднялись по тропинке на выступающий в море утес, и я понял, что совершил непростительную ошибку, приведя сюда ортодоксального христианина. Отец Феофан остановился и застыл на месте, как жена Лота, превратившаяся в соляной столб при бегстве из обреченного Содома. Увидев врытое лиственничное бревно с рельефным изображением Монгол-Бурхана, священник забормотал молитву, истово осеняя себя крестным знамением. А затем закричал благим матом, указуя перстом на Бурхана:
— Се есть враг человеческий! — и перевел перст, будто дуэльный пистолет, целя мне в грудь. — Ты поклоняешься Антихристу, вероотступник!
Что я мог возразить? Чертами лица Монгол-Бурхан точно не вышел. Не назовешь миловидными два глаза навыкате, третий во лбу, прищуренный зловеще, горящий красным адским пламенем, пасть оскаленную, хищные клыки… Чисто Сатана для профана. Как, впрочем, любое языческое или буддийское изображение Востока.
— Это не мой бог, — ответил я спокойно, ничуть не слукавив. Он не был богом, он был духом черного шамана, бежавшего на Байкал из степной Монголии от притеснений приверженцев желтой веры, ламаистов.
Известная история — всегдашняя человеческая религиозная нетерпимость. Так русские старообрядцы целыми деревнями снимаются с насиженных мест и уходят в необжитую Сибирь.
Священника успокоили мои слова. Он присел на камень спиной к столбу, вероятно, чтобы не видеть оскаленную пасть идола. Дышал тяжело. Гнев ли на него подействовал или крутой подъем, не знаю.
— О тебе говорят в Иркутске, что женился ты на местной черной шаманке, справляешь вместе с ней сатанинские обряды с жертвоприношением христианских путников и поносишь истинную православную веру. Так ли это?
— На татарке я действительно женат, и она — шаманка. Все шаманки — черные, им закрыт доступ на Небеса, но это не значит — злые. Моя жена не колдунья и не ведьма. Вместе с ней мы помогаем людям, лечим их. Когда-то, говорят, в жертву у братских татар приносили людей, но эти времена прошли давным-давно. Теперь богам посвящают жертвенных животных, обычно белой масти — овец, козлов, быков или лошадей.
Я сделал паузу, раскуривая захваченную с собой набитую табаком трубку. Отец Феофан молча ждал. Выпустив дым в пасмурные небеса, я продолжил:
— От православия я никогда не отрекался.
Как бесспорное доказательство, в прорезь кафтана я показал золотой нательный крест. Это священнослужителя не убедило, напротив, привело в праведное возмущение.
— Но как возможно ношение креста и православие совместить с богохульным, мерзким обрядом посвящения в шаманы, о коем ты мне писал в Иркутск восемь лет назад?!
Я был смущен. Я действительно написал тогда своему духовному отцу о посвящении и сопутствующей ему тотальной пьянке среди аборигенов. Напрасно я это сделал.
— Извините, батюшка, за необдуманное послание. Я взялся тогда судить о том, чего не понял совершенно. Младенцу надобно знать, что его принес аист, и совсем не обязательно о физиологии, анатомии и рождении в муках из причинного места матери… Я был глуп. Глуп и самонадеян. Сакральный смысл тайного обряда познал я много лет спустя. Это первое. А второе, главное, в том, что цель едина у всех религий. И Бог — един. А путей — множество, и все они истинны, если ведут к божественному совершенству.
— Так говорят ламы, — сказал отец Феофан.
— Ламы мудры. Они приемлют все религии и включают Великих Шаманов и монголо-татарских небожителей-тэнгриев в свой пантеон.
— Великих Шаманов? — усмехнулся священнослужитель. — Разве может быть что-то великое у грязных дикарей?
— Может. Великие Шаманы принадлежат всему человечеству. Иисус Христос был Великий Шаман, такие рождаются раз в несколько столетий. Письменная история зафиксировала несколько подобных имен — Будда, Христос, Магомет, но их много больше. Через два с половиной столетия ученые Срединного мира сумеют узнать, что за тридцать тысяч лет до них жил где-то в Африке Мужчина, и все шесть с половиной миллиардов землян — его прямые потомки. Причем вокруг этого Человека проживали десятки, а может, и сотни тысяч других мужчин, но выжили лишь потомки этого единственного Мужчины. Так что все люди на Земле действительно братья и сестры. Буквально. Но кто он был, этот общий Прародитель человечества?
— Сатана! — Отец Феофан, подскочив как ужаленный с камня, крикнул в ту сторону, откуда мы пришли: — Иван, зови стражу немедля!
Стражу? Вона как повернулось… Ай да святой отец, ай да молодец!
Я отошел к обрыву и, привалившись к Монгол-Бурхану, стал ожидать дальнейшего развития событий. А отец Феофан снова повернулся в мою сторону. Перекрестился истово, затем сложил молитвенно руки.
— О сем просили меня сестра твоя, Ольга Афанасьевна, и Федор Глебович, губернатор иркутский. Да и сам я более не мог спокойно слушать о твоем падении и вероотступничестве, вызванными непомерным потреблением водки и вялотекущим умопомешательством. Ты потом сам мне спасибо скажешь за спасение, любезный Михаил Афанасьевич!
На тропинке я увидел поднимающихся двух казаков с ружьями наперевес и сотника с оголенной шашкой.
Ох и малыми силами захотели арестовать ольхонского шамана. Чуть обидно даже стало, что так низко меня ставили.
— Возьмите его, сотник, — велел отец Феофан.
Казак козырнул и, улыбаясь в усы, шагнул к обрыву. Трудностей с выполнением приказа он не предвидел.
— Вы арестованы, ваше благородие. Извольте пройти с нами.
Я рассмеялся. Я обычный человек, в конце концов. Комизм ситуации меня забавлял до предела. Три, всего лишь три бородача с шашками и ружьями, стреляющими бессмысленным свинцом. Да если бы только хотел, я бы их… я бы… Но я не хотел. Пусть живут. Нет их вины — приказ. Понимаю. Не забыл еще офицерскую службу.
Я повернулся к казакам спиной и шагнул с утеса.
И плавно опустился у воды, омывающей береговые каменья под ногами.
На вершине скалы послышались крики, матерщина и твердый голос сотника, отдающего приказ. Через мгновение первая пуля чиркнула о валун в сажени от меня, вторая вошла под лопатку.
На долю секунды зародилось желание наказать глупцов, но я сдержался.
Я ступил на воду и пошел неторопливо в сторону мыса Покойников на материковом берегу. Набегавшие волны захлестывали ноги до коленей, брызги освежали лицо.
Еще одна пуля вошла меж лопаток. Но — смерти нет. Хотя она, конечно же, есть. Она ждет тебя здесь, на линии прибоя. Надо только уметь ее видеть. Видеть и не обращать внимания, будто не существует она вовсе. Лично для тебя не существует. Для тебя — офицера корабельного флота, русского дворянина, потомка мирных славян-землепашцев и воинственных морских бродяг, варягов, обожествляющих Море, Скалы и Корабли.
Легко, как свободный выдох, возникли, снизошли строчки песни, и я прокричал их в низкое небо:
Над дикостью варяжского разгула Смеялось Море, Море не уснуло И не смирилось с торжеством Земли! Ну а покуда веселитесь, братья! Все ближе час, когда при Рагнаради Погибнут Боги, люди, Корабли! Смеялся скальд, и хохотали Скалы, И мы смеялись — счастие за малым — Погибнуть от копья иль от меча. И Бог Вотан смеялся над толпою, А смерть ждала на линии прибоя, Но смерть никто из нас не замечал! Она везде — в фиордах, и в аулах, И в желтых масках, и в монгольских скулах.ГЛАВА 14 Нас выплеснула Азия, как пену…
Я проснулся.
И с закрытыми глазами я теперь видел, как над несуществующей линией прибоя парит женщина в свободного покроя белой одежде с красивым одухотворенным лицом, черты которого не разглядеть до поры. Словно клубы утреннего молочного тумана скрывали их от излишне любопытных взглядов. Но я чувствовал, лицо ее прекрасно, как у античной богини любви. И знал — смерти нет. Хотя она есть, конечно. Как без нее?..
Я открыл глаза и увидел скованный льдом Байкал, подтаявший, словно обугленный, снежный наст берега. Какие-то голые кусты чернели у самой кромки льда. И еще моросил дождь. Спутанные волосы намокли, вода струйками текла по лицу, по лиственничному столбу, к коему прислонясь сидел я на краю тридцатиметрового обрыва.
Еще не смеркалось, но день, что ощущалось явственно, подошел к своему завершению. Уже и не день — вечер.
Зазвенел вдруг мобильник во внутреннем кармане куртки. Странно, мне говорили, что связь здесь хреновая. Впрочем, я на вершине скалы.
Достал. Посмотрел на дисплей — номер незнакомый.
— Андрей Татаринов слушает, — сказал официально.
— Андрюха, привет!
Я узнал голос, и он был попросту невозможен.
— Боря? Боря Кикин?
— Ну конечно!
— Но как ты можешь говорить? У тебя же лицо рассечено! И губы тоже!
— Не поверишь, Андрюха! Делали днем перевязку, так сестра охренела, врача позвала. Тот тоже. В смысле — охренел. Зеркальце мне поднес. Вижу: заросло как на собаке, шрам только остался рубиновый через все лицо по диагонали.
Чудеса, да и только. Трех суток не прошло. Впрочем, был уже прецедент с разрубленной голенью: часов за двадцать или чуть больше рана затянулась.
— Как чувствуешь себя, Лазарь?
— Нормально чувствую. Рисовать охота, аж скулы сводит… А почему Лазарь?
— Его Иисус Христос из гроба поднял. А тебя, интересно, кто?
— Чего-нибудь полегче спроси, эрудит хренов… Ладно, я с чужого телефона, неудобно долго говорить. Ты вот что, Андрей, найди Буратину и уничтожь, а лучше — сожги. Чую, много он еще бед принесет… Сделаешь?
— Кто он вообще такой, этот злодей деревянный?
— Откуда я знаю?
— Кому же знать, как не тебе? Ты его творец.
— Я ему только голову восковую вылепил, а вот оживил его кто-то другой… — Боря смолк, после паузы добавил: — Есть у меня одна бредовая идея, но ты не поверишь, смеяться будешь.
— Не буду, говори.
Сейчас я готов был поверить во что угодно, в любой бред, лишь бы он объяснил мне хоть что-то. Неизвестность пугала и раздражала до предела. Я действительно был близок к черте, за которой бездна безумия. Впрочем, может быть, я уже переступил эту черту? Не знаю.
— Буратино — оживший онгон, посвященный одному из сыновей Эрлен-хана, Владыки Царства Мертвых. Зовут его Эрью Хаара-нойон. Он специализируется на изощренных казнях и пытках. В подвалах его дворца галерея из восьмидесяти восьми темниц, где томятся человеческие души. Словом, Эрью Хаара-нойон — отец и покровитель всех садистов Срединного мира.
С чего Борис взял, что я буду смеяться? Тут впору плакать и, рыдая навзрыд, бежать от морального урода на край света, далеко-далеко на Север, где растет Мировая Ель, где ласковая Мать-Хищная Птица несет яйца с последующим высиживанием. Где стоит черная войлочная юрта, в которой живет добрая Дьяволица-Шаманка, кормящая души нерожденных шаманов удивительно вкусной запекшейся кровью, укачивающая их в железной люльке… Стоп! Кажется, я и правда сошел с ума, раз принимаю сон за явь, а явь, соответственно, — за сон…
— И еще, Андрей. Убить Эрью Хаара-нойона невозможно, он — бессмертен.
— Тогда как же?..
— Ты попробуй! — перебил меня Борис торопливо. — Говорить больше не могу, в палату идут… До встречи, Андрей! Убей его!
Борис отключился, мне показалось, после прощания, а призыв к убийству произнес кто-то другой. Но кто? Я один на вершине скалы, не считая, конечно…
Я поднялся с мокрого камня, отошел на несколько шагов и посмотрел в красные, пылающие адским пламенем глаза Монгол-Бурхана. Во все три. Лобовой глаз был теперь не прищурен, как раньше, а широко распахнут, пульсировал.
Здравствуй, Бурхан, — сказал я, не шевеля губами и не сотрясая воздух звуковой, бессмысленной волной.
— Здравствуй, — ответил истукан. Ответил не мысленно даже, а как-то… не знаю, не было у меня раньше опыта общения на столь глубоком уровне восприятия. Даже не телепатическим оно было, а… не умею обозначить, не знаю терминологии, да и существует ли она? Может, ментальным?
— Что мне делать, Бурхан? Как убить того, кто умереть не может по определению? Как уничтожить бессмертного?
— Смерти нет, и одновременно она всегда рядом. И будет — что суждено.
И смолк. Зрачки погасли, сделались обычным тусклым деревом. Третьего глаза не стало, будто и не было его вовсе. Может, и не было? Может, разговоры мои с Борей Кикиным, а тем паче с идолом — продолжение сна? Не знаю, ничего не знаю.
Я прикурил, пряча сигарету от моросящего дождя, и стал спускаться по тропинке.
Солнце село, но запад за моей спиной еще бордовел. Скоро стемнеет, и, если я хочу попасть сегодня к мысу Три Брата, надо торопиться. Я прибавил шагу.
Транспортный вопрос, волновавший меня всю обратную дорогу, решился сам собой. Возле сельпо со стеклянными витринами я увидел припаркованный знакомый «жигуль», а рядом рыжебородого Филиппа. Оставалось уговорить его отвезти меня к зимовью и обратно. Легко сказать, на ночь-то глядя кто поедет?
На мою просьбу Филипп отреагировал спокойно: ладно, мол, отвезу, но — завтра.
— Филипп, надо сейчас, — уговаривал я. — Завтра может оказаться слишком поздно.
— Что такого может произойти за ночь?
Не объяснять же ему про Буратину, Бориса и Эрью Хаара-нойона. Долго, да и любой нормальный человек воспримет мои объяснения как несмешной розыгрыш. И это в лучшем случае.
— Скажи, Филипп, а куклу, которую должен был на съемках затащить на дерево англичанин, киношники с собой забрали?
— На сосне и оставили. Реквизитор спросил, что с ней делать. Режиссер ответил: не нужна. Он ее и не трогал.
Ясно. Я прямо-таки увидел, как, затаившись среди мохнатых лап, поджидает злодей добычу… И ведь не уговорить Филиппа, не поедет он по темноте да по рыхлеющему подтаявшему льду… И вдруг я понял: поедет. Все зависит от того, как я ему об этом скажу. Стоит попробовать.
— Ну, ладно, Андрей, домой мне пора. — Филипп протянул мне руку. — До завтра.
Руку я проигнорировал. Действовал по наитию, сам не понимая до конца смысла действий.
— Филипп, смотри сюда, — сказал я, указуя себе на лоб.
— Ты чего?
— В глаза смотри! И врубайся, мать твою!..
Я говорил, не слишком повышая тона, вкрадчиво, будто с ребенком или собакой. Он смотрел без отрыва. Он уже не мог не смотреть. И не слушать.
— Ты рожден на свет только для того, чтобы помочь мне. Взгляд не отводи! Сейчас ты сядешь за руль и отвезешь меня к мысу Три Брата.
Он смотрел на мой лоб, и я с удивлением отметил, что глаза его остекленели, расфокусировались и утратили осмысленность.
— Ты меня понял? Отвечай!
— Понял.
Голос сделался бесцветным, словно это не Филипп сказал, а некто усредненный и абстрактный, напрочь лишенный индивидуальности.
— За руль!
Он подчинился. Я сел рядом, и мы тронулись. По дороге молчали. О чем с ним разговаривать? Дебил дебилом. Я мог воспользоваться положением, которое сам создал, и узнать всю его подноготную. Вот только мне это надо? Нормальный мужик, зла я ему не желал.
Остановились в распадке у самой тропы.
— Жди здесь, мотор не глуши, — сказал я и покинул салон.
Стемнело. Впрочем, луна взошла, небо оказалось безоблачным, и звезды подсвечивали, как могли.
Тропинку за день растоптали до ширины проселка.
Я посмотрел на зимовье. Было оно теперь без крыши — брезент, вероятно, сняли, вернули хозяину. Удивило то, что над ним клубился дымок, а в наполовину остекленном оконном проеме мерцали отблески огня. Забыли погасить после съемок? Или остался там кто-то, греется?
Кто бы там ни находился, дела мне до него не было никакого. Мне к сосне, где на аранга затаился Буратино.
Поднялся по тропинке, обогнул сруб, почувствовав мерзкий, будто трупный, запах оттуда. Нужную сосну нашел сразу. Настил из доски хорошо просматривался снизу на фоне звездного неба.
Ступил на прибитую мной ступеньку, потом на обломанный сук, в разветвление, еще в одно… На дощатом настиле было пусто. Значит…
Хрустнула ветка в десятке шагов от меня, потом чуть ближе заскрипел снег…
Показалось? Сделалось неуютно.
Треск негромкий из зимовья…
Ночные звуки обрастали плотью. Или — больное воображение?
Спускаясь с сосны, боковым зрением увидел длинную тень — соскочил на землю, ломая ветки, повернулся — никого.
Что за черт? Где Буратино? Прячется за углом сруба с топором? Чушь!
Дверь на резиновых петлях оказалась распахнутой. Заглянул. Огонь, пожирая дрова, потрескивал. В его отблесках я увидел замусоренный пол, чурку без топора, а в углу — висящий под потолком белесый пузырь, похожий на накачанный водой презерватив, только по виду плотнее. Он вонял пропастиной, будто труп на жаре. Он покачивался и пульсировал. Он был как живой. Живой и отвратительный…
До машины добирался бегом, за спиной слышал шаги и скрип снега, как будто бежал за мной кто-то. Не догнал. Я плюхнулся на сиденье.
— Домой! Быстро!
Филипп подчинился с удовольствием. Так мне показалось.
Машина остановилась возле сельпо. Меня это устраивало. Когда отошел на несколько шагов, услышал вслед голос Филиппа. Обычный голос.
— Андрей!
Я обернулся.
— Ты не обижайся. Завтра утром съездим к Трем Братьям. Сейчас правда не могу, дома ждут.
— Да ладно, — ответил я, — ерунда. Я уже передумал. Нечего мне там делать.
— Вот и правильно, — порадовался Филипп. — И я думаю: чего тебя туда тянет?.. Спокойной ночи!
— Пока.
Я шел к усадьбе Никиты с одной только мыслью: скорей попасть в дом № 11, закрыть на задвижку дверь, лечь в постель и спать.
В каждом темном углу мерещился убийца с топором. Темные углы были всюду. Иногда мир состоит из одних только темных углов. И в каждом — по убийце с топором. В некоторых — с двумя…
Возле столовой снова горел костерок, и я невольно пошел на его свет. Сначала услышал хорошо поставленный голос Николая Хамаганова, потом увидел ту же компанию, что вчера, за исключением Жоан Каро и чеха Карела, уехавших по делам в Иркутск.
Я подсел на край лавки, оказавшись рядом с переводчиком. Что-то прокартавил Поль Диарен, Борис Турецкий перевел:
— В связи с Чингисханом вы неоднократно упомянули Юаньскую династию. Но это же Китай. Какое отношение имеет великий завоеватель к Поднебесной империи?
— Юаньскую династию основали потомки Чингиса, завоевав северную часть Китая. Первый хан династии мудрый Хубилай-хан, кстати, учредил культ почитания «Духа Чингисхана», который дошел до наших дней. Вы слышали о предпоследнем его переносе?
Никто, конечно же, ничего об этом мероприятии не слышал, я не исключение. Хамаганов продолжил:
— В шестом месяце тысяча девятьсот тридцать девятого года «Дух Чингисхана» от собрания Большого Зоу Внутренней Монголии перенесли в местечко Шин Лун Шан шияна Ной Зун провинции Ганьсу, подальше от японских интервентов. Гоминьдановское правительство назначило членами группы по перенесению Духа заведующего отделом ведомства по управлению делами Монголии и Тибета Цу Мин Шана и специального уполномоченного комиссии по военным делам Тан Жин Рана. Гомбожана из Жиюн Ван Хошума, командующего вторым округом монгольских партизанских войск Чен Иой Жия назначили общим руководителем защиты и перенесения Духа.
Девятого числа шестого месяца тысяча девятьсот тридцать девятого года совершили обряд поклонения и жертвоприношения на исконной земле «Духа Чингисхана» — в Хозяйском районе. Перевезли его пятнадцатого числа того же месяца, транспорт с Духом прибыл в Иой Лиин Шиян провинции Шанши. На аэродроме перед городом совершили большой обряд поклонения, на следующий день погрузили в машину.
Двадцать первого числа, когда транспорт с Духом проходил через центр революции город Ан, собралось около ста организаций всех сторон Ян Анна, около тумена людей совершили большой обряд поклонения. В церемонии обряда участвовали представитель Коммунистической партии Китая Шие Жиувай Зей, представитель главнокомандующего Восьми Путей Ван Руве Фей, представители властей края. «Духу Чингисхана» были возложены венки от Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, от товарища Мао Цзэдуна, от войск Восьми Путей.
В тысяча девятьсот сорок шестом году «Дух Чингисхана» поселили в монастыре Гумбум провинции Хухэнор…
Хамаганов еще что-то говорил, сыпал без бумажки китайскими именами и названиями провинций и городов. Забавно, конечно, но спать хотелось очень. Еще хотелось запереться в комнате изнутри и укрыться одеялом с головой. В детстве, помню, это помогало.
Я поднялся с лавки.
— Андрей, — сказал мне переводчик, — Анна просила передать, если я тебя увижу, что она в комнате номер семь, просила зайти.
— Борис, давай договоримся, ты меня не видел. Ладно?
Не то чтобы я не хотел красивую москвичку, напротив. Но не теперь. Теперь — спать.
Уже отойдя от костра, услышал, как Хамаганов начал декламировать стихотворение. Оно оказалось коротким, я дослушал.
Но в желтых масках и монгольских скулах Копилась сила. И перечеркнула Лавина наших стрел иконный лик. Нас выплеснула Азия, как пену, Но конским крупом мы ломали стены И выжигали древние кремли. Мы есть и будем! Пусть закрыта рана, В ней желтый гной. И тени Чингисхана Еще не раз пройдутся по Руси. Мы — божий бич. Мы посланы вам в кару, Как недороды, саранча, пожары — У этих бед пощады не проси. Спасенья нет вам ни в родных полях. Ни в ковылях, ни в северных морях.ГЛАВА 15 Несъедобное на мой вкус рагу
Я проснулся, услышав голоса из-за входных дверей, собственноручно с вечера заложенных мной на стальной засов. Какие-то люди говорили негромко на бурятском или монгольском. Эти родственные языки мало отличаются, для европейского уха тем более.
Потом голоса смолкли, стало тихо — ни потрескивания печки, ни сопения или храпа спящих рядом мужчин, ни лая деревенских собак, вообще никаких звуков, коими наполнена всякая ночь. Даже такая, словно с выколотыми глазами, беспросветно-темная.
Пахло свалявшейся овчиной и промокшими валенками. Неприятно и непривычно пахло. Модной монгольской дубленкой водителя бурята? Или русский пиротехник Петр портянки не выстирал?
Но это обычный запах человеческого общежития, а вот беззвучная тьма насторожила меня, если не напугала. А почему, собственно? Бояться надо ослепляющего луча настольной лампы в глаза и громких призывов типа: «Вся власть Советам!» или «Бей Татариновых, спасай Россию!» Чушь в голову лезла. Ну при чем здесь Советы или моя фамилия? Спать надо, иначе завтра на заброшенной ферме буду квелый и сонный. Какая уж тут работа? Или уже сегодня? Сколько, интересно, времени?
Наручных часов я не носил с тех пор, как приобрел сотовый телефон. А тот, помнится, как обычно, заблокировав клавиатуру, засунул под подушку. Не то чтобы ожидал звонка, так, по привычке больше.
Чуть приподнявшись, зашарил руками в поисках сотика.
Не было его. И подушки не было. И еще — майки с трусами. Я оказался голым. Почему-то напрашивалось сравнение с костью или яйцом. Напрашивалось навязчиво.
Все остальное, впрочем, было на месте. В смысле — руки, ноги, голова. И детородный орган, почему-то твердый, как палка или копье… Когда и зачем я разделся? Женщина вроде не намечалась.
По инерции продолжал проверять ложе на ощупь, и до меня только теперь дошло, что постельное белье отсутствует, а лежу я на каких-то шкурах, воняющих прелой мертвечиной. Что за черт?
Похоже, накликал. Услышал душераздирающий скрип снега. Откуда он? Стаяло все давно!
Шаги приближались, причем шел не один человек, несколько. Или не человек? Чушь, конечно человек. Кто еще-то?
Таким образом попытался себя успокоить. Тщетно. Обнаженная кожа покрылась мурашками.
Шаги все ближе…
Но дверь-то на засове! Они не пройдут!
Прошли. Ничего не скрипнуло даже. Вечером дверь скрипела, как несмазанная телега. Злоумышленники подмазали дегтем? Чушь!
Я лежал, и меня трясло, но встать не мог. Не мог и пошевелиться. Парализовал меня ужас, будто связал крепко-накрепко — ни вдохнуть, ни выдохнуть.
А шаги ближе, ближе… и — тишина. Остановился кто-то у кровати, схватил и поднял меня высоко в воздух, и руки были огромные, будто грабли, и держали они меня цепко, как клещи, и понес меня некто неизвестно куда во тьме.
И я увидел, как отодвинулся ковровый полог юрты, и я оказался под бледным смутным светом ночи.
Луна смотрела на меня, ухмыляясь, звезды перемигивались, и горел костер с огромным таганом на треноге, в котором булькала кипящая вода.
И увидел я у костра типа при длинном копье с восковыми чертами монголоидного лица. И ужаснулся, потому что узнал деревянную куклу — Буратино. Одет он был, словно вышел из кадра «Белого солнца пустыни», в пестрый халат, но вместо чалмы — остроконечная шапка с меховой каймой. Рядом еще двое, так же одетых, с кузнечными клещами в полтора метра длиной. Один был белым как мел, другой — черным как сажа. Словом — интернационал по мою душу, точнее — тело души.
Ничего хорошего от Буратины я не ожидал, а тем паче — от копья с ужасающим наконечником в его руках. И он не обманул моих ожиданий, молча кивнул Дьяволице-Шаманке, а я был именно в ее предательских объятиях.
Дьяволица-Шаманка с размаху подбросила меня в воздух, и я подлетел выше вековых сосен. А когда падал вниз, распластавшись, будто парашютист при затяжном прыжке, деревянный злодей с восковым лицом бросил копье. И оно вошло мне в затылок.
Я слышал, как крошится кость, как стальной наконечник прошивает насквозь головной мозг, дыхательное горло, кишечник и выходит из паха наружу…
И — смерть.
Пронзенное тело упало в снег.
Боль упала вместе с телом, страх — тоже.
За древко копья Буратино поднял тело над котлом. Кровь, шипя, смешалась с кипятком и окрасила адское варево в насыщенно-черный цвет. И снова — на снег…
Мне казалось, будто я вижу со стороны, как двое молодцев кузнечными щипцами срывали с тела окровавленные куски плоти, как разбрасывали их на все четыре стороны…
Тело корчилось в судорогах. Боль множилась и множилась, она давно стала невыносимой. Каждый оторванный кусок — стонал, каждая клетка — вопила до хрипоты…
А черно-белые хлопцы без устали работали клещами. Плоть падала в снег, окрашивая его и привлекая омерзительного вида крылатых тварей. Голые, как земляные черви, или сплошь обросшие разноцветной шерстью, но одинаково жадные до человечины, они слетались на куски и рвали их зубами, мелкими, но острыми как опасная бритва художника-постановщика. Их карикатурно-гуманоидные хари кривили усмешки, клекот и визг. Их был легион. Не всем досталось моей плоти.
И вот от меня, лежащего на снегу, остался один только голый скелет с пробитым насквозь, оскаленным черепом.
И тогда интернациональная троица во главе с деревянным монголоидом, земным воплощением сына Владыки Царства Мертвых, садиста и убийцы Эрью Хаара-нойона, принялась ломать мой чисто обглоданный скелет и бросать кости в таган, где уже кипела вода вперемешку с моей кровью.
И каждая косточка стенала. И невыносимая боль сделалась еще более невыносимой. Я, который был съеден кровожадными тварями, разъят на составные и сброшен в кипящий котел… я страдал непередаваемо. Невозможно привыкнуть к подобной муке. И длилось это целую вечность.
И Дьяволица-Шаманка деревянным черпаком помешивала варево и время от времени пробовала на вкус. И не было времени. Оно остановилось, и наступила вечность. Наступила на мою плоть, мои кости, раздавив их, как яичную скорлупу.
И твари, шурша перепончатыми, как у летучих мышей, крыльями, безбоязненно бросались в кипящий котел и уносили кости, разгрызая их на лету, охочие до мозга. И нерадивая хозяйка Шаманка не обращала на воровство внимания. Как же так? Растаскивают меня по косточкам, а тебе по фиг, предательница?
И котел кипел несколько месяцев, и все это время не прекращалась мука.
И Дьяволица-Шаманка помешивала, пробовала и, качая недовольно головой, добавляла в это несъедобное на мой вкус рагу специи — щепотку сухой пахучей травы, влажный помет, птичье перо, сушеную жабу…
Как любая интербригада, распалась и эта. Желтый ушел на Восток, Белый — на Запад, Черный — на Юг, а с Севера пришла новая троица.
Седой Волк с загнутым, как у сибирской лайки, хвостом, черный Ворон в рост человека и белый Баран с закрученными рогами.
Вели они себя вызывающе-нагло, как красные комиссары в церкви, — опрокинули, поддев рогами, котел в огонь, зарычали на Дьяволицу-Шаманку, прокаркали вслед удаляющимся монстрам-гуманоидам. Потом, как попало, стали собирать скелет из вываренных костей, которые теперь к тому же были вывалены в саже костра.
Костей, конечно же, не хватило после воровства летучих тварей с перепончатыми крылышками. Но они же и приперли с затуманенных небес несколько мертвых тел, которые невероятным образом одновременно оставались еще и живыми. И я узнал их лица. И содрогнулся. И хотелось кричать: «Остановитесь!» Но кричать было нечем. Не было у меня ничего, кроме голого, недоукомплектованного скелета, нечленораздельно лязгающего зубами. Не было…
А существа из адского зоосада стали выдирать из живых стенающих тел недостающие кости, вставляя их в меня. И каждая, мгновенно обрастая плотью, чужая кость добавляла к моей боли чужую боль. И входя в унисон, сливаясь и срастаясь, они разрывали душу на бесформенные куски. А те тщетно вопили:
— Ноу! Ноу!! Ноу!!!
— Ты чего орешь?
Он стоял надо мной с опасной бритвой. Еще один. Лысеющий, пожилой, человекообразный. На вид — безобидный совершенно. Сейчас он располосует мне горло, и будет у меня второй рот под подбородком… Сука.
— Ты почему на меня так смотришь? Приснилось что?
Я его вовремя признал, к счастью для нас обоих. Потому что на этот раз не намерен был исполнять роль груши для битья, и очередной монстр получил бы по полной. Но рассеялся туман, застилающий взор и разум. Надо мной склонился всего-то навсего Григорий Сергеев. Он мирно брился, когда я заорал во сне, точнее — в кошмаре.
— С добрым утром, Гриша.
Он с облегчением шумно выдохнул, улыбнулся.
— Слава богу. Я уже подумал, что это необратимый процесс. Глаза у тебя были сумасшедшие, будто ты меня не узнал, боишься и ненавидишь.
Сергеев вернулся к умывальнику, надул щеки и продолжил бритье. Встал ко мне спиной, к счастью. Потому что я попытался подняться с кровати, но рухнул, как мешок с дерьмом. Новособранный скелет не слушался. Чужие кости неестественно выпирали углами. Я не мог с ними совладать. Будто за ночь все мои члены подменили грубыми деревянными протезами…
Что я несу? Уж не воспринял ли я, не в первый уже раз, ночной свой кошмар за действительность? А ведь воспринял! И это явный признак шизофрении, паранойи и иже с ними. Лечиться надо электричеством или грязевые ванны принимать натощак, приятель…
Чушь. Просто отлежал все на неродной койке, вот и объяснение. Или продуло вчера, когда я задремал на вершине скалы у Монгол-Бурхана. Еще и вымок ведь под дождем, дубина лиственничная!
Кости действительно ломило, ломало. Хотелось выпить горячего чаю с малиной и остаться на весь день в постели. И чтобы телевизор негромко гундел голосом доброго Крокодила: «К сожаленью, день рожденья…», и чтобы мама трогала лоб мягкой рукой и говорила: «Сегодня, сынок, в школу не пойдешь, я вызову врача…»
Нету мамы на этом свете, и я давно не ребенок. Надо вставать.
Я перевернулся на живот и приподнялся на руках. Получилось. Вернулся в исходное положение, уткнувшись лицом в простыню, и спустил ноги на пол. Помогая руками, поднялся. Пошатывало. Мне что, придется теперь заново учиться ходить? Вероятно, ночной кошмар оказал на мое сознание гипнотическое действие.
Я пошел, не выбирая направления.
— Ты чего, как на ходулях?
Я и не заметил, как Григорий успел умыться и вытирал уже лицо казенным вафельным полотенцем. Я направил ходули к рукомойнику.
— Ходить за ночь разучился, — ответил я, гордясь удачной шуткой. С долей правды, как это у шуток принято.
— Ну-ну, учись, студент, только не долго. — Григорий повесил полотенце на гвоздь. — Догоняй, я на завтрак.
Я остался один. Соседи наши, вероятно, ушли еще раньше.
Я плеснул в лицо горсть воды, нажав на дребезжащий носик, и принялся тренироваться — ходить по тесной комнате из угла в угол. С каждым разом получалось все лучше и лучше…
ГЛАВА 16 Заброшенная ферма
Полукилометровый залив с пологим берегом между скал. Метрах в ста от моря дом, пять на шесть, из бруса под шиферной крышей, но без дверей и оконных рам. За ним полуразобранные хозяйственные постройки из доброй обрезной доски, посеревшей от солнца и времени. Заборы загонов в том же разворованном состоянии. Запустение. Разруха. Сразу ощущалось, что здесь давно не живут. Заброшенная ферма.
Нам с Григорием Сергеевым предстояло привести ее в псевдожилой вид за два дня. Точнее, художник работал со мной только сегодня, а завтра я должен был закончить все один. Послезавтра — здесь съемки.
Нас привезли на японском грузовичке, в кузов которого мы побросали купленные еще в Иркутске многослойную фанеру, рейку, банки краски, шпатлевку, кусковую гашеную известь в целлофановых мешках и прочий материал, а также ручной столярный инструмент, нужный для работы. На фанере сверху друг на друге лежали, прикрученные проволокой к переднему борту, четыре остекленных оконных блока.
Водитель помог нам все это выгрузить, покурил и укатил уже через четверть часа. Мы остались одни.
— Ты здесь раньше бывал? — спросил я Григория.
— Я это место для съемок и предложил, — ответил он. — Посмотри, красота какая.
Он прав. Впрочем, любой уголок земли не лишен собственного очарования, надо только уметь его рассмотреть. Но это место все-таки было особенным.
Сразу от воды начинался неторопливый подъем, а за домом уже холмы плавно перетекали один в другой.
Снег зимой на Ольхоне лежит лишь в лесах на севере-востоке острова да в горных распадках, с равнин и холмов его сдувают никогда не прекращающиеся ветра с красивыми экзотическими именами. С юга — Култук, из Сарминского ущелья Малого моря — Сарма, с бурятского, восточного берега — Баргузин, вдоль всего моря с крайнего севера дует Ангара.
Вокруг красно-коричневая, местами желтоватая земля, покрытая сплошь подрагивающим сухостоем прошлогодней травы — ковыль да бледная степная полынь в основном. Кое-где на холмах одинокие деревья, часто реликтовая лиственница или раскидистая, издали похожая на лиственное дерево сосна.
Слева и справа в отдалении громоздились заснеженные невысокие скалы, а прямо впереди за широкой полосой байкальского льда просматривалась горная гряда противоположного, материкового берега Малого моря.
И все это под ослепительным солнцем в мутновато-синем, живом небе.
При видимой горной ограниченности пространства создавалось ощущение широты и беспредельности. Как это возможно на острове, одним только этим указывающем на границы сред, не знаю. Но — было.
— Давай-ка чаек вскипятим перед работой, — предложил Григорий Сергеев.
— Костер разводить? — спросил я.
— Зачем? Печка есть. Это же обычный жилой дом, — ответил Григорий и добавил, поднимаясь по ступеням крыльца: — Лет пятнадцать назад был.
Я прошел следом.
Печка точно была — русская, почти посредине единственной комнаты, чуть смещена влево. Но кирпичи расшатались, глина меж ними вывалилась, а под верхней чугунной плитой щели были местами аж в два пальца. Впрочем, все необходимые причиндалы присутствовали — заслонка и обе дверцы. Покуда печь хорошо не разгорится и не прогреется, дымить будет так, что угореть можно.
Два окна с переднего торца, выходящего на берег, четыре слева, два — с торца, где дверь, справа, где печь, — стена глухая. Окна зияли провалами рамы вместе с коробками разворовали.
На полу мусор, но, к счастью, без традиционных в заброшенных домах кучек высохших человеческих экскрементов. И на том спасибо.
У стены стояла фанерная тумбочка, которая, видимо, использовалась как стол. На ней — порожняя бутылка водки, импровизированная пепельница — баночка из-под кильки в томате с окурком «беломора» и объедки на газете, не поддающиеся идентификации.
Справа в дальнем углу — сколоченный из доски широкий настил в полметра высотой.
— Небогатая обстановка, — констатировал я, осмотревшись.
— Зато крыша над головой. — Григорий кивнул на дощатое сооружение. — Здесь рыбаки ночуют, когда омуль идет.
— Где рыбаки? Я слышал, их здесь весной на льду, как блох на собаке.
Григорий пожал плечами:
— Не было в этом году рыбы, нет и рыбаков.
— А куда девалась?
— По всему Байкалу не было. Может, омуль так на аномально теплую погоду среагировал, черт знает?
Он присел на корточки у печки, стал собирать разбросанную щепу. Рядом лежало несколько обрезков доски. Вот куда забор девается.
— Я за дровами.
Григорий не ответил — скрипел печными дверцами, проверял заслонку…
Сперва я собрал деревянный и бумажный мусор вокруг дома. Все равно художник-постановщик сказал, что территорию придется чистить, чтобы не попали в кадр XIX века, скажем, пустая пачка из-под «Примы» или пластиковая бутылка.
Завалив пол у ног Григория мусором для растопки, я пошел за нормальными дровами, а заодно и осмотреться.
В прошлогодней траве на красноватой почве белели кости. В десятке шагов от крыльца я обнаружил большой продолговатый череп лошади. Звали меня не Олег, конь был не мой, стихов я не любил, а потому не больно испугался.
Меж зубов проросла трава, кто-то шандарахнул череп сверху валуном, лежащим рядом, — проломил посередине. Мелкие осколки провалились внутрь.
Поодаль еще один череп — большой, рогатый, вероятно коровий. Вырванный с корнем рог в паре шагов, другой — аккуратно спилен. Кем? Зачем?
Еще один — круглый, неповрежденный, скорее всего бараний. Рога закручены, зубы на верхней челюсти все как один целы. Я поднял его, осмотрел и решил взять с собой — сувенир некрофила. Вот только что здесь за скотобойня была? Кладбище парнокопытных, точнее — свалка. Кости под ногами всюду — тонкие ребра, массивные берцовые, подвяленные копыта разных размеров, как тапочки на полке в сельпо…
Дым шел не из трубы, а клубился из оконных и дверного проемов, будто Григорий не печь затопил, а подпалил дом. Сам поджигатель курил на крыльце. Мало ему чада.
Увидев бараний череп, заинтересовался, осмотрел.
— Хороший, целый весь. Тебе нужен?
— Домой увезу, — ответил я. — Сувенир будет.
— Отдай за бутылку, — предложил художник. — Я коллекцию собираю, штук десять разных уже собрал… — Тут же и нашелся: — А давай я тебе бутылку поставлю, а мы просто черепами обменяемся. У меня в мастерской такой же, но с обломанным рогом.
Хотелось сказать: «На хрена мне лысый и рогатый череп пожилого художника-постановщика?», но я сдержался, не стал обижать товарища.
— Еще чего, — заупрямился я, отбирая череп. — Не нужен мне с обломанным!
Можно было подумать, что эта голая и рогатая хрень мне прямо-таки необходима. Или я во сне на кости не налюбовался? Только место в сумке будет занимать. Однако — уперся.
Печь прогрелась и перестала дымить. Тяга оказалась хорошей. Если печку чуть подмазать глиной, в доме вполне можно жить.
К работе приступили после чая с бутербродами из столовой Никиты. Григорий начал разбирать дощатый настил, а я занялся оконными проемами. Блоков было всего четыре, но в кадр именно столько окон и попадало. Что не видно — того не существует. Сплошной солипсизм в кино и жизни.
Блоки художник покупал без замеров, на глазок. К моей удаче, ошибся в меньшую сторону. Мне пришлось добить к проемам сантиметров двадцать с боку и десять снизу. Не проблема. Вот если бы он ошибся в большую, тогда все — сливай воду, гаси свет. Коробки и рамы пришлось бы разбирать, укорачивать, а потом еще резать стекло по новым размерам. На весь день работа. Мне повезло, управился часа за четыре.
Разыскивая нужной ширины доску, забрел в какой-то сарай за домом. Там было пусто, но в нос шибанул густой смрад. Чем могло вонять?
Я подождал, пока глаза привыкнут к полутьме и увидел в пыльных солнечных лучах, бьющих сквозь щели, в углу под потолком белесый надутый пузырь. Точно такой я уже видел в срубе, где режиссер застрелил собаку по кличке Нойон. Что такое вонючее он содержит внутри?
Я шагнул в глубь. Пузырь, словно реагируя на мое движение, запульсировал, и на его мерзко-белесой коже псевдопрезерватива проступили бордовые прожилки, похожие на кровеносные сосуды. Он что, живой? Я протянул в его направлении руку — прожилки загустели, пульсация усилилась…
Нет, трогать это противно. Я убрал руку за спину. Возникло ощущение, что я все ж таки дотронулся. Как до жидкого дерьма или плевка на перилах…
Посмотрел по сторонам в поисках какой-нибудь палки — тщетно. Пустое пространство кругом под слоем серой пыли, да еще эти лучи из щелей… Не то чтобы страшно стало, но неуютно как-то. И вонь, показалось, усилилась.
Не рискуя поворачиваться к пузырю спиной, пятясь, вышел из сарая. На свежем воздухе вздохнул с облегчением. В пяти шагах увидел на земле полутораметровый обломок бруса. Подошел, подобрал. Вернулся к входу и сделал уже шаг, но тут под ноги мне, повизгивая, бросилась из сарая грязновато-серая собачонка. От неожиданности я шарахнулся назад, споткнувшись обо что-то, упал навзничь, а когда поднялся, никого уже не увидел. Что за хрень? Откуда в пустом помещении взялась псина? Не было ее там минуту назад! Убейте, не было!
Заглянул в сарай — пузыря в углу тоже как не бывало. Что за черт?
Колотили и пилили, красили и белили…
Потом Григорий рассказал и показал, как все должно выглядеть. Завтра ему, кровь из носу, надо было быть на съемках, и доделывать должен был я один. Ничего страшного. Бутафория она и есть бутафория, в этом доме людям не жить. Требовалась видимость правдоподобия, а не добротность. Как везде.
Отобедали дарами Никиты. Григорий уперся с фотоаппаратом на холмы, а я, покуривая на крылечке, стал вспоминать вчерашний день, точнее, телефонный разговор с Борей Кикиным.
То, что вообще связь возникла, неудивительно — я находился на вершине скалы. А вот то, что Борис смог со мной говорить, очень меня насторожило. Не могли у него так скоро срастись губы, рассеченные топором деревянного злодея. Нет, не могли…
Я достал мобильник — связи не было. Принялся щелкать от нечего делать и дощелкал до «входящих». И тогда мне пришла в голову мысль забраться на горку, позвонить по вчерашнему номеру и спросить, как здоровье Бориса. Он, поди, у соседа по палате телефон брал.
Я изучил список номеров. Потом еще раз, внимательней… Не было ни одного незнакомого номера вообще во «входящих», все были под именами или фамилиями. Что же, выходит, мне вчера никто не звонил? Не требовал уничтожить Буратину? Не называл его любимым сыном Эрлен-хана, владыки Царства Мертвых?
Одно из двух: или я спятил, или все это мне приснилось. Скорей всего — и то и другое…
Григорий сфоткал меня, ошарашенного, на крыльце дома, и показал большой палец. Лучше бы показал средний, как это принято за океаном. Я большого не заслужил, псих ненормальный. Нет, чует мое сердце, не дожить мне до тридцати четырех и далее — без остановок…
Забирал нас с Григорием Сергеевым вечером водитель-бурят, сосед, которого я ни разу не видел в доме № 11. И первое, что я обнаружил в салоне микроавтобуса, был Буратино, небрежно брошенный на заднее сиденье. Без топора, конечно.
А я-то, кретин, придумал бог весть что…
Спрашивать у неулыбчивого шофера я ничего не стал, и без того все было ясно. Значит, не оставили на съемках куклу, подобрали неизвестно для чего. Впрочем, какая разница?
Дикими и безумными мне теперь казались мои домыслы о вредоносности и преступных замыслах деревянной чурки. Бред, да и только. Стоит по приезде в город показаться психиатру.
ГЛАВА 17 Пощечина переводчицы
Анна Ананьева встречала нас у ворот усадьбы.
Нет, не Чингисхан я, не средневековый монгол, не современный мусульманин, не прокормить мне более одной жены. Да и крещен я в православие, многоженство — грех. Помню заповедь: не возжелай жены ближнего своего…
Но Жоан Каро далеко, да и уедет она скоро в свою Францию, будто ее и не было. А москвичка в Москву укатит, но я и сам туда собрался, и виза пока не нужна. Так какие вопросы? Нет вопросов!
Я смотрел на нее, красивую, молодую, эффектную, и слезы на глаза наворачивались. Ну почему, почему я, дурак, не влюбился в эту синичку с умопомрачительной рельефной фигурой слона? Или коня… Шахматного, конечно.
Ну на кой мне журавль в чужом, закатном небе Европы? Наши отношения с Жоан обречены на разрыв. Аксиома. Впрочем, человек с рождения обречен на смерть, однако это не повод стрелять в висок, лезть в петлю и прыгать с небоскреба. Или повод?
Анна Ананьева, разглядев меня в салоне, помахала рукой, улыбнулась. Хорошая улыбка.
Это что, значит, истерик не будет? Не будет даже разборок? Плохо. Она бы: «Почему не пришел вчера, подлец? Я ждала…» А я бы: «Пошла ты, знаешь куда?» И все. Мне нужен был повод. Я далеко не ангел, близко — тем паче. Но после того, что было между мной и Жоан в ночной хужирской степи, тривиальная пошловатая измена приобретала роковые черты предательства. Я многое могу себе простить, только не предательство. И пусть журавль улетит в свои пасмурные небеса, пусть, главное, я прикасался к нему, я любил его, и он, точнее, она… Так, как это возможно для нее, она любила, она любит меня. И значит — решено.
Водитель припарковал микроавтобус на стоянке, я запомнил место. Сам не знаю зачем.
Мы выбрались наружу, и тут же к нам подошла Анна:
— Привет, Андрей!
Подобный профиль достоин лишь золотой монеты хорошей чеканки. Объективно. Но внутри у меня ничего не отозвалось на улыбку. Снегопад бы хоть, что ли, начался, необязательный…
— Привет, Анечка! — Жизнерадостный художник чмокнул девушку в щечку. — Что интересного происходило в наше отсутствие?
— На съемках все как обычно. А интересное, точнее, печальное произошло.
— И что же?
Они говорили меж собой, я молчал и улыбался.
— Помните, шаман предсказал свою смерть? Все только об этом и говорят. Он умер.
— Который на могилу Чингисхана нас водил? — уточнил Григорий.
Анна кивнула.
— Печально.
Это чувство на его лице никак не отразилось. Сам я тоже не зарыдал, не посыпал голову пеплом. Кому, как не мне, знать, что и могила Чингисхана, и сам шаман, и его смерть — сплошная бутафория, спланированная иркутским бизнесменом Николаем Алексеевым, а возможно, и кем-то повыше.
— Он, говорят, вчера ночью у костра повторил приглашение на свои похороны, позволил снимать обряд, а потом пошел домой и умер.
Во как. Прямо блокбастер с голливудскими спецэффектами! Пригласил, позволил, пошел и умер… Смех! Неужели никто ничего не заподозрил? Нитки белые торчат из шаманского прикида. Не бывает так!
— Ну и что, — подал я наконец голос, — Поль Диарен будет снимать похороны?
— Конечно. А оператор Ганс Бауэр так вообще в восторг пришел. Экзотика, этнография, на них Запад давно помешался. Еще и смерть бурятского шамана, причем предсказанная им самим, словом, мистика… Съемки послезавтра в два часа дня. Всех уже предупредили.
— Понятно.
Григорий поднял с земли сумку — он свой инструмент забрал, я оставил. Надеюсь, за ночь не растащат. Да и кому тащить? Разве что привидениям, бурятским боохолдоям, захочется позабавиться моим рубанком и молотком.
— После ужина в баню идешь? — спросил художник.
— Нет, — ответила вместо меня Анна.
Я дар речи потерял, и Гриша за это время ушел с усмешкой понимания на искривленных губах.
— Это еще почему?
— По кочану!
— Почему ты за меня решаешь?
— Потому!
И она бесцеремонно развернула меня к себе лицом, и обняла крепко, и прижалась… Знала чем, умная. Я ощутил ее грудь, и мелькнула мысль: почему? Ну почему все это так безотказно действует? Обычные, привычные части тела, однако… Не впадаю же я в экстаз при виде освежеванного кролика! Чушь в голову лезла. При чем здесь кролик, тем более — освежеванный?
Не кролик, нет. И не синица. Другой какой-то зверь, дикий, хищный, агрессивный. Я такой Анечку ни разу не видел. И зря.
Я все еще пытался сопротивляться, точнее, не поддаваться на провокацию. Но она двумя руками склонила мою упрямую глупую голову и поцеловала. Если это можно назвать поцелуем. Я думал, лишусь обеих губ вместе с языком. Не лишился. Им понравилось. Мне тоже.
Оторвалась, хватанула воздух, будто из глубины вынырнула. И — врезала мне пощечину. Я знал, за что, но дурачком прикинуться часто невредно:
— За что?!
— Для профилактики.
И — повторный нырок на еще большую глубину, на самое дно, куда и солнце не заглядывает, где черная тьма, бурая тина и жизнерадостные зеленоволосые русалки беззаботно водят хороводы вокруг утопленников. Спасите!
Она взяла меня за уши… Правда-правда! Она взяла меня за уши и, говоря, тянула их в такт: вверх-вниз, вверх-вниз… Больно!
— Если ты еще раз, подлец, позволишь себе меня огорчить, я тебя убью. Понял?!
Оставив уши в покое, влепила новую пощечину в ту же левую щеку. Вероятно, удар с правой у нее лучше поставлен. Я оценил.
— Я спросила: ты понял?
Черт возьми, можно было остановить эту вакханалию одним коротким ударом без замаху. Но мне правилось. Пусть. Может, с нами, мужиками, только так и надо: упал-отжался, упал-отжался? И в каждом из нас дремлет прыщавый подросток со слезящимися глазами, тоскующий по сильной, властной женщине? Как Дьяволица-Шаманка из моего сна…
Отследив еще один замах, я поторопился согласиться.
— Понял, Аня, хватит, не перегибай!
— Пошли! — Она ухватила меня под руку и повела. От столовой, к слову, в сторону.
— Слушай, я жрать хочу! Я весь день вкалывал!
— Будет тебе ужин, успокойся, — не сбавляя шагу, сказала она. Вела меня Аня, как, я понял, в свой дом № 7, где в отсутствие Жоан Каро была она единственной хозяйкой.
— И мне правда в баню надо!
— Ерунда, — усмехнулась, — мне нравится запах мужского пота. Он меня заводит.
«Извращенка», — подумал я с нежностью. Где были мои благие намерения? Дороги куда вымощены ими?
И еще подумал: «Интересно, есть у нее в номере хлыст, наручники и кожаный прикид? Очень бы все это подошло к ее новому имиджу…»
Анна втолкнула меня внутрь и захлопнула дверь. Потом заперла ее на ключ, который с размаху выбросила в окно.
Шучу. Ключ остался в замочной скважине, как кость в горле… Да что у меня за сравнения такие? Опять кости, всюду кости… Тут же и вспомнил, что череп барана оставил в заброшенном доме на полочке возле печки…
И больше я уже ничего не вспоминал, ни о чем не думал, потому что Анечка взялась за меня по-настоящему.
Все было в точности как в первый раз в моей иркутской квартире, но мы поменялись ролями. Я был грубо взят на полу в прихожей. Слово «изнасилован» не подходит, я был не против. Мне понравилось. Всё. Я подчинялся с удовольствием. С огромным.
А потом она, ухватив меня за руку, перетащила на ложе, укрытое звериными шкурами.
— Я согласна стать твоей женой, Андрей Татаринов! — сообщила переводчица, забираясь на меня сверху. — Но жить мы будем в столице мира на Севере, где растет раскидистая Мировая Ель, на ветвях которой — гнезда с яйцами, в которых зреют до поры души нерожденных шаманов…
И единственная грудь переводчицы раскачивалась в такт размеренным движениям…
И единственный глаз переводчицы горел бордовым адским пламенем…
И негнущиеся в локтях руки переводчицы каучуково обнимали мое тело…
И раскаленное добела, жадное лоно переводчицы поглотило меня целиком вместе с ложем, устланным звериными шкурами, усадьбой Никиты, Хужиром и Ольхоном…
Может быть, накрылась и вся планета, я не знаю. Я потерял сознание. От удовольствия.
Я вышел из номера Анны Ананьевой глубокой ночью.
Сквозь густую облачность, накрывшую деревню Хужир, ни луна, ни звезды не проглядывали. Глаза прекрасно видели во тьме, но все вокруг приобрело красноватый оттенок, будто я смотрел сквозь прибор ночного видения. Не было у меня никакого прибора.
Все давно спали, свет нигде не горел — Никита отключал свой дизельный генератор в одиннадцать вечера.
Я прошел по дорожке, посыпанной песком, к автостоянке.
Больше десятка разных машин, но корейский микроавтобус всего один. Обошел его вокруг. Памятуя, что водитель, похоже, не ночует в номере, заглянул в салон и на переднее сиденье. Никого. Не считая деревянной куклы сзади. За ней я и пришел.
Прислушался, замерев у двери. Тихо. Надавил на стекло, и оно без труда ушло в сторону сантиметров на пятнадцать. Достаточно.
Просунул руку, открыл замок. Когда потянул за ручку, дверь заскрежетала так, что разбудила бы и мертвого. Не разбудила.
Прошел, согнувшись, в тесный салон…
Под свой куцый рост азиаты конструируют автомобили…
Буратино лежал на спине, голый как кость. Шаманский костюм у него, вероятно, конфисковал реквизитор…
Восковое лицо, теперь, как все вокруг, красноватое, казалось, кривила усмешка… Чушь, конечно. Невозможна мимика у неживых предметов. Или возможна?
Я взял его на руки. Он был не тяжелее вязанки дров.
Вышел и бросил на землю. Надеюсь, ушибся, сволочь.
Закрыл сперва окошко, потом захлопнул дверцу, будто из берданки пальнул.
Достал мобильник. Гастарбайтеры-таджики встают рано, да и столовские тоже. Посмотрел на светящийся экран — два часа пятнадцать минут. Даже для них слишком рано. Успею.
Прошел в баню, в которую меня так и не пустили вечером. Мыться не собирался.
У металлической печки, одной только своей дверцей выходящей в предбанник, валялись несколько поленьев и топор, поодаль стояла картонная коробка. То, что надо.
Бросил куклу в угол.
Настрогал щепы, в картонной коробке нашел старые газеты и лохмотья бересты для растопки. Отлично.
Дверца на ощупь была теплой, но угли уже прогорели.
Не жалея, положил на дно топки бумагу, скомканную вперемежку с берестой. Сверху — немного щепы.
Поджег от газовой зажигалки.
Береста затрещала, смола выступала, опережая пламя.
Подбросил еще щепы. Потом — пару поленьев потоньше.
Вытянул на полу правую руку Буратины и рубанул топором по суставу. Зазвенело. Сустав оказался железным, на лезвии появилась зазубрина.
Попробовал по-другому. Сам сел на корточки, приподнял вражескую руку и стал ломать ее о колено. С треском переломил. Сустав, точнее, шаровый шарнир вышел из гнезда, отколов узкий и острый осколок от предплечья.
Я держал в руках руку, пальцы которой имели всего два сустава.
Я смотрел на руку, которая не так давно держала топор, который едва не убил Борю Кикина. Дай ей волю, она крушила бы и крошила человеческие черепа, как яичную скорлупу…
Я сунул руку в печь. Поместилась. Взялся за левую…
Заглянул в топку. Дерево руки обгорело мгновенно, и я увидел под ним матово-белую кость. Возможно, мне это почудилось. Как и тошнотворный запах горелого мяса.
Буратины больше не было. А говорят — бессмертный, убить нельзя… Хорошо сгорела вязанка дров…
Я вернулся в дом № 11. Надо поспать хотя бы остаток ночи, иначе работник утром буду никакой. Если, конечно, я смогу уснуть. Смог. Или все-таки нет?
ГЛАВА 18 …Но нет ее и выше…
Где-то на грани яви и сна, а может, уже и за гранью, услышал, как во входную дверь настойчиво скребут, тихонько скуля при этом. Что за зверь? Были у меня уже в гостях Ворон, Баран и Волк, но им, помнится, задвижка на двери войти не помешала…
Я сел на кровати. Григорий напротив негромко посапывал, пиротехник Петя на удивление не храпел, место водителя пустовало. И в микроавтобусе его нет. Где он, интересно, ночует? Впрочем, как раз это интересовало меня меньше всего.
Из-за дверей продолжался скулеж. Очень печальная какая-то собака и очень нетерпеливая. До утра не могла отложить визит, так я ей нужен…
Нашарил ботинки и, не надевая носков, сунул в них ноги. Подошел к дверям. Приоткрыл и выглянул в узкую щель. Собака. Почуяла, что я подошел. Сидела в двух шагах и смотрела. Ждала. Меня?
Не она, на самом деле он, кобель. Кажется, я его узнал — большой, лохматый, с проседью. Это невозможно, однако вот он.
Я вышел. Пес как с цепи сорвался, завилял интенсивно хвостом, заскулил навзрыд, а потом, вот подлец, умудрился, положив передние лапы мне на грудь, дотянуться до лица и вылизать его до блеска. Я позволил. Пусть. Хороший. Погладил по загривку, а он завихлялся аж всем телом от удовольствия.
Во лбу его я видел ровное круглое отверстие, а на затылке нащупал рваную дыру. Ишь, как разнесло… Бедный.
— Ну чего тебе, Нойон? Что пришел? На сосне не лежится?
Он тявкнул, а мне показалось, ответил: да! Отпрыгнул от меня, пробежал с десяток шагов, сел и снова тявкнул. Я понял, Нойон меня зовет куда-то, хочет, чтобы я с ним пошел. Я не боялся подвоха. Он друг, и привести может только к друзьям.
— Ну что ж, пойдем, Нойон-полуволк.
Он будто понял… Да без всяких «будто», просто понял. Дождался меня, нарядного — в трусах, майке и ботинках на босу ногу, и пошел чуть впереди, указывая дорогу.
Мне, кстати, в подобном прикиде должно было быть холодно, температура ночью отрицательная, однако холода я не чувствовал. Напротив, ощущал себя комфортно, дышалось легко. Воздух будто состоял из одного только послегрозового озона, голова даже чуть кружилась, как после ста граммов с устатку…
Как батут, пружинила под ногами красноватая почва. Впрочем, красноватым было теперь все — дома, заборы, прошлогодний ковыль по обочинам, одинокие деревья, небеса и Нойон-полуволк.
Мы миновали деревню, вышли за околицу и пошли по степи. Я догадался, куда. Через четверть часа оказались на берегу застывшего Байкала. Поднялись по крутой тропинке на знакомую скалу…
Касаясь рукой Монгол-Бурхана, у самого обрыва стоял лицом ко мне Михаил Татаринов, мой вероятный предок. Точнее — невероятный.
И сам он был Русский Бурхан. Столб ставили в честь него, инородного шамана, может быть, первого, но, похоже, не последнего. И я увидел, что да, черты лица у идола вполне европейские и разрез выпученных глаз тоже. Но Борька-то Кикин вырубал монголоида в чистом виде! Значит, он сам себя изменил. В моих глазах, по крайней мере.
Михаил Татаринов молчал и улыбался. Я узнал его сразу, хотя со стороны видел впервые. В тех снах я как бы оказывался в его теле, был им. Теперь я мог его рассмотреть. Он стоял в пяти шагах. Молчал и улыбался.
Черты лица имел почти мои, но благородное дворянское происхождение читалось в них, как в открытой книге. В отличие от меня — плебей плебеем…
Или дело не в происхождении даже, а в самоуважении, достоинстве? А оно дается помыслами и поступками, а не фактом рождения в определенном социуме. Да, есть благородство врожденное, воспитанное, но оно ничто перед приобретенным, выстраданным, оплаченным собственной жизнью не во грехе. Именно такого рода благородство присутствовало в чертах лица, взгляде, улыбке, даже осанке моего далекого предка Михаила Татаринова.
И сделалось мне мучительно больно за бесцельно прожитые годы, за конформизм, бесхребетность и отсутствие позитивных идеалов. Можно оправдаться: мол, время такое! Мол, нас так учили… точнее — ничему нас не учили. И я был не лучшим учеником…
Чушь, дело в тебе самом, а не во времени и учителях… Хотя элитные войска турецкого султана — янычары — набирались из детей христиан, отобранных у родителей и воспитанных в традициях Ислама и преданности властелину…
Впрочем, это называется зомбированием, а меня и не воспитывал-то никто, кроме родителей, конечно. А они говорили: «Будь честен с самим собой, остальное приложится». Это я принял и запомнил. Они говорили: будь хорошим, что значило — не убий, не укради, не возжелай… И что? Какая скука…
Господи! Дай мне справедливую войну, где изначально ясно, кто враг, кто друг. Дай мне амбразуру, и я лягу на нее грудью! Дай самолет, и я пойду на таран! Дай связку гранат, я брошусь под вражеский танк!
«Нет, — отвечает Творец, — не будет тебе в чистом виде белого и черного, добра и зла, истины и лжи. Я перемешал палитру, и будет одно только буйство полутонов… Или — знаешь детские чудо-карандаши? Недавно появились. Проведешь одним — синяя черта, по ней другим — черта становится зеленой. Или — красной. Или — какой угодно!
То же — с истиной, добром и свесом. То же — с ложью, злом и тьмой.
И будет так до скончания времен.
Аминь».
Пришел я в себя оттого, что Нойон-полуволк потерся о мою ногу и заскулил.
— Что, мой? Что ты хочешь сказать? — Я погладил пробитую навылет лохматую голову, пес успокоился и сел. Я поднял глаза.
Михаил Татаринов молчал, но я догадался, что мы говорим с ним уже давно. Говорим, не открывая рта, не шевеля губами.
«Пойдем», — именно таким образом сказал мой предок.
— Куда? — спросил я вслух, так мне было привычней.
«Не задавай вопросов. Это глупо. Ответы придут сами. Или не придут».
Я пожал плечами. Я ничего не понимал. Впрочем, если следовать логике предка, понимание от непонимания мало чем отличается. Ничем.
Михаил посмотрел в небо, я проследил за его взглядом — сплошная облачность, ни звезд, ни луны. Однако лунный луч упал с небес нам под ноги и сделался полупрозрачным серебристым подобием лестницы. Невольно вспомнился «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Вот только куда они умотали по этой прямой дорожке — не вспомнилось.
«Булгакову даны были многие знания, — услышал я голос предка, — но он не все понял правильно. Впрочем, не о нем речь. То, что он понял и написал, мог понять и написать один он. И в этом было его предназначение».
Нойон залаял, побежал, виляя хвостом, к лестнице. И — прошел сквозь нее. Что неудивительно. По лунным лестницам или лучам гуляют лишь в романах Булгакова или Желязны.
«Нойону нет пути наверх, он — земной».
Сообщив эту информацию, Михаил Татаринов ступил на первую ступеньку, потом на вторую… Они выдержали. Что тоже неудивительно. Откуда в нем физический вес? Он умер почти триста лет назад. Но я-то живой!
Русский шаман еще чуть поднялся и повернулся ко мне. Ясно зачем.
Я подошел ближе. Экая прозрачная хрень… Впрочем, первая ступенька над скалой. Чем я рискую? Рухнуть вниз с высоты тридцать сантиметров. Смертельный номер.
Я поставил правую ногу, и она не провалилась. Поставил рядом левую, встал. Стоял и не падал и видел скалу под ногами. Наваждение. Будет весело, если оно прекратится, когда я поднимусь достаточно высоко над Байкалом и упаду на лед, как мешок с дустом…
Я догнал Михаила, и мы пошли рядом, ширина позволяла.
Сначала я смотрел вниз и видел лед, скалы, пологие сопки острова Ольхон. Потом мы оказались в плотной облачности, и возникло ощущение, будто я лечу в самолете со страшной скоростью пять километров в час.
Мы шли долго, целую вечность, а может, пятнадцать минут. Чувство времени я утратил напрочь, или времени здесь не было, в привычном понимании, конечно. Я не знал, а предок мне не объяснил, ни куда мы идем, ни каков смысл нашего похода. Впрочем, следуя его логике, смысл от бессмыслицы не отличается ничем.
«Правильно», — услышал я его голос и не удержался, трехэтажно выразился по матери. Он усмехнулся.
Скоро оказалось, что я утратил не одно только чувство времени, но и верх у меня перепутался с низом. Точнее — они поменялись местами. Отлично помню, что мы стали подниматься по лестнице вверх, и вдруг я в какой-то момент понял, что мы спускаемся вниз. Когда произошла эта метаморфоза, я не заметил. Только что — вверх, через мгновение — вниз. Это произошло в облаках, где и ступенек-то не различить, они угадывались не глазами, другим каким-то органом. Все равно странно. Лента Мёбиуса? Слышал о ней краем уха, но и только.
Словом, мы теперь спускались, и в этом новом «низу» я различил лед, скалы, пологие сопки какого-то острова.
«Это Ольхон», — раздался в голове голос предка.
— Мы вернулись назад? — догадался я. — Лестница ведет по кругу?
«Лестница ведет вверх».
Я промолчал. Он еще и издевается…
«Не пытайся понять, ты подобен младенцу. Просто смотри. Смотри и запоминай. Запоминай, но не спеши делать выводы. Все твои первые выводы будут ложными. И вторые. И десятые… Мне потребовались столетия, чтобы понять хоть что-то. Но и я подобен младенцу. Я не делаю выводов, потому что и они будут ложными…»
Замечательная перспектива. Если приплюсовать его земную жизнь, триста лет для понимания оказалось недостаточно. А сколько надо — тысячу? Но я-то проживу до сорока четырех, пятидесяти пяти, ну в лучшем случае — до семидесяти семи. У меня попросту нет лишнего времени!
«У тебя впереди вечность».
— Но я умру! — воскликнул я, топнув ногой, — лестница выдержала, но впредь психовать я поостерегся.
«В современном тебе мире представление о смерти ложно, о жизни тоже».
— В современном тебе мире они были истинны? — Я усмехнулся.
«Не совсем, но много ближе к истине. Любая религия лучше атеизма».
Тоже мне, проповедник нашелся, и чего? Архаического шаманизма!
«Повторяю — любая!»
Лестница спускалась на точь-в-точь такую же скалу, с которой мы начали подъем. Только Монгол-Бурхан не стоял у обрыва.
Мы ступили на твердую почву, сошли со скалы. Безбрежная степь вокруг с сухостоем прошлогодней травы, пологие холмы. На востоке небосвод чуть алел. Близился рассвет.
Я понимал, что обманывать меня Михаил не станет, но не оставляло меня ощущение, что мы вернулись назад. Не видел я никакой разницы. Абсолютно.
— Где мы, Михаил?
«На Небесах».
И это Небеса? Где дедушка Творец с седой бородой? Где райские кущи? Где гурии? Где ангелы, в конце концов?
«Мы все здесь ангелы», — ответил предок, взял меня за руку, и мы неторопливо полетели в десятке метров над землей.
Край светила показался над горизонтом. Вместе с белым светом солнца в мир возвращалось многоцветье.
Мы летели, и я видел стада овец и коров, белые юрты, пастухов на лошадях, собак, охраняющих скот. От кого?
Мы пролетали над местом, где стоял Хужир. Хужира не было, лишь несколько юрт без всякого порядка было разбросано по степи. И — стада. И — всадники. И — собаки… Экая патриархальность…
— А Европа здесь есть?
«Есть».
— И Америка?
«Конечно».
— Ну и как там?
«Точно так же».
— А куда делись заводы, фабрики, машины и самолеты?
«Их здесь никогда и не было. Зачем транспорт, если ты мгновенно можешь перенестись из одного места в любое другое? Зачем одежда, если она нетленна? Зачем пища, если ты всегда сыт?»
— Зачем жевательная резинка, если кариес невозможен?
«И дурной запах изо рта…»
— Вы, наверно, и не испражняетесь? — предположил я.
«Нет, конечно», — ответил Михаил Татаринов, и такая печаль в нем ощущалась… Ностальгия, вероятно.
«В Срединном мире так будет через несколько тысячелетий, — добавил он, — если к тому времени там хоть кто-то останется…»
— Похоже на коммунизм, — сказал я, — причем на первобытный. Но события на нашей с тобой родине, Михаил, наглядно доказали, что построение коммунизма невозможно даже в одной, отдельно взятой за жопу стране!
Он ничего мне не ответил. Правда, она глаза колет…
Нет, никогда не хотел я жить при коммунизме, в Раю или монастыре. Все три этих места сливались в моем представлении в нечто единое — пресное и приторное одновременно. Возможно, это от недостатка информации. Возможно, жизнь там полна веселья, радости и удовольствий. Тайных, вероятно…
Вдруг я услышал звон. Колокольный? Поинтересовался у родственника:
— Тут что, и православные монастыри есть?
— Какие, на хрен, монастыри, ты бредишь? — спросил почему-то вслух Михаил Татаринов.
Я удивился. Я открыл глаза. Это наваждение какое-то. Григорий Сергеев опять брился и звенел носиком рукомойника. Он бреется каждый день! И орошает себя «Тройным» одеколоном! С ума можно сойти от повадок старой гвардии…
— Ты где вчера шлялся? И на ужине тебя не было, и когда я спать ложился.
— Да так, гулял.
Не объяснять же ему, что я развлекался с Анной Ананьевой, переводчицей, у которой один глаз, одна грудь и руки без локтевых суставов. Я усмехнулся. Привидится же такое… Богатое у меня воображение, как у живописца. Хотя я слышал где-то, что есть такие феномены, по одной только розовой пятке в минуту дорисуют остальное…
— Жоан Каро, что ли, приехала? — продолжил допрос Григорий. Ишь, какой любознательный!
— Не приехала.
— Тогда кто? — Он всерьез заинтересовался, даже бриться перестал.
Я кивнул на нетронутую кровать водителя бурята:
— Ты обратил внимание, что шофер тоже не ночевал?
— Обратил.
— Ну, вот мы с ним время и проводим в утехах. В микроавтобусе на заднем сиденье. Надоело мне, понимаешь, бабы да бабы… разнообразия хочется!
— Тьфу, дурак! — Григорий отвернулся и продолжил свое опасное бритье. Его даже шутки на тему неестественной ориентации выводили из себя.
Посмеиваясь, я поднялся, оделся и, дождавшись, когда художник освободит наконец рукомойник, умылся и почистил зубы.
В столовой получил сухой паек на день и выпил чашку кофе, после чего сгонял в магазин за бутылкой водки. Целый день одному. Скучно. Ноль семь литра скрасят одиночество…
Увозил меня на объект потерянный сосед. Я не удержался, спросил:
— Слушай, земляк, почему тебя в номере не бывает? Где ночуешь?
Для разнообразия, вероятно, у него было хорошее настроение — типичный азиат с приклеенной к лицу улыбкой ответил:
— Я же местный, из Еланцов, а в Хужире у меня родни полдеревни. Зачем в казарме жить, если можно у дедушки с бабушкой?
— Тоже верно.
Мы съехали на лед, и водитель, вырулив на прямую, ровную трассу, аж руль бросил, прикуривая сигарету без фильтра российского производства. Как они их только курят? Причем все — и мужчины, и женщины. Или сигареты без фильтра, или папиросы… Едкий кисловатый дым резал глаза. Дабы оклематься, я закурил сам.
— Ты вообще знаешь, где работаешь?
— На заброшенной ферме.
— А почему она заброшена?
— Откуда же мне знать? Я из Иркутска.
— Лет пятнадцать назад, когда рыбзавод развалился, его директор решил фермером стать. Взял участок на берегу, построил дом, загоны, подсобки, купил скот… И ведь говорили ему, что место нехорошее, что нельзя там жить, не послушался стариков. Хоть и бурят, атеистом был. Предрассудки, говорил, шаманские. Дурак…
Водитель замолчал, а мне стало любопытно:
— Что с этим атеистом дальше-то произошло?
— А не знает никто. Пропал он вместе со всей семьей — мать, брат, жена, ребятишек-подростков четверо. Все пропали по его глупости. А скотина не пропала. Баранов, коров, лошадей, даже собак словно по косточкам разодрали и всю ферму ими усыпали. Я не видел, маленький еще был, говорили, жуткое зрелище — вся округа в крови и куски мяса на костях. Его даже бродячие собаки с воронами не жрали. Будто отравленное…
Он смолк, а я задумался: что там могло произойти?
— Зря я рассказал, — продолжил бурят, — тебе одному там целый день работать. Будешь теперь от собственной тени шарахаться.
— Ерунда, я-то духов ничем не обижал, да и при свете дня безопасно, наверно.
Сказал и сам понял — обманываюсь, жутко мне уже сделалось.
— Днем да, днем там можно бывать, — утешил меня водитель, — а вот ночью я бы ни за какие баксы не остался.
— А почему место это плохим раньше считалось?
— Давным-давно здесь казнили колдуна — черного шамана, который людям вредил, души их пожирал… Знаешь, как это в старину делали?
Я кивнул. Я помнил — их живьем зарывали в узкую яму головой вниз. Страшная смерть, ничего не скажешь…
Шофер смолк, а я задремал вдруг. Хотя почему вдруг? Я же не спал полночи — Буратину жег, с москвичкой развлекался…
Я заснул и увидел продолжение сна. Как это возможно, не знаю. Сновидение все-таки не сериал на СТС со сквозными героями…
Я увидел бескрайнее поле, плоское, как шахматная доска, ровное, как она же, но без разметки по квадратам. Это было бы уже, пожалуй, слишком.
Две армии выстроились напротив друг друга, их разделяло метров триста. Я видел их сверху и, одновременно, каждого воина в отдельности. Вероятно, таким станет кино будущего — элемент присутствия плюс качество стороннего наблюдателя. А может быть, и возможность влиять на сюжет действа, то есть качества Демиурга. Но это уже ближе к компьютерным играм.
Словом, я находился над армиями и внутри каждой из них.
Первое войско выстроилось четко спиной к западу, лицом к восходящему, слепящему глаза солнцу. Солдаты имели черты лица европейские, вооружение — антикварное, матово-белого цвета: доспехи, щиты, мечи, копья, арбалеты. Отсталое средневековье.
Второе войско выстроилось спиной к востоку и состояло сплошь из одних монголоидов в черных глянцевых доспехах и кольчугах, с кривыми саблями у пояса, с копьями в руках и луками за спиной.
Всадников было мало, всего пятьдесят пять на стороне западного и сорок четыре — восточного войска. Пеших же — многие и многие тьмы. Казалось, полмира собралось на бескрайнем поле, дабы убить друг друга. Чего ради? Какие цели они преследовали? Я не знал.
И вороны летали низко, как стрижи перед грозой, и волки собрались в стаи в надежде на сытный завтрак.
И неисчислимые тучи стрел устремились навстречу друг другу настолько густо, что треть из них сталкивалась в воздухе.
И пронзенные тела падали наземь, и боль каждого убитого солдата становилась моей болью. И я корчился со стрелой в горле в красноватой пыли. И вытекала из меня жизнь вместе с красной кровью. И одновременно я, переполненный восторгом предвкушения битвы, жаждой убийства и опьяненный ненавистью к врагу, сжимал обоюдоострый меч с серебристой рукоятью и острую как бритва саблю в форме полумесяца, вынутую из ножен, инкрустированных черным камнем.
И черные всадники помчались навстречу белым.
— Нурра!
И белые — навстречу черным.
— Ура!
И пехота пошла в бой. И для каждого он был праведным.
И отсеченные головы катились неровными шарами по степи.
И отсеченные руки, все еще сжимающие мечи и сабли, падали, как снопы.
И я корчился в судорогах. Я умирал каждой смертью тьмы и тьмы раз.
И взошедшее над битвой солнце было черным, как запекшаяся кровь.
И не осталось с обеих сторон ни одного живого человека.
И вороны выклевывали глаза мертвецам.
И волки, давясь, пожирали падаль.
И солнце погасло. И в лунном свете изувеченные всадники встали с земли, обрастая мгновенно плотью. И кони их поднялись на ноги — белые и гнедые. И поскакали всадники, сорок четыре — на восход, пятьдесят пять — на закат. И я знал, воскресший вместе с ними: скоро новая битва. Такая же кровавая и бесцельная…
А тьмы и тьмы пеших навеки мертвых солдат продолжали кормить воронов, волков и червей…
Нет правды на земле, но нет ее и выше.
ГЛАВА 19 Ольхонские мутанты
Шофер довез меня до заброшенной фермы, но сам даже выходить не стал, развернул микроавтобус и укатил по льду в сторону переправы у Ольхонских Ворот.
Я остался один и, признаюсь, был от этого не в восторге. Пропавшая фермерская семья, дикая расправа над невинными животными, мучительная смерть колдуна, да еще и сон о кровавой битве на Небесах в черно-белом формате настроения мне не улучшили. Но сон — он и есть сон, дураки одни всерьез его воспринимают, а водитель, может, все и выдумал. Решил пугануть заезжего городского фраера. Черт знает… Кости действительно разбросаны по всей округе, но причин этому можно найти десятки. А если у местных жителей здесь любимое место отдыха? Они здесь шашлыки жарят или… Ничего другого, правдоподобного я не придумал.
Ладно, решил я, хватит грузиться, как неисправный компьютер, черт-те чем. Работать надо. Занять руки и голову, отвлечься от мыслей и домыслов. Форверц, Андрэ!
Бурятских боохолдоев мой инструмент не заинтересовал, а живые люди сюда, к счастью, не забредали. Материалы тоже оказались на месте.
Перво-наперво, я надумал растопить печь. Работать предстояло в основном в доме, а солнце хоть и светило ослепительно, грело так себе.
Собирая дрова, оказался возле сарая, где вчера видел зловонный пузырь под потолком. Подобрал тот же обломок бруса, осторожно приоткрыл дверь и заглянул. Ничего необычного. Солнечные лучи сквозь щели прошивали пыльное, пустое пространство. Но дурной запах, показалось, остался. Черт с ним, крыса, наверно, сдохла, или земля насквозь провоняла экскрементами…
Когда я поджег в топке бумагу со щепой, дым снова попер в дом. Череп барана, скалясь с полки в дымных клубах, выглядел зловеще. Зря я его подобрал…
Вышел, обогнул дом, встал со стороны берега. Именно отсюда будут снимать общий план. Из привезенной фанеры-многослойки я должен был сколотить на два окна подобие ставен и резных наличников. Ясно, что резать я ничего не собирался. Вчера я выпилил образцы того и другого, и Григорий Сергеев разрисовал их масляной краской. Мне оставалось повторить и прибить на гвозди. Бутафория.
А вот дощатый стол и две скамьи должны быть крепкими, настоящими — на них в кадре будут сидеть и пить чай из самовара. Гриша оставил размеры, сколотить их не проблема.
Вставленные вчера рамы изнутри тоже следовало облагородить — обшить по контуру обналичкой и покрасить белой краской. Да и художник не добелил вчера съемочное пространство — три стены, кое-где не докрасил, забыл или не успел. Словом, работы хватало на весь день. Успеть бы…
Начать решил со стола и скамеек, чтобы потом на них пилить и красить фанеру.
Я резал в размер доску на ступенях крыльца, когда почувствовал за спиной присутствие постороннего. Оглянулся, не выпуская ножовки из рук. К дому от загонов шел старик-бурят с реденькой бороденкой, одетый в сильно ношенную фуфайку, разбитые кирзовые сапоги и шапку-ушанку из очень дохлого серого кролика. Откуда его черти принесли? Насколько я знаю, по суше до ближнего жилья километров десять. Признаюсь, сначала ничего подозрительного в старичке я не разглядел — ни во внешности, ни в одежде. Вполне обычный деревенский абориген, каких полно в Прибайкалье. И национальность здесь ни при чем, он мог быть и русским. Они пьют самогон, курят папиросы, а то и махорку, работают пастухами, а бани избегают, как черт ладана.
Когда дедок подошел с приклеенной улыбкой, обнажившей единственный зуб на верхней челюсти, кривой и черный, я почувствовал амбре, как от выгребной ямы. Так он еще и руку мне протянул. Я ее не заметил.
— Здорово будешь, земляк, однако! Курить есть?
Мое невнимание его не смутило. Перешел на самообслуживание — сам себе левой рукой пожал правую. Я сперва не врубился, а потом у меня глаза на лоб полезли. Ладони у старика были своеобразные — тыльные с обеих сторон, а потому пальцы без ногтей вовсе и гнулись, похоже в обе стороны. Что за черт? Шутка природы? Мутант? Здесь, на Байкале, экология вроде еще не нарушена. Гадит, конечно, Саянский целлюлозо-бумажный комбинат, спускает отходы, но озеро пока справляется, нет необратимых изменений…
Ладно, курить он у меня спросил. Не жалко для старика, пусть и странного.
Я достал из кармана пачку, вынул сигарету и положил ее на ступеньку крыльца. Касаться зловонного мутанта почему-то не хотелось. Что-то мнительным я стал и излишне брезгливым. Некому калеке баньку истопить, кочует, поди, по острову, бездомный… Жаль мне его сделалось, и за свою брезгливость стыдно.
— Дед, может, ты есть хочешь?
— Хочу! — И глаза загорелись, будто третье око во лбу Монгол-Бурхана.
— Погоди, я сейчас.
Я вошел в дом и произвел ревизию продуктового пакета. Водки я ему не предложу, хотя он, конечно же, от ста граммов не отказался бы… Перебьется.
Отломил половину кружка «краковской» колбасы, взял пару кусков нарезанного хлеба. Вышел. Дед курил, пуская дым из мохнатых ноздрей приплюснутого и словно размазанного по лицу носа.
Я положил еду на крыльцо. Старик, не вынимая изо рта сигареты, стал жадно запихивать пищу под подбородок. Там в редкой рыжеватой бородке у него оказался еще один рот…
Может, у него и жабры есть? И волчий хвост, заправленный в залатанные на коленях ватные штаны? Как оказалось, я был в двух шагах от истины…
Выпучив глаза, я смотрел, как он нижним ртом пожирает хлеб с колбасой, продолжая дымить сигаретой, зажатой в коричневых губах обычного, верхнего рта. Он урчал, как кот, и слюна струйками стекала по морщинистой шее на выцветший ватник… Вот это зрелище… Спаси меня, господи…
Как вести себя с этим приколом природы, я не знал. Я отступил чуть в сторону, сжимая в руке ножовку, как саблю. Но поможет ли она?
Чего от него ждать, не знал тем более. А если он сейчас набросится на меня? По виду — дистрофик, а вдруг внешность обманчива? Вдруг это он или кто-то ему подобный учинил на этой ферме кровавую резню домашнего скота пятнадцать лет назад? Откуда я знаю? И какие еще сюрпризы припасло его мутировавшее тело под зловонной одежей? Может, у него цианистый калий под ногтями… Усмехнулся. Нету у него никаких ногтей.
— Ты, дед, давай иди, куда шел. Мне работать надо.
Он не стал спорить, безропотно подчинился и, шаркая разбитыми кирзачами, поплелся от крыльца в сторону холмов. Я смотрел ему вслед, любопытно мне было, откуда он взялся? Однако не уследил. Где-то между хозяйственных построек фермы старик пропал куда-то, исчез. Может, его и не было вовсе?
Лавки получились на славу — крепкие, ладные. Сиденья я прострогал рубанком, дабы Уинстон Лермонт, мерцающая звезда британского кинематографа, свой нежный зад не занозил.
Стол тоже что надо, не шаткий. На нем самовар будет стоять для британца в роли француза. Кроме столешницы, которую прикроет белая скатерка, все остальное я пройду густо разведенной морилкой под дуб, что придаст новоделам вид почтенного возраста деревенской мебели. Но это потом, а пока я бросил на стол лист фанеры и разметил по уже отрезанному образцу, разрисованному художником-постановщиком.
В первую очередь я решил подготовить окна снаружи для общего плана: прибить бутафорские обналичку и ставни. Издалека, с берега это должно хорошо выглядеть, а вполне вероятно, в обеденный перерыв ко мне нагрянут режиссер с оператором. Я не показушник, о них беспокоюсь — пусть уедут в хорошем настроении. Съемочная площадка на завтра почти готова, и волноваться не о чем. Делайте искусство, господа! Бутафорию за вас состряпает Андрей Татаринов, ассистент художника-постановщика!
Я подбросил в топку обрезков доски, оставшихся после сборки стола и лавок. Из печи выдувало быстро. Что неудивительно — сплошные щели меж кирпичами, да еще сквозняк гулял по дому. Я вставил четыре оконных блока, столько же оставшихся оконных проемов зияли дырами. Если забить их, станет теплей, но жаль на это тратить время. Ночевать я здесь не собирался, а днем не холодно, хоть и ветрено.
На раскаленную печную плиту поставил чайник. Зачем брал с собой водку, не понимаю. Скучно не было, работа не давала скучать. Она же отвлекала от тревожных воспоминаний и домыслов. Да и чего мне, спрашивается, бояться? Страшилок, придуманных местным водителем-бурятом? Или кровавых снов? Знаменитые психоаналитики, дедушка Юнг с прадедушкой Фрейдом, придавали снам излишне большое значение. При желании можно найти осмысленность и в череде узоров детского калейдоскопа. Или по кофейной гуще каждое утро предсказывать Светопреставление в июне 6666 года. Очень удобно, вряд ли кто из ныне живущих проверит и поднимет на смех. Тем паче если кофе растворимый…
Пока на печи грелся чайник, прибил на одно из окон снаружи разрисованные ставни из фанеры. Будто бы они распахнуты, хозяева гостей ждут… Накликал. Когда спустился с тумбочки, которую использовал вместо лестницы или козел, увидел приближающийся по ледяной трассе «УАЗ». Начальство, вероятно, пожаловало с проверкой.
Машина остановилась, не доехав метров тридцать. Из салона вышли режиссер, оператор и красавица моя, москвичка-переводчица. Поль Диарен махнул рукой водителю, и тот проехал вперед и припарковал «УАЗ» за домом. Подошел ко мне с дымящейся сигаретой.
— Привет.
Мы обменялись рукопожатиями. Шофера я не знал, хотя видел, конечно.
— Как тут тебе, не скучно одному? — поинтересовался водитель.
Я пожал плечами:
— Работы полно. Когда скучать?
— Меня сейчас специально отправили, чтобы я дорогу узнал. Я за тобой вечером приеду. Во сколько лучше?
Я задумался. Дел по горло, но электричества здесь нет, а значит, и смысла нет задерживаться после заката солнца.
— Езды минут тридцать? — спросил я, водитель кивнул в ответ. — Выезжай из Хужира, как только начнет смеркаться.
Он еще раз кивнул.
Киношники, галдя на английском, для обоих неродном, продвигались к дому. Анна Ананьева загадочно улыбалась. Сегодня, интересно, сколько у нее грудей — две или одна? Захотелось проверить. Захотелось, чтобы она осталась со мной до вечера. Нет, до утра. Хороша москвичка…
Они подошли, и Поль Диарен разразился монологом, ко мне обращенным. Был он чем-то недоволен, ругался. Так мне показалось. Я вопросительно посмотрел на Анну, та в ответ улыбнулась.
— Месье Диарен говорит, что все отлично, а Гансу очень нравится дым из трубы.
— Ну, это не проблема, — я вздохнул с облегчением, — перед съемками завтра печь растопим, будет ему дым.
Водитель умотал к подсобным постройкам, вероятно, отлить. Обычно они, профессионалы, это делают на колесо транспортного средства, коим управляют, чтобы не напороться по дороге на гвоздь. Примета у них такая. Но в присутствии москвички земляк мой постеснялся прослыть суеверным…
Режиссер с оператором прошли в дом, а мы с Анной на минуту задержались. Она сжала мою ладонь в своей, порывисто, сильно. Задышала учащенно.
— Оставайся до вечера, — предложил я, тоже теряя ритм дыхания.
— С радостью бы, да не могу. Я одна из переводчиков в группе осталась. Боря Турецкий заболел, из номера не выходит, чех Карел с Жоан Каро в Иркутске, вечером только приедут.
— Жаль.
— Ты не подозреваешь даже, как жаль мне. — Она легко коснулась губами моей щеки и, подхватив под локоть, повела в дом. Ну точь-в-точь как вчера. Одной только пощечины не хватило… Точнее, двух…
Оператор в глазок визира изучал будущее съемочное пространство с разных позиций. Режиссер скептически рассматривал стол с лавками. Когда мы вошли, прокартавил мелодично, будто спел.
— Лавки и стол хорошие, — перевела Анна, — но новые. Не пойдет.
— Переведи этому шансонье, что столешницу художник закроет белой домотканой скатертью, а ножки стола и лавки…
Я взял банку уже разведенной морилки, обмакнул в нее кусок поролона и мазнул им край сиденья.
— Вот, смотрите, как будет.
Мокрое пятно впиталось мгновенно, и на его месте дерево потемнело, сделалось коричневым, старым.
— Зер гут! — сказал Ганс Бауэр. Он тоже оказался у меня за спиной.
Инициативу я решил из рук более не выпускать, подошел к окну, зажестикулировал.
— Здесь будут висеть ситцевые занавески в цветочек, здесь я подкрашу белой краской, здесь побелю…
— Ти-ше е-дешь, дал-ше бу-диш! — сказал по складам немец и добавил скороговоркой что-то на своем, лающем… Надо же, помнит еще что-то по-русски, кроме матерщины.
— Ганс спрашивает, — перевела Анна, — ты успеешь?
— Успею. Времени полно до заката.
Когда режиссер с оператором сели уже в «УАЗ», Анна снова задержалась, сказала с милой улыбкой:
— Андрей, вечером приезжает Жоан. Ты не забывай, о чем я тебя вчера предупредила. — Потрепала по щеке, как боевого коня. — Огорчишь меня еще раз, убью. Понял?
Водитель посигналил нервно, вдобавок дверь приоткрылась, и француз крикнул, смещая по привычке ударение на последний слог:
— Аннá!
Имя от галльского прононса сделалось подобно местоимению.
— Иди, солнце мое, тебя зовут.
Я развернул девушку и легонько шлепнул по аппетитной попке. Она оглянулась, возмущенная. Я по глазам видел, у нее руки прямо чесались отвесить мне добрую оплеуху, но в присутствии иностранцев не решилась она афишировать наши сугубо интимные отношения…
Я вышел к берегу и смотрел, покуривая, вслед выруливающему на байкальский лед «УАЗу», когда услышал за спиной собачий лай. Что за черт? Откуда здесь собаки? Впрочем, они, одичавшие, везде есть. А лает на кого?
Я торопливо вернулся к крыльцу и увидел такую картину. Мой давешний двуротый дедушка улепетывал к холмам с бутылкой моей водки в одной руке и кружком «краковской» колбасы в другой. За ним по пятам, яростно лая, бежал Нойон-полуволк. Для мертвой собаки довольно быстро. Он почти настиг вороватого деда, когда тот свернул за сарай.
Недолго думая, я побежал к ним. За сараем никого не было, зато на земле лежали водка и колбаса. Я их поднял, бутылка, к счастью, не разбилась. Из-за угла вышел Нойон, сжимая в зубах облезлого, как шапка-ушанка на буряте, зверька размером с соболя. Пес гордо положил его у моих ног.
— Хороший Нойон! — Я потрепал собаку по загривку. — Охотник! Что это ты принес?
Я подвигал тушку придушенного зверька носком ботинка. Что за хрень? Шерсть, словно ношенная, хвост голый, как прут, мордочка узкая, крысиная, а посередине над вытянутым носом — единственный глаз. Еще один ольхонский мутант?
ГЛАВА 20 Вы говорили, нам пора расстаться…
Нойон от еды отказался. В дом вошел, но остался у порога, лег и насторожил уши. Я понял, он меня охраняет. Почему? Пес меня даже не знал при жизни. Из-за того только, что я похоронил его, оказал уважение? Не знаю, однако вот он, сторожит и, признав меня хозяином, будет драться за меня, если придется, до новой смерти…
Парадокс. Я сам не заметил, как шаманские понятия сделались для меня привычными. Лежит у дверей пес, застреленный на моих глазах два дня назад, а я спокоен, будто с детства привык к присутствию оживших трупов. Не пора ли мне в психбольницу наведаться?
Так ничего и не решив, отобедал тем, чем снабдил меня Никита, выпил кружку чаю, заварив пакет, и закурил.
Пребывание на острове Ольхон не ответило на мои вопросы, а запутало все окончательно. Мать-Хищная Птица с Мировой Ели, Дьяволица-Шаманка из черной юрты, Дух-предок, путешествие на Небеса, где периодически сражаются насмерть бессмертные тэнгрии, мертвая собака, если я правильно понял, мой Дух-помощник. Так я еще в живых женщинах запутался, как в паутине! Люблю одну, сплю с другой. Урод. Сплошные несуразицы беспросветные. И полное непонимание неподконтрольной мне ситуации. Объяснение, оно же оправдание, одно — я сошел с ума, причем еще в Иркутске, когда дрался с Буратиной. Или еще раньше…
Тяжело и обреченно вздохнув, я забросил окурок в раскаленную топку и встал с лавки. Работать надо — единственное, что я знал наверняка. За работу платят вполне реальными долларами. Остальное — бред.
Подошел к собаке. Остро захотелось, чтобы Нойон оказался галлюцинацией. Протяну сейчас руку, и она пройдет сквозь эфемерное тело… Протянул и ощутил под пальцами густую шерсть, даже тепло ощутил, которого и быть не могло. А Нойон поднял на меня глаза и вильнул хвостом. Интересно, если рубануть топором по его хвосту, он отвалится? И кровь потечет?
Усмехнувшись, пошел прибивать фанерные ставни на второе окно. Подобных садистских экспериментов проводить всерьез не собирался.
Завершив наружные работы, перешел в дом. Стал заделывать по контуру вставленные накануне оконные блоки. Использовал остатки привезенной из города доски, но ее не хватило. Разобрал метров пять забора на загоне. К сараю с вонючим пузырем на всякий случай не приближался, обходил стороной. Слышал где-то, что галлюцинации, если в них веришь, имеют свойство материализовываться, и тогда воздействие их может оказаться вполне реальным. Как рана на лице Бори Кикина после удара топором неживой деревянной куклы. Ее, слава богу, больше нет, сгорела в банной печке. Одним наваждением меньше…
Впрочем, если домашняя кошка подцепила блох, бессмысленно давить их по одной. Нужны радикальные меры. Выкупать, например, в специальном шампуне для животных. Где бы для моего сознания найти такой шампунь? С одной стороны, все, что происходит со мной в последнее время, — невозможно, и я это понимаю. С другой — происходит, и плевать невозможным событиям на мое понимание или непонимание. Что равнозначно, если следовать логике почти триста лет назад умершего предка, Михаила Татаринова, отставного штурмана в ранге капитана…
Услыхав мерный гул автомобильного двигателя, вздрогнул. Что, нежить собралась в механизированные колонны и прет теперь на заброшенную ферму, как Гитлер в сорок первом на Москву?
Вышел из дома и увидел внешне вполне реальный внедорожник японского производства. За рулем чех — Карел, помощник и переводчик, на переднем сиденье рядом — Жоан Каро, продюсер. Надо же, заехала, моя лапочка, меня проведать! Вот радость-то!
«И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милой…» Не знаю, откуда в моих сумеречных мозгах возникли эти слова? Из американского блокбастера или русского телесериала, вероятно… В присутствии Жоан думать мне не хотелось. Ни о чем.
Тактичный Карел, выйдя из салона и поздоровавшись, спросил:
— Я вам нужен, Андрэ?
— Нет, Карел, — ответил я, — мы обходимся без переводчика.
И он пошел в степь, насвистывая. Увидел лошадиный череп и, заинтересовавшись, присел возле него на корточки…
Жоан стояла у машины и, почему-то виновато улыбаясь, смотрела вслед чеху.
— Жоан!
Она перевела на меня взгляд. Изумрудные очи, будто влажные. Поправила несбившийся локон светлых волос.
— Наин, Андрэ!
— Что «найн»? Что, девочка моя?
Я подошел. Я осторожно провел пальцами по мокрой щеке. Жоан беззвучно плакала.
— Вас ист дас?
— Я, Андрэ! Вас ист дас? Их… найн, ду… Их либе дир, абер дас ист… кошмар!
Она путалась, не могла подобрать слова чужого, забытого, вероятно, еще со школы языка. Она перешла на божественный французский. На нем, вероятно, говорят ангелы на Небесах. Жаль, не уточнил это у мудрого предка…
И я понимал ее речь, как когда-то в парящем на бреющем над Байкальским трактом «шевроле». Она говорила:
— Кошмар! Я не хотела любви, я хотела всего лишь секса. Экзотического секса с русским дикарем в ирреальной Сибири. И теперь — любовь… Зачем, Господи, что я дурного сделала? Чем прогневила Тебя?
Любовь — это боль! Любовь — это смерть! Я не переживу ее, я умру. Не надо! Уйди, Андрэ, ты — мой Ангел Смерти! Я тебя боюсь! Боюсь и желаю всем тем, что у меня осталось, — дряхлеющим телом, болезненным сердцем, истерзанной душой… Если она у меня есть. Нет, вероятно. Потому что… потому…
«Бог есть любовь», — говорят священники. Но я-то знаю, я видела: Бога нет в помине! Есть Дьявол, вершащий суд. Есть муки, есть страдания. Любви — нет! Ее придумали скверные поэты и переполненные, как презервативы, спермой, прыщавые юнцы…
Жоан вцепилась мне в плечо, как спасатель в волосы утопающего, закричала:
— Глупости! Я говорю глупости, не слушай меня, Андрэ! Впрочем, ты, молодой и красивый дикарь, все равно не понимаешь человеческого языка…
Я понимал. Я понимал много больше, чем она говорила в надежде на мое непонимание. А в голове у меня звучали слова, из того же телесериала, наверно:
«Вы говорили, нам пора расстаться, что вас замучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше, вниз… Любимая, меня вы не любили…»
Она любила меня, и это нежданное чувство рвало ей душу, как конфетный фантик. Душа у нее была. И тело было не дряхлеющим, нет. Про сердце не знаю, я же не кардиограф какой-нибудь… Хотя знаю. Жоан проживет долго-долго… если не умрет на Ольхоне. А на Ольхоне она не умрет! Я сделаю все, чтобы этого не допустить! Живи, Жоан! Живи и люби меня, скверная девочка, милая…
— Что мне с тобой делать, Андрэ? Подскажи! Не везти же в Париж! Ты выглядел бы там нелепо, как пингвин в курятнике. Все смеялись бы над тобой. И надо мной тоже… Нет, только не это! Мы расстанемся здесь. Но не сейчас, Сейчас я хочу… Я просто хочу!
И она набросилась на меня с каким-то утробным стоном и принялась целовать лицо, лихорадочно и торопливо, будто вот-вот меня отберут, как игрушку у капризного ребенка. Ей и мне было плевать, смотрит на нас чех или не смотрит…
Я взял ее на руки. Она охнула. Охнула и засмеялась звонко. И обняла меня за шею крепко-крепко. И я понес ее в дом. И не было на пороге никаких мертвых собак, это плод моего больного воображения…
Я захлопнул ногой дверь и лег вместе с Жоан на стол, крепкий, устойчивый. Может, подсознательно знал, для чего сколотил?
— Я увезу тебя во Францию, Андрэ… — бормотала Жоан, срывая с меня одежду. — И пусть смеются, пусть… мой пингвин…
ГЛАВА 21 От заката до рассвета
Бордовый диск солнца медленно опускался за гряду скал противоположного материкового берега Малого моря. По белоснежным кочевым облакам-барашкам гуляли всполохи всех оттенков красного. Будто догорающий костер милосердные западные тэнгрии разбросали по краю небес, дабы не спалил он Срединный мир с прилегающими окрестностями…
Я вынес скамью на торец дома, что выходил на байкальский ледяной берег. У ног поставил пакет с нетронутой бутылкой водки и остатками обеда. Не бросать же. Вечером после бани с пиротехником Петей и художником Гришей выпьем и съедим. За упокой души безвинно убиенного Нойона-полуволка. Не зря же он мне полдня мерещился…
Сумку с инструментом я от греха засунул под фундамент в окошко для вентиляции, а материал — краску, морилку, побелку оставил в доме. Мало ли, может, завтра что-то придется доводить до ума по прихоти режиссера или оператора. Кстати, никаких претензий я к ним не имел, это их фильм, их работа. А свою я успел закончить, и более мне ничего не оставалось, как пассивно сидеть под прибитыми мной разрисованными бутафорскими ставнями, наблюдать за красочным закатом в чуть мутноватом небе и ждать транспорт до Хужира.
Сам же и предложил водителю, чтобы тот выезжал за мной из деревни, как начнет смеркаться. Думал, уже при нем буду добеливать и докрашивать, но управился на удивление быстро. И это несмотря на то, что отвлекался то на Анну Ананьеву, то на Жоан Каро.
И что мне с ними делать? Как выкручиваться, когда они соберутся вечером по мою душу и тело? Ума не приложу. Может, сами найдут общий язык без меня и до моего возвращения?
Приглашения в Париж не будет, я не обольщался, это бред, выданный женщиной в порыве страсти. Общеизвестно, что самки в этот момент неадекватны. Как и самцы… Да и не хочу я уезжать из России даже с любимым человеком. Не фиг мне там делать. Я от тоски умру в ихней холеной Европе. На месяц-другой отдохнуть — с удовольствием, а навсегда — нет, увольте…
Россия, какая уж есть, такой ее и люблю. За что, не знаю. У любви нет причин. Она есть или ее нет. Все просто.
С другой стороны, Москва, как бы я ни прикалывался, несомненно, русский город. Дерьмеца в ней много, так где его нет? Там, где не ступала нога человека. Русского по крайней мере. Но боже меня упаси от столичных спеси, спешки и сутолоки. В молодости — нравилось, а теперь не хотел бы я там жить, даже и за пресловутую «московскую зарплату»…
Я сидел и смотрел. Время от времени по ледяной трассе, пролегающей в километре или полутора от меня, проезжали машины. Если справа, с севера, я дергался, всматривался, но они, не сворачивая, проходили мимо, на юг к переправе.
Мог бы водитель и пораньше приехать, не ждать сумерек…
Через некоторое время эту мысленную фразу я произносил чуть по-другому: «Мог бы водитель-сука…» и так далее. А потом солнце село и сумерки наступили. И я понял, что надо готовиться к ночлегу, потому что никто за мной не приедет. Что там у них произошло, машина поломалась? Так не одна же она у киногруппы и Никиты!
Я попробовал, конечно, воспользоваться сотовым телефоном, но, кроме того, что связь отсутствовала, он еще и разрядился, сволочь…
Все ополчилось против меня Даже холмы за домом, теряющие в густеющих сумерках краски, выглядели враждебно…
В первую очередь — заготовка дров, чтобы не шастать потом в полной тьме по малознакомой местности. На одну хорошую растопку на утро я заготовил заранее, но на всю ночь этого, конечно, не хватит.
Занес сумку с инструментом в дом. Топор и ножовка мне понадобятся.
Собрал обрезки у крыльца. Потом в два приема принес штук десять досок, оторванных днем от забора, но забракованных из-за сучков или гнили. Свалил у печки. Должно хватить. По мере необходимости буду их пилить и рубить на дрова.
Теперь — оконные проемы, всего четыре. Ночью температура опустится до нуля и ниже. Если не забить сквозные дыры, замерзну на хрен.
Многослойную фанеру художник-постановщик закупил с запасом, полтора листа у меня осталось. Я вынес на двор тумбочку и в пять минут целым листом забил первое окно. Половинка закрыла верхнюю часть второго.
У подсобных построек рядом с тем пустым сараем, за которым ирреальный Нойон-полуволк придушил одноглазого зверька с крысиной мордой, я еще днем приметил большой кусок ДВП, покоробленный от непогоды. Его должно было хватить еще на один проем…
Темнело стремительно, как в тропиках. Уже и звезды стало видно на густо-синем небосводе, но луна не взошла. Мрак порождал звуки и шорохи, несуществующих при солнечном свете монстров и непрошеную треногу, которая вот-вот должна перерасти в неподконтрольный страх. Я боялся собственного страха. Он умножится сам на себя, он снова заставит меня видеть то, чего нет… он убьет меня на хрен, проникнув в низ живота, выступив предательскими мурашками на загривке, парализовав и позволив моему собственному сознанию до костей обглодать мое собственное тело… Больное воображение опасно для жизни.
Видел я все лучше и в том же, что накануне, инфракрасном диапазоне. Предметы приобрели красноватый оттенок. Даже черепа и кости животных под ногами в прошлогодней траве.
И ужас крался по пятам, когда я отправился за листом ДВП к сараю. И кричала какая-то ночная птица голосом серийного убийцы… Откуда мне знать, какой у него голос?.. Вот такой же…
И за каждым темным углом поджидал меня сожженный Буратино с окровавленным топором. И мир снова состоял из одних только темных углов…
Я подхватил кусок ДВП и бегом вернулся к дому. Прибил. Оставшиеся полтора проема закрыть было нечем. Я вспомнил, что Григорий Сергеев в первый еще день привез большую сумку. Сказал, что с тряпьем.
Я зашел в дом, по привычке светя газовой зажигалкой, отыскал сумку и вывалил ее содержимое на пол. Гриша мне подарок сделал, честное слово. Среди мятых покрывал, скатертей и ситцевых занавесок в цветочек я обнаружил целую стеариновую свечу. Сразу зажег и поставил на стол в баночку из-под кильки в томате, что давно сделалась пепельницей. Предварительно, конечно, опорожнив ее в топку печи.
Стало светло и уютно. Я повеселел даже.
Осмотрел покрывала, выбрал пару поплотнее и забил тканью полтора оставшихся проема. Вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Запереться изнутри не получалось. Стальные скобы под широкую деревянную задвижку остались, но самой ее не было. Вырубить ее из доски не проблема, но сначала — растопка печи. Остыло все давным-давно, я ее с обеда не топил.
Через пять минут дым снова заполнил комнату, и я устроился с сигаретой на ступенях крыльца у распахнутой двери. Достал бесполезный мобильник. Он выдал информацию, что заряд батареи полностью исчерпан, и экран окончательно погас. Старая модель. Лет пять, как приобрел. Давно пора сменить, у новых и аккумуляторы объемней. Но на день всегда хватало, а на ночь ставил на подзарядку. Вчера и не вспомнил об этом, да и вернулся много позже одиннадцати, когда электричества в помине не было. Впрочем, какая разница? Мобильник в этой глуши бесполезен. У Поля Диарена и Жоан Каро — спутниковые телефоны для связи с цивилизованным миром…
И вдруг мой отключившийся, безнадежно разряженный мобильник зазвонил у меня в руках. Я чуть его не выронил, смотрел с ужасом, как на призрак отца Гамлета, возникший из выгребной ямы деревенского сортира в Восточной Сибири. Что за черт? Все законы физики — на хрен. Логики — туда же.
Экран мобильника был черен как ночь. Я не знал, кто мне звонит, знал одно — дозвониться до меня невозможно по двум причинам: отсутствие связи и разрядка аккумулятора.
Нажал кнопку с нарисованной зеленой трубкой и поднес мобильник к уху осторожно, словно тот мог взорваться от резкого движения. Может, и мог…
— Слушаю! — почти прокричал я.
В трубке затрещало в ответ, а потом я услышал женский голос, отдаленный и приглушенный, будто с края света. Или с Того Света? Очень может быть, потому что я узнал голос Катерины, переводчицы, разбившейся вместе со вторым режиссером на Байкальском тракте около недели назад.
— Андрей, здравствуй! Это Катя, переводчица. Помнишь меня?
Да уж, как забыть обезображенное нечеловеческим воплем лицо за стеклом полыхающего автомобиля?
Я промолчал. Сотовый призрак продолжил:
— Андрей, ты, наверно, решил, что тебя оставили ночевать в заброшенном доме? Это не так! Мы уже едем, мы скоро тебя заберем!
— Кто это «мы»? — спросив, я оглянулся на входную дверь.
Печка разогрелась, дым больше не валил из щелей. Сейчас войду, быстро вырублю задвижку… Нет, заколочу дверь изнутри гвоздями на сто двадцать! И хрен кто войдет, живой или мертвый!.. Не прокатит, я вспомнил, что два оконных проема занавешены тряпкой, сорвать которую — раз плюнуть. Значит, всю ночь буду стоять с топором у окон, и пусть только попробуют сунуться!
В мобильнике трещало, будто на раскаленную сковороду с маслом плеснули воду…
В мобильнике выла стая голодных волков, заглушая вопли терзаемых грешников…
В мобильнике духовой оркестр расстроенно играл похоронный марш композитора Мендельсона. Нет, не его, мой, вероятно…
— Кто это «мы»?! — повторил, точнее, проорал я, перекрывая раздолбанную медь, вой и треск.
— Мы — это я и Марко Ленцо, второй режиссер, итальянец. Ты что, его забыл?
— Но вы давно покойники! Вы сгорели заживо в перевернувшейся «тойоте» на Байкальском тракте!
— Ты с ума сошел! А кто же тогда с тобой говорит?
— Не знаю, — ответил я честно.
— Все ясно. Ты работаешь на заброшенной ферме, отдельно от остальных, и поэтому не в курсе. Мы приехали вчера ночью. Произошло недоразумение. Марко Ленцо взял у Поля Диарена неделю, чтобы поснимать туннели Кругобайкальской железной дороги, построенные сто лет назад итальянскими инженерами. Об этом у них была договоренность еще в Париже. А на тракте погибли совсем другие люди. Почему их приняли за нас с Марко, не знаю. В курсе нашей отлучки были и режиссер, и продюсер… На обратной дороге в Хужир я тебе подробно все объясню, на все вопросы отвечу… Давай заканчивать, дорого по роумингу, и денег на счету почти не осталось!
— Когда вас ждать?
— Минут через десять!
Катерина отключилась, а я пялился на свой дохлый телефон и ничего не понимал. Как всегда. То, что она мне рассказала, было похоже на правду. Очень похоже. Как изощренная ложь.
Весь мой жизненный опыт подсказывал, что правда сама на себя похожа не часто. Сознательная, продуманная ложь похожа на правду всегда. Тем паче я сам видел их смерть и, возможно, был ее виновником. Был убийцей? Не знаю. Неделю или чуть больше назад я сам себя сумел убедить, что мой сон и авария на тракте — случайное совпадение. Иначе жить мне нельзя, и пусть будет, что будет…
Решив так и целиком положившись на фатум, я вернулся в дом и деревянную задвижку все-таки вырубил из подготовленного заранее обрезка доски. Вставил ее в стальные скобы, задвинул. Толкнул дверь рукой, потом приложился к ней всем телом — надежно получилось.
Подбросил дров в топку и, положив топор на стол, сел рядом на лавку. Меня затрясло. Я вытянул руку прямо перед собой — она ходуном ходила. Вспомнил, что пакет с едой и бутылкой так и остался у торца дома, со стороны Байкала. Посмотрел в окно — трасса была пустой, ни огонька.
Отбросив задвижку, бегом сгонял за пакетом.
Вернулся. Запер дверь.
Распечатал бутылку и наполовину наполнил трехсотграммовую металлическую кружку.
Выпил не закусывая, как воду, но через минуту руки дрожать перестали. Я вроде и не с похмелья, а действует точно так же.
Закурил. Сидел и ждал гостей с Того Света, без отрыва глядя в окно, выходящее на байкальский берег. Что мне еще оставалось?
Увидев пару огоньков от фар машины, свернувшей с трассы в мою сторону, я одновременно вздрогнул и вздохнул с облегчением. Пусть наконец произойдет то, что должно произойти. Я устал ждать, устал бояться!
В дверь заскреблись, заскулили. Я догадался, что вернулся Нойон-полуволк. Отбросив задвижку, приоткрыл дверь, а он просунул в щель мохнатую голову со сквозным отверстием во лбу.
— Милости просим, Нойон! Где тебя носило, когда тебя не было?
Он вошел, виляя хвостом, и улегся у порога, а я запер дверь и вернулся к окну. Автомобиль приближался. Уже видно было, что это именно фары светят. Уже привычные очертания можно было угадать.
Сколько прошло времени после телефонного разговора, я не знал. Единственные мои часы сдохли вместе с мобильником, но мне показалось, что много больше, чем десять минут.
Плеснул еще полкружки водки. Для храбрости…
Темного цвета внедорожник, заокеанского, кажется, производства, припарковался с южной стороны дома. Туда выходило четыре окна — два забитых фанерой и столько же застекленных. Я приник к угловому.
Водителя сквозь боковые тонированные стекла не разглядел, а передняя дверца распахнулась, и вышла из нее Катерина, переводчица. Без следов ожогов, и совсем на мертвеца непохожая. Может, не врала она мне? Может, правда, недоразумение? Я не знал. Еще не знал, что делать и как себя вести.
А она стояла в свете фар, казалось, для того, чтобы я рассмотрел ее как можно лучше. А посмотреть было на что. Особенно уроду вроде меня, эротоману хренову…
Катерина была без шапки, и темно-русые пряди свободно стекали на черно-бурый воротник кожаной куртки. Она улыбалась. Я оценил ее светлую улыбку, правильные черты лица: чуть припухлые ярко-алые губы, светлые глаза… Все в ней было соразмерно, все как надо, лучше и не представить даже. Вот только нос будто бы стал длинней и массивней, чем раньше. Как клюв какой-то экзотической птицы. Попугая? Впрочем, показалось, наверно. Тени и полутени при свете автомобильных фар исказили ее идеальные черты.
Пес тоже заинтересовался. Подошел к окну и поставил передние лапы на подоконник. В отличие от меня, зрелище произвело на Нойона обратное впечатление. Он утробно заворчал, даже шерсть приподнялась на загривке.
— Ты чего, Нойон? Что тебя пугает?
Он взглянул на меня, вильнул хвостом, снова повернул голову к окну и негромко зарычал.
А Катерина, вероятно, видела наши настороженные физиономии в освещенном свечой проеме. Она взмахнула рукой.
— Андрей, почему не встречаешь? Или боишься? Посмотри, разве я похожа на обгоревший труп? — И повела плечами, и прошла пару шагов грациозно, как на подиуме…
Ну что я, право, совсем с ума сошел? Вот же она стоит, живая женщина, молодая и красивая. Я теперь верю в любую чушь, а собственным глазам — нет. Лечиться надо!
Я подошел к дверям, сопровождаемый собачьим рычанием. Плевать! Нойон, он мертвый, Катя — живая!
Я отбросил в сторону задвижку, распахнул дверь, и она вошла.
— У тебя тепло. И окна забил. Ночевать здесь собрался?
— Никто же за мной не приехал.
— Обижаешь. А я?
— Ты… Тебя я не ждал.
Она сбросила кожаную куртку и осталась, как в первую нашу встречу в Музее декабристов, в чем-то облегающем, и я снова не видел, в чем конкретно. Все всегда повторяется, повторилось и на этот раз.
Я снова не видел трикотажа.
Я мысленно сорвал его к черту.
Я видел миниатюрную рельефную фигурку с умопомрачительно высокой грудью.
Я охренел окончательно.
Я пялился на девушку и ничего не мог поделать с глазами, которые, стоило их отвести в сторону, возвращались, как привязанные, к вожделенному объекту…
Нойон вдруг залаял, прыгая вокруг Катерины, но укусить не решался.
— А это кто у нас такой злой? — засюсюкала она. Так женщины часто говорят с детьми и животными. С такой же интонацией девочки общаются с куклами, укладывая их в кукольную кроватку… И вдруг другим голосом, резким, повелительным, грубоватым даже: — А ну-ка, на место, Нойон!
И он подчинился — поджав хвост, заскулил и забился в угол. Но Катя была безжалостна и неумолима:
— Место собаки на улице! — Распахнула дверь. — Иди, гуляй!
Нойон выскочил как ошпаренный, залаял у запертых дверей. Что это с ним?
— Вот дурачок… — Катерина снова сменила интонацию, засюсюкала.
— Откуда ты знаешь его имя?
— Мне уже рассказали, как Поль Диарен стрелял в собаку. Я рада, что Нойон остался жив и ты его подобрал, Андрей.
Как же, жив… А может, и правда так и было? Мне хотелось ей верить. Мне просто ее хотелось… Урод. Там, за рулем внедорожника, итальянец, ее возлюбленный. Куда я-то лезу?
За окнами истошно лаял Нойон. Бегал как ненормальный вокруг дома и лаял…
Я сошел с ума, и девушка, конечно же, это заметила, не могла не заметить. Она улыбалась, довольная… И плевать мне было на то, что за рулем внедорожника — Марко Ленцо!
Я забыл также и всех других женщин. Их попросту не существовало!
Мне хотелось прикоснуться к телу Катерины, прижаться, впиться в ярко-красные, словно кровавые, губы. Мне хотелось… Ладно, размечтался, урод. Хотя бы коснуться, будто случайно, тонкокостной руки с нервными пальцами, удлиненными того же оттенка ярко-красным маникюром острых коготков. Мне хотелось быть подле нее — всегда, везде, и ныне, и присно. И пусть делает со мной, что хочет, я согласен быть слугой и рабом! Пусть издевается, унижает, пусть бьет, кусает, царапает когтями, оставляя на теле кровавые параллельные борозды… пусть, в конце концов, сожрет меня вместе с потрохами — все, что угодно, лишь бы прикасалась, лишь бы…
А нос и правда больше, чем обычно. Впрочем, от колеблющегося пламени свечи шастали по комнате удлиненные, уродливые тени. Но только мои. Катя тень не отбрасывала. Я обратил на это внимание, но значения не придал.
А она, она… Пуговки расстегивались одна за другой…
— Я сама вожу машину, Андрей. Я приехала одна. Разве нам еще кто-то нужен? А Марко… Он холодный, как труп. Я никогда его не любила. Я всегда любила тебя. С первой нашей встречи в музее. Ты так смотрел… Ты и теперь так смотришь…
Да, я смотрел и видел, как трикотажное нечто, которое я и заметить не пожелал, полетело в угол, а лифчика под ним не оказалось. И правильно. На кой он, если ничего поддерживать было вовсе не нужно? Тяжелая грудь с крупными темно-коричневыми сосками не нуждалась в подпорках…
Светлые джинсы, казалось, расстегнулись самостоятельно и упали на пол. Катерина, перешагнув, вышла из них, как из морской пены. Прозрачные трусики, не скрывающие черноты лона, — вот все, что на ней осталось…
— Что ты стоишь как истукан? Иди же ко мне. Иди скорей!
Она призывно протянула руки, и я, как на ходулях, пошел… пошел… Она была на другом конце света. Я шел долго-долго…
И Нойон уже не лаял, хрипел. Хрипел и бился всем телом в запертую дверь.
И кричала какая-то ночная птица голосом убийцы-маньяка.
И волки выли.
И печь потрескивала.
И пламя свечи дрожало, и все вокруг отбрасывало деформированные тени. Все, кроме Катерины. Но разве это имело значение? Она была хороша. Божественно хороша…
— Ты — мой! Ты же об этом мечтал, правда? Твоя душа, твое тело, твоя горячая кровь — все станет частью меня, Андрей! Любимый!
И ее ярко-красные губы сделались подобием клюва, и ее нос удлинился, а глаза запали, будто провалились внутрь. И это было красиво. Это было божественно…
И она, желанная до умопомешательства, обняла меня, и длинные рубиновые ногти вошли мне под лопатки, и струйки крови побежали по спине, и я застонал от нестерпимого наслаждения…
И она вонзила свои губы, свой острый клюв мне под подбородок в шею, и блаженная судорога прошла по телу, и кровь залила мою грудь, и она жадно пила ее и пила…
— Делай со мной, что хочешь… я — твой…
— Да, ты — мой, — согласилась она, и окровавленный клюв ударил в висок.
Я не мог сопротивляться. Не хотел. Это было наслаждение, описать которое никому не по силам…
И она провела ногтями по спине сверху вниз, оставляя глубокие борозды…
— О, любовь моя… боль — наслаждение… я люблю тебя больше жизни… бери ее…
Я не знаю, говорил ли я это вслух. Сознание отсутствовало. А когда клюв Катерины ударил меня в темя, я потерял его уже буквально…
Последнее, что я помнил, — птичья голова с перьями вместо волос и острым орлиным клювом над собой, лежащим навзничь на полу. Потом голова пропала, и я мельком увидел лицо черноволосой молодой женщины. Оно показалось мне знакомым…
И еще — Нойон-полуволк, скуля, вылизывающий мне лицо, зализывающий раны…
А потом я потерял сознание или заснул, не знаю.
ГЛАВА 22 Самозваная жена
Сначала я услышал громкое чавканье и догадался — собачье. Нойон-полуволк что-то ел с аппетитом. Странно, пищу, которую я ему предлагал, он игнорировал.
Потом услышал женский голос, довольно приятный, обращенный к собаке:
— Хороший… кушай-кушай… голодный…
Каждая косточка моего тела, каждая мышца, каждый дюйм плоти болели нестерпимо, будто меня целиком пропустили через циклопическую мясорубку. Нет, продолжали пропускать…
Глаза открывать не хотелось. Я понимал, что совсем недавно едва не лишился жизни. Женщина-птица чуть не сожрала меня, но кто-то не позволил ей этого сделать, кто-то меня спас. Кто? И главное — зачем? Кому мы на хрен нужны в этом равнодушном мире?
— Человек человеку — москвич, — услышал я тот же женский голос. — Хватит валяться, поднимайся, давай!
Я открыл глаза и сел. Обнаружил себя на полу брошенного дома. На столе — прогоревшая наполовину свечка. Из окон — тьма, значит, не закончилась еще эта страшная ночь…
В углу у печки что-то с довольным чавканьем слизывал с пола Нойон-полуволк, рядом с ним на корточках сидела молодая черноволосая женщина внешности европейской, но с видимой примесью азиатской, скорее всего бурятской крови. Я ее узнал, видел дважды — на съемках в доме декабристов, а потом издали на митинге «зеленых» у бывшего обкома, ныне — резиденции иркутского губернатора. Вот только откуда взялась здесь на Ольхоне подружка губернаторской дочки?
— Здравствуйте, — промямлил я, поднимаясь с пола.
Полуголый, одежда на мне висела окровавленными клочьями, голова кружилась… Я представил, как выгляжу со стороны, и меня замутило. И хотя девушка в Иркутске понравилась мне очень, ухаживать за ней не было ни сил, ни желания. Хватит, наблядовался, урод любвеобильный…
— Да уж, вид у тебя, Андрей, что надо… — согласилась девица из местной «золотой» молодежи. — Жених!
Я сел за стол на лавку, она устроилась напротив. Обнаружил рядом какую-то полузасохшую снедь и недопитую водку. Пить не хотелось, но это вернуло бы мне силы. Временно. Потянулся за бутылкой…
— В одном ты не прав. Ухаживать за мной для тебя лично безопасно по крайней мере. А вот как ты Муу Шубуун не узнал, ума не приложу.
Налил и, не раздумывая, выпил.
— Кто такая эта Му Шубу?
— Муу Шубуун, — поправила девушка. — Тебе о ней целую лекцию директор музея Михаил Орестович Овсянников в Иркутске прочел. Неужто не помнишь?
Я затряс энергично головой. Она больше не кружилась. Вот где мистика… Повторил заклинание, то есть налил и выпил…
— В буквальном переводе с бурятского языка — «дурная птица». Оборотень в виде красивой девицы с ярко-красными губами, наподобие клюва. Таковыми становятся девственницы, умершие, не удовлетворив свое чувство любви. Они являются молодым мужчинам, стараются обольстить их, чтобы съесть души, проклевать череп, выпить мозги и кровь.
Подошел пес и потерся о мое колено.
— Что он ел?
— То, что осталось от «дурной птицы».
Я все понял. Значит, это она, женщина с полубурятскими чертами, спасла меня от смерти. Но за какие такие заслуги?
— Ладно, хватит комплексовать. Начинай.
— Что? — не понял я.
— Ухаживать. Не видишь? Я дрожу от нетерпения!
Она не дрожала. Она издевалась надо мной, жалким и окровавленным, проколовшимся на тривиальном оборотне. Я же, дурень, знал, что Катерина мертва, однако купился на элементарный обман…
Впрочем, спасительница не вызывала во мне никакого желания. Хотя… Я в третий раз приложился к эмалированной кружке и, не пряча больше глаз, в упор оценивающе взглянул на девушку. Ничего себе, привлекательная гураночка. Не просто же так в Иркутске я на нее запал…
Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Водки хватало, да и женщина была красива изначально.
Я вообще противоположный пол делю на три категории:
1. «Спиртного не надо».
2. «Под пиво пойдет».
3. «Я столько не выпью».
Девушка из первой. Это я был нерабочий — исцарапанный, заклеванный и потерявший веру в себя. Ладно, прорвемся. Плеснул еще…
— До того как начну приставать, можно вопрос? Потом некогда будет.
Она усмехнулась:
— Давай.
— Я тут еще видел зловонный белесый пузырь, старика с двумя ртами и одноглазого зверька. Его потом Нойон придушил за сараем.
— Еще серую собаку, — добавила девица. — Это все один и тот же Ада-дух, оборотень. Он может превращаться и в ребенка.
— Ребенка не было.
— Ты вторгся в его владения. Он довольно опасный дух, но Нойон с ним справился. С Муу Шубуун, к сожалению, не смог.
Я осмелел окончательно и немедленно перешел к обольщению:
— Как мне тебя называть, красавица?
Она сморщила личико в брезгливой гримасе.
— Знаешь, давай без сюсюканья. Красавица… Этого не люблю. Мне триста лет, между прочим, и я твоя жена.
— Какая, на хрен, жена? — переспросил я.
— Мистическая. Но сразу предупреждаю, земных соперниц рядом не потерплю, всех этих француженок и москвичек. С того момента, как мы переспим, ты мой и только мой.
— В каком смысле?
— Со временем узнаешь.
Какая грубая женщина, меня прямо оторопь взяла.
— А нам обязательно надо переспать?
— Думаешь, я в восторге? Ничего не поделаешь, предназначение… И потом, у меня нет времени обучать тебя камланию с бубном. А без шаманского коня мы неделю добираться будем… а то и две.
Водка на меня подействовала адекватно. Я снова стал мужчиной, хозяином своей судьбы, а напротив сидела всего лишь женщина, пусть и красивая. Пусть и преклонного возраста. Триста лет — не шутка…
Я жахнул кулаком по столу:
— Стоп машина! Какой бубен, какой конь? И в какое место мы с тобой собрались, куда за неделю не дойти?
— Бубен — вот он.
Самозваная жена завела правую руку за спину и вернула ее уже с кожаным, сплошь разрисованным бубном. Мне он почему-то напомнил мои бутафорские ставни, прибитые на два окна. Такой же примитивизм по стилю.
Она протянула его мне, но я его не взял. Был уже у меня опыт касания подобного предмета. Шандарахнуло, будто от высоковольтной линии.
— Бери!
— А не ударит?
— Тогда ты коснулся чужого бубна, этот — твой.
Я взял, и меня не ударило, наоборот, словно незримая волна энергетики вошла в тело. Приятная волна.
— И что с ним делать?
— Со временем узнаешь.
Все у нее «со временем»… И когда, интересно, наступит это время?
— Скоро, — ответила женщина на мой незаданный вопрос. — Бубен и есть шаманский конь. На нем шаман путешествует по Верхнему и Нижнему мирам. Но обучать этому долго. Есть другой способ, способ мгновенного переноса.
— Что за способ?
Вопрос мой был проигнорирован. Женщина отобрала у меня бубен, положила на стол между нами и стала водить пальцем по рисункам.
— Смотри! На бубне нарисованы семь черных антропоморфных духов на вороных конях, приносящих пользу человеку, лежащему в горячке.
Семь желтых дев — это люди, которые во время нагорного жертвоприношения помогают шаману добраться до покровителя бурых коней.
Три черных человека помогают шаману во время обращения к духу, изображение которого на левой, северной стороне юрты Дьяволицы-Шаманки. Это — караульщики байкальских скал.
Теперь духи животных. Волк стережет шамана тогда, когда тот летает по разным странам света. Медведь стережет вход в юрту, на посылках он нигде не бывает. Собака бегает вместе с Волком. К двум Жабам мы обращаемся, когда у кого-нибудь болят ноги и руки. Чудовище с большими губами — это такое существо, которое высасывает и излечивает нарывы. Щука приносит пользу человеку, у которого болят ноги и грудь. Такую же роль играют ядовитая Змея, пестрая Змея и Ящерица. Лось и Баран покровительствуют коням, на которых шаманы ездят.
Человек на рыжем коне помогает шаману молиться покровителю рыжих коней.
Человек на вороном коне разъезжает впереди семи черных людей и, зная все, сообщает шаману, кто умрет и кто останется в живых.
— Кто они такие, все эти люди и животные? — спросил я, когда женщина смолкла.
— На бубне изображены обитатели Нижнего мира, что служат духами-помощниками шамана. Но ты не можешь пока полноценно пользоваться бубном. У тебя недоукомплектован штат духов-помощников. Нет ни Медведя, ни Щуки, ни Жаб, ни Змей… Есть Нойон, сильный и преданный дух, совмещающий в себе одном Собаку и Волка, есть хороший боевой Баран…
— Откуда Баран? — перебил я.
— Вот же он, у дверей, — кивнула женщина.
Я повернул голову и увидел курчавого черного Барана, размером с теленка. Одной только его шкуры хватило бы на длиннополую каракулевую шубу.
— Как он сюда попал?
— Ты его череп подобрал, и он тебе понравился. Теперь он твой дух-помощник.
— И что я с этим Бараном буду делать?
— Узнаешь со временем.
Я отвернулся от гигантского парнокопытного и повернулся к бутылке. Джинн, заключенный в ней, мой единственный дух-помощник, преданный и всемогущий. С ног валит любого, будь он хоть чемпионом мира по боям без правил…
— Хватит накачиваться, Андрей! Делом заниматься надо!
Я бросил на женщину злой взгляд и выпил. Ведет себя и правда как жена после двадцатилетнего трудного брака… И бутылку отобрала, и кружку… Уже и в кровать потащила… Откуда взялась кровать — широкая, двуспальная? Мы же в заброшенном доме, здесь, кроме стола и нары лавок, никакой мебели…
Была кровать, и я в ней лежал не один… И тело женщины было бесстыдно обнажено, но я его не желал. Я так думал, наивный. Мое тело не утратило здоровых рефлексов, оно — желало…
И случилось все так, как хотела женщина. На самом деле в этом мире все всегда случается только так…
Я вскрикнул и провалился в черную бездонную тьму…
ГЛАВА 23 Трубе — да!
Вода лилась прямо в мой сон, на мои плечи, грудь и живот. Это было приятно в жару. Это была жена. У нас медовый месяц, мы счастливы…
Я открыл глаза и улыбнулся. Так и есть, она — вечно юная, красивая, стройная, в ярком купальнике, который и не думал ничего скрывать, а подчеркивал только достоинства женского телосложения. Высокая грудь, сочные ягодицы, длинные ноги, тончайшая талия — и все мое по праву. Она — моя жена.
Вот только где я нахожусь? Первый пласт реальности бросался в глаза. Я возлежал в шезлонге. За мной — пятизвездочный отель, здание которого построено в стиле «мавританский замок», с английскими парками и фонтанами «а-ля Петергоф». Словом, типичный вид курортной зоны острова Ольхон.
Полуобнаженные иностранные туристы вокруг бассейнов с самой чистой в мире водой, подогретой, конечно. Байкал слишком холоден для изнеженных тел состоятельных американцев, европейцев и японцев.
Подошел молодой бурят в рекламных щитах по обе стороны тела, заговорил громким, поставленным голосом сначала на английском, потом на русском языке:
— Познавательные экскурсии на могилу Чингисхана! Круглогодичные семинары для шаманистов, дзен-буддистов, ламаистов и атеистов со всего мира! Для всех желающих экскурсии на шаманское кладбище! За отдельную плату — обряд похорон черного шамана с последующим сожжением бренных останков добровольцев! Экскурсии в шаманскую рощу с шаманским камланием под современную музыку, с шаманскими песнями и танцами! Широкий выбор сувениров настоящие шаманские бубны, онгоны и посохи на любой вкус! Девушки по вызову любой возможной национальности! Мальчики-азиаты, нежные и ласковые или свирепые и кровожадные по вашему желанию! Гермафродиты! Сирены-бисексуалки, работают под музыку! Сексуально привлекательные собаки, овцы и жабы!
Эх, да что там говорить — цивилизация!
— Где мы, красавица? — спросил я жену.
Она слушала зазывалу с брезгливой усмешкой.
Повернулась ко мне и, не меняя выражения лица, ответила:
— Мы в Нижнем мире, в Преисподней.
— Где?
Я подскочил с шезлонга как ошпаренный. Я был не столько удивлен, сколько возмущен циничным поклепом.
— Ты с ума сошла! Это же Рай!
— Во-первых, представление о загробном мире у азиатских шаманистов не совпадает с представлениями о нем у буддистов и христиан. Верхний и Нижний миры — не Ад и Рай, а иные реальности, куда души человека переселяются после смерти.
— И воздастся каждому по вере его… — произнес я задумчиво. — А что во-вторых?
— Со временем узнаешь.
Опять! Опять она о каком-то времени, в котором случится для меня момент истины. Не желаю я ждать! Впрочем, моего мнения она не спросила, продолжила:
— Я предлагаю прогулку по острову. Посмотришь, освоишься, мы ведь для этого сюда и перенеслись. Мне надо переодеться, я в номер, вернусь минут через сорок, не скучай!
И она пошла, поигрывая бедрами, ставя голые ступни, будто на подиуме на каблуках… Хороша, зараза…
Проводив ее взглядом, я перевел его в пространство у бассейна и понял, что с уходом жены ничего не потерял. Здесь не было дурнушек с плоским задом и грудью, как пара прыщиков. Особи женского пола, все до одной, имели в пользовании тела с умопомрачительными, роскошными фигурами. Половина была топлес, другая обнажена полностью. Белые, черные, красные, желтые — всех рас и народов, они загорали, ничуть не стыдясь, под жарким, почти тропическим солнцем Восточной Сибири.
После смерти я хотел бы перенестись в подобный Ад. Мне здесь нравилось.
Мое присутствие не осталось незамеченным. Расположившаяся в двух шагах компания из семи чернокожих женщин, одна лучше другой… Не так — ни одна не хуже другой, все суперкрасавицы! Они, всех оттенков черного цвета, откровенно строили мне глазки, они…
— Андрей, иди к нам! — позвала одна из них, с телом Венеры Милосской, но с руками и без складок черного мрамора на животе.
— Посмотри на меня! — воскликнула другая, черная как смоль, с кожей блестящей и гладкой.
— И на меня! — Третья была с азиатским разрезом глаз, но тоже темнокожей, с тысячью тонких косичек.
— И я не хуже!
— И я!
— Отдай нам Собаку и Барана, — предложила первая, — и бери нас всех! Мы — твои!
Я увидел поодаль Нойона-полуволка и Барана, череп которого нашел на заброшенной ферме. Баран стоял, опустив голову рогами к веселым девчонкам, полуволк, глядя на них же, рычал.
Зачем мне они, такие тупые? Пусть девочки их забирают, не жалко!
Перед глазами плыло, туман словно застилал разум. Я шагнул к женщинам, вытянув руки, как голливудский зомби, как недавно шел на зов очаровательной мертвой Катерины… Муу Шубуун! Я как в стену уперся. Дважды в сутки наступать на одни грабли, это слишком, даже для такого придурка, как я. И еще понял — сейчас не поможет никто. Для того жена и ушла, чтобы меня испытать. Я вспомнил, как мой предок, Михаил Татаринов, говорил, дескать, в Верхнем мире одежда не нужна. В Нижнем, вероятно, тоже. Значит, переодевание жены — отговорка, и она специально оставила меня наедине с этими чернокожими бабами.
Я потер лоб, потряс головой, и словно пелена упала с разума и глаз. Они, все семеро, были не женщинами, нет. Они были безобразными монстрами с множеством дефектов внешности. Я посмотрел по сторонам — остальные не лучше, сплошные старухи с уродливыми фигурами и лицами. Почему я этого не увидел сразу?
А тут и женушка моя коварная подошла. Ее внешность тоже изменилась, но не настолько, чтобы я ее не узнал. Европейские черты пропали с лица, вот, собственно, и все. Такой экзотичной она мне даже больше нравилась.
— Ты видишь третьим глазом то, что есть на самом деле. Только он рассеивает морок и дает настоящее видение.
Монстры мгновенно потеряли ко мне интерес, отвернулись, будто мы незнакомы.
— Кто они? — спросил я.
— Семь дочерей Эрлен-хана, Владыки Мертвых. В заклинаниях их описывают так:
Без коленных чашечек, изгибающиеся.
Без штанов, голозадые.
С лицами, черными как сажа.
С черными курчавыми волосами.
С косами завитыми.
Бесстыдные, насмешливые,
С лонами, как земная трещина,
С грудями, как холмики,
Задницами виляющие,
Грудями болтающие,
Семь черных, равных дочерей Эрлен-хана!
Они живут вместе, определенных занятий не имеют, время проводят в праздности и любовных играх, часто друг с другом. Когда шаман во время камлания проходит мимо них, они, наведя на него морок, завлекают на свое ложе. Если шаман поддается их чарам, он навсегда остается в их мужском гареме Царства Мертвых.
— Значит, вот что меня ожидало, если бы…
Я не договорил, а она взяла меня под руку.
— Ладно, давай прогуляемся.
Мы шли по направлению к Байкалу, и все теперь выглядело иначе. Солнце светило не столь уж ярко, я мог на него смотреть и видеть, что диск его ущербен, как луна в последней фазе перед новолунием.
Строения выглядели заброшенными, нежилыми и полуразвалившимися. То, что я принял за фешенебельные отели, — в том числе.
Стволы у берез были черными, листва — грязно-бурой. Хвоя сосен и трава — того же цвета. Все вокруг было каким-то ущербным. Мне показалось, я знаю причину.
— Я где-то слышал, что когда на буддийском Востоке строили в старину храм или дворец, один угол оставляли неоштукатуренным и грязным, дабы подчеркнуть несовершенство мироздания.
— Здесь другое. Все, что ты видишь вокруг, — мертво и, соответственно, ущербно. В Царстве Мертвых нет ничего живого. Если сюда случайно попадает человек Срединного мира, он воспринимается аборигенами как злой дух, приносящий болезни и несчастья. Его изгоняет назад местный шаман, и там незваный пришелец умирает. Никто не способен побывать здесь и жить дальше.
— Я тоже умру?
— Ты попал сюда не физически. Твое тело спит на полу заброшенного дома, а душа имеет ту же сущность, что у жителей Преисподней или Небес. Тебе ничего не угрожает. Ты вернешься назад, когда проснешься, и ничего не забудешь, вот что важно.
Мы вышли к Байкалу.
На растяжке между дощатым сортиром и павильоном, торгующим прокисшим пивом, я прочел черным по белому:
«Байкалу — нет! Трубе — да!»
Смердело непонятно откуда. Отовсюду.
В двух шагах от линии прибоя с севера на юг и от горизонта до горизонта тянулась ржавая труба метрового диаметра.
Волны выметали на грязный берег пластиковые бутылки, презервативы, полуразложившиеся трупики чаек и байкальской нерпы.
На воде, покачиваясь в нефтяных пятнах, пузом кверху плавал дохлый омуль.
— Это Байкал? — спросил я с ужасом.
— Да, — ответила моя мистическая жена. — Это мертвый Байкал.
ГЛАВА 24 Самодеятельный диагноз
Проснулся, будто воскрес. Так оно и есть. Я же из Царства Мертвых вернулся. И кто я теперь? Восставший из Ада-2? Нет, эту цифру Голливуд, кажется, уже использовал. «33», вероятно. Началось все со дня рождения в Иркутске, продолжается на Ольхоне, причем все в более и более извращенной форме.
Бабником я был всегда, но не настолько. То, что сейчас творится, иначе, чем манией, не назвать. Сны тоже снились, как всем, но такие яркие и связные — впервые. Еще мистика. Читал я не без интереса Карлоса Кастанеду, Сведенборга и Блаватскую, но уж фанатом их никогда не был. Однако теперь, во сне, наяву ли, мистика сплошь и рядом. И — никаких внятных объяснений. То, что мне говорили мистическая жена или вероятный предок Михаил Татаринов, в расчет принимать глупо. Они и сами есть ирреальные порождения моих красочных снов.
Все это, как порознь, так и разом, несомненный признак болезни. Я душевнобольной, и это как дважды два… как пять!
Но разбираться во всем этом времени не было. С минуты на минуту прибудут первые машины киногруппы. Сегодня съемка на заброшенной ферме.
Первым делом переоделся, сбросил с себя окровавленные лохмотья. К счастью, на мне была рабочая одежда. Надел джинсы, свитер и куртку, отметив, что на теле — ни царапины. Так и должно быть. Стигматы, они для верующих. Я не верил в реальность произошедшего со мной ночью.
Расставив стол и скамейки как положено, я вышел из дома. Сколько было времени, не знал, но солнце давно взошло, причем — не щербатое. Оно привычно слепило глаза. Слава богу. Небо было голубым, снег — белым, почва — красноватой, все краски яркие и сочные, живые. Это радовало.
Байкал сейчас скован льдом, но я был уверен, что под ним — самая чистая в мире вода. Почти дистиллированная. И ржавая труба метрового диаметра вдоль берега пока не тянется. Трубе — нет! Хрен вы, мертвецы, угадали! Байкалу — да!
По возвращении в Иркутск, после того как выпишусь из психиатрической лечебницы по улице Гагарина, в «зеленые» запишусь. Стану на митинги ходить, «да» и «нет» скандировать, банками с мазутом швырять в омоновцев и делать прочие глупости. Хоть на голове стоять, если потребуется, лишь бы не воплотилось в Срединном нашем мире то, что я увидел в Нижнем…
Я ушел на холмы. Я трогал прошлогодний ковыль, гладкие округлые камни, степную, шершавую почву. Я смотрел в ясное небо и радовался солнцу. Я чуть не плакал от приступа умиления. Какой он, оказывается, красивый, мир живых…
Каждому человеку надо показать Царство Мертвых, но не рекламный ролик с пятизвездочными отелями и голыми телками, а жуткую ущербную действительность… Вот только большинство увидит именно отели и телок. Женщины — еврокомфорт и породистых сексапильных самцов на любой вкус. Дети — увлекательную вселенную компьютерных игр с невообразимыми спецэффектами. И, как легко предсказуемый результат, Срединный мир медленно, но верно сползает в пропасть. И скажите, что делать? Я не знаю. Я вообще не борец, я — сумасшедший…
Ушел я довольно далеко, курил на вершине холма под одинокой облетевшей лиственницей с набухающими почками, когда увидел, как по ледяной трассе с севера к заброшенной ферме приближается колонна автомобилей киногруппы. Захотелось уйти дальше на соседний холм. Там я приметил цепь камней, возможно, остатки древней курыканской стены. Я потерял интерес к съемкам фильма, общению с себе подобными и — о ужас! — к женщинам! Даже к француженке, по которой, суток не прошло, сходил с ума… Впрочем, я сделал вывод — уже сошел. И куда теперь? Пошел вниз.
Пока я спускался, первые машины подошли, и режиссер с оператором и художником вошли в дом. Водитель, давя бесхозные кости животных, припарковал микроавтобус у сарая, где обитал раньше Ада-дух. Я никак не мог пройти мимо. Я шел прямо на водителя, который смотрел на меня, как на привидение, с ужасом.
— Ты где вчера был? — спросил шофер, непроизвольно отступив в сторону.
— Как где? Здесь!
— Этого не может быть! Я приехал, как стало смеркаться, тебя нет. Подумал, может, ты по нужде отошел, ждал минут двадцать, сигналил… А потом решил, что тебя другая машина в Хужир отвезла, и уехал.
— Какая, на хрен, другая машина?!
Я злился. Приехал бы, сволочь, как договаривались, не было бы этой кошмарной ночи, и не тронулся бы я умом окончательно.
— Мало ли… — замялся водитель, — мне три или четыре встречных по дороге сюда вчера попались.
Я не стал с ним спорить, махнул рукой и прошел в дом. Хоть здесь все в порядке. Иностранцы, невооруженным глазом видно, довольны моей работой.
— Хо-ро-шо, — без акцента, но по слогам сказал Ганс Бауэр, продемонстрировав большой палец, а Григорий Сергеев спросил настороженно:
— Ты где вчера был?
— Потом, — отмахнулся я, — давай делом заниматься. Какие занавески вешать будем?
Но Григорий не унимался:
— Нет, правда, где ты был? Сначала микроавтобус за тобой ездил, но без тебя вернулся. Водитель сказал, что нет тебя тут. Потом Жоан Каро тебя искать стала, переполошила всех. Я с ней тоже сюда приезжал, уже ночью, и — снова никого.
Вот это новости… Я-то думал, водитель микроавтобуса забыл про меня, а соврал, что не нашел. Но Жоан с Гришей врать не станут. Где же был-то я всю ночь? На холмах прятался? Почему тогда проснулся на полу заброшенного дома?
Ответы отсутствовали. В психбольнице я все расскажу как на духу, дипломированные специалисты дадут мне ответы и поставят диагноз, в Евросоюз с которым меня уже точно не пустят… Или наоборот? Прикинусь преследуемым властями олигархом, которого спецслужбы упекли в психушку, так примут как родного! Любят на Западе наших сумасшедших… Вот только не похож я на олигарха, как меня ни верти. Даже на сумасшедшего…
— Гриш, я правда не знаю, что могло случиться, но всю ночь я не покидал этого дома. Посмотри, и окна забил, чтобы теплее было.
— Забил, — кивнул Григорий. — Расскажешь потом?
— Нечего рассказывать. Никто за мной не приехал, я заколотил окна, протопил печь и лег спать. Час назад проснулся.
Григорий смотрел пристально, и видел я по его взгляду, что не верит мне художник. Ни единому слову не верит. Вот только в чем он меня подозревать-то может?
— Не нравишься ты мне, Андрей, в последнее время. Какой-то ты стал… — он запнулся, подбирая слово, — странный, что ли? Не знаю… Я вчера думал, ты водяры с собой взял, перебрал и заснул под кустом в степи, а от тебя спиртным даже не пахнет. И вон, — Григорий кивнул в сторону стола, — бутылка водки нераспечатанная стоит.
Я посмотрел — точно, стоит, с девственной винтовой крышечкой, семисотграммовая… Что же творится то, Господи? Выходит, и не пил я ее? Белая горячка, значит, исключается, остается шизофрения, вероятно интенсивно протекающая…
Режиссер с оператором, жестикулируя, что-то обсуждали у окна, выходящего на байкальский берег.
Вошел Борис Турецкий, поздоровался.
— Живой, слава богу, — сказал, вынимая из кармана довольно громоздкую телефонную трубку. Первые мобильники лет десять назад примерно такие были. — Спутниковый! — сказал с гордостью. — Правда, российского производства, но все равно работает!
Он восторгался этому, как чуду, мать его ети, иностранца хренова…
— Жоан Каро привезла из Иркутска еще три телефона, — сказал Турецкий, набирая номер. — Просила позвонить. Волнуется за вас очень. Она приезжала сюда поздно вечером. Вы в курсе?
Я кивнул.
— Анна Ананьева где?
— Вместе с мадемуазель Каро в Еланцы в администрацию Ольхонского района поехала. Вечером вернутся.
Я вздохнул с облегчением. Не хотел я сейчас видеть женщин. Мужчин, впрочем, тоже, но одно только воспоминание о женщинах вызывало нечто, сходное с тошнотой. Что происходит? То ни о чем, кроме как о бабах, думать не могу, а теперь — отвращение.
Переводчик заговорил в трубку на французском. Пару раз я услышал свое имя, в меру исковерканное прононсом.
Григорий Сергеев убрал наконец со стола бутылку водки. Тактичные иностранцы ее не заметили. Зато заметили череп барана на полке у печки, а под ним на гвозде — бубен. Мой бубен, который попросту не мог существовать! Я глазам своим не верил. А режиссер с оператором восклицали восторженно, чуть ли не в ладоши хлопали, рассматривая оба предмета.
Турецкий сунул мне в руку трубку.
— Жоан просит вас, Андрей.
— Что я ей скажу? Я ж языка не знаю!
— Она просто хочет услышать ваш голос.
Режиссер подозвал художника и переводчика. Заговорил.
— Гутен морген, Жоан, — сказал я в трубку.
— Вас ист лос, Андрэ? Ду бист ин орднунг?
— Алес ист зер гут.
— Их либе дих!
— Я их тоже либе.
Она наконец отключилась. Эта мука нестерпимая говорить о любви, пусть и не на родном, безбожно исковерканном немецком, когда тебя тошнит от одного упоминания о ней… Господи, что со мной? И еще, какого Господа я имею в виду, когда произношу это слово? Уж не Эрлен ли хана, Владыку Царства Мертвых?
Француз завершил свою эмоциональную речь, заговорил на русском Турецкий:
— Месье Диарен восхищен предметами народного творчества — бубном и черепом барана. Они искусно выполнены…
— Череп настоящий, — перебил художник-постановщик. — Пусть Поль выйдет в степь, там сплошные кости!
После перевода француз воскликнул коротко, Турецкий продолжил:
— Тем лучше. Месье Диарен хочет, чтобы эти предметы попали в кадр на передний план. Это стильно.
— Это невозможно, — отрезал Григорий Сергеев, он заметно злился. — Скажи ему, что по сценарию главного героя встречают русские бабки. Они — семейские, старообрядческой православной веры. Бубен для них — греховное язычество, череп тоже. Эти вещи не могут находиться в их доме.
Пока его переводили, он повернулся ко мне и добавил негромко:
— А вообще, черт знает. Но уж не на видном месте… Дошли сведения, что в случае болезни русские переселенцы нередко обращались к местным шаманам, причем не только простые крестьяне и казаки, но чиновники и даже градоначальники, то есть люди достаточно образованные.
Словом, в интерьер атрибуты шаманизма не попали, но Ганс Бауэр сделал десяток кадров. Как и Андрэ, фотограф. Тот вообще слонялся всюду и снимал, снимал… Работа такая.
Начать начальство решило с общих натурных планов, а мы с художником топили печь и доводили дом до жилого вида — вешали занавески на окна, бросали на пол половики, стелили скатерть. Григорий привез еще кучу старинных предметов быта, взятых из краеведческого музея, — от икон в почерневших окладах до двухведерного самовара тусклой меди. Художник не раз работал в музее, ему верили на слово.
Процесс съемок сегодня меня мало интересовал, но время от времени в окно я все-таки посматривал.
Камеру установили на байкальском льду. Сначала Уинстон Лермонт, британский актер, ехал шагом на сером в яблоках коне к дому, потом от дома, и вслед ему махали платочками русские бабки. Они оказались не такими уж древними, лет по пятьдесят, не больше. Впрочем, мешковатая народная одежда и черные платки, под самые глаза повязанные, старили их изрядно. В деревнях и сегодня так: женщине чуть за сорок, а одеваться начинает, как старуха. Одень в подобный наряд Жоан Каро, и она выглядела бы не лучше, несмотря на изумрудные глаза и галльское происхождение…
Сделали всего-то по два-три дубля каждого прохода, и ребята-«мосфильмовцы» стали переставлять камеру к дому.
— Дерьмовый фильм, — услышал я за спиной хрипловатый женский голос.
Повернулся. Сидя на скамье, курила мужиковатая москвичка гримерша.
— Почему дерьмовый?
— Я же до всех этих дерьмовых перестроек в советские времена на студии работать начинала…
Она затянулась глубоко, а я подумал, что скажи она — до революции 1905 года, я бы ей тоже поверил. Все женщины вызывали сегодня отвращение, хотелось говорить гадости, хотелось даже ударить… Я сдержался, а гримерша продолжила:
— Шедевры снимали, а потом…
Она говорила, а дым вытекал изо рта, как из разбитого корыта. Только — вверх.
— Достали сериалы…
— Сейчас вроде не только сериалы у нас снимают.
— Плохой Голливуд тем более достал… Думала, с французом снимем что-то дельное, а он…
Гримерша не закончила фразы, дымила молча, а я и не настаивал на продолжении. Совсем не интересно мне было знать, как относится к режиссеру пожилая разочарованная женщина.
Камеру установили, и британец с русскими бабками повторили шоу в обратной последовательности. И снова по два-три дубля. Это было необычно.
— Гриш, а почему дублей мало?
— Торопится Поль Диарен съемки до часу закончить. В два — похороны черного шамана в Хужире. Режиссер их снимать собрался.
— Дерьмо! — услышал я за спиной. — Хочет и рыбку съесть, и на кол сесть!
Вся в дыму, гримерша то ли плакала, то ли смеялась. Уставшая русская женщина…
Я подсел к ней на лавку, взял за руку, свободную от второй подряд сигареты.
— Успокойся, хватит.
— Домой хочу, — сказала она, всхлипывая, — к детям, к мужу… В Москве снег выпал по пояс, а здесь его нет ни черта… Какая Россия без снега?
— Откуда знаешь? — вмешался художник.
— Я у продюсера, у Жанки, спутниковый телефон утром брала, домой звонила, соскучилась… Я месье этому уже сказала… Одни натурные съемки остались, а где в Сибири снег взять? Он уже и в лесу растаял… А в Москве по пояс…
Говорила гримерша сбивчиво, перескакивая с одного на другое, торопливо, будто боялась, что кто-то из нас прервет ее или остановит грубым словом.
— Режиссер сказал, что сегодня все решит с парижским главным продюсером, что, может, и поедем доснимать натуру в Подмосковье…
Она говорила и говорила, а я думал, что сволочь я последняя. С каких пор я стал делить людей по сортам и ранжирам? По внешним данным, национальной принадлежности, умственному развитию или любому другому признаку? Ведь любой способ деления изначально порочен. Любой — свинство и подлость! Все — люди. Все — достойны любви и уважения, нет первых, как нет и последних! Мне же, уроду, дележка эта всегда была отвратительна, потому и выдумал «московскую нацию». А чем я-то лучше? Типичный «москвич». В самом худшем, карикатурном смысле.
Сами собой пришли в голову слова, произнесенные много лет назад, да и не мной даже:
Не буду смотреть на красоту лиц!
Не буду призывать смерть!
Не буду угонять чужой скот!
Не буду призывать убийство!
Не буду сидеть на чужом добре!
Не буду недоволен скудостью приношений!
Гадом буду, не буду! По доброй воле, по крайней мере!
А она, гримерша, плакала, некрасивая, с грубыми чертами лица, искаженными к тому же плачем — безутешным, бабьим…
— Домой хочу…
Я обнял ее за плечи, притянул голову к своей груди и гладил по волосам, по мокрым щекам, гладил… гладил…
— Успокойся, девочка моя, успокойся. Скоро-скоро домой поедешь… к мужу, к детям…
— К детям… — повторила она покорно и зарыдала вдруг в голос.
— Ну, Андрюха, умеешь ты успокаивать, — сказал Григорий, шаря в сумке. — Куда я бутылку-то твою дел?
А я, продолжая наглаживать гримершу, думал, что зря художник ее ищет. Там, наверно, вода, водку-то я выпил. Я же помню это прекрасно!
— Запомни, сынок, — сказал Григорий, отыскав бутылку, — как утверждал один мудрый древний эскулап… впрочем, древний и мудрый — синонимы… Так вот, в небольших дозах организму все лекарство, в излишних — все яд!
Но налил он в стакан дозу далеко не гомеопатическую, больше половины. Протянул женщине.
— Выпей, давай. Это тебя успокоит.
Хотелось добавить: навеки. Сам же сказал: в больших дозах все яд. Полстакана — это мало или много? Вопрос риторический. Полстакана, они и есть полстакана, вот только водки ли?
— Гриш, ты понюхай сперва.
— Чего ее нюхать-то?
— Понюхай! — Я повысил голос, и он подчинился, поднес к носу, поморщился.
— Хороший разлив, почти и не пахнет.
Все мне стало ясно. Водку я выпил, а в бутылку набуровил воду.
Гримерша нервно вырвала свою голову из моих рук, отодвинула меня от греха в сторону по лавке и, уложившись в пару глотков, уговорила всю предложенную дозу.
Вот она, старая гвардия советской кинематографии!
Гримерша, и не поморщившись даже, тут же и закурила. Слез на лице как не бывало… По всем характерным признакам — водка.
— Плесни-ка и мне, — попросил я Григория.
Неэтично проводить эксперименты на посторонних людях, пусть и добровольцах.
Выпил. Полез за сигаретами. Крутанул колесико зажигалки. Водка.
Что же я пил-то ночью? А может, бутылка волшебная? Выпил ее до дна — утром снова полная. Вот повезло-то…
Камеру установили у дверей слева от печки.
Оказалось, в кадр попадает непобеленный кусок торцовой стены. Десять сантиметров от пола до потолка я забелил за десять секунд.
Актера усадили за стол, бабок в ряд сбоку. Актер ел борщ, привезенный из столовой Никиты в термосе, а бабки пели русские народные, точнее, семейские песни. Смысла я почти не улавливал, слова были ближе, пожалуй, к древнерусскому языку, чем к современному. Однако догадался: женщины поют о любви, разлуке и тяжкой бабьей доле, конечно.
Как ни торопился режиссер закончить съемку, британцу пришлось слопать три тарелки наваристого борща. Первую ел с видимым удовольствием, последней — давился. Надолго, вероятно, отбили у мужика охоту к русской кухне…
Потом актера поили чаем из медного самовара, а бабки снова пели. Ну чай британцу пить не привыкать, тем паче он сразу попросил заварить из принесенной с собой металлической баночки…
Словом, в час с минутами съемки были закончены.
ГЛАВА 25 Скучное шоу
Если бы его, укрытого стягом, везли на пушечном лафете под барабанный бой, я бы, пожалуй, тоже не удивился. Но его несли на прямоугольном куске черного войлока четверо дюжих мужиков из местных. Виновник торжества соответствовал. Одетый в тот же нарядный шаманский прикид, в котором я увидел его впервые у костра, Николай Хамаганов важно возлежал на войлоке с закрытыми глазами, притворяясь трупом. Процессия была немногочисленной — десяток-полтора людей за псевдопокойником и пара голых по пояс клоунов впереди бряцала медными подвесками на кожаных штанах да несинхронно гремела потертыми бубнами. Женщин не было вовсе, одни мужики, причем все изрядно навеселе. Вели себя разнузданно: выли, стенали и пили из горла портвейн. На шаманских похоронах, вероятно, так принято…
Вокруг процессии мельтешил оператор с портативной видеокамерой, следом за ним режиссер и художник. Что там делал Григорий Сергеев, я не понял, но он упорно не отставал от француза.
Из киногруппы мало кто пришел, народ не интересовался архаическими ритуалами, народ устал. Я и сам жалел, что приперся следом за Григорием, который, бросив меня тут, ушел к начальству. Лучше бы я остался в доме № 11 и завалился спать. Тело мое болело, будто из него накануне выпустили всю кровь. Может, так оно и было?
В хвосте процессии я увидел рыжебородого Филиппа и пошел рядом. Знакомец мой был чем-то недоволен, похоже — всем. Шевелил губами, вероятно беззвучно матерясь.
— Ты чего, не с той ноги встал? — поинтересовался я.
Филиппа прорвало. Чуть приотстав, он заговорил негромко, но эмоционально:
— Подобной профанации я и представить не мог! Все, какие возможно, ритуалы нарушены. Черных шаманов так не хоронят! Да и шаман ли Колька Хамаганов, одноклассник мой? На Ольхоне он не обучался и посвящения не принимал. Тогда где? В Горном Алтае? В Усть-Орде? У тунгусов или якутов? В Монголии? Но костюм-то на нем бурятский, да еще древний, ему лет сто, не меньше. Я подобные только в запасниках Иркутского краеведческого музея видел. Откуда он у него? Да и не выставляют на аранга черных шаманов, это же ежу понятно! Их останки огню предают!
— Ты с ума сошел! Разве можно живого человека жечь? — вставил я наконец свое веское слово.
Филипп словно в стенку уперся.
— Как — живого?
— А ты подойди, — предложил я, — и, коли не трус, уколи его в зад шилом. Гарантирую — оживет мгновенно!
— Ты что-то знаешь?
— Знаю.
— Расскажешь?
— Расскажу.
Филипп подхватил меня под руку и потащил в сторону.
— Погоди, — заупрямился я, — давай сперва шоу досмотрим.
Впрочем, смотреть особо было не на что. Скучное мероприятие. Сожжение выглядело бы куда эффектней…
Примерно через четверть часа мы добрались до скалы на берегу Байкала. По крутой тропе поднялись вверх. Благополучно — труп не уронили. Он, вероятно, цеплялся за края войлока. Впрочем, я был далеко, мне могло и показаться.
На пологой вершине нас ожидали два пьяных бурята с топорами и двуручной пилой. Устроили все как положено — дощатый полог на большом камне.
Труп возложили на полог дважды. По просьбе оператора. Правильно, пусть будет выбор при монтаже…
К веткам цветущего багульника каждый желающий привязал предложенную на выбор ленточку: белую, синюю или красную. Цвета подбирались, вероятно, из патриотических соображений.
Потом, как принято, принялись пить и брызгать, то есть, окунув безымянный палец в стакан с водкой, капать на землю. Остальное — в глотку. Туда попадало значительно больше.
И все это немец с энтузиазмом снимал на видео. Ему нравилось.
Скучное шоу. Хоть бы барану догадались перерезать глотку в ногах у псевдопокойника, раз уж жечь его негуманно…
Ни брызгать, ни пить за упокой живого человека с Филиппом мы не стали, вернулись в Хужир. Свой рассказ я начал сразу, как только нам перестали попадаться на пути пьяные ольхонские аборигены. Не поскупился на выпивку Николай Алексеев, иркутский бизнесмен от внутренних наших органов. Кажется, в дым пьяна была вся деревня, включая женщин, детей и домашних животных…
Я не мог больше молчать. Я рассказал малознакомому человеку о роковой магии чисел, преследующих нашу семью, о смерти в Москве последнего своего родственника, двоюродного брата Ефима Татаринова, о спаме, снах, ожившем Буратине и раненом Боре Кикине…
Короче, я рассказал Филиппу все. Ольхонскую половину уже в его доме в Хужире. Жил он, кстати, в тереме с тремя куполами-луковками. Сам построил, и это много открыло мне в его характере. Зачем, спрашивается, горбатиться над сооружением нефункциональных архитектурных излишеств? Однако ему хотелось жить в красивом доме, и он, в отсутствии лишних денег и присутствии четырех малолетних отпрысков, жены и тещи, все выстроил один. Молодец.
Мы покурили в его полуподвальной мастерской, пока жена устроила стол с солеными груздями, маринованными маслятами, конечно же, омулем, малосоленым и, по моей просьбе, копченым, жареной картошкой и бутылкой самогона, настоянного на скорлупе кедровых орешков, что придавало ему цивильно-коньячный вид. Он и на вкус оказался не хуже выдержанного коньяка.
Когда я закончил свой рассказ, Филипп не предложил мне обратиться в психбольницу или наркодиспансер. Филипп надолго задумался. Наконец он заговорил:
— Я могу ошибаться, Андрей, но все тобой рассказанное указывает на то, что ты становишься шаманом.
— Я? Почему ты так решил?
— Твои сны, болезни, путешествия в Преисподнюю и на Небеса, духи-предки, духи-покровители, духи-помощники — все говорит об этом.
— Слушай, а моя ненормальная сексуальность?
— И она тоже.
— Слава богу, а я-то решил, что сошел с ума…
— А ты с него и сошел, — «утешил» меня Филипп. — Нормальный человек шаманом стать никогда не сможет, сколько его ни обучай.
— Но меня-то никто не обучал!
— Тебя обучали, обучают и будут обучать.
— Но я не хочу! — психанул я. — Я хочу остаться обычным человеком!
— Это невозможно. Все будет так, как предначертано.
Филипп достал с полки книгу в пестрой суперобложке. Я успел прочесть имя автора: Мирча Элиаде. Оно мне ни о чем не сказало.
— Слушай. — Филипп раскрыл книгу не наугад, она была сплошь в закладках:
«Именно в подобный мифический горизонт следует поместить связи шаманов с их „небесными супругами“: это не они собственно посвящают шамана, они лишь помогают ему в обучении или экстатическом опыте. Естественно, вмешательство „небесной супруги“ в мистические переживания шамана чаще всего сопровождается сексуальными эмоциями: всякое экстатическое переживание подвержено подобным отклонениям, и тесная связь между мистической и телесной любовью достаточно известна, чтобы не ошибаться относительно такой смены уровня».
То, что моя «мистическая жена» равнозначна «небесной жене» автора — румына, судя по имени, я догадался. И то, что трахаться с ними положено, сомнений не вызывало. Вот только смысл цитаты не дошел до меня вполне. Самогон ли забористый, кедровый, подействовал, или отупел я, переполнившись сверх всякой меры впечатлениями, не знаю… Филипп это понял.
— Слушай еще, — раскрыл на другой, недалекой закладке. — Автор приводит исповедь тунгусского шамана:
«…Однажды я спал на моем ложе страданий, когда ко мне приблизился дух. Это была очень красивая женщина, совсем маленькая, ростом не выше пол-аршина (аршин равен семидесяти одному сантиметру). Ее лицо и наряд напомнили мне в точности одну из наших тунгусских женщин. Волосы падали на ее плечи маленькими черными косичками. Некоторые шаманы рассказывают, что им в видениях являлась женщина, у которой лицо было наполовину черное, наполовину красное.
Она сказала мне: „Я дух-покровитель твоих предков шаманов. Я обучила их шаманскому искусству, теперь обучу тебя. Старшие шаманы умерли один за другим, и уже не осталось никого. Ты станешь шаманом“.
Затем она добавила: „Люблю тебя. Ты будешь моим мужем, так как у меня сейчас нет мужа, а я буду твоей женой“.
Испугавшись, я захотел воспротивиться.
„Если ты не хочешь быть послушным, — сказала она, — тем хуже для тебя. Я тебя убью“.
С тех пор она не переставала приходить ко мне: я сплю с ней, как с собственной женой, но детей у нас нет. Она живет одна, без родственников, в доме на горе. Но она часто меняет жилье.
Иногда она появляется в облике старухи или волчицы, поэтому на нее невозможно смотреть без страха. В другой раз, принимая форму крылатого тигра, она уносит меня смотреть разные страны. Я видел горы, в которых живут только старики и старухи, а также деревни, где живут только молодые мужчины и женщины они похожи на тунгусов и разговаривают на нашем языке, иногда они превращаются в тигров.
В последнее время моя жена приходит ко мне реже, чем до этого. В те времена, когда она меня учила, она приходила каждую ночь.
Она дала мне трех духов-помощников — пантеру, медведя и тигра.
Когда я камлаю, жена и духи-помощники овладевают мною, проникают в меня, как дым или влага. Когда жена во мне, то именно она говорит моими устами и всем руководит. Подобным же образом, когда я ем мясо жертвы или пью свиную кровь (только шаман имеет право ее пить, остальные не должны ее касаться), то не я ее пью, а моя жена…»
Филипп захлопнул книгу, и я вздрогнул. А когда чья-то рука легла на мое плечо, чуть не завизжал, как недорезанный поросенок.
— Свиную кровь пьете?
Я узнал басовитый голос художника-постановщика, но ужас не покидал меня, отступил только чуть в глубину сознания. Мне было страшно, и ничего с этим я поделать не мог.
Григорий Сергеев сел к столу на свободный стул.
— Зря, Филипп, ты Андрею страшилки читаешь. Он и без того в последнее время дерганый.
Хозяин разлил по граненым стаканам свой божественный самогон.
— Ему, Гриша, знать это сейчас просто необходимо…
Улыбаясь приветливо, я с силой наступил под столом Филиппу на ногу, и он понял меня мгновенно, прикрыв тему, поднял стакан.
— Ваше здоровье, дорогие гости!
— Ну, я-то незваный, — тонко скаламбурил художник, — я хуже Татаринова!
Сказал и самому стыдно сделалось от произнесенной банальщины. Остряки, блин… Один вот тоже все шутил на эту тему. Дошутился, в больнице теперь с рассеченным по диагонали лицом…
— Я вот чего зашел-то, Филипп, — продолжил Григорий. — Все работы на острове Хоронцы отменяются, передай своей бригаде. Я только что с собрания руководства. Из-за отсутствия снега съемки на Ольхоне прекращаются, и киногруппа переезжает в Подмосковье, где снег неожиданно выпал и прогнозируют еще дней десять отрицательной температуры. Но это еще не все. Актер-бурят из Иркутского ТЮЗа предложил режиссеру снять шаманскую казнь и за тысячу долларов согласился играть роль жертвы. Режиссер с оператором за идею ухватились. Так что вся группа поедет до Москвы на поезде, а руководство остается еще на два-три дня для псевдодокументальных съемок и догонит остальных самолетом.
Выслушав все это, Филипп покачал головой:
— Ох и доиграются иностранцы… Добром эта затея у них не кончится. Ты бы, Гриша, хоть сам в эти игры не лез.
— А что такого? — удивился Сергеев. — Обычные постановочные кадры. Во всем мире сплошь и рядом такое снимают!
— Может, и снимают, да не совсем такое, — не согласился Филипп. — Не стоит гневить ольхонских духов. Тем более вода на байкальский лед вот-вот выступит.
— И что это значит? — поинтересовался я.
— Это значит, что лед сделался рыхлым и ездить по нему опасно. Знаешь, сколько весной на Байкале машин под лед уходит?
Он не уточнил, но я и без того знал — много…
Из трехглавого терема Филиппа выходили мы с Григорием уже в темноте.
Я подумал: интересно, Николай Хамаганов восстал из войлока сразу же, как только ушли иностранцы, или валялся на аранга до полной тьмы?
ГЛАВА 26 «Important» значит «важный»…
До усадьбы Никиты мы добрались за пять минут. Григорий Сергеев, увидев людей у костра, направился к ним. Позвал и меня, но не хотелось мне больше общения, тем паче у огня могли оказаться разом обе женщины, встречаться с которыми я предпочитал порознь. Разве что собрать их в одной постели. Это было бы весьма забавно, но я понимал — нереально, не фиг и мечтать…
Я решил покурить перед сном на лавке, но у входа в свой дом № 11 увидел тех, встречи с которыми как раз и старался избежать. Друг напротив друга стояли Жоан Каро и Анна Ананьева.
Я покрутил головой, обнаружив возле забора укрытие, юркнул за поленницу, высотой в половину моего роста, и присел на корточки.
Видеть женщины меня не могли — стояли в свете висящего над дверью фонаря, а я шел из темноты. И хотя разговор, вероятно, вплотную касался меня, были они настолько увлечены, что, пройди я в двух шагах, головы бы не повернули.
Впрочем, это деликатно сказано: «разговор», «увлечены». Их картавый французский становился с каждым словом все более и более громким и агрессивным. Смысла я уловить не успел, но понимал — добром это не кончится. И был прав.
Анна что-то выкрикнула, и обе замерли, онемели, русская, вероятно, от сказанного, француженка — от услышанного.
Не знаю, как это возможно, но сначала я услышал хлесткий звук пощечины, а уже потом увидел, как Жоан резко, без замаха ударила соперницу по щеке, произнеся шепотом:
— Мердэ!
Как Анна сумела сдержаться, не понимаю. Я же видел, она готова была броситься в бой, и полетели бы во все стороны клочки волос, обломки алых ногтей и ошметки плоти. Но всего этого, столь ожидаемого, к счастью, не случилось. Анна провела сжатым кулачком по обиженной своей щеке и произнесла раздельно, как на уроке французского в средней школе:
— Бонжюр, мадам!
— Мадемуазель! — зло поправила Жоан.
— Бонжюр, мадемуазель! — повторила, как домашнее задание, Анна и добавила с усмешкой по-русски: — Стыдно, должно быть, оставаться мадемуазелью в твои-то годы…
Потом развернулась на месте почти по-строевому четко, решительно направилась во тьму, но, не пройдя и пяти шагов, оглянулась и выкрикнула, как змея прошипела:
— Старая выдра!
И ушла. Жоан осталась. Победила? Нет, не могло быть победителей, проиграли обе. Дуры… дуры… Ну а я — урод, и это как дважды два. Как пять.
И обе нуждались в утешении. Обе. Но я-то всего один! Один урод на двух дур. Патовая ситуация. Ничья. Ничьих не бывает. Проиграли все.
Я развернулся и сел лицом к забору, а спиной к поленнице, Жоан, Анне и всему остальному цивилизованному миру. Закурил. Меня ниоткуда не видно, а значит, меня и нет…
Нет, если бы они сцепились, как кошки, я бы, конечно, вмешался, растащил. Но кошки повели себя не по-кошачьи. Глаза, прически и кожа на лице остались целы. И слава богу…
Вдруг я услышал какие-то нечленораздельные звуки и привстал над поленницей. Анны видно не было, а Жоан, спрятав лицо в ладонях, сидела на скамейке в свете тусклого фонаря над входом, и тело ее содрогалось ритмично и безостановочно. Странно она плакала. Будто заводная игрушка — курочка. Была у меня такая в детстве. Заведешь ключиком, и клюет, клюет с пола зернышки… Дура. Не было на полу никаких зернышек. Никогда не было. Да и ключик потерялся. И сама курочка…
Подойдя к лавке, посмотрел по сторонам. Вот же, какая я сука… и сейчас не желаю, чтобы Анна увидела. Оставляю себе шанс: уедет француженка, русская останется… Неужели я не понимаю — уедут обе, останусь — один! Но разве сейчас это имело значение?
Когда, присев перед Жоан на корточки, я коснулся ее плеч, она вздрогнула, смолкла и осторожно стала отводить руки от лица. Она что, надеялась увидеть кошмар с улицы Вязов? Наивная. Здесь, в Сибири покруче будет. Вдобавок бессмысленней и беспощадней…
Рук от лица не отвела, смотрела в щелку меж пальцев, будто подглядывала, и, мне казалось, меня не узнавала.
— Жоан, солнышко зеленоглазое, это я, твой Андрэ!
— Твой Андрэ… — повторила она покорно.
— Да, моя хорошая, твой Андрэ!
Я осторожно провел кончиками пальцев по ее ладоням, скрывающим лицо, и они были мокрыми. Провел по волосам, влажным от слез… Бедная, бедная… Я, урод, не стою ни единой твоей слезинки. И ты давно не ребенок, и Достоевский здесь ни при чем… Хотя почему ни при чем? Если что-то и спасет наш обреченный мир, так только красота. Больше попросту нечему. Пробовали.
Жоан заговорила на родном, и я понимал ее без переводчиков.
— Не смотри на меня! Я вся в слезах! Я распухшая и некрасивая! Кошмар! Ты разлюбишь меня!.. Если, конечно, вообще любил…
— Любил, — ответил я, отводя ее руки в стороны. — Их либе дир, Жоан!
Чуть привстав, я поцеловал мокрую солоноватую щеку.
— Помнишь свою записку на листке из тетрадки в клеточку? И картинка, Жоан, мне тоже очень понравилась. Замечательная картинка! Сердце, пронзенное стрелой, и лужица вытекшей крови. Пикассо отдыхает…
— Вас ист дас Пикассо? — спросила чуть даже испуганно.
— Да бог с ним, пусть себе лежит, не ворочается…
Я подсел к ней на лавку, а она, уткнув лицо в мою грудь, вцепилась в мою шею обеими руками и заговорила скороговоркой. Она говорила не мне, она говорила себе самой, и сама себе готова была быть в едином лице исповедником, жертвой и палачом.
— Я самая глупая в мире женщина. Я полюбила молодого и красивого мужчину. Ну что может быть глупей? Но и это не все. Мы изъясняемся с ним на ненавистном со школы, отвратительном немецком языке! И он, то есть ты, Андрэ, знаешь этот язык не лучше, чем я. Ведь это так?
— Я, Жоан.
Она смолкла, подняла голову и с легким недоумением посмотрела мне в глаза. Потом, вероятно посчитав мой осмысленно-германский ответ случайным совпадением, рассмеялась и вернула голову в исходное положение на моей груди, будто нырнула внутрь меня.
— Мы не понимаем друг друга. И никогда не поймем. И это счастье. Ведь если бы ты, Андрэ, заговорил вдруг по-человечески, уже после двух твоих фраз всем стало бы ясно, что ты глупый и нудный, как любой красивый мужчина в твоем возрасте… Впрочем, твоя мужская привлекательность… твоя какая-то нечеловеческая сексуальность окупают все!
Она резко притянула мою голову к своей и жадно поцеловала в губы Так же резко прервала поцелуй, будто вдруг насытилась.
Она мне чуть голову не оторвала, честное слово!
— Но, мой милый, милый друг, нельзя же всю оставшуюся жизнь провести с тобой в постели! Да и сколько лет я еще смогу сохранять достойную форму? Бог знает… Да и Он, знает ли?..
Она говорила и говорила, а мне стало вдруг нестерпимо скучно. И странно. Припомнив свою недавнюю сексагрессивность, скука мне показалась неуместной.
По логике вещей я должен был сейчас неистово целовать ее губы. Потом, расстегнув нужные пуговки, обнажить грудь. И левый сосок твердел бы и рос меж моими губами и кончиком языка. Потом — правый…
Чуть погодя — джинсы. Я знал, как их легко расстегнуть, да она и сама бы это сделала. Ну а прозрачные трусики растаяли бы под ладонью, как изморозь на стекле, от одного только прикосновения, легкого, как выдох…
Ноги бы раздвинулись сами собой, чтобы всем было удобно и хорошо — ей и мне…
И я бы пыхтел, а она постанывала…
А потом бы я поднял ее на руки, легкую, обнимающую… нет, обвивающую мое тело, как тропическая лиана…
Я унес бы ее в степь далеко-далеко, метров за двести, и мы возлегли бы на мою куртку, и…
Мне было скучно. Я не хотел всего этого, но понимал, что именно этого Жоан ждала от молодого и красивого, от глупого и нудного самца.
И я встал с лавки.
И я взял ее на руки.
И она обвивала меня, как лиана.
И я унес ее много дальше, чем это было необходимо.
И выбрал сухое место на пригорке.
И бросил наземь куртку.
И мы возлегли…
Дальше пошло не по сценарию. Наперекосяк пошло, короче. Не было со мной такого ни разу… Нет, было, но тогда я был пьян как свинья… при чем здесь домашние животные?.. а до этого бухал беспробудно неделю или две. Но тогда я не мог, однако хотел. Теперь не хотел даже. Не мог — тем более…
Жоан пыталась спасти положение, но все вываливалось у нее из рук, падало…
Она считала себя опытной женщиной. Она и была опытной женщиной. Но и этого было недостаточно. Невозможно поднять неподъемное…
Я ощущал одновременно жгучий стыд и нестерпимое отвращение, тошноту. Словно перекормленного сладким пичкали и пичкали растаявшим липким шоколадом против его воли… Я вспомнил, как один молодой придурок, с коим довелось как-то работать, ел на спор без воды и на время пятнадцать «сникерсов». И как длинно и тягуче его рвало после предпоследнего… Значит, может тошнить не только от сладкого… Что со мной-то происходит?
— Ничего, — говорила Жоан, — ничего страшного. Такое случается. Такое случается с каждым. Не комплексуй. Завтра все будет хорошо. Завтра все будет замечательно!
Мы возвращались к усадьбе молча. Я знал, что и завтра будет то же самое. И послезавтра. И всегда. Не знаю, откуда взялась такая уверенность…
В доме № 11 я сперва почуял, а уже только после этого увидел, что все четыре кровати заняты. На двух из них привычно похрапывали художник Гриша и пиротехник Петя. На кровати водителя, ночующего у хужирских родственников, неестественно тихо, как неживой, спал реквизитор Вася, на моей — осветитель Ваня. Последний был молод и свеж, храп его сотрясал стены…
Экспозиция меня не удивила. Нормально. Русские пацаны с московской пропиской отметили окончание съемок на сакральном острове Ольхон. Святое дело.
Но амбре их похмельного выхлопа с существенной примесью несвежих носков было настолько густым и плотным, что я ожидал увидеть свою сумку с плотницким инструментом, в том числе и топором, зависшей в воздухе на манер воздушного шара. Этого не случилось, вероятно, потому, что табачный дым успел развеяться, а вышеназванный аромат, как общеизвестно, имеет меньшую выталкивающую силу…
Еще раз осмотрев распростертые тела, я пришел к выводу, что спать на одной узкой кровати вместе с любым из них выше моих сил. Но и ходить по комнатам в поисках свободной койки тоже не улыбалось.
Хотелось свежего воздуха. Хотелось необъятного степного простора и звездного неба над головой. Космоса, а не замкнутого пространства. Всей планетарной атмосферы разом, а не запаха потных тел…
Я прихватил с вешалки драный рабочий пуховик художника, потом отобрал у осветителя Вани свою подушку — он все равно лежал на ней ногами, после чего покинул негостеприимное помещение.
Идти тоже хотелось не очень, хотелось лететь! И чтобы волосы лохматил ветер по имени Сарма. И очертания острова Ольхон чтобы можно было увидеть разом…
Уходить далеко не стал. Нашел тот самый сухой пригорок, где только что потерпел фиаско. Почему бы не здесь? Одно место на поверхности планеты Земля ничуть не хуже любого другого…
Заснул я, кажется, раньше, чем голова коснулась подушки, и сразу же увидел красивое сияющее лицо своей мистической жены… или небесной? Не знаю, как правильно.
— Ну что, изменщик? — смеялась она. — А ты мне не верил!
— Чему я не верил?
— Я предупреждала тебя, что не потерплю измен, не потерплю соперниц! Ты спросил, каким образом. Я ответила — со временем узнаешь! Теперь узнал?
Я молчал. Она срывала с меня остатки одежды, красивая, блин, мистическая…
Значит, это ее штучки? Значит, так вот со мной можно?
— Ты мой, Андрей! — говорила она. — Запомни: теперь ты только мой!
— Я импотент? — спросил я, целуя ненавистно-желанное тело.
— Да, но правильно ставь ударение. На английском языке «important» значит «важный»!
Сука. Я ее ненавидел. Но с ней мне не было скучно. Я хотел ее больше жизни…
У нас все получилось, как надо, даже лучше. Если лучше бывает. Вот только детей мне она никогда не родит. Это я знал из цитаты, зачитанной рыжебородым Филиппом.
Впрочем, зачем мне дети? Род Татариновых угаснет после моей смерти, это неизбежно.
ГЛАВА 27 Труп в шаманском прикиде
Я проснулся от многократных прикосновений чуть шершавого, мокрого языка, вылизывающего мои глаза, уши, щеки… Очередная ласка моей мистической жены? Непохоже. Не было в этом вылизывании откровенно-сексуальной направленности, был переизбыток дружеских чувств и братской любви.
Не открывая глаз, я нащупал лохматую голову и прижал к груди.
— Нойон пришел… хороший… ты охранял мой сон?
Он взвизгнул коротко, будто ответил: «Да!»
Ну кто еще, скажите, может быть более преданным другом, чем собака, пусть и мертвая…
Я открыл глаза, сел. Драный пуховик художника-постановщика, подушка и моя куртка, коей укрывался, бесформенной тряпочной грудой лежали поодаль. А я — на степной почве, на прошлогоднем сухом ковыле, на пробивающейся только-только зеленой траве. Ложе мое оказалось мягким, пружинистым и на удивление теплым. Я не замерз ночью, мне, напротив, было жарко.
Ну что еще, скажите, может быть более теплым одеялом, чем умопомрачительный полог Млечного Пути?
Бордовый краешек солнца показался над холмами, в мир возвращались краски. Всюду пробивалась трава, скоро она окрасит степь в ярко-зеленый, молодой цвет. Жизнь продолжалась. Впрочем, она и не умирала ни на мгновение. Посвистывали турбаганы, степные суслики, щебетали проснувшиеся птицы, со стороны деревни прокричал петух, и ему ответил дежурный перебрех цепных псов.
Но это все — лирика. Что я имею на сегодняшний момент? Страшно представить…
Я, 33-летний, русский по национальности, с университетским образованием, Андрей Татаринов в начале XXI века, причем не на краю земли, на вполне обжитом острове Ольхон, становлюсь ШАМАНОМ! Хоть кто-нибудь, находясь в здравом уме, способен в это поверить? Нет! Причем я первый скажу, что все это бред, ночной кошмар, психическое заболевание или все разом. Я даже не знаю, кто такой этот шаман? Чем он заниматься-то должен? Людей лечить? Так теперь больницы всюду и поликлиники! А народной медициной одни шарлатаны занимаются! Это ж ежу понятно!
Мне в ладонь ткнулся Нойон холодным носом. Вот, блин, навязался на мою голову… Я погладил большую мохнатую голову.
— Нет тебя, Нойон! Тебя убили несколько дней назад, ты — моя галлюцинация, понял?
Он не понял. Он не желал быть галлюцинацией. Он поскуливал и вилял хвостом…
Ладно, просто перестану обращать на него внимание. На остальные свои видения — тоже. Может, пропадут со временем?.. Верилось в это с трудом.
На усадьбе Никиты, несмотря на ранний час, было людно. Топились печи в столовой и «теплом» туалете, таджики-гастарбайтеры кололи дрова во дворе, ходили какие-то люди, мужчины и женщины — все при деле. Кроме меня. У меня дел на Ольхоне больше не осталось. Съемки закончились. Киногруппа уедет сегодня в Иркутск, где сядет в поезд до Москвы. Поезда с востока идут круглосуточно, проблем с билетами в это время года не будет точно. Ну а меня в столицу, понятно, не возьмут. Зачем? Ассистентов с подобной квалификацией — пруд пруди. Даже Григория Сергеева, художника-постановщика, вряд ли возьмут. Так оно, кстати, и оказалось.
Я курил на лавке возле столовой, когда мимо деловым быстрым шагом проходил Никита, хозяин заведения.
— Вода на лед вышла! — поздоровавшись, объявил он с энтузиазмом. — Уезжать вам надо, иначе застрянете, покуда паром не пустят через Ольхонские Ворота!
— А ты чему радуешься? Постояльцы — это деньги.
— Так к новому летнему сезону готовиться пора. С конца мая у меня давно все места забронированы.
— Ясно. Недостатка в гостях, значит, нет.
— Недостаток всегда есть. Лишний никто не будет, разместим. Еще дома поставим, если понадобится!
Он ушел, а я подумал, что с приходом сюда крупного бизнеса такие вот усадьбы, как у Никиты, прогорят первыми. Не конкуренты они отелям и кемпингам. Впрочем, может, и не сразу прогорят, экстремальный туризм в моде…
Не хотелось будить похмельных «мосфильмовцев», но стоило собрать вещи. Я не знал, когда мы отъезжаем в Иркутск, хотя вряд ли до завтрака.
В доме № 11 от пацанов остался один только запах перегара. Григорий раскрыл окно, но он был неистребим. Художник брился, насвистывая что-то, вероятно, из советских композиторов.
— Где соседи? — спросил я его, полувыбритого.
— Похмеляться упылили, — ответил художник. — Хотели здесь расположиться, да я не дал. Хватит. Они уедут, а нам с тобой еще работать. Ты, кстати, где ночевал?
Я вернул на место подушку и пуховик. Соврал, что в бане. Зачем ему знать, что я теперь не мерзну? Я теперь, пожалуй, и на снегу могу спать…
— Гриш, ты о какой работе говорил? Кончилось же все.
— Не совсем. Вот тебе сотня баксов. — Он протянул мне небольшую стопку «зелени» десятидолларовыми банкнотами. — Ты вчера вечером со мной к костру не пошел, а там решили все. Извини, Андрей, но я и за тебя согласие дал еще на сутки остаться. Деньги же тебе нужны?
Я даже отвечать не стал, странный вопрос.
— Что за работа?
— Вся киногруппа сегодня после обеда уезжает в Иркутск. Вечером садится в проходящий поезд до Москвы, билеты уже заказаны. На двое суток остаются режиссер, оператор, продюсер и Анна, переводчица. Кроме них — мы с тобой и актер из ТЮЗа.
— Значит, все-таки решили постановочную казнь снимать? — уточнил я, хотя и без того все было ясно.
— Решили. А ты что, как Филипп, боишься ольхонских духов прогневить?
— Да ничего я не боюсь, просто спросил…
Не стал я ему объяснять, что да, боюсь, но не за себя. Со мной-то ничего не случится, в этом я был уверен, а интуиции своей в последнее время доверять привык.
— Сразу после завтрака поведешь оператора снимать то, что на аранга осталось после вчерашних похорон, а я площадку вместе с актером пойду готовить. После обеда режиссер отправляет группу, а потом снимаем казнь.
— И что оператор надеется увидеть на месте похорон?
— Как — что? Может, труп волки объели или вороны выклевали глаза?
— Ему это надо?
— Не ему, зрителю. Натурализм, в меру, конечно, документальному фильму еще никогда не мешал.
После завтрака мы вышли из Хужира с Гансом Бауэром, оператором, а я все думал: что значит «натурализм в меру» и кто эту меру определяет?
Съемки «воздушных» похорон меня интересовали мало — я знал, что мы там увидим: абсолютно ничего. Николай Хамаганов, псевдопокойный черный шаман, со вчерашнего вечера дома сидит да баксы пересчитывает, которыми с ним иркутский бизнесмен Николай Алексеев расплатился за инсценировку собственных похорон. Он-то жив-здоров, а на дощатом настиле — пусто.
Послеобеденные съемки нравились мне много меньше. Это ж надо догадаться, зарыть вниз головой живого человека, да еще и осиновый кол в землю вбить! Нет, не шутки это, далеко не шутки…
А у немца настроение было весьма к шуткам располагающее, он мне даже анекдот рассказал из времен вгиковской юности. Пересказать дословно не берусь, но смысл примерно таков.
Два кинооператора, один голливудской школы, другой московского ВГИКа, показывают друг другу свои работы. Наш — съемки морского шторма.
«Где снимал?» — спрашивает американец.
«На Балтике».
«А я шторм могу снять в стакане!» — хвалится голливудский оператор.
«Я бы тоже смог, — отвечает наш, — но у нас на студии стакан все время занят…»
Такой вот операторский юмор с российским уклоном. Мне было не смешно, зато немец ржал за нас обоих.
Чуть позже повод посмеяться появился и у меня, но мне было снова не до смеха, а немец ничего не понял…
Короче, поднялись мы с ним на скалу. Все как вчера — куст с разноцветными ленточками, дощатый настил на большом камне, а на нем… на нем труп в шаманском прикиде. Поработать над ним успели и птицы — от глаз ничего не осталось, и волки или собаки — тело было изрядно покусано, одежда разодрана во многих местах…
Я сперва подумал — муляж, но подошел ближе — нет, ошибиться невозможно: труп человека, пролежавшего ночь на природе в соседстве со зверьем и птицей.
Что произошло? Ответа, как всегда, не было.
Ну а Ганс Бауэр ничего необычного не обнаружил, ведь именно для съемок трупа он сюда и пришел. Зрелище его удовлетворило. Он снимал и снимал…
ГЛАВА 28 Шаманская казнь
Вероятно, Филипп ехал следом за нами, а может, просто так совпало, но мы только-только выгрузились из микроавтобуса, как подъехал его раздолбанный «жигуль». Подхватив под руку Анну Ананьеву, Филипп решительно направился к режиссеру.
— Скажи ему, что снимать шаманскую казнь нельзя, это нарушает множество табу! — говорил скороговоркой Филипп. — Скажи, что своими действиями они давным-давно нарушили их, но эта казнь… Я боюсь представить, что произойдет, если они ее снимут!
— Что может произойти? — спросил Поль Диарен через переводчицу.
— Смерть! — ответил Филипп.
— Суеверие, мракобесие и средневековье!
Вмешался актер-бурят:
— Ты, земляк, это, однако, брось! Дай людям деньги заработать! Или сам хотел, да не вышло?
— Дурак, — ответил Филипп, — с огнем играешь. Уж ты-то должен знать, что это не шутки!
Он еще что-то говорил, убеждал, но никто его не слушал. Перед тем как уйти, он сказал:
— Я вас предупредил, вы не вняли. Я вызываю милицию!
Когда его машина скрылась за поворотом среди деревьев, режиссер сказал:
— Милиция это плохо. Сколько у нас времени до ее приезда?
— Много, — ответил Григорий Сергеев. — Телефонной связи здесь нет, отделение милиции в поселке Еланцы, а это на материке. Пока он туда доедет через переправу, пока убедит… Часа три у нас точно есть. Даже четыре.
— Успеем, — кивнул режиссер. — Начали!
На поляне, окруженной сосной и реликтовой лиственницей, нас собралась довольно большая и пестрая толпа. Человек десять пригласили местных для придания национального колорита, сплошь мужчин. Им, вероятно, выдали уже аванс, ребята были на хорошем взводе.
Жоан Каро решила проводить отъезжающую из Хужира киногруппу. Возле режиссера и оператора остались актер-бурят, Анна Ананьева, которая меня демонстративно не замечала, мы с художником, да наш неуловимый сосед по комнате курил неподалеку от микроавтобуса, ближе не подходил. Судя по выражению неулыбчивого лица, ему эта затея нравилась не больше, чем Филиппу, но все же пришел. Он же должен был завтра увезти оставшихся киношников в иркутский аэропорт.
Шаманский костюм у бурятского актера был не такой красивый, как у трупа Николая Хамаганова, но тоже ничего себе. Бубенцы, колокольца и металлические блестящие побрякушки празднично позванивали. А бахрома на штанах и на полах кафтана была как у заправского ковбоя. Или все же индейца?
Массовка тоже присутствовала, не поскупились европейцы — три придурка в таких же прикидах, но победнее, били в бубны, приплясывая.
Балаган, да и только. Француз, впрочем, был в восторге. Немец, снимавший действо, — в не меньшем.
Два бугая из местных повели актера к подготовленной заранее узкой яме. Актер играл вдохновенно, даже, на мой вкус, переигрывал. Упирался, словно баран, которого на забой ведут. На забой, впрочем, его и вели двое дюжих бурят в национальной светской одежде — синих шелковых халатах и шапочках в форме юрты.
Технологию мероприятия Григорий Сергеев описал мне еще утром. Актера опускают в яму головой вниз с некрепко связанными руками. На дне он в первую очередь развязывает руки, затем добирается до баллона со сжатым воздухом и маски. Акваланг взяли в аренду у Никиты — хорошим спросом пользуется летом у любителей подводного плавания, вода в Байкале чистая, и видно далеко…
Актер надевает маску, подает сигнал, и его забрасывают землей. Сверху в могильный холмик всаживают осиновый кол. Оператор снимает. После чего актера откапывают, он получает свою честно заработанную штуку баксов и, счастливый, отправляется играть зайчиков и бабаев в родной Иркутский ТЮЗ. Все красиво и безопасно, баллон от акваланга проверяли десятки раз — исправен, ни одной осечки. Но и это не все. На крайний случай в яму опустили веревку, за которую актер должен подергать, если начнет задыхаться. Словом, все было продумано, и любая случайность — исключена…
Три придурка били в бубны и орали на своем гортанном, почти монгольском, вероятно, от души матерились. Почему бы нет? Вокруг ни одной женщины со знанием человеческого бурятского языка. А мужики давно испорчены цивилизацией, что в их понимании значило двухэтажный особняк под Иркутском, японский внедорожник, русскую жену и сколько влезет — водки и омуля, дурно пахнущего деликатеса…
Бросив нашего актера наземь, палачи вязали руки у него за спиной. Церемонились с ним не слишком. Он хоть и тоже был бурят, но не ольхонский, не местный. Они и понимали-то его с трудом. А тот не играл больше, орал и отбивался уже всерьез. А когда палачи, грубо взяв его за туловище, стали опускать в яму вниз головой, он, похоже, испугался по-настоящему, перешел на русский.
— Помогите! — закричал. — Спасите!
Но все было оплачено. Мужики отрабатывали на совесть свой «зеленый» гонорар.
— Зер гут! — одобрил Ганс Бауэр, не отрываясь от камеры.
За спиной мне сжали руку, я повернулся — Анна Ананьева. Глаза испуганные, сама дрожит.
— Что они делают? Они же его убьют!
Я обнял ее за плечи. Знаю, станет ей от этого чуть спокойней.
— Не волнуйся, не убьют… не должны, по крайней мере…
Не осталось у меня уверенности уже ни в чем.
А у троицы с бубнами лица перекосило окончательно. Они, похоже, впали в транс и голосили как резаные, уже явно не монголо-бурятскую матерщину, а что-то… мне показалось — страшное.
На клоунов больше не походили. Боже упаси таких — на детский утренник…
И окружающие местные жители, которых и собрали-то лишь для антуража, ногами в такт затопали, зашумели, тем, что с бубнами, вроде подпевать принялись…
Все вокруг как с ума посходили, даже русские и француз с немцем.
Всех заворожил, всех подчинил себе ритм бубна, звон бубенцов и неевропейские, гортанные полупение, полуречитатив на повышенных тонах.
— Андрей, мне страшно, — прошептала Анна, вцепившись в меня до боли. — Уведи меня отсюда, пожалуйста…
— Все будет хорошо, девочка… все будет хорошо…
Сам я верил в это не очень.
Буряты орали.
Бубны громыхали.
Колокольца с бубенцами перезванивались.
Два бугая завизжавшего по-бабьи актера, как неживой предмет, затолкали в яму вниз головой и, не дожидаясь от него, невменяемого, никаких знаков, принялись забрасывать землей. Да не современными лопатами, а древними какими-то заступами…
Но тут уж режиссер вмешался, и оператор остановил съемку. Я подвел трясущуюся Анну к яме, из которой торчали одни только актерские ноги.
— Как вы там, готовы? — кое-как совладав с дрожью в голосе, перевела переводчица.
Он ответил через минуту, не меньше. Привычные звукосочетания русского языка, вероятно, вернули ему крохи уверенности. Да и жадность не могла промолчать. Эко видано, от штуки баксов за пятнадцать минут работы отказываться! Да он в своем ТЮЗе год за такие деньги горбатить будет!
— Через минуту начинайте засыпать! Буду готов! — послышалось приглушенно, как из могилы. Впрочем, почему как? Из могилы.
Анна перевела, режиссер добавил еще фразу:
— Вы про веревку не забудьте! Если что, дергайте!
— Помню. Через минуту!
Все отошли, и съемки продолжились. Незапланированная остановка, казалось, всех немного успокоила. Мужики в бубен не били, вяло переговариваясь, прикладывались время от времени к темно-зеленым винным бутылкам.
— Форверц! — переглянувшись с режиссером, крикнул оператор, и дюжие молодцы заработали древними заступами.
В пять минут управились — насыпали холмик, трамбанули, прихлопывая лопатами.
— Кол! Витте! — скомандовал Ганс Бауэр.
Мужики завертели головами — не было осинового кола поблизости. Закричали на кучку соплеменников, и те присоединились к поискам. Пропал осиновый кол, будто его и не было.
— Кол! — кричал Поль Диарен, нервно постукивая по циферблату наручных часов.
— Откапывайте! — вступила вдруг Анна, оторвавшись от меня и шагнув к растерявшимся мужчинам. — Черт с ним, с колом, откапывайте! Там живой человек под землей!
Но художник-постановщик уже бежал откуда-то с пропавшей деревяшкой в руках. Сунул ее мужикам и выскочил из кадра.
— Давай! Всаживай!
Всадили с перепугу чуть ли не на метр в рыхлую землю. Отсняли.
— Зер гут! — Оператор показал большой палец.
— Откапывайте! — снова закричала Анна.
Мужики торопились, земля летела во все стороны…
Вот уже показались ноги в современных ботинках с рифленой подошвой. Ноги не шевелились…
Вот уже, чтобы не поранить, руками стали отбрасывать землю. Присоединилась еще пара человек, остальным не хватало места Они молча сгрудились вокруг ямы…
Когда на свет появились таз и живот, мужики вчетвером выдернули тело за ноги. Положили на спину. Все отверстия на лице оказались забиты красноватой ольхонской почвой — рот, ноздри, уши, глазные впадины.
Признаков жизни тело не подавало.
Кто-то тормошил его за плечи.
Кто-то выковыривал землю.
Кто-то пытался щупать пульс.
А кто-то вдруг прошептал еле слышно, но шепот, как гром среди ясного неба, услышали все:
— Да он же мертв…
Он был действительно мертв.
ГЛАВА 29 Полный расчет
Вернулись мы в Хужир, когда уже начало смеркаться. За ужином сидели как на поминках. Так оно и было в общем-то. Тем более Никита выставил бутылку водки и сам подсел к столу. Помянули раба Божьего, крещеного бурята, родом из Огинского национального округа, что в Читинской губернии…
Милицию мы вызвать даже не успели, ребята в форме из Ольхонского райотдела, расположенного в Еланцах, приехали сами вместе с Филиппом, который оказался абсолютно прав. Нельзя на Ольхоне устраивать подобные инсценировки. Нигде нельзя.
Когда завертелась равнодушная машина следствия со снятием показаний и составлением бесконечных протоколов, я понял, что все мы застряли на острове до середины мая, пока не устроят паромную переправу. Это в лучшем случае. И тогда я попросил у режиссера спутниковый телефон и позвонил иркутскому бизнесмену Николаю Алексееву, вхожему в высшие круги провинциальной власти. Результат звонка сказался мгновенно. Старлей из райотдела, когда я передал ему трубку, слушал бывшего гэбиста, стоя навытяжку. Впрочем, гэбистов бывших не бывает…
Тело актера вместе с вещдоками, поднятыми со дна ямы, отправили в Иркутск на судебно-медицинскую экспертизу. Кстати, вместе с видеокамерой Ганса Бауэра. Уникальный случай — преступление заснято на пленку от начала до конца. Оператор ведь не переставал работать, даже когда труп извлекли из могилы!
Нас задерживать не стали, но велели с утра ехать в столицу губернии, где и должно было проводиться следствие. Местные менты вздохнули с облегчением, им этот интернациональный геморрой нужен был не больше, чем остальным. Они рады были спихнуть с себя дело с непредсказуемыми последствиями. Для них — в том числе.
Что произошло под землей, установить сможет лишь экспертиза и вскрытие трупа, но, по предварительной версии, шланг акваланга передавило и актер задохнулся. Если он и дергал за веревку, никто этого не заметил в суете и сутолоке. Все искали злосчастный осиновый кол, будь он неладен…
Как бы то ни было, съемки для киногруппы в этом сезоне, вероятно, закончились. Вряд ли генеральный продюсер пойдет на перемену режиссера и оператора, а тех из Иркутска скоро не выпустят. Хотя, если сверху надавят, если вмешаются «высшие силы» Восточной Сибири, могут и отпустить с миром через пару дней. Родился я в стране мудрых Советов, живу — в непредсказуемой стране Чудес. Здесь западноевропейская Алиса заплутала бы к чертовой матери. Будь она хоть Белой Королевой, хоть черной шаманкой…
Помня о приглашении Филиппа, которое он повторил и при прощании на месте «убийства по неосторожности», ночевать сегодня я решил в его тереме по двум причинам. Во-первых, хотел избежать разборок с женщинами. Продолжение исключалось, как московское, так и парижское. Это как дважды два, как пять. Какие отношения могут быть у нормальной женщины с импотентом? Правильно, неестественные…
Ну а во-вторых, мне надо было у Филиппа кое-что спросить. Пришедший вчера не вовремя художник прервал наш разговор, точнее, направил в иное русло…
И вообще, я хотел домой, как можно скорее. Может быть, там, в привычной, обыденной обстановке, ольхонский морок рассеется? Как сон, как утренний туман… Кстати, от сна этой последней на острове ночью я тоже решил отказаться. Хватит с меня здешних кошмаров в шаманских прикидах… В маршрутке высплюсь по дороге в Иркутск.
Настроение за столом было далеко не праздничное. Да и аппетит пропал у всех поголовно — брезгливо ковыряли в тарелках вилками, не лезло ничего в глотку.
За упокой выпили, как принято, не чокаясь. Потом по настоянию хозяина еще по одной и еще… Залопотали.
Я выпил только первую и отставил стопку. Хватит. Заставил себя съесть что-то, не чувствуя вкуса…
Встал Никита и сказал вежливый тост. Смысл его сводился к тому, что не каждый день на Байкале умирают люди, что вообще-то здесь хорошо, а на его усадьбе — так просто замечательно. Что ждет он всех у себя снова, после чего раздал визитные карточки. Из своей я узнал, что усадьба расположена по улице Кирпичной, а почтовый индекс деревни Хужир начинается с трех шестерок. Эта новость меня не порадовала, хотя и не огорчила. Совпадение. Обычное сочетание цифр и только…
Жоан Каро вместе с переводчицей ушли за Никитой куда-то из зала. Я решил не упускать подобного случая, сбежать немедленно. Повернулся к художнику:
— Гриш, не теряй меня, я сегодня у Филиппа буду ночевать.
Он пожал плечами:
— Как хочешь.
— Ну, так я пошел. Пить не хочу, есть тоже. — Я встал из-за стола.
— Подожди, Андрей, сейчас продюсер с Никитой рассчитается за постой и питание, до нас с тобой очередь дойдет.
Я сел. Это меняло дело. Деньги стоило подождать. Ради них, «зеленых», бурят под землю полез и жизни лишился, а мне всего-то надо посидеть несколько минут за накрытым столом. Ни фига со мной не случится, хотя предстоящий разговор с Жоан, да еще в присутствии Анны, меня пугал. Как оказалось — напрасно. Женщины скоро вернулись, и продюсер произвела со мной полный расчет, за соседним чистым столом быстро и по-деловому отсчитав мне несколько сотенных банкнот.
— Гут? — спросила без эмоций.
— Зер гут, — ответил я, убирая деньги в карман.
— Ауфвидерзеен, Андрэ.
И все. Она отвернулась, равнодушная и холодная, как лягушка. Она занялась расчетом художника-постановщика…
Меня подобное отношение задело. Очень задело. Нельзя же так со мной! Ведь было, было у нас что-то… И что? Что ты хотел, импотент? Важным себя возомнил? Ах каким важным…
Анна, наблюдая все это со стороны, получала удовольствие по полной программе. Даже беззвучно поаплодировала, когда продюсер попрощалась со мной на плохом немецком…
Я по-английски покинул столовую и пошел в свою комнату за вещами.
Все забыть, все! Импотент так импотент. Люди вон без рук и ног живут. И я буду жить, как будто последних двух недель в моей жизни не было вовсе. Не было съемочной группы идиотского кинофильма. Не было снов, спама и кошмаров. А уж тем паче не было, конечно, путешествий на Небеса и в Преисподнюю. Не могло этого быть!
Придя в комнату, долго вертел в руках череп барана, но все-таки, завернув в грязную майку, сунул в сумку. Бубен тоже взял, положил в целлофановый пакет. Подвешу дома на гвоздь над диваном, пусть напоминает всем входящим, что нечего лезть в дела запредельные и запретные.
Темнота, тьма не есть простое отсутствие света. Тьма отдельная, определяющая грешный мир субстанция наравне со светом, а возможно, и первичнее его. Так и есть, вероятно. У Иоанна Богослова, заглянувшего Божьим соизволением за грань мироздания и за его кровавый финал, написано: «Была тьма, и сказал Господь…» Дальше уже не важно. Дальше — спорно. Кто сказал? Зачем? И был ли в его слове… ладно, пусть Слове. Но был ли смысл?
Бессмысленное умножение знаний есть смертное зло, зло и только.
Под таинственным и тайным покрывалом одни только грех, срам и бесстыдство.
Пути Диавола неисповедимы.
Впустивший в себя беса есть бесноватый, как его ни назови.
Небеса язычника — Ад христианина.
А сошедший в Геенну, из оной не выберется без богомерзкого благословения Врага рода человеческого.
И — оставь надежду, всяк входящий…
Она вошла — половица не скрипнула, но я почувствовал ее присутствие. Когда она попыталась обнять меня сзади, я просто шагнул в сторону. Она поймала пустоту. С ней пусть и обнимается.
— Андрей… — чуть обиженно.
— Ну что, что тебе от меня надо?
— Андрей, я…
Она села на мою, смятую еще осветителем Ваней кровать. Я к ней с тех пор не притрагивался. И не притронусь. В смысле — к кровати. Хотя это относится и к женщине, точнее — во множественном числе. Ко всем женщинам мира, кроме бесстыдной бесовки, приходящей в сновидениях… бесстыдной и желанной…
Я закурил. Надо же было куда-то девать руки, они висели, как плети на огородном пугале. Раньше в присутствии противоположного пола я быстро находил им применение. Их, как магнитом, притягивали сокровенные округлости и выпуклости женского тела. Сейчас подобного желания не испытывал. Кондуктор, спусти на тормозах!
— Тебе двадцать с небольшим лет, Анна. Ты живешь в столице, неплохо зарабатываешь…
— Мне не обязательно работать, мои родители, они… — Она замялась, подыскивая необидное для меня слово. — Они не бедны.
— Какого черта, родная, ты тогда в Сибирь поехала на край света?
— Так… — пожала плечами, — интересно: европейцы, азиаты, Байкал… Да и в языках поупражняться лишний раз не помешает.
— Ясно: дурная голова ногам покоя не дает. Тем более, зачем тебе тридцатитрехлетний придурок из глухомани? Или на экзотику потянуло? Столичный гламур оскомину набил?
— Андрей!
Я не должен был дать ей говорить. Я должен был убедить ее в собственной бесперспективности и даже ущербности, иначе… Да не было у нее выбора, любое «иначе» заранее исключалось!
— Тем более я — импотент! Тебе мадам Каро…
— Мадемуазель, — автоматически поправила Анна.
— Тебе мадемуазель Каро разве об этом не говорила?!
Пауза длилась мгновение, не больше, быстро же она переварила новость, сказала спокойно:
— Это не важно.
— Еще как важно! Ты сама не понимаешь, что говоришь.
— Я тебя вылечу! Еще недавно с тобой все было в порядке, уж я-то знаю! Значит, это от нервов, или от усталости, или… Были бы деньги, вылечить можно все!
Хороший аргумент, вот только бессмысленно мне лечиться. Я знал причину своего недуга. Да и не болезнь это в общепринятом понимании.
Я надел куртку, набросил на плечо сумку.
— Пока, Анна! До встречи завтра в микроавтобусе!
Она не ответила. Глядя мне вслед, она так и осталась сидеть на моей, смятой не мной постели…
ГЛАВА 30 Бешеная скачка
Мы расположились в комнате для гостей терема Филиппа, в самой его маковке, примерно на высоте трехэтажного дома. По словам хозяина — в высшей точке деревни Хужир. Небоскреб, по ольхонским меркам.
Комната была совсем недавно отделана — свежеструганный, еще не крашенный пол, обитые лакированной фанерой стены и потолок.
Самодельный стол с зажженной стеариновой свечой, кровать и стул — вся обстановка. Пусть и небогато, зато есть все, что необходимо для ночлега непритязательного путника вроде меня.
Филипп держал в руках уже знакомую мне книгу в пестрой суперобложке, раскрытую на одной из многочисленных закладок.
— Необходимое пояснение, Андрей. Абаси — духи из Преисподней в мифологии якутов, могут быть как мужского, так и женского пола. Теперь слушай!
Он зачитал, приблизив книгу к огоньку свечи:
— «Абаси — юноши или девушки — проникают в тела молодых людей противоположного пола, усыпляют их и совершают с ними половые акты. Юноши, которых посещают абаси, уже не сближаются с молодыми девушками, некоторые из них остаются холостяками на всю жизнь. Если абаси полюбит женатого мужчину, тот становится импотентом по отношению к своей жене. Все это встречается у якутов повсеместно, тем более происходит и с шаманами…»
Цитата напомнила мне о том, что я уже знал, и многое из того, о чем даже не подозревал, что знаю. А также кое-что из того, что я не узнаю никогда. Не узнаю, но проглочу, переварю, присвою и стану пользоваться, как своим. Как рукой или ногой. Как третьим глазом, в существование которого до конца не верил, но понимал чужие языки, видел в темноте и сквозь одежду, читал чужие мысли и, когда возникла необходимость, пользовался гипнозом. Так есть он или нет, этот пресловутый глаз? Здравый смысл подсказывал — бред. Бойся здравого смысла…
— Ты считаешь, Филипп, что нечто подобное происходит со мной?
— Не знаю. — Он закрыл книгу и бросил ее на подоконник. — Я правда этого не знаю, Андрей. Я не обладаю шаманской силой, просто интересуюсь этим вопросом. Читаю все, что издают, не так уж много, кстати. Бывая в Иркутске, посещаю в компьютерных салонах соответствующие сайты в Сети, записываю рассказы очевидцев, иногда — самих шаманов.
— А сам-то ты веришь в то, что записываешь?
Он рассмеялся, но невесело как-то, нервно.
— Многое из того, что рассказывают, всего лишь страшные сказки. Ну а некоторые… На пустом месте ведь ничего не возникает. И в шаманизме есть доля истины… Ты слышал, в две тысячи пятом году ученые-сейсмографы предсказали в Соединенных Штатах страшной силы землетрясение с ужасающим количеством жертв? Так вот, летом того же года здесь, на Ольхоне, собралось больше сотни шаманов со всего мира, которые устроили массовое камлание. Я присутствовал, это было нечто. Смех и грех. Две трети приехавших — явные шарлатаны или умалишенные…
— Ну и что? — Я ничего об этом действе не слышал, как-то мимо прошло.
— А ничего. Не случилось в Штатах землетрясения.
— Думаешь, камлание помогло?
— Ничего я не думаю. Сам думай. Это в тебе, а не во мне просыпается сила. Страшная сила, чувствую…
Он смолк вдруг, отвел взгляд, и я понял, что он меня побаивается. Не так — он меня боится. Я не был удивлен этим открытием, я и сам себя боялся.
— Завтра я уеду с Ольхона и обещаю: ноги моей никогда здесь больше не будет! Скажи, Филипп, может, в Иркутске все как-то образуется? Даром не нужна мне эта твоя сила!
— Твоя, а не моя, Андрей!
Я злился, а он чувствовал себя в моем присутствии все более и более неуютно. Пожалуй, уже сожалел, что пригласил переночевать.
— Место теперь для тебя не имеет особого значения. Это как цепная ядерная реакция. Если началась, после перехода какого-то критического рубежа ее уже не остановить. Мне кажется, ты его уже перешел, и тебе нет дороги назад в обычное человеческое существование.
Ну, блин, умеют некоторые утешать. Перспектива сделаться неуправляемым монстром не радовала. Выпить даже захотелось.
— У тебя выпить есть?
— Может быть, тебе сейчас не стоит?
— Неси, — сказал я жестко, — и закуски не надо.
Через пять минут Филипп поставил на стол бутылку настоянной на бруснике водки и граненый стакан.
— Я пойду к своим, ладно?
Он говорил со мной, как слуга с хозяином. И это правильно.
— Иди. — Я отпустил его жестом, и он пошел, но у дверей обернулся.
— Андрей, не знаю, как сказать… Ты не будешь против, если я тебя до утра на замок закрою? Я ведро принес, — кивнул в угол, — если в туалет понадобится… не обижайся, не за себя боюсь, у меня четверо детей малолетних, жена, теща…
А меня смех разобрал. У мужика — паника! И с чего бы? Я прекрасно себя контролирую. Я не монстр, я обычный человек. Человек и только… Теща, видите ли, у него, малолетняя…
— Валяй! — разрешил я сквозь смех. — Запирай хоть на дюжину замков, только утром открыть не забудь. После завтрака я в Иркутск отбываю! Утренней лошадью!
Филипп вышел, и под скрежет запираемого замка я налил и выпил стакан водки. В бутылке не убыло. Нормально.
Вот чудак-человек, сотня, говорит, шаманов, а из них две трети умалишенных шарлатанов… Да чтобы остановить какое-то жалкое землетрясение, не надо сотни, довольно одного даже не сильного, среднего, чья душа-яйцо два года вызревала в гнезде на срединных ветках Мировой Ели! А вызвать порядочный катаклизм с сотней-другой тысяч трупов способен и слабый! Ломать-то не строить!
За это дело я выпил еще стакан, но бутылка по-прежнему оставалась полной. Так и должно быть. Это же аксиома: водка не кончается никогда!
И вдруг я понял, отчего так, доказал аксиому легко, как какую-нибудь элементарную теорему Ферма. Водка не нужна вовсе! Опьянение прет изнутри меня, мутным потоком смывая блеклый налет жалкого человеческого рассудка.
Я — тварь скользкая в разросшихся хвощах, почуявшая за спиной еще не появившиеся крылья! Их нет, но я ощущаю их отсутствующую мощь и многометровый размах. И ветер поднимает меня все выше и выше. И нет уже внизу острова Ольхон, Байкала, Сибири, России, Евразии… Нет планеты Земля. Россыпи разноцветных звезд под и над крылами, везде! А ветер несет меня все дальше и дальше… Какой, на хрен, ветер в безвоздушном пространстве, в вакууме? Я расхохотался — вакуумный, как насос… смешное слово: на-сос…
Размахнувшись, я швырнул бутылку в фанерную стену, и она невероятным образом разлетелась на тысячи блестящих осколков. На нижних этажах дома кто-то вскрикнул женским голосом. Плевать. Плевать на Филиппа, его детей, жену и малолетнюю тещу! На всех остальных людей — тоже плевать! Одно только их присутствие на планете раздражало неимоверно.
Что б вы сдохли все, суки! От вас одни неприятности!
Выдвинул из-под кровати сумку, открыл ее, взвизгнув молнией. Сверху, чтобы не повредился о металлический инструмент, лежал череп барана, завернутый в мою грязную майку. Осторожно развернул и, поцеловав в покатый лоб, водрузил череп на стол под свечкой.
Бубен — в целлофановом пакете рядом. Достал. Погладил мягкую замшу, словно кошку погладил… или собаку… нет, коня! Не нужны даже крылья, когда еще они отрастут? А конь — вот он, бьет копытом, застоялся, бедный… прядет ушами… позванивает сбруей… По коням!
Левой рукой я поднял бубен над головой, правой с размаху ударил по его поверхности.
— Бух!
Словно гром грянул среди ясного неба. Мужик перекрестился где-то в европейской части России…
Что б вы сдохли все — мужики и бабы, в России и Европе!
— Бух! Бух!!
А во Франции — в первую очередь!
— Бух! Бух!! Бух!!!
Я ненавижу тебя, Жоан Каро, мадемуазель, мать твою… Ты предала меня, женщина! После этого ты недостойна жить!
Сдохни! Сдохни!! Сдохни!!!
…Я бешено скакал по бескрайней степи, поросшей сухим прошлогодним ковылем, а по правую руку от меня скакало семь черных антропоморфных Духов на вороных конях, приносящих пользу человеку, лежащему в горячке. По левую — семь желтых Дев на бурых конях. Рядом бежали три Черных Человека — караульщики байкальских скал, Нойон-полуволк, мой верный сторож, и Баран, что покровительствует коням, на которых шаманы ездят. Был еще Человек на рыжем коне, он помогал мне молиться покровителю рыжих коней. А Человек на вороном коне скакал впереди семи черных людей и, зная все, сообщал мне, кто умрет, а кто останется в живых…
— Андрей! — услышал я вдруг испуганный голос Филиппа. — Андрей, перестань, пожалуйста! Что ты делаешь? В доме разбились все оконные стекла и зеркала, вообще все стекло разлетелось вдребезги!
Я посмотрел на комнатное окно — точно, сквозной проем и полы, усыпанные осколками. Даже не заметил, когда это произошло.
Услышал скрежет отпираемого замка. Филипп хочет войти? Добро пожаловать!
Двумя пальцами я даже не ударил, а легко коснулся бубна, и дверь сорвало с нетель. И ошарашенный хозяин в пустом проеме стоял истукан истуканом.
— Ты хотел войти? Ты вошел. И что?
— Андрей…
Мне стало его жаль. Уж он-то конкретно не сделал мне ничего дурного. Кроме того, конечно, что его угораздило родиться человеком. Но в том его вины не много…
Агрессивности моей вдруг не стало. Усмехнувшись, я забрал свои вещи и вышел из дома. Ночевать в степи полезно для здоровья.
Ну что еще, скажите, может быть более теплым одеялом, чем умопомрачительный полог Млечного Пути?
ГЛАВА 31 Групповое камлание
И снова Нойон-полуволк разбудил меня на рассвете в степи, но на этот раз не скулил, не лизался, сидел в двух шагах от меня и выл на отсутствующую в бледном небе луну. Выл протяжно и безнадежно, как по покойнику, но стоило мне только открыть глаза — зарычал, залаял, запрыгал на месте. Он звал меня, торопил, и я понял — случилось что-то страшное. Точнее, не случилось еще, но времени нет, надо спешить, иначе… Жоан! Я почувствовал — нечто смертельно опасное грозит именно ей.
Я вскочил с земли как ошпаренный, а Нойон только этого и ждал — побежал в степь. Я — за ним.
И не ожидал даже, что в течение четверти часа смогу выдерживать темп, заданный стремительно несущейся собакой. Скоро я стал узнавать местность. Мы приближались к той самой поляне, где после неудачной инсценировки шаманской казни погиб иркутский актер. Нехорошее место.
Я еще издали его увидел, сожженного мной два-три дня назад в банной печке Буратину, который на самом деле есть земное воплощение Эрью Хаара-нойона — бессмертного сына Владыки Царства Мертвых Эрлен-хана.
Я ничего не мог поделать, бежал на пределе своих возможностей и мог только наблюдать, как он склонился над Жоан Каро, лежащей на пригорке навзничь с раскинутыми руками. Я не видел, что конкретно совершил злодей. Он взмахнул правой рукой, ударил — Жоан страшно закричала и затихла.
Убью гада! Убью!
Я уже обогнал Нойона и не видел его больше. Чуть позже понял почему.
Я передвигался теперь длинными прыжками: мощный толчок задними лапами, прыжок и приземление на передние, затем снова в той же последовательности. Глаза застилала ненависть, неподконтрольная, нечеловеческая. Я и не был больше человеком. Я слился с Нойоном-полуволком, стал им.
Передо мной был неглубокий овражек, за ним метров двадцать редкого подлеска и, наконец, та самая злополучная поляна.
Я не увидел метаморфозы, произошедшей с врагом. Когда спускался в овраг, над женщиной еще возвышалась деревянная кукла, а когда поднялся наверх — ощетинившаяся и рычащая собака черной масти размером с полугодовалого теленка. Никогда не видел раньше таких крупных собак. Черный пес был в полтора раза меня выше и в два — тяжелее. Но я его не боялся, впрочем, он меня — тем более. Он заранее был уверен в легкой победе. Стоял, широко расставив лапы на свободном от деревьев пространстве и ожидал меня, глухо рыча, будто посмеиваясь…
Мы столкнулись грудь в грудь. Челюсти его лязгнули над самой моей головой, отхватив кончик мохнатого уха. Инерция удара была такова, что, не удержавшись на ногах, мы покатились по земле, и я успел в этой куча-мала вонзить зубы в основание его правой передней лапы. Он взвыл, лязгая зубами, попытался дотянуться до моего тела, но тщетно, не доставал…
Когда кувырки закончились, я оказался снизу и, не имея пространства для маневра, все-таки успел, разжав челюсти, отскочить в сторону.
Мы стояли друг против друга, грозно рыча. Шерсть на загривках стояла дыбом. Следов моих зубов видно не было, но кровь намочила черную шерсть и Эрью Хаара-нойон на переднюю лапу больше не ступал.
Он был сильнее меня и, вероятно, опытней. Скольких смертных он уничтожил за свою нечестивую вечную жизнь? Он и меня убьет, и Жоан, если я буду вести себя, как собака, полагаясь лишь на звериный инстинкт, который штука в бою полезная, ничего не скажешь. Но без человеческого рассудка не было у меня никаких шансов выйти из этой схватки живым…
И еще я вдруг осознал, что могу без особой потери темпа перекинуться снова в человека. Шансов в антропоморфном состоянии без оружия против зубастой бестии не было никаких, а потому я еще не решил, стоит ли пользоваться этой способностью? Но знать, что это возможно, в любом случае не лишне…
Был в моем положении пусть не решающий, но плюс. Я был много легче, а потому быстрее. Тем более, похоже, я порвал сухожилие на его передней лапе…
Не переставая рычать, я попробовал обойти его сбоку. Он просто развернулся, не сходя с места. Мы снова были лицом к лицу, точнее — морда к морде и клыки к клыкам…
Боковым зрением я увидел Анну Ананьеву. Она пряталась за деревьями неподалеку, наблюдая за схваткой. Значит, я дрался еще и за нее. Ну чего она приперлась, дура? Снова приключений ищет на свою аппетитную попку?
Автоматически отметил, что я все-таки не совсем собака. У собак отсутствует боковое зрение, они не могут скосить глаза и, чтобы посмотреть в сторону, поворачиваются всем телом…
Пока я, дурак, размышлял, чуть отвлекшись, он прыгнул. Я пропустил момент прыжка и не отскочил на безопасное расстояние. И мы снова сцепились в гибельном для меня ближнем бою…
Он стремился к моему горлу, чтобы одним движением покончить со мной. Пусть запоздало, но я успел увернуться. Его челюстям достался лишь клок седой шерсти…
Нет, не было у меня шансов. Если бы не раненая нога, он бы уже смял меня к черту. Он весь был в чистом виде — Сила, нечеловеческая, да и не собачья даже. Он был не только идеальным убийцей, но и отцом всех насильников, убийц и садистов Срединного мира…
Мы снова стояли морда к морде, и, не теряя бдительности, я осмотрел поле боя — могила актера, рядом по краям вынутая из нее земля, Жоан, лежащая без движений, два заступа, забытые местными мужиками, игравшими роль палачей… Заступы! Вот то, что мне надо!
Эрью Хаара-нойон пошел на меня неспешно и молча. Я ему надоел, вероятно. Я отступал, но не бездумно, теперь у меня появилась цель. Он шел ко мне, я — к заступам. Длинные и прочные деревянные ручки, широкие стальные лезвия, тяжелые, наверно… Чем не копье или боевой топор?
Черный пес был слишком близко. Я мог перекинуться быстро, но не мгновенно все-таки. Пока будет происходить метаморфоза, я уже в человеческом обличье окажусь мертвецом с вырванным горлом…
Я заскулил жалобно и безнадежно. Он в ответ зарычал торжествующе.
Я попятился. Он — прибавил шагу.
Я развернулся и побежал. Он за мной, причем на удивление быстро, будто раны на правой передней не было вовсе. Но все же я был много быстрее и оторвался от преследователя на десяток метров. Не переусердствовать бы, иначе он остановится и вернется назад доедать женщин…
Я стал закруглять траекторию, не ускоряя бега, даже чуть его замедлив. Я слышал за спиной хриплое дыхание монстра…
Оказавшись лицом к поляне, я припустил что есть силы. Он отстал, но не настолько, чтобы мне быть абсолютно спокойным…
Я перекинулся, не добежав до цели шагов пять, не рассчитал немного, что едва не стоило мне жизни. Мне и женщинам…
Адский Пес был все ближе. Он легко догонял меня, двуногого.
Я прыгнул вперед, вытянув руки, схватил за середину ручки ближнюю лопату и, не делая попытки встать с земли, перевернулся на спину Выставил перед собой прочное деревянное древко. Вовремя. Еще бы мгновение промедлил — и всё…
Враг распластался в прыжке. Распахнутая пасть обнажила ужасающие клыки. Мне даже показалось, я чую трупный запах изо рта…
Когда его челюсти сомкнулись на ручке, я с силой отбросил пса назад и вверх. Выпустил из рук лопату, и его тело вместе с ней, перелетев через меня, укатилось метра за три. Этого хватило. Подобрав с земли второй заступ, я успел встать, развернуться и завести оружие за спину…
Его тело снова было в полете, и мой удар пришелся в основание шеи. Что-то хрустнуло. Вероятно, шейные позвонки…
Когда его тело рухнуло у моих ног, я принялся рубить его ребром лопаты наотмашь. Через пять минут непрекращающейся мясорубки он перестал подавать признаки жизни. Но я все равно с перепугу бил и бил… бил и бил его ненавистное тело…
— Андрей! — услышал я голос Анны Ананьевой. — Ты же его убьешь!
Я обернулся на голос. Она шла ко мне, напуганная и растрепанная. Я впервые видел ее без макияжа и в длинной ночной рубашке — ничего особенного, простое, без изысков белое полотно.
— Надеюсь, я это уже сделал, — ответил я, но заступ в сторону отбросил.
А когда снова повернулся к предполагаемому трупу черной собаки, увидел на земле испорченную и покалеченную деревянную куклу — Буратину… Впрочем, этого и следовало ожидать. В такой день…
Жоан застонала, и я повернулся к Анне:
— Возьми лопату и стой здесь. Если эта тварь шевельнется, зови меня и бей, не жалей эту мерзость! Поняла?
— Поняла.
Анна подняла с земли мой заступ. Он весь был в крови. Откуда столько черной крови в растительных волокнах деревянной куклы?
Анна держала лопату, будто собиралась вскапывать огород. Ладно, лишь бы предупредила…
— Главное, кричи, если что. Я — к Жоан.
Боже мой, что я увидел… Она лежала на спине, а в животе ее, вогнанный по самую рукоятку черного матового пластика, торчал нож…
Я склонился над Жоан, и она открыла глаза, будто почуяв мое присутствие.
— Андрэ… Их либе дир…
Что делать? Что? Тут «скорую» надо, врачей, хирургов… Чем я-то могу помочь?
И тут я осознал совершенно явственно, что могу. Врачи не помогут, и она умрет от страшной раны, если не вмешаюсь я. Но я вмешаюсь. Я смогу!
— Жоан, девочка моя любимая, все будет хорошо!
Я положил ладонь левой руки на ее лоб, и она улыбнулась. Глядя в ее изумрудные глаза, правой нащупал рукоятку и выдернул рывком нож из тела.
— О Андрэ… — застонала Жоан, но это был, к моему удивлению, не стон боли. — Как мне хорошо с тобой… Ни с одним мужчиной никогда мне не было так хорошо… Только не гордись, ладно? Гордыня — грех… Я католичка…
Лезвие оказалось широким и неимоверно длинным, такими ножами пользуются для разделки мяса. Нож прошил ее тело насквозь. Бедная, бедная…
Она была в джинсах, под распахнутой курткой — светлая майка, на которой мгновенно появилось и все росло темное мокрое пятно. Даже сквозь ткань было видно, как кровь, пульсируя, вытекает из раны… Вот тебе, Жоан, и сердце, пронзенное стрелой из записки. Накаркала? С органом, впрочем, не угадала, сердце, слава богу, цело…
Я не стал задирать майку. Я боялся увидеть размеры раны и потерять уверенность в своих силах. Впрочем, когда я засунул под ткань руку, то и на ощупь понял, насколько громадна рана, насколько безнадежна моя попытка спасти женщину… Нет, не безнадежна! Жоан должна жить!
Я пальцами стянул края, не убирая ладонь левой руки со лба Жоан.
— О Андрэ, какое наслаждение… — застонала она. — Их либе дир… Еще, еще… глубже!
— Чем вы там занимаетесь? — подала голос Анна.
— Не обращай внимания, она бредит.
— Она тебя любит, Андрей, — сказала со вздохом.
— Это не важно, — ответил я. — Теперь это не важно.
Анна еще что-то говорила, но я перестал обращать на нее внимание и сосредоточился на этой проклятой сквозной дыре в животе.
Бедная, бедная девочка, как тебе досталось…
Место было плохим, но другого не было. И я интуитивно отгородил нас от ямы, где задохнулся актер, от останков бессмертного садиста, сына Эрлен-хана, даже от Анны, соперницы…
Сквозь мои пальцы шла энергия, я ощущал покалывание в их кончиках, словно все электричество трех миров перетекало сквозь мою ладонь, сквозь всего меня в истерзанное тело женщины…
Я был не одинок. Я ощущал близкое присутствие множества потусторонних существ.
Михаил Татаринов, первый русский Великий шаман, неистово бил в бубен на одинокой скале Верхнего мира, помогая мне.
Моя мистическая жена, имени которой мне не дано знать, камлала под тусклым и щербатым солнечным диском Нижнего мира. Ее лицо меняло очертания, а глаза горели черным безумным огнем Преисподней.
Нойон-полуволк протяжно и естественно, как дышал, выл на отсутствующую в небесах полную луну.
Мощный Баран щипал поодаль несуществующую, не выросшую еще траву.
И все мои предки, невероятным образом пришедшие в Срединный мир и ушедшие из него в возрасте, кратном одиннадцати, присоединились к лечению, даровали мне свои силы. Пользуйся, потомок!
Ты будешь жить, Жоан! Ты обязательно будешь жить долго-долго! Я не дам, мы все не дадим тебе умереть на Ольхоне!
И кровь остановилась, и жизнь перестала утекать сквозь мои пальцы. И края раны стали срастаться. Теперь я был уверен — Жоан не умрет!
Я убрал руку с ее лба, и она снова открыла глаза.
— О Андрэ, первый раз у нас с тобой без презерватива… От этого родятся дети… ты не знал?
Она засмеялась и попыталась приподняться.
— Лежи ради бога, не двигайся! — Я вернул ладонь на ее лоб и прижал голову к земле.
— Не бойся, мой мальчик, я бездетна, — сказала Жоан, закрывая глаза. — Детей у меня быть не может… никогда. Ты рад?
ГЛАВА 32 Скорая помощь «Черной Акулы»
Я нащупал в кармане джинсов визитку Николая Алексеева, иркутского бизнесмена. Теперь — спутниковый телефон. Будет весело, если Жоан не взяла его с собой…
Я стал осторожно проверять карманы ее куртки. Телефон, к счастью, оказался при ней. Я набрал номер. Несмотря на раннее утро, бизнесмен ответил мгновенно. Я представился, и он меня узнал.
— Вертолет! — сказал я. — Срочно нужен вертолет вывезти с Ольхона продюсера киногруппы Жоан Каро. Она серьезно ранена.
— Я собирался вывезти на вертолете сегодня всех. Где вы находитесь?
Я назвал место. Он знал, где умер актер. Он знал все.
— Через полчаса вертолет будет у вас, Андрей, забирай режиссера с оператором и…
— Не получится, — перебил я бизнесмена. — Пока они соберутся, женщина умрет. Мы уедем в автобусе чуть позже. Главное — спасите человека!
— Хорошо, — согласился Николай Алексеев после паузы. — Через полчаса у вас будут сотрудники моей фирмы на «скорой помощи». Вы тоже не задерживайтесь на острове. До встречи.
Еще во время разговора я решил, что Анну Ананьеву тоже отправлю вертолетом. Так мне будет спокойней за обеих женщин.
У меня оставалось полчаса, чтобы завершить еще одно чрезвычайно важное дело.
Рана затягивалась под ладонью, и прерывать процесс было нежелательно, но всего полчаса…
Я осторожно убрал руку. Жоан, к счастью, этого не заметила, она наконец заснула.
Анна держала лопату на плече, будто на посту стояла. Впрочем, так оно и было. Сейчас, подумал я с улыбкой, пароль спросит. Не спросила.
— Монстр не шевелился?
— Нет, — ответила Анна.
— Иди к Жоан.
Она послушно пошла вместе с заступом.
— Лопату оставь.
Анна отбросила от себя инструмент, будто он мгновенно сделался раскаленным.
А я сгреб останки бессмертного Эрью Хаара-нойона в охапку и засунул их головой вниз в шаманскую могилу. Вот и пригодилась…
Поднял лопату и стал засыпать яму землей.
— Зачем ты это делаешь?
— Не мешай, — отмахнулся я, не прерывая земляных работ.
Холм получился невысоким, я хорошо утрамбовал его ногами. Осиновый кол на этот раз без проблем нашелся неподалеку. Я вонзил его в землю, как в тело смертельного врага. Я пожелал ему вечной смерти.
Сдохни навек, Эрью Хаара-нойон! Из вечно живого сделайся вечно мертвым!
Когда я вернулся и снова возложил руку на рану Жоан, заметил, что Анна без отрыва и с ужасом смотрит на брошенный рядом разделочный нож.
— Он ее вот этим? — спросила шепотом.
— Да, — ответил я кратко, мне было не до разговоров.
— А ты неплохо дерешься, Андрей, — с ноткой восхищения в голосе констатировала Анна. — Я только не разобралась, каким видом восточных единоборств ты владеешь? Хапки-до? Ку-до? Нет, пожалуй… Может, кунг-фу? Я его почти не знаю.
Я вытаращил на продвинутую девушку глаза. Мне ни о чем не говорили эти восточные наименования.
— О чем ты, Аня?
— Ну, когда ты дрался с тем мужчиной, похожим на тебя как две капли воды… Кстати, это не твой брат-близнец?
— Нет у меня братьев. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Давай с самого начала. Как вы здесь оказались, ты и Жоан?
— С начала? — Анна задумалась. — Примерно час назад в комнату постучали и разбудили нас. Я открыла дверь — на пороге стоял ты, Андрей.
— Я?
— Не перебивай. В первый момент я так подумала. Потом только догадалась, что это не ты, а какой-то мужчина, очень похожий на тебя. Он молча отодвинул меня в сторону и прошел к постели Жоан. Позвал ее для разговора, и та пошла как миленькая. Не стесняясь, оделась при нем и пошла, бесстыжая…
Можно подумать, что Анна — сама скромность… Но этого говорить я не стал, меня интересовало другое:
— Почему ты решила, что это был не я?
— Ну, во-первых, почувствовала, не смог бы ты так равнодушно меня в сторону отодвинуть. А во-вторых, тот мужчина говорил на французском так чисто, как сами французы не говорят, разве что дикторы телевидения… А ты вообще языков не знаешь. Твой придурковатый немецкий не в счет…
— Хватит меня критиковать, дальше!
— Дальше они пошли, а я в чем была минут через пять следом побежала. Сначала скандал хотела устроить, а потом, когда поняла, что пришедший — не ты, за Жоан стало страшно. Она хоть и старая выдра, и на мальчиков наших заглядывается, но хорошая, правда… Когда они дошли до поляны, все и началось, закрутилось… Мужик, сволочь, Жоанку на землю повалил, а тут и ты заявился. Он ее ножом ударил, и вы драться стали. И похожи как близнецы, и одеты одинаково, и техника боя одна… Я даже не поняла сразу, кто кого победил — настоящий Андрей фальшивого или наоборот… Дальше ты знаешь.
Вот как, оказывается, было… Эта тварь приняла мой облик, чтобы без проблем Жоан из дома выманить. Но зачем она ему? Я этого не понимал и не пойму, наверно, никогда.
Ровно в назначенное время прилетела «скорая помощь». Ею оказался военный вертолет «Черная Акула», из которого по-боевому резво выскочили подтянутые ребята в камуфляже, но без оружия и знаков различия. Зато с полевыми носилками… Интересные сотрудники у провинциального бизнесмена, и фирма, вероятно, не менее интересная…
Как бы то ни было, я был рад. Ребята переложили Жоан на носилки и подняли на борт. Аккуратно, но не слишком церемонясь. Именно такого уровня работа называется профессиональной.
Анна Ананьева лететь отказалась наотрез, как я ее не убеждал. А когда понял, что все уговоры бесполезны, сказал старшему из них по возрасту, сорокалетнему, вероятно, начальнику отдела странной фирмы:
— Командир, Николай Алексеев велел эту девушку забрать вместе с раненой!
Они выполнили приказ с удовольствием. Пусть и без макияжа, Анечка молода и привлекательна, тем паче в смятой ночной рубашоночке, тепленькая…
В тренированных руках она быстро успокоилась и затихла. Но за ее сохранность я не беспокоился. Люди служилые, устав разумеют. Если прикажут убить — убьют, если трахнуть — трахнут, а велели доставить — доставят без насилия и членовредительства.
В последний момент в руку переводчицы я сунул спутниковый телефон Жоан Каро.
— Аня, будь на связи, Поль Диарен тебе позвонит. Только не пытайся ему объяснять, что произошло. Просто скажи, что у Жоан Каро… ну, приступ аппендицита, что ли…
— Хорошо, так и скажу, — ответила Анна. — Я позвоню тебе на сотовый, Андрей.
— Через шесть-семь часов я буду в Иркутске.
— Я все равно позвоню! — прокричала девушка, но я едва ее услышал.
Вертолетные винты ожили, завращались, ускоряя и ускоряя свое круговое движение, и, едва я отошел на безопасное расстояние, «Черная Акула» с неторопливой грацией крупного хищника поднялась над степью…
У меня только-только хватило времени сходить за брошенными там, где спал, шмотками и подойти в усадьбу Никиты к окончанию завтрака. Есть мне все равно не хотелось, главное, к отъезду в Иркутск микроавтобуса не опоздал.
Дом № 11 оказался заперт. Я открыл дверь ключом и прошел — пусто. Сперва я решил, что Григорий Сергеев еще в столовой, но и вещей его в комнате не оказалось…
На автостоянке микроавтобус отыскать труда не составило, он был единственной машиной. Водитель-бурят спал в кабине, профессионально сложив на руль руки, а на них — голову. Я забросил в салон сумку и вернулся на воздух. Мне ничего больше не оставалось, как стоять и ждать остальных пассажиров.
Из столовой вышли Поль Диарен и Ганс Бауэр, озабоченно переговариваясь и жестикулируя. Направились не в свои апартаменты, а к дому продюсера и переводчицы. Подергали дверь, постучали — тщетно. Мне все стало ясно, они потеряли женщин. Я подошел и блеснул эрудицией:
— Гут морген, господа!
Припасенная для француза фраза из «12 стульев» снова оказалась не к месту: «Месье, я не ел три дня» — не работала, столовая рядом.
Обменялись рукопожатиями. Немец спросил:
— Андрей, ты знать, где мадам?
— Мадемуазель, — поправил я автоматически.
— Гут, где мадемуазель?
Я понимал, что сказка про вертолет и аппендицит, пройдя сквозь двойной скверный перевод, покажется французу совсем уж невероятной. Невероятной и подозрительной. Я завертел головой в поисках выхода, осознавая, впрочем, что последнего профессионального переводчика сам же и усадил полчаса назад на борт «Черной Акулы».
Мимо проходил Никита с женой, и я вспомнил, что она знает иностранные языки, французский в том числе. Они подошли на мой зов. Как зовут женщину, я так и не вспомнил. Не важно.
— Переведите, пожалуйста, режиссеру, — попросил я, — что у Жоан Каро случился приступ аппендицита и я вертолетом отправил ее вместе с Анной Ананьевой в Иркутск в больницу. Они могут позвонить по спутниковому телефону, он у переводчицы.
Они позвонили, а потом долго трясли мне руку, благодарили на двух языках. Героем я себя, впрочем, не почувствовал. Хотелось гордо произнести заученную еще в начальных классах средней школы фразу: «На моем месте так поступил бы любой советский человек!»
Иностранцы направились в свою комнату за вещами, а я — к микроавтобусу, где меня поджидал Григорий Сергеев, художник-постановщик. Можно уже сказать — бывший. Съемки закончились, и продолжение карьеры в этом качестве маловероятно. В Иркутске кино не снимают. Была, правда, при советской власти студия кинохроники, но и она благополучно развалилась в смутные времена перестройки и ускорения.
— Что ты там ночью у Филиппа наделал? — хмуро спросил Григорий. — В его доме ни одного целого стекла не осталось.
Черт побери, я успел забыть о ночной бешеной скачке, столько всего после этого произошло… Придется снова врать. Я заметил, что теперь только этим и занимаюсь — вру и вру…
— Я, Гриша, пьяный напился, не помню ничего… Что, правда ни одного целого стекла?
— Ни единого, только что вместе с ним смотрели. — Григорий выглядел озадаченным. — Как ты умудрился, Андрей? Гранату, что ли, бросил?
— Откуда у меня граната, окстись? Не помню я…
Неудобно было мне за последствия ночного камлания. Всю семью перепугал — жену, детей, тещу… Откуда мне было знать, что стоит взять в руки бубен, и такое случится… Хороший человек Филипп… Решение пришло само собой:
— Давай, Гриша, я на пару дней задержусь, съемки все равно закончились. Помогу окна вставить. Стекло оплачу, деньги теперь есть.
Григорий покачал головой:
— Не надо, Андрей. Филипп от твоей помощи заранее отказался. Он хочет, чтобы ты немедленно с Ольхона уехал. — Художник прикурил очередную сигарету. — Почему, Андрей? Что вы такое с Филиппом знаете, чего я не знаю?
— И слава богу, Гриша. Не всё знание одинаково полезно для здоровья. И Минздрав о том же на сигаретных пачках пишет… Хочешь, у Филиппа спроси, может, он расколется.
Григорий хмыкнул с сомнением, сделал пару глубоких затяжек и сигарету затоптал. Мы оба знали, что ничего ему Филипп не расскажет. И никому не расскажет. Разве что Эрью Хаара-нойону, когда после смерти пытать станут одну из его душ в подземных галереях Преисподней. Но там-то любой герой разговорится. Это заведение посолидней будет, чем даже пресловутые застенки гестапо или НКВД…
Когда микроавтобус выезжал из деревни Хужир, Григорий Сергеев стоял у открытых ворот и махал нам на прощание рукой. Я был рад, что он с нами не поехал.
ГЛАВА 33 Аки посуху…
Легкий парок поднимался над озером, словно его поставили на гигантский треножник и греют, греют на адском огне…
Грело на самом деле сверху. Ослепительное солнце бликовало на сплошной водной поверхности. Брызги веером летели из-под колес. Создавалось ощущение, что мы не ехали — плыли. На байкальский лед выступила вода. Это значит, он сделался рыхлым, непрочным и ездить по нему опасно. Ездили все равно. Нам то и дело попадались встречные легковые машины, как поливалки, разбрызгивавшие воду на пять-семь метров в обе стороны. Большегрузные, конечно, уже не рисковали выезжать на лед, это было бы равнозначно самоубийству. Впрочем, я бы не слишком удивился, увидев груженный песком под завязку «КамАЗ». Суицид у смертных заложен на генном уровне. Вспомнилась прочитанная в каком-то «желтом» листке статейка о самых нелепых самоубийствах в истории человечества. Идиотства там было выше крыши, но запомнился только один поляк, в пьяном кураже с криком: «А так слабо?» — отрезавший себе голову бензопилой… Не к добру, вероятно, вспомнилось…
Я сидел на переднем сиденье рядом с водителем, режиссер с оператором вольготно расположились в салоне. Как только машину перестало трясти на ухабах плохой сухопутной дорога, оба завалились спать до улуса Баяндай, где мы собирались пообедать.
Поль Диарен на правах старшего по званию с комфортом лег на заднее, самое длинное сиденье. Под голову пристроил сумку, даже ботинки снял и вытянул ноги.
Ганс Бауэр спал на следующем, более коротком, тройном. Его ступни в белоснежных носках торчали в проходе.
Меня в сон не клонило, водителя, к счастью, тоже.
— Андрей! — позвал он меня по имени, впервые, кстати. Как зовут его, я не знал.
Оторвался от равнодушного лицезрения скалистых берегов Ольхона да время от времени попадавшихся маломорских островков.
— Что?
— Помнишь похороны черного шамана?
— Конечно.
— Так вот, я на них не ходил.
Я пожал плечами. Не ходил так не ходил, мне-то какая разница?
— И когда бурят не из местных в яме задохнулся, я в стороне стоял, не участвовал! И на фальшивую могилу богдо Чингисхана тоже не поднимался!
Он говорил торопливо, эмоционально, будто оправдываясь передо мной за какую-то известную ему одному провинность.
— Ну и что?
— Я никаких запретов не нарушал, даже когда маленький был и несмышленый! А сегодня утром на скалу к Монгол-Бурхану сходил, побрызгал!
— Буханул на дорожку? А постов ГИБДД не боишься?
— Да не пил я, пригубил только! Говорю же: побрызгал — Вечному Синему Небу, Шубуун-нойону, хозяину Ольхона, конечно, Эрлен-хану, владыке Нижнего мира, и всем-всем духам — предкам шаманов и шаманок, покровителям Ольхона и Байкала! Целую бутылку водки разбрызгал! — После паузы добавил, вероятно, для убедительности: — Ноль семь литра!
— Слюной не захлебнулся?
Бурят шутки не воспринял, не улыбнулся даже. Повторил тусклым голосом:
— Я запретов никаких не нарушал, ты это, Андрей, учти.
Я психанул: исповедуется, блин, будто священнику…
— Почему ты мне все это говоришь? Я-то здесь при чем?
Шофер не ответил, вцепился в баранку, аж подался вперед к лобовому стеклу, всматриваясь в ледяную дорогу, покрытую сантиметровым слоем воды. Правильно, чем языком зря трепать, пусть лучше обязанности свои прямые выполняет, на дорогу смотрит. А то, ишь, разговорился…
Случались в моей жизни предчувствия, и не однажды, но на этот раз — никаких…
Водитель смолк, режиссер с оператором спали. Кто-то из них то ли посвистывал горлом, то ли похрапывал фальцетом, тоненько. А я не то чтобы задремал, отрешился как-то. Любое однообразие наскучит, даже если это череда красивейших, не изгаженных еще человеком видов байкальских берегов. Тем паче теперь мы находились где-то посередине пятикилометрового пролива Ольхонские Ворота, и материковый берег едва чернел впереди, а вокруг вода, вода и вода, сверкавшая в лучах почти уже полуденного, высокого солнца.
И жемчужные веера брызг из-под колес.
И волна за кормой, убегающая назад к Ольхону, вспять нашему движению от него.
И ни единого автомобиля на горизонте, ни ледяных торосов, ни островка…
Глаза слепило, я их закрыл, но солнечный свет все равно пробивался сквозь тонкую кожу век. Сон не пришел, навалилась полудрема-полуоцепенение. Поэтому, когда случилось то, что случилось, я не сразу понял, сон ли мне очередной идиотский снится, или наяву я слышу нарастающий треск льда, истеричный вопль водителя и рев автомобильного двигателя, когда педаль газа вдавлена до предела…
Я открыл глаза. Если опустить злополучный треск, визуально ничего не изменилось, только скорость увеличилась вдвое, но черная береговая линия впереди не думала приближаться. Все те же полтора-два километра, не меньше.
Под слоем воды было не понять, насколько крепок лед впереди и мчимся мы к спасению или к гибели.
Водитель кричал не переставая.
Лед трещал все громче и вдруг перестал, но и движение резко замедлилось, а через мгновение прекратилось вовсе. Я понял, что мы оказались на свободной ото льда воде.
Машина стала медленно погружаться.
Вцепившись в руль, орал оцепеневший бурят.
— Дверь открывай! — прокричал я и сам схватился за Ручку.
Вода поднялась почти до ее середины, дверь открывалась с трудом. Но открылась-таки… Вода хлынула внутрь, сразу залив ноги чуть ниже коленей, и ее уровень неуклонно продолжал повышаться.
Я оглянулся назад. Немец сидел, поджав ноги в белых носках, и тупо наблюдал за происходящим. Француз вообще не проснулся.
— Дверь открывай! Дверь! — прокричал я немцу.
Он закивал, но, мне показалось, мало что понял.
— И француза буди!
Немец посмотрел на заднее сиденье.
— Поль, штейт ауф!
— Двери сперва, дурак, не откроешь потом!
Теперь проснувшийся француз сидел, поджав ноги, и тупо смотрел на воду, которая поднялась уже до сиденья. Когда до него дошел смысл происходящего, он, сменив замолчавшего полминуты назад бурята, заорал на одной высокой ноте:
— Л-а-а-а-а!!!
Немец возился с дверью.
Вода залила сиденье.
Бурят все-таки выдавил свою дверь и полез в воду.
Вода поднялась выше пояса сидящего человека. Я все еще сидел. Чего я ждал?
Француз вместе с немцем возился с дверью. Что там у них за проблемы? Она же вбок открывается, вода не должна мешать. Да и нормально она раньше функционировала. На суше…
Дверь наконец пошла в сторону.
— Прыгайте в воду! — орал я. — Плывите к берегу!
Хороший совет. Во-первых, они меня не понимают, и не одного меня. Они никого и ничего не понимают. Во-вторых, на уровне поверхности воды и береговой линии-то не разглядеть…
Я еще раз посмотрел назад — немец уже плыл, француз выходил в дверной проем. Точнее — выныривал. Вода поднялась почти под мой подбородок.
Я привстал с сиденья, оттолкнулся ногами от пола и нырнул в распахнутую дверь…
Вода обжигала, словно раскаленный металл. Нет особой разницы в ощущении нестерпимо горячего или холодного…
Я вынырнул на мгновение на поверхность, все мышцы одновременно свело, и я медленно стал погружаться в глубину. С открытыми глазами. Но непроглядная тьма застилала их. А еще говорят, самая чистая в мире вода…
Не знаю, я умер, а потом воскрес или моему измененному организму потребовалось некоторое время, чтобы перестроиться? Как бы то ни было, скоро я снова видел, мышцы действовали, смертельного холода больше не чувствовал, но по-прежнему опускался. Сколько мне еще до дна? Сотня-другая метров? Я не знал глубины пролива и не желал знать…
Я задвигал синхронно конечностями. И поплыл вверх, к свету…
Вынырнул и не увидел ни людей, ни микроавтобуса. Всё? Все?
За пару взмахов подгреб к кромке льда. Попытался опереться о него, но тот обломился под руками. Попробовал еще раз… и еще… Не знаю, с какой по счету попытки сумел вылезти на лед. Сел, опустив ноги в воду. Приехали. Точнее — приплыли…
— Андрей-нойон! — услышал вдалеке голос.
Встал. Метрах в ста от полыньи в направлении материкового берега увидел водителя-бурята. Он махал мне рукой.
— Спасибо, богдо Андрей-нойон!
Он развернулся и побежал к берегу. Слава богу, хоть этот остался в живых. Буряты, они живучие, несколько минут в ледяной воде их не убьют…
А немец с французом? На дне?
Я стал всматриваться в толщу воды — тщетно. Легче иголку в стоге сена отыскать…
И вдруг мне показалось, что я вижу под водой чье-то тело, стремящееся вверх, к поверхности… Вот оно ближе, ближе… Тянется на исходе сил…
Я опустил правую руку, ухватил за чужую ладонь и рывком поднял на поверхность… Привет с Того Света… Я держал в своей руке деревянную пятерню деревянной куклы… Сколько же раз тебя надо уничтожить, чтобы избавиться навсегда?
Отбросил руку в сторону, и она покатилась по льду…
В кармане зазвонил сотовый телефон. Посмотрел на экран — Анна Ананьева. Улыбнулся и разжал пальцы над водой. Сотик камнем ушел на дно…
Я не знал, что мне делать. Я ничего не знал, хотя мог — всё… Сила, доставшаяся младенцу. Как вам такой прикол?
Я сосредоточил на мгновение мысленный взгляд на полосе берега где-то в районе севернее поселка Листвянка, и несколько километров суши вместе с несколькими деревнями с адским грохотом рухнуло в Байкал. Сейсмографы зафиксируют землетрясение с эпицентром в одиннадцати километрах от оползня. Образовавшийся пролив назовут Провалом…
Я усмехнулся. Удовольствия от содеянного не получил. Угрызений совести не испытал тем паче. Но осознание всемогущества угнетало. Я мог бы уничтожить мир, но зачем? Я мог бы сделать человечество счастливым. Даже против его воли. Что его воля? Фикция! Хаотическое движение разнонаправленных устремлений, в итоге — колыхание горячего воздуха над асфальтом. Скучно. Всемогущество — это скука. Скука и равнодушие. Мне по фиг. Всё. Абсолютно. Я не желаю вмешиваться в дела людей ни с добрыми, ни со злыми намерениями. Впрочем, добро и зло понятия относительные, как и все, созданное людьми на физическом или духовном уровне…
Михаил Татаринов, мой дух-покровитель, назвал меня младенцем. Он не прав. Я — эмбрион. Срединный мир я ощущаю как скорлупу огромного Яйца в гнезде на ветке Вселенской Ели. Не знаю только, на какой ветке — нижней, средней или вершинной? И сколько еще тысячелетий Матери-Хищной Птице надлежит высиживать это Яйцо? И не протухнет ли оно до срока? Будем надеяться — нет…
А время не имеет значения ни для живых, ни для мертвых. Только живые об этом не догадываются, а мертвые не могут сказать. Или не хотят. А может, это им попросту безразлично? Как смерть… Которой нет. Хотя она есть, конечно…
Байкал вскрывался одновременно по всей своей протяженности с севера на юг. Грохот стоял такой, что все население Сибири оглохло на трое суток… Шутка.
Я шел по льдинам и по воде, аки посуху. Я шел в сторону мыса Покойников на материковом берегу Малого моря. Что я там забыл? Не знаю, но именно туда ушли Последний шаман острова Ольхон и Михаил Татаринов, мой мистический предок. Что-то им там было надо… Посмотрим…
ЭПИЛОГ Четыре рисунка Бориса Кикина
После недельного почти ожидания жена соседа по палате областной клинической больницы наконец не забыла, принесла Борису Кикину стопку серого картона и остро заточенный карандаш.
Картон, конечно, не германский, мелованный, который профану покажется лучшим. Но уж кто-кто, а Борис знал, самый удобный вот такой, серый, графит на него ложится будто сам собой…
Борис взял в руки карандаш и обомлел: «Кохинор»! Да еще «НВ»! Лучше и не придумать для рисования!
Сел, опершись спиной о железную спинку кровати, согнул ноги в коленях и пристроил на них первый лист.
Рука соскучилась по рисованию. Рука дрожала. Дрожала от нетерпения. От…
А что, собственно, он собрался рисовать? Борис не знал. Было желание, огромное, как Вселенная, были, пожалуй, и возможности, но…
Повторить, что ли, цикл о Черных Шаманах, давным-давно укативший в Германию? Нет, повторять не хотелось даже самого себя, хотелось…
Что конкретно, не знал, но пальцы до боли сжали карандаш. Борис закрыл глаза, и рука отправилась в автономное плавание по серому листу. Который даже не лист — океан, на худой конец — море. Священное море. Байкал? Может быть. Он пробуждается от многомесячного зимнего сна. Лед вскрывается на всей его протяженности с севера на юг, от Нижней Ангары до просто Ангары…
Борис знал, так не бывает. Так было.
И среди обломков льдин, по ним, по воде, аки посуху, шел человек, мужчина. Светлые волосы его были взъерошены ветром по имени Сарма. Мужчина был бос, одежда насквозь промокла. Он улыбался. Борис знал, он улыбался и ему в том числе…
Через четверть часа, не прорисовывая деталей, Борис Кикин отбросил первый лист, взял второй. Что будет на нем, опять не знал. Но знал — что-то очень и очень важное. Для кого? А вот это не имело значения. Абсолютно никакого значения не имело…
Женщина сорока с лишним лет с изумрудными глазами и рельефной фигурой шахматного слона. Пепельноволосая зрелая красавица. Она находилась в каком-то светлом, стерильном кабинете возле стола, за которым сидел моложавый мужчина в форменной одежде врача…
Борис не знал ни мужчину, ни женщину, но и они меж собой были едва знакомы.
— Скажите, мадам… — говорил мужчина.
— Мадемуазель, — поправляла женщина, скорее по привычке.
— Извините. Мадемуазель, откуда у вас шрамы на животе и спине?
— После автомобильной аварии, — врала женщина. Она замечала, что в последнее время только этим и занимается — врет и врет…
— Это было сквозное ранение?
— Не знаю.
— Вероятно, все-таки нет, хотя очень похоже. В случае сквозного вы бы скорее всего не выжили, а уж ходить не смогли точно…
Женщина улыбалась.
— Я живая и, как видите, хожу…
— И не только. Вы в положении.
— Этого не может быть. Впрочем… На каком я месяце?
Мужчина сказал, а женщина улыбалась в пространство, провела ладонями по телу от шеи до живота.
— Россия, Сибирь…
— Я слышал, мадемуазель, там холодно и секса нет.
— Ваши сведения устарели, месье, уж поверьте…
— Рожать в сорок четыре года опасно. Когда вы будете делать аборт?
— Я не буду его делать…
И второй лист отброшен, взят третий.
Молодая женщина, красивая, черноволосая, со свежими, сочными формами. Она в загородном доме, может, не на Рублевке, но где-то поблизости. В смысле престижа.
Положив левую руку на округлившийся живот, правой она набирает номер на сотовом телефоне. Набирает и набирает. Она занимается этим день, неделю, месяц, год… Нет, даже девяти месяцев еще не прошло. Это точно. Факт налицо.
«Вызываемый вами абонент сейчас недоступен», — вот что она слышит всякий раз, набрав один и тот же номер. Что ей делать? Адрес она знает лишь визуально, но не ехать же ей на край света — далеко-далеко на Север в особенное пространство, недоступное простым смертным, где растет огромная раскидистая Ель; где ничего живого нет вокруг, только Ель, Небеса и снег, чистый, как отражение Небес; на ветвях Ели — гнезда, в гнездах — яйца, в яйцах — души нерожденных шаманов…
Господи, что за чушь лезет ей в голову? Да и зачем он ей, этот неотесанный провинциал с непомерными амбициями? Все провинциалы неотесанны и амбициозны — закон природы…
Молодая женщина выпивает бокал какого-то сока, не ощущая вкуса, снова кладет руку на округлый живот, а другой набирает номер. Набирает и набирает…
Четвертая картинка: сотовый телефон устаревшей модели, без всяких прибамбасов, на морском дне среди камней и водорослей. Он звонит, звонит, но слышит его одна лишь насквозь прозрачная рыбка голомянка, любимое лакомство привередливого маломорского омуля…
Борис задумался: может ли рыба слышать телефонный звонок? Усмехнулся. Какая, на хрен, разница? Телефон лежит давно. Он испортился и проржавел. Все когда-нибудь ржавеет, даже в самой чистой на планете, дистиллированной воде озера Байкал.
Борис Кикин поставил на мобильнике жирный косой крест, и графитовый кончик карандаша «Кохинор» с хрустом обломился.
алексей шаманов
Художник Андрей Татаринов соглашается принять участие в работе над историческим фильмом, который в окрестностях Байкала готовится снимать международная киногруппа.
В тот момент герой еще не знает, что съемки фильма будут проходить на священном острове Ольхон, где, по преданию, находится могила Чингисхана, и что эта могила, которую веками безуспешно ищут ученые и авантюристы, и окажется целью странной киногруппы.
Он не знает также, что случайное прикосновение к древнему шаманскому бубну запустит в нем, Андрее Татаринове, спавший доселе наследственный механизм обретения мистической силы. Силы, которой когда-то обладали его предки — шаманы.
«В книге… сила любовной страсти без малого не превосходит обретенную героем силу духовную.»
Все книги Петербурга
«…Удивительно тонкая игра со временем, способность сочинить и в подробностях прописать лихой сюжет, но вместе с тем и редкое чувство стиля…»
Грани.ru
(О романе Алексея Шаманова «Коллекция отражений»)
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

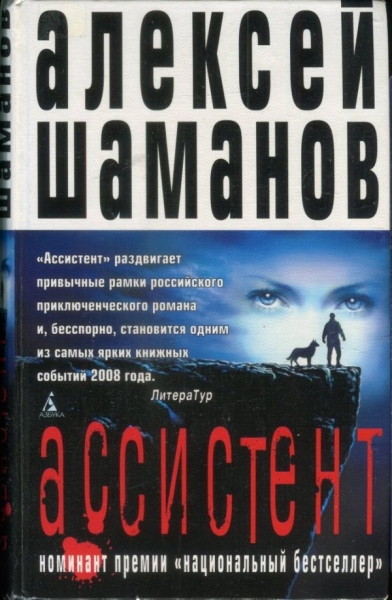
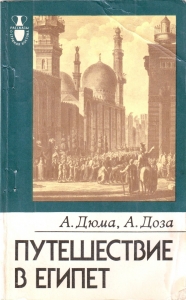



Комментарии к книге «Ассистент», Алексей Шаманов
Всего 0 комментариев