Владас Дубас В ЦАРСТВЕ ЖАР-ПТИЦЫ
Мир есть не что иное, как сказка и ветер.
Персидский поэт РубекиI В солнечную даль
Письмо, пришедшее с экзотической, замысловатой маркой, привело в движение весь дом Скиндеров в одном из захолустных городов северо-западного края. О содержании письма вскоре узнал весь город. Толкам и пересудам не было конца.
Дело в том, что брат известного всему городу Скиндера, пропавший без вести лет десять назад, неожиданно извещал своих родных, что он живет на Соломоновых островах, к востоку от Новой Гвинеи. Оказалось, что он там разбогател и завел несколько плантаций. Он приглашал в самых радушных и теплых выражениях приехать к нему погостить на некоторое время своего племянника-любимца, которого он оставил, уезжая, маленьким шалуном.
Племянник, за это время успевший превратиться в 18-летнего юношу, только что кончил курс в местной средней школе. Приглашение это, конечно, привело юношу, полного романтических, байронических настроений, в необузданный восторг, тем более что великодушный дядя писал, что довольно значительная денежная сумма переведена на имя племянника через один из банков.
Товарищ и единственный друг Скиндера, Арский, узнав о счастливой звезде приятеля, несколько опечалился, но вскоре также должен был прийти в восторг, так как благородный друг решительно объявил, что он один не поедет, а только вместе с Арским.
В письме дядя указывал приблизительный маршрут и предлагал племяннику сесть на пароход в Генуе, так как это даст, с одной стороны, возможность увидеть кое-что интересное в Европе, а с другой — до известной степени сократит путь.
II На пути к тропикам
На пароходе «Партенопа», уносившем юношей в солнечную даль тропиков, было очень шумно. В первом классе ехали представители всевозможных европейских наций, и почти с первого дня отплытия парохода из Генуи между пассажирами начали завязываться знакомства с той легкостью и непринужденностью, с какой это обыкновенно бывает на море.
Юные путешественники вскоре познакомились с очень симпатичным пассажиром Бусбеком, полуголландцем, полуфранцузом, плантатором с острова Борнео. Знакомство через несколько дней перешло в дружбу, и Бусбек, не раз совершавший далекие рейсы в Южную и Юго-Восточную Азию, рассказывал юношам много интересного относительно природы экзотических стран и жизни туземцев.
Безоблачные теплые дни стояли все время; небо раскинулось бездонно-голубым куполом над лазурными водами Средиземного моря. Солнечные лучи лились золотыми каскадами в прозрачную глубину вод. Золотой дождь лучей, падавший на поверхность моря, превращался в кристальной синеве в потоки жемчужных нитей, и всюду протянулись они, создавая волшебные миражи подводного царства. Стекловидные разноцветные морские существа легко скользили в жемчужных сетях и переливались яркими цветами их прозрачные тела. Пароход нагоняли и обгоняли стаи резвых дельфинов, шаловливых, как маленькие дети. По временам внезапно взлетали на свет золотистого дня серебристые летучие рыбки и так же внезапно исчезали в лазурном раздолье морских глубин.
Как в калейдоскопе, прошли перед юношами картины Порт-Саида и Суэцкого канала. Целые сонмы неведомых чувств навеяло на них Мертвое море, горевшее загадочным фосфорическим светом под покровом черного бархата ночи. Промелькнули высокие, дерзновенные скалы Адена, словно стоявшие на страже тайн Индийского океана.
Наконец заколыхались океанские волны на бесконечных темно-синих просторах. Сразу почувствовалось беспокойное биение океанического пульса, и пароход начало качать.
Бусбек с воодушевлением рассказывал юношам о своей плантации на Борнео, о порядках, заведенных им на ней, о распорядительности, проявляемой им на каждом шагу.
По-видимому, в нем не было ни капли классической голландской флегматичности; в его природе сказывались чисто галльские черты — экспансивность, хвастливость, добродушие. С первых слов его видно было, что это человек не только с коммерческой жилкой, но и с деспотическими наклонностями, выше всего ставящий свою волю.
Юноши произвели на него выгодное впечатление, и он заинтересовался ими. Чувствуя, со своей стороны, расположение к Бусбеку, друзья не считали нужным скрывать от него своих планов. Задор и юный романтизм Скиндера и Арского увлекли Бусбека, несмотря на юмористическое отношение его к их путешествию. Юноши рассказали ему, как им удалось осуществить давнишнюю мечту — попасть в недра девственной тропической природы. Рассказали о заманчивых картинах, чудившихся им среди далеких островов. Волшебное царство жар-птицы! Оно рисовалось в их воображении во всем великолепии экзотических пейзажей, под покровом сладостной тайны, этой неразлучной спутницы романтизма.
С интересом, к которому была примешана известная доля снисходительности, слушал их Бусбек. Их рассказ вызвал его на еще большую откровенность. Он передал юношам несколько эпизодов из своей жизни, когда он очень молодым человеком отправился в неведомые страны в поисках далекого счастья и, после многих испытаний, сумел удачно устроить свою жизнь.
В одно раннее утро, предупрежденные знакомым моряком о близости Цейлона, юноши поднялись на палубу и, опершись о борт, с жгучим нетерпением ждали входа парохода в гавань Коломбо. Пароход, наконец, вступил в воды гавани, окрашенные пылающим заревом только что взошедшего солнца. Город предстал перед ними в пурпурной мантии, на которой вскоре расцвели роскошные цветы червонного золота. Зарево горизонта бледнело, сменялось симфонией фиолетовых красок, от которых по небу расплывались нежно-розовые волны.
Земля была подернута золотистым туманом, и был прекрасен мир, как весенняя кристальная греза поэта. Понемногу таял золотистый туман, и зеленые гордые пальмы, — живые мечты торжественной земли, — высоко поднялись к солнцу… Земля… дорогая земля!..
И снова судно несло их по океанским водам.
Прошло несколько дней, и незаметно по зеленым волнам Малаккского залива пароход донес их до Сингапура. Бусбек любезно пригласил юношей к себе в гости на плантацию на несколько дней. Он уверял, что его сын, — сверстник юношей, — будет превосходным чичероне при первом ознакомлении их с жизнью тропической природы острова.
Юные путешественники решили воспользоваться предложением Бусбека и отправиться с ним на остров на дожидавшейся плантатора в Сингапуре маленькой шхуне. Правильных пароходных рейсов между Сингапуром и Борнео не было.
На миниатюрном судне, в течение непродолжительного плавания, юношам пришлось познакомиться с настоящей морской жизнью. Все время море было спокойно, и при слабо натянутых парусах судно скользило по воде хотя не быстро, но плавно и легко. Торжественная задумчивость экваториальной ночи ощущалась сильнее на небольшом судне, чем на огромном пароходе. И звезды как будто становились больше и ярче на темном фоне ночной бесконечности. Шум волн, ударявших о судно, убаюкивал своим загадочным говором, точно рассказывал дивно понятную, хотя и непередаваемую на человеческом языке сказку седых тысячелетий.
Наконец путешественники очутились в виду острова Борнео. Шхуна неслась вдоль его берегов, высоких, причудливых. Веяло от них исполинской мощью природы, виртуозностью ее неисчерпаемого творчества. Темный налет, окутавший остров, вблизи оказался густым лесом.
Судно остановилось в маленьком, защищенном от ветров заливе, от которого плантация Бусбека, по его словам, находилась всего в нескольких километрах.
Юноши впервые вступили в настоящий тропический лес и несколько минут стояли как вкопанные, пораженные сказочностью открывшегося ландшафта. Хотелось протирать глаза, уверять себя бесчисленное число раз, что это не сон, что несбыточная мечта может облечься плотью. Они находились словно в волшебном царстве далекой детской сказки, в том царстве, где должны расти золотые яблоки и сиять, как солнце, жар-птица.
Невидимые серебристые колокольчики звенели неуловимыми нежными мелодиями. Воздух струился опьяняюще пряными ароматами, как исполинская кадильница в великом храме природы. Невидимые пышные растения от самой земли тянулись к солнцу в причудливых объятиях лиан…
И всюду пальмы, сонмы пальм…
Окрик Бусбека вывел их из оцепенения, и они последовали за ним, точно во сне. Наконец показалась плантация — довольно значительное пространство земли, разбитое на правильные прямоугольники с посаженными на них ровными рядами культивируемыми растениями.
Толпа коричневых слуг встретила Бусбека громкими завываниями, долженствовавшими служить выражением высшей радости и сердечного приветствия. На веранде обширного дома, представлявшего смесь городского особняка с архитектурными мотивами тропических стран, при приближении путешественников появились несколько белых женщин и мужчин, по-видимому, семья Бусбека. После первых родственных приветствий плантатор представил юношей своим близким.
Друзьям была предоставлена просторная красивая комната, в которой они не замедлили устроиться.
III Нападение в лесу
Под руководством сына Бусбека, в течение нескольких дней совершали юноши частые прогулки по лесу, приучались видеть невидимое для непривычного глаза, наблюдали за кипучей жизнью лесных чащ.
В один из вечеров, когда вся семья Бусбека и его гости собрались за ужином, плантатор неожиданно объявил, что на следующий день он решил вместе с своими молодыми друзьями (так называл он Скиндера и Арского) предпринять небольшую охотничью экскурсию в юго-восточную часть острова. Эта местность должна была представлять интерес во многих отношениях, прежде всего, там должна была быть масса дичи, так как место было совершенно дикое. Со времени последней охоты плантатора в этой части острова прошло несколько лет, и теперь было очень кстати, после утомительных европейских впечатлений, освежить нервы подобного рода экскурсией.
Отправляться на охоту в леса, окружавшие плантацию, не представляло такого интереса, так как они были более или менее известны, и к тому же, все увеличивавшееся число плантаций мало благоприятствовало улучшению условий охоты.
Решение Бусбека было принято молодежью с радостью, и на следующее утро плантатор с сыном и гостями, в сопровождении нескольких слуг, сели на шхуну и направились вдоль берегов острова. Через два дня они высадились в указанном Бусбеком месте и, наскоро подкрепившись, вступили в лесную чащу. Для большего успеха охоты, Бусбек разделил людей на две партии — в одной, под руководством его самого, находились Арский и Скиндер, во главе другой стал сын плантатора.
Так как лесная чаща, перевитая лианами, была почти непроходима, приходилось выискивать тесные проходы, в которые надо было нырять в буквальном смысле этого слова.
Зоркие глаза Бусбека открывали незаметные следы в траве различных животных, и, время от времени, ему удавалось вступать на тропинки, созданные исключительно дикими обитателями лесной чащи.
Несмотря на ослепительное солнечное утро, заметное по хрустальной прозрачности голубого неба, часть которого виднелась при взгляде вверх, в лесу господствовал полумрак. Только по временам откуда-то появлялись светлые полосы и быстро-быстро перебегали через лесные чащи, одевая в кружевные наряды бесчисленные лианы, завладевшие сверху донизу зелеными просторами. Это были вестники дня — радостные, ласковые, своевольные.
Лесные титаны вздрагивали от светлой дневной ласки, и трепет пробегал по их стволам вплоть до широко раскинувшихся крон. Тысячи разнообразных пальм завладели земными просторами — от низкорослых, распростерших словно из земли свои веерные опахала, до стройных красавиц с высоко поднятой к небу кроной.
Бананы с разодранными гигантскими листьями росли точно один на другом, разрывая цепкие сети лиан…
А вокруг рассыпались массы колючих мимоз…
В более низких местах леса тянулись бамбуковые заросли с гибкими зелеными стволами, покрытые светло-зеленым куполом маленьких листьев.
Тишина, господствовавшая в одном месте, неожиданно нарушалась в другом серебристыми трелями, звоном, какими-то странными звуками, напоминавшими человеческий голос.
С деревьев иногда срывались птицы, мелькнув яркими, радужными цветами в воздухе. По временам в гигантских прыжках мчались по верхам деревьев стаи обезьян, задерживаясь на минуту и с любопытством осматривая невиданных пришельцев. Скиндер и Арский, следуя гуськом за Бусбеком, медленно подвигались вперед, время от времени останавливаясь, ошеломленные диковинками первобытного леса.
На минуту внимание юношей было привлечено шумом, раздавшимся вблизи их. Из-за густых зарослей вынырнула какая-то исполинская фигура, напоминавшая человека, и испустила короткий крик. Друзья от неожиданности растерялись, инстинктивно ища глазами Бусбека, от которого они, незаметно для себя, успели отстать.
Вслед за криком неизвестного существа зашелестели кругом веерные опахала приземистых пальм, и через мгновение юноши, окруженные десятком неведомых неприятелей, лежали на земле, сброшенные точно стальными рычагами.
Они плохо сознавали дальнейшее, ошеломленные, потрясенные неожиданным нападением. Их бросили в какие-то мешки и понесли быстро-быстро по лесной чаще. По временам им казалось, что они реют в воздухе — с такой легкостью и быстротой несли их неизвестные враги. Когда на минуту прояснялось сознание, страх грядущего сковывал ледяным дыханием все существо, и нелепость ожидаемой гибели была мучительна.
Может быть, это был сонный кошмар, и стоило лишь проснуться, чтобы исчезли призрачные ужасы при свете действительности! Но действительность кошмара была слишком очевидна, чтобы могли быть какие-либо сомнения. Юноши впервые в своей жизни испытали, что значит выражение — «волосы стали дыбом».
Наконец их куда-то принесли и положили. Около них послышались человеческие голоса, и — о диво! — самая чистая немецкая речь отчетливо зазвучала над самым их ухом.
Через несколько минут водворилось молчание, по-видимому, около них не осталось никого. Прошла еще минута томительного ожидания, и, так же неожиданно, как они были водворены в мешки, юноши очутились на свободе.
Быстро осмотрелись они кругом. Они находились в просторной комнате с европейской мебелью. Сквозь оконные жалюзи слабо пробивался дневной свет. За огромными портьерами виднелась дверь в смежную комнату.
Они терялись в самых причудливых догадках, когда дверь неслышно отворилась и в комнату вошел человек небольшого роста, с огромным выпуклым лбом и подвижным, выразительным лицом. Острый взгляд его глаз пронизывал насквозь, а густые нависшие брови придавали лицу суровое выражение. Из-под больших усов виднелись тонкие губы, сложенные в холодно-саркастическую улыбку. Он бросил быстрый взгляд на юношей и, жестом пригласив их сесть, сам удобно расположился в глубоком кресле.
Прежде всего он справился о том, кто были юноши, каким образом очутились они на острове и какие цели преследовали при этом. Потом он небрежно осведомился о том, почему они посетили эту наиболее первобытную часть острова.
Получив удовлетворительные ответы, он, по-видимому, успокоился и погрузился в довольно продолжительное размышление.
Друзья сидели, как на иголках, ожидая с лихорадочным нетерпением разрешения опасной загадки.
Наконец незнакомец прервал свое молчание и обратился снова к юношам с довольно приветливыми словами.
Он говорил, что не имеет основания не верить им, что вполне понимает их романтические порывы, особенно в таком возрасте. Он уверил юношей, что они могут быть спокойны относительно своей участи в его доме. О дальнейшем он обещал подумать, а пока предлагал им пользоваться комнатой и всем, что в ней было.
Уходя, он добавил далеко не мягким голосом, что они должны оставить всякие мысли о бегстве, если они у них были, так как это поведет лишь к ухудшению их положения.
Друзья, опустив головы, молча рассматривали циновки, покрывавшие пол комнаты, все еще не будучи в состоянии отдать себе полного отчета в происшедшем.
IV Среди орангутангов
В продолжение нескольких дней к Арскому и Скиндеру никто не заходил, кроме молчаливого малайца, приносившего им в определенные часы кушанья и прохладительные напитки.
Они терялись в догадках, кто мог быть загадочный владелец не менее загадочного дома, в котором время от времени слышались удивительные звуки, напоминавшие то человеческие стоны, то звериные крики животного отчаяния и страха.
По временам весь дом наполнялся сильным шумом и гамом, точно десятки неистовствующих людей справляли какое-то празднество.
Иногда был слышен лязг цепей, сопровождаемый жуткими завываниями не то людей, не то зверей. Грозные понукания неведомых тюремщиков сливались с воплями жертвы.
И снова наступала тишина, казавшаяся зловещей после этой вакханалии звуков, полной змеиного предательства. Чем-то кошмарным веяло от всего дома и его обитателей.
Холодный ужас охватывал все существо друзей при мысли, что будет с ними в этом адском жилище. Им начинали уже мерещиться мучительные пытки, хотя логически они не имели оснований делать подобных предположений. Жуткая неизвестность держала их в напряженном, томительном ожидании, и часы текли с ужасающей медленностью.
Драматизм их положения усиливался сознанием того, что за каждым их движением следят невидимые глаза, в чем они неоднократно убеждались. О какой-либо попытке к бегству не могло быть и речи. Приходилось пассивно отдаться течению событий.
Арский и Скиндер находились в самом подавленном состоянии, когда вошедший малаец выразительным жестом пригласил их следовать за собой. Друзья с трепетом последовали за ним. Им пришлось пройти целый ряд обширных комнат, напоминавших не то лаборатории, не то операционные залы больницы, пока, наконец, они не вступили в большую комнату, по-видимому, столовую. Посреди нее стоял стол, за которым сидели несколько человек. За другим большим столом, рядом с первым, поместилось больше десятка человекоподобных существ. Это были огромные орангутанги, одетые в подобие европейского платья, сидевшего на них мешком. Чудовищные челюсти, зверские глаза и огромные руки были страшны для людей, встречавшихся в первый раз с подобного рода животными.
Арский и Скиндер в одну минуту догадались, кто напал на них в лесу.
Навстречу друзьям поднялся из-за стола небольшой человек, в котором они узнали таинственного посетителя, зашедшего к ним в начале их плена. Он, по-видимому, был теперь в веселом настроении и, любезно пожав им руки, подвел их к столу. Незнакомец представил Арского и Скиндера двум белым, сидевшим за столом, а затем обратился с несколькими странными нечленораздельными звуками к орангутангам. Вслед за этими звуками последовали громкие ответные возгласы не то радости, не то одобрения человекоподобных животных.
Когда начали подаваться блюда, сидевшие за столом орангутанги дожидались своей очереди с терпением, достойным человеческого общества. Порядок, господствовавший за столом обезьян, мог удивить всякого, хотя впрочем, среди обеда он чуть было не нарушился. Среди орангутангов начался подозрительный шум.
Сидевший возле Арского незнакомец быстро подошел к обезьянам и обвел их пристальным взглядом. Животные присмирели. Отходя, он что-то грозно крикнул, и мертвая тишина водворилась среди человекоподобных существ. Наконец орангутанги, по жесту незнакомца, по-видимому, властителя этого удивительного мирка, начали расходиться. Когда животные поднялись из-за стола, тогда в особенности заметно было их могучее телосложение, исполинские сгорбленные фигуры, огромные руки и короткие ноги.
— Это мои помощники и вместе с тем придворная гвардия, — улыбаясь, заметил Арскому и Скиндеру незнакомец. — Как видите, они ведут себя немногим хуже, чем это принято в так называемом порядочном обществе. И, право, они более достойны любви, чем многие члены людского порядочного общества.
Он кивнул головой, и молчаливый малаец отвел пленников тем же путем в их комнату. Оставшись наедине, друзья долго обменивались впечатлениями диковинного обеда среди человекоподобных обезьян. Они совершенно не могли понять жизнь в этом загадочном доме, и облик хозяина его казался им еще более таинственным.
В девственных дебрях острова оказались загадки, о которых нельзя было иметь представления в культурном мире.
V Ученый сверхчеловек
На следующий день тот же прислуживавший Арскому и Скиндеру малаец привел их в обширную комнату, имевшую вид лаборатории. По ней, из угла в угол, крупными шагами ходил знакомый друзьям человек, в первую минуту не обративший, казалось, внимания на вошедших. Он был погружен в глубокое размышление, и по лицу его время от времени пробегала чуть заметная судорога. Наконец он остановился, сделал знак друзьям сесть и через минуту сам опустился на низкий диван.
— Вы, конечно, вправе ожидать от меня некоторых разъяснений, — начал он, обращаясь к ним. — Но, прежде всего, я хотел бы, чтобы вы, по возможности искреннее, сообщили мне еще раз о тех побуждениях, которые заставили вас очутиться здесь.
И друзья повторили рассказ с возможной полнотой, чувствуя, что от этого зависит, быть может, все их будущее.
По-видимому, слушатель их был удовлетворен, — не успели они кончить, как он дружески обратился к ним, прося его называть с этого дня доктором Фюрстом.
Он остановился на их романтических порывах и произнес целый панегирик лучшему в природе человека — вечному романтизму.
Фюрст говорил, что при всей своей ненависти к современному человечеству он любит молодежь, стремящуюся проявлять свои лучшие силы.
Далее он указал на то, что Арский и Скиндер, в силу сложившихся обстоятельств, должны остаться с ним, пока он останется на острове. Он не может рисковать, по многим причинам, тем делом, которое нужно завершить, а до того времени никто в мире не должен подозревать о его местопребывании здесь. Фюрст предлагал им добровольно стать на время его помощниками, тем более, что он теперь особенно нуждался в помощниках — белых людях. Если у Арского и Скиндера была склонность к сильным и новым впечатлениям, то где, как не у него, они испытают то, что не снилось целому миру?
И внезапно тон голоса его переменился — стал резким, надменным, полным какой-то сверхчеловеческой силы.
Друзья сжались, с робостью посматривая на изменившееся лицо Фюрста. Он остановился перед ними и, хотя лицо его было обращено в сторону Скиндера и Арского, взор его, острый, металлический, был устремлен куда-то в пространство.
— Для вас я просто доктор Фюрст, — говорил он, — но в свое время я был известным профессором. Вы слишком молоды, слишком неопытны, слишком незнакомы с жизнью, чтобы знать, до какой степени можно ненавидеть и презирать ничтожество современного человечества, болезненно ощущать несовершенство жизни и весь смысл ее превратить исключительно в искание истины, нелицемерной и обнаженной. Пусть на пути встают бесчисленные препятствия, пусть ополчается вековая мораль, предрассудки и совесть, — коварные гасители могучего пламени истины, — пусть требуются жертвы, победа разума в конечном итоге несомненна!
Разума светлого и торжествующего… Нет в природе более удивительного механизма, чем человеческий мозг, и постичь тайну его функций — величайшая задача человеческого гения. Я поставил задачей своей жизни раскрыть или, по крайней мере, приблизиться к разгадке этой тайны; и вот, после многолетних опытов, я на пути к разрешению величайшей проблемы, я — доктор Фюрст!.. Я разгадал тайну нервных волокон и нервных центров, я постиг сущность нервной энергии, энергии мысли. Вся современная физиология и психология — детский лепет в сравнении с тем, что назревает в моей лаборатории. Для непосвященного человека мое открытие, мои опыты — или бред маньяка, или беспочвенная басня. Но тяжелым трудом досталось мне мое открытие — целым рядом бесчисленных вивисекций над человеко-подобными обезьянами и дикарями, ценой массы жизней орангутангов и первобытных людей… На алтарь науки принес я целую гекатомбу жизней. Но ведь Наполеон принес их целые миллионы в жертву только своего чисто ребяческого честолюбия. Вывод ясен. На земле не было подобного мне вивисектора, но не было еще на победоносном знамени науки столь великого открытия-завоевания, долженствующего начать собою великую новую эру человеческой мысли… И все это во имя истины, во имя торжества мысли, во имя будущего грандиозного и могучего, как мечта, высеченная в мраморе!..
Фюрст провел рукой по пылавшему лбу и замолчал, заглядевшись в пространство. Обычное злое и суровое выражение его лица стало на минуту одухотворенным, полным неведомой тоски и огненной мысли. Острый взгляд глаз стал глубоким, как бездна, и выпуклый нависший лоб бороздили неуловимые складки. Вся фигура его сделалась воплощением огромного энтузиазма.
Арский и Скиндер, точно загипнотизированные, со вниманием слушали его, напряженно ожидая дальнейших его слов.
— Жаль, что вы так юны, — продолжал Фюрст более спокойно, — многое не в состоянии вы понять. Тайну жизни, мало того, тайну высшей жизни вырвал я у природы, держу почти в своих руках. К какой переоценке всех человеческих ценностей должно повести это открытие! Ведь находились же до последнего времени скептики, уверявшие, что тайна жизни никогда не будет раскрыта, что стремление к ее открытию должно быть вечным импульсом науки. Теперь этот импульс с моим открытием, имеющим абсолютное значение, устраняется. Что станет с наукой? Что станет с мировоззрением человечества? Куда денутся сонмы миражей, опутавших густой паутиной сознание людей? Мне нужно произвести еще последние опыты с десятком дикарей, — и задача будет вполне завершена.
Фюрст замолк и, жестом пригласив Арского и Скиндера следовать за собой, привел их в соседнюю комнату, имевшую также вид лаборатории, со столами, заставленными массой крупных банок. В прозрачной жидкости, вероятно, в спирте, виднелись бледно-серые полушария, испещренные сетью извилин.
— Как вы думаете, что это такое? — спросил Фюрст.
— Кажется, мозг, — неуверенно сказал Скиндер.
— Совершенно верно, — подтвердил Фюрст, — это мозг тех людей, которые оставили мне его в наследство. Но это — лишь ничтожные следы моих опытов, которые вообще я делаю только над живыми существами…
Арский и Скиндер с жутким чувством оставили комнату.
— Кто же он, этот доктор Фюрст, — невольно думалось им, — великий ученый или великий преступник?
VI Вивисекция
Арский и Скиндер в течение ближайших дней начали присматриваться к жизни в жутком доме доктора Фюрста. Им позволено было осматривать своеобразные лаборатории с самыми удивительными препаратами человеческого мозга.
По временам друзьям казалось, что они находятся в какой-то дьявольской обители средневекового Фауста.
Несколько раз их приглашали в операционный зал, где находились Фюрст и его два помощника. Эти ассистенты доктора производили на юношей неприятное впечатление своей далеко не привлекательной наружностью, в которой было что-то хищное.
В зал, под конвоем исполинов-орангутангов, приводились дикари, закованные в тяжелые цепи, наполнявшие тревожным металлическим звоном весь дом. Они дико озирались кругом, испуская хриплые, гортанные звуки смертельной тоски и отчаяния. Напрасны были их попытки освободить руки от цепей, напрасна была виртуозная изворотливость их упругого темного тела. Тюремщики-орангутанги, подняв дикарей, как маленьких детей, на руки, в одно мгновение опускали их на особые столы, напоминавшие операционные. Они держали свои жертвы в течение нескольких минут в своих железных руках, пока ассистенты доктора Фюрста особым составом, по запаху несколько похожим на хлороформ, не приводили лежавших дикарей в бесчувственное состояние. Тогда орангутанги быстро отходили от стола и становились вдоль стен, готовые в каждое мгновение быть к услугам доктора. А Фюрст, с ледяным выражением лица, обнаруживавшим лишь некоторое напряжение мысли, подходил к бесчувственному дикарю и с удивительной ловкостью производил загадочные манипуляции с черепом лежавшего, так что лишь холодная сталь хирургических инструментов сверкала, как молния, в его руках.
Через минуту из вскрытого черепа он брал маленькие, чуть заметные части из различных мест мозга, живого и трепетного. Ассистенты мгновенно клали эти части под объективы каких-то удивительных приборов, напоминавших сложные микроскопы с целым рядом зеркал.
По мановению руки доктора Фюрста, стоявшие у окон орангутанги опускали быстрым движением черные занавесы, и в зале воцарялась темнота. Через мгновение сноп электрического света невидимого прибора освещал белое поле огромного экрана, на котором начинали появляться движущиеся нити, точки, чередующиеся с яркими молниеносными вспышками, напоминавшими отчасти свет магния.
Фюрст громко переговаривался со своими помощниками, сыпля массой латинских терминов, так что Арский и Скин-дер почти ничего не понимали.
— Вот она, материализованная энергия человеческого мозга! — прерывал многократно свои слова доктор Фюрст.
Гас электрический свет, открывались занавески, и снова различные части мозга жертвы, пока она была еще жива, водворялись в недра приборов и рассказывали доктору Фюрсту на белом экране одну за другой удивительные тайны жизни сокровенного детища Природы. Через некоторое время следивший за пульсом жертвы ассистент отчетливо объявлял: «Mors» и, по знаку Фюрста, труп уносили в смежную комнату. Доктор принимался за свежую, живую жертву.
Арский и Скиндер, как в кошмаре, наблюдали за происходившим, и страстно хотелось им бежать, куда глаза глядят, из этого проклятого дома, от этих ученых убийц. Неужели не представится к бегству удобного случая?
Неужели им суждено навсегда остаться здесь и стать впоследствии такими же ассистентами доктора Фюрста, как тот, который возглашал с таким убийственным хладнокровием — mors?! Нет, тысячу раз нет!..
Они должны найти средство к бегству, должны до времени морочить Фюрста, чтобы тем легче потом бежать.
Благоволение доктора Фюрста к Арскому и Скиндеру с каждым днем росло — ему казалось, что они с особым интересом следят за его «операциями» и со временем, быть может, сделаются его помощниками. Он сделался настолько любезен по отношению к ним, что позволил даже в определенные часы совершать небольшие прогулки, правда, в сопровождении двух орангутангов, но и это было большой уступкой с его стороны. От зорких свирепых сторожей немыслимо было скрыться, а расправиться с ними без оружия было, конечно, немыслимо.
Друзья удивлялись, до чего дошли ум и сообразительность этих человекоподобных животных под руководством страшного доктора Фюрста. При всем инстинктивном отвращении, которое они чувствовали к Фюрсту, как к великому преступнику, не останавливавшемуся перед уничтожением человеческих жизней ради своих целей, — они не могли вместе с тем не преклоняться перед несомненной гениальностью его ума.
После нескольких месяцев плена доктор Фюрст объявил однажды, что через два дня он намерен отправиться в южные части Новой Гвинеи в сопровождении своих людей и орангутангов. Арского и Скиндера он не намерен был оставлять дома — они должны были также принять участие в его экспедиции. Фюрст не скрывал от своих пленников цели путешествия в недра дикого острова.
Для завершения опытов ему нужен был новый «запас» дикарей, несколько десятков человек, по крайней мере. Надо было устроить охоту на новогвинейцев, поймать живьем требуемое количество и доставить в вивисекционные лаборатории на Борнео. Такая охота, по словам доктора, устраивалась им уже неоднократно и всегда с самыми успешными результатами. Его «культурные» орангутанги, как он называл их, оказывали ему неоценимые услуги, как несравненные охотники за людьми в лесных дебрях.
Доктор признался, что он много лет культивировал человекоподобных обезьян, преследуя, кроме вивисекционных целей, одну главную задачу — создать штат преданных, сильных, ловких слуг, которые, по его мановению, готовы были бы исполнить решительно все на свете.
Начались приготовления к путешествию. Укладывалось оружие, провизия, необходимые вещи. В незаметном с моря маленьком заливе было укрыто небольшое судно Фюрста, к которому своеобразные охотники добрались очень скоро.
Молчаливые малайцы, находившиеся в доме доктора Фюрста, по-видимому, также имели определенные функции — они были природными мореплавателями, и управление судном входило в круг их прямых обязанностей.
Орангутанги спокойно поместились на судне.
К Арскому и Скиндеру, со свежим дуновением теплого морского ветра, вернулась прежняя бодрость, и надежда затеплилась в их душе. Вскоре, быть может, им удастся бежать, и удивительное кошмарное приключение превратится в невероятную сказку.
Певучесть волн легко колыхавшегося моря навевала радостные, как синева неба, чувства. И жить хотелось, как никогда… Жить, жить, чтобы ощущать, чтобы видеть, чтобы слышать симфонию морских красок и звуков, чтобы вдыхать живительный воздух и пьянеть от золотой ласки солнца…
VII Возмущение орангутангов
Спокойное, дремотное море в самом начале плавания стало спустя несколько дней бурным и грозным.
Сильный порывистый ветер крепчал с каждым часом, и на беспредельной водяной стихии показалась белоснежная пена. Игривые волны сменились чудовищными валами.
Гремел рев стихийного зверя, перемежаясь с пронзительным свистом ветра, мчавшегося в великую даль.
С снежной гривой подымались из морской груди исполинские валы и в бешеном порыве бросались на судно доктора Фюрста. Небольшая шхуна казалась беспомощной среди бушевавших вод, но опытные руки старых моряков-малайцев внушали достаточное к себе доверие.
Вокруг палубы судна был протянут канат. За него приходилось крепко держаться всем, кто был на палубе, — волны, ежеминутно перекатывавшиеся через судно, могли очень легко смыть в море. Кроме малайцев-моряков, доктора Фюрста, Арского и Скиндера, никого на палубе не было видно. Фюрст распорядился поместить орангутангов в каюты на время шторма. Сильное морское волнение начало оказывать на обезьян свое действие — они заболевали морской болезнью. Стоны их, очень напоминавшие человеческие, раздавались из занимаемых ими кают.
Доктор Фюрст пристально смотрел на разгул волн. Они подымали судно на высоту белоснежных гребней и бросали оттуда в мгновенно образовавшуюся пропасть. Поднятие и опускание судна повторялись ежеминутно.
Арский и Скиндер, крепко держась за канат, наблюдали также за разыгравшейся стихией, бросая время от времени взгляды на Фюрста. Он был, против обыкновения, молчалив, но лицо его в эти минуты носило печать вдохновения. Глубокая сосредоточенность и задумчивость светились в его глазах, и во всей его небольшой фигуре видна была невозмутимая великая уверенность в себе, подобная классической самоуверенности Юлия Цезаря, бросившего во время морской бури растерявшимся спутникам слова:
— Не бойтесь, с вами Цезарь!..
Наступил вечер, а шторм не только не ослабевал, но, по-видимому, грозил перейти в необыкновенно сильную бурю.
Арский и Скиндер долго не могли заснуть в подвешенных койках душной маленькой каюты.
Судно трещало, и чудилось, что оно каждую минуту может разлететься от напора грохотавших волн.
Ночью сон друзей был прерван неожиданными криками. Вначале им показалось, что они слышат их во сне; но через несколько минут все усиливавшийся животный рев заставил их вскочить с постели и наскоро одеться. Арский и Скиндер стали прислушиваться.
Рев разъяренных орангутангов перемежался с криками людей. К удивлению Арского и Скиндера, неистовые звуки, испускаемые животными и людьми, доносились не из кают, а с палубы. Обезьяны сумели каким-то путем выбраться из запертых кают.
Любопытство друзей было слишком велико, чтобы они могли оставаться в своей каюте. Они осторожно выбрались из нее и тихо начали подниматься по лестнице.
Когда Арский и Скиндер просунули головы на палубу, они сначала не могли разобрать, что там происходило.
На палубе стоял сплошной гул, заглушаемый на минуту раскатными переливами громовых ударов, — была гроза.
Темнота окутала мир черной завесой. Только на мгновение бушевавшее море и судно озаряли зловещим светом расцветавшие в черных безднах неба молнии.
При их свете Арский и Скиндер увидели, что на палубе завязалась смертельная борьба между людьми и освирепевшими, возмутившимися орангутангами. Несколько трупов лежали на палубе.
Люди были застигнуты врасплох, так как защищались не огнестрельным оружием, а тем, что попало под руку. В самый разгар борьбы на палубе появился доктор Фюрст, по-видимому, только что услышавший странную сумятицу наверху.
В одно мгновение он понял все положение и, ворвавшись в середину орангутангов, испустил громовой нечленораздельный звук.
Обезьяны растерялись и, столпившись в сплошную массу, наполнили воздух странным воем не то страха, не то угрозы.
Фюрст несколько раз повторил свой непонятный для Арского и Скиндера крик. Он стоял перед возмутившимися животными грозный и неумолимый. Все время сверкавшая молния освещала его страшные, метавшие искры глаза. Ветер развевал его волосы, и ужас должен был охватить подчиненных животных при взгляде на него.
Он вызывал по одиночке своих питомцев и, схватив за морду трепетавшего зверя, смотрел ему несколько мгновений при свете молнии прямо в глаза. Животное начинало стонать от этого гипнотизирующего ужасного взора.
Тогда Фюрст передавал орангутанга стоявшим позади него помощникам, успевшим уже запастись железными наручниками. Скованных животных отводили вниз, в каюты, откуда они какими-то путями освободились.
Возмущение обезьян было усмирено безоружным доктором Фюрстом.
На следующее утро море успокоилось.
Малайцы убирали палубу, уничтожая кровавые следы ночной борьбы. Оказалось, что в свалке погиб один малаец, несколько человек были ранены. Поплатились жизнью и несколько взбунтовавшихся орангутангов.
Ночное происшествие казалось бы Арскому и Скиндеру сонным кошмаром, если бы оно не оставило после себя кровавых следов.
Малаец, по распоряжению Фюрста, был похоронен по морскому обычаю, в мешке с грузом. Тела орангутангов были брошены без всяких церемоний в море, предварительно исследованные Фюрстом. Он не нашел в их мозгу ничего интересного, способного пролить свет на внезапный порыв их ярости. По-видимому, осложнившаяся чем-то вроде временного нервного расстройства морская болезнь вызвала бессмысленное и ничем не оправданное возмущение орангутангов.
Это происшествие удивляло доктора Фюрста тем более, что его орангутанги были не первый раз на море.
Остальной путь до берегов Новой Гвинеи был благоприятен. Орангутанги смирились после памятного ночного усмирения и производили по-прежнему впечатление самых благовоспитанных животных.
Власть доктора Фюрста над ними была беспредельной, они, в сущности, были только живыми игрушками в его руках.
VIII Охота на людей
Судно пристало к берегам Новой Гвинеи, и путешественникам было приятно снова очутиться на твердой земле.
За низменным берегом невдалеке виднелись остроконечные горы, покрытые неизменным лесом.
Оставив при судне малайца и двух орангутангов, доктор Фюрст с остальными людьми и обезьянами двинулся в глубь острова.
Путешественники некоторое время шли вдоль низменного берега, покрытого мангровыми зарослями. Доктор, оказавшийся также ученым натуралистом, обратил внимание Арского и Скиндера на мелькавшую среди зарослей замечательную рыбку Perioptalmus. Она обладала поразительной способностью довольно долго оставаться вне родной стихии; при помощи своих оригинальных плавников это удивительное создание взбиралось по корням мангровых деревьев, представляя диковинную картину рыбы, сидящей на дереве.
Вскоре путешественники очутились в характерном новогвинейском лесу. Среди многочисленных пальм, усеивавших чащу леса, часто попадались пальмы арека и вездесущая представительница тропиков — кокосовая пальма.
Встречались в изобилии мангровые и хлебные деревья, плоды которых могли очень пригодиться людям. Попадался странный, чудовищной формы Calamus draco и причудливый панданус. Скромно приютился в блестящей зелени со строгими очертаниями своих листьев Sassafras goheianum, столь ценимый во всей Океании за доставляемое им масло, представляющее благодетельное противолихорадочное средство. Лианы обвивали деревья, а кольца ротангов, свернутые и развернутые, усеяли все пространство от земли до стремящихся к свету вершин лесных исполинов.
Лес был полон щебета бесчисленных птиц. Ярко-волшебными пятнами мелькали среди зелени голуби и попугаи.
Среди них выделялся, точно сказочная греза, удивительной грацией своего маленького тела и фантастической игрой красок Joura coronato. С могучим клювом черный какаду победоносно смотрел с ветвей деревьев, а резвые лори беспрерывно носились в жужжавшем воздухе. Но всех птиц превосходили безумной расточительностью красок, невероятным опьянением природы, божественные райские птицы, — эти настоящие жар-птицы.
По несколько раз в день доктор Фюрст делал небольшие привалы для отдыха и подкрепления сил пищей.
Это путешествие пешком по дебрям девственных лесов было бы бесконечно привлекательно для друзей, если бы их не угнетала мысль о целях, преследуемых Фюрстом. Вскоре, быть может, последует кровавая развязка в таинственной глуши чащ, и они будут свидетелями тяжелой драмы.
Фюрст удивлялся, что они так долго не встречали туземцев, точно в этих местах не было и следа их.
Однако события разыгрались скорее, чем это можно было ожидать. В один из жарких полдней, когда «охотники» доктора Фюрста расположились на отдых на небольшой поляне, внимание их было привлечено каким-то животным, выскочившим из лесной чащи.
При приближении к нему оказалось, что это была туземная собака динго, производившая странное впечатление своим безмолвием. Она, как и австралийская собака, совершенно не лает и питается исключительно плодами и растениями, благодаря чему ее мясом пользуются не только дикари. С минуту собака смотрела на невиданных существ, а потом, так же неожиданно, как и появилась, она скрылась в лесу.
Все насторожились — присутствие динго указывало на близость селения туземцев. Доктор отдал короткое распоряжение и, приняв все меры предосторожности, люди и обезьяны, крадучись, двинулись в лес по направлению исчезнувшей собаки.
Некоторое время ничто не указывало на присутствие туземцев, но затем стали доноситься неясные звуки, с каждой минутой усиливавшиеся и приближавшиеся.
Наконец сквозь просвечивающую местами зелень можно было разобрать селение, состоявшее из нескольких десятков хижин, построенных на рядах свай подобно прибрежным деревням, в которых свайные постройки объясняются необходимостью защиты от приливов.
Неровные сваи поддерживали помосты из срубленных деревьев и переплетающихся лиан. Небольшие примитивные веранды окружали со всех сторон группы хижин, и длинные жерди соединяли одни хижины с другими.
По тонким жердям очень ловко скользили темные фигуры туземцев. Некоторые из дикарей беззаботно лежали перед входом в хижину, устремив взоры куда-то в лесную чащу.
Доктор Фюрст расположил свой отряд кольцом вокруг селения и, по условленному знаку, дан был залп по хижинам. Растерявшиеся, смертельно напуганные туземцы выскакивали из хижин и с тревожными криками опасности пытались скрыться в окрестном лесу.
В эту минуту выступили на сцену орангутанги доктора. Они бросались на туземцев с ужасающим ревом, и каждый из них, в одно мгновение повалив дикаря, набрасывал последнему на руки и на ноги особые, заранее приготовленные малайцами путы.
Беспомощно барахтаясь, испуская крики и стоны, метались поверженные на землю дикари. В течение нескольких минут десятки туземцев были захвачены и находились теперь в полной власти Фюрста. Немногим из них удалось скрыться в лесу.
Арский и Скиндер, бывшие свидетелями этой картины, были потрясены до глубины души. Они с ненавистью смотрели на виновника нападения и с сочувствием на лежавшие на земле связанные жертвы. Доктор Фюрст с довольным видом осматривал опустевшие хижины. Он решил остаться на день-два в захваченном селении для отдыха, а потом двинуться в обратный путь с драгоценной для него человеческой добычей.
Мысли о бегстве, непрерывно носившиеся в голове друзей, все настойчивее овладевали их умом. Во время нападения Фюрста на туземцев, им казалось одну минуту, что они могли бы незаметно скрыться в лесной чаще. Но несколько орангутангов не спускали с них глаз, и риск был слишком очевиден. К тому же, без оружия можно ли было пускаться в неизвестные дебри, обрекая себя на очевидную гибель?
— Удачная охота, — улыбаясь, говорил, подходя к Арскому и Скиндеру, доктор Фюрст, — дело обошлось почти без пролития крови и, в сущности, немного смахивало на бутафорскую пантомиму провинциального цирка. Но за последние годы моей жизни в этих странах бывали и очень кровопролитные схватки с туземцами, оканчивавшиеся, впрочем, победоносно для меня и моей доблестной армии. А как понравились вам мои орангутанги за работой? Не правда ли, какая у них сила, ловкость, сообразительность?!..
Арский и Скиндер молчаливо соглашались с доктором, в душе проклиная и его и его звериную ватагу.
Фюрст отдал распоряжение своему отряду устраиваться в опустевших хижинах, и через минуту орангутанги уже шныряли по тонким жердям, соединявшим хижины, приготовляя себе удобные логовища.
Деспотическая власть доктора и почти разумное беспрекословное повиновение его питомцев внушали друзьям тяжелое опасение — удастся ли им бежать из тягостного и опасного плена?..
IX Смерть доктора Фюрста
Ночь тихая, задумчивая обвила темным покровом лесные чащи. Тишь разлилась повсюду, и звенящий день чудился далеким миражом. Под сенью бесчисленных звездных маяков заснула живая Земля.
В хижинах взятого доктором Фюрстом селения разместился его отряд, и вскоре люди и орангутанги заснули крепким сном. Оставленный на часах у леса один из малайцев, не будучи в состоянии бороться с охватившей его сонливостью, последовал примеру всех участников экспедиции и заснул богатырским сном.
Арский и Скиндер, поместившиеся в просторной хижине вместе с доктором и одним из его ассистентов, долго не могли сомкнуть глаз — все им мерещилась картина нападения. Неотвязные мысли о безотрадности их положения отгоняли сон. Они шепотом обменивались впечатлениями прошедшего дня, заметив, что Фюрст и его помощник спали.
И вдруг им послышался заглушенный человеческий стон. Они насторожились. Едва внятный стон повторился еще раз. Не было сомнения, что в сонном селении было что-то неладно.
В ту же минуту у входа в хижину появилось несколько фигур, в которых друзья сразу узнали орангутангов доктора. Обезьяны испустили тревожный крик.
Доктор и его ассистент мгновенно очутились на ногах и схватились за оружие. Они быстро выглянули из хижины и приказали Арскому и Скиндеру быть наготове, так как, по-видимому, туземцы собирались напасть на селение. Поднявшимся друзьям доктор вручил оружие, оказав им этим невольное доверие.
Очутившиеся у хижины доктора люди и орангутанги ожидали распоряжений. Выяснилось, что стон, слышанный Арским и Скиндером, был предсмертным воплем убитого часового-малайца.
Доктор Фюрст обнаружил чрезвычайное хладнокровие и распорядительность. Он расставил людей в удобных позициях под защитой хижин, а часть орангутангов заняла фланги; другая часть умных животных, по знаку доктора, мгновенно взобралась на деревья и этим воздушным путем должна была очутиться в тылу у неприятеля.
Не успел Фюрст отдать последние приказания, как лес загремел от диких завываний и криков, и толпа темных фигур, потрясая первобытным оружием, выбежала на поляну.
Короткие ружейные залпы следовали один за другим, валя дикарей, производя сильное замешательство в их рядах.
Но через минуту туземцы подбежали почти вплотную к хижинам, и тогда пришлось стрелять в них в упор.
Арский и Скиндер, находясь вблизи Фюрста, стреляли прямо перед собой, не целясь, возбужденные всеобщим боевым подъемом. Словно зловещий кошмар охватил их существо.
Доктор Фюрст отбивался с бешеной энергией. Бывшие около него телохранители-орангутанги пали под ударами туземцев.
Опасность была огромная. Фюрст несколько раз кричал о помощи, но за шумом ожесточенной схватки и трескотней выстрелов его крик совершенно терялся.
Одному из туземцев удалось ударить доктора копьем, и он, зашатавшись, упал.
В то же мгновение в задних рядах нападавших послышались крики ужаса — это орангутанги со свирепым воем вступили в бой. Защищавшиеся спутники доктора с удвоенной энергией набросились на дикарей. Нападавшим туземцам вскоре самим пришлось защищаться и думать о собственном спасении. С воплями отчаяния разбегались они, но немногим из них удалось вернуться в лесные чащи. От разъяренных орангутангов трудно было уйти, и недавно еще пустынная поляна покрылась многочисленными трупами.
Часть орангутангов преследовала по лесу бежавших туземцев; люди, оправившись от нападения, сгруппировались возле лежавшего неподвижно на земле доктора Фюрста.
С двух сторон припали к его груди ассистенты и, поднявшись через несколько минут, с опущенными головами объявили о смерти доктора.
Это известие поразило Арского и Скиндера: с одной стороны, оно обрадовало их, так как шансы на удачу бегства увеличивались; с другой — опечалило, так как им почему-то стало жаль доктора, несмотря на все его преступления.
Кое-как прошел остаток ночи. Утро следующего дня осветило кровавую картину, от которой становилось не по себе даже видавшему виды человеку.
Тело доктора Фюрста, положенное на подстилку из пахучих трав, собранных малайцами, было покрыто пальмовыми ветвями его верных друзей и слуг. Бледное лицо его было полно какой-то загадочной тоски, и юноши, смотревшие на него, не могли заметить в этих застывших чертах обычной холодной жестокости. После пережитой опасности, они чувствовали в себе прилив новых жизненных сил, и все окружавшее их казалось им еще более полным жизни.
В лесу разливалась свежесть раннего утра. Благоухание пробуждающихся растений наполняло глубоким трепетом все живущее. Невидимые хоры, укрытые в высоких кронах горделивых пальм, звенели серебряным звоном. И утренний свет скользил по зеленому морю, обрамляя пышными кружевами змеевидные лианы.
Ассистенты доктора стояли в глубокой задумчивости над трупом своего учителя, и на лицах их виднелось тяжелое горе.
Около них поместились малайцы, и поодаль с почти человеческой серьезностью теснились орангутанги, испытующе смотря на бездыханное тело, точно не веря, что властелин их никогда уже не проснется.
Один из ассистентов подошел к Арскому и Скиндеру и, указав на труп доктора, обрисовал личность убитого.
— Перед вами безжизненный труп, — сказал он, — великого чуда Природы, гения, какого земля носит, быть может, раз в тысячу лет. Почему мы не сумели сохранить его жизнь, равную по ценности миллиону жизней серого человеческого моря?!.. Почему мы не дали ему завершить грандиозное дело, равного которому не найти на всем протяжении столетий и тысячелетий?! Он нес миру разгадку, разгадку величайшей из тайн — тайны человеческой жизни, разгадку не только единства и целесообразности живого организма, но и сокровеннейшего явления природы — сознания. Потухла навсегда мысль титана, могучая, всеобъемлющая… Иссяк родник неисчерпаемых гениальных замыслов. Гордая воля, прорвавшая плотину моральных предрассудков и возвещавшая миру о новых ценностях, успокоилась навсегда. Навсегда…
Он тихо отошел от Арского и Скиндера, и они, под влиянием слышанных слов, увидели в лице мертвого Фюрста что-то сверхчеловеческое, что-то, что носило печать несомненной гениальности.
X Бегство
Захватив часть связанных туземцев, не успевших освободиться во время битвы, ассистенты доктора Фюрста решили возвратиться на Борнео и продолжать там изыскания, недоконченные их учителем. Они приняли на себя руководительство экспедицией, и вскоре лесные чащи снова зашумели девственным шумом над головами путешественников.
Арский и Скиндер, с напряженным вниманием следившие за всеми участниками экспедиции, не могли не заметить, что надзор за ними в это время значительно ослабел. По-видимому, все — и люди и орангутанги — привыкли считать их за своих, и оружия, данного им доктором Фюрстом, никто не отнимал у них.
Надежда на удачное бегство с каждым часом росла.
Значительное число туземных пленников поглощало все внимание «охотников», и друзья поджидали лишь удобного момента, чтобы незаметно скрыться в море безграничного леса.
Такой момент вскоре им представился.
Уставшие после продолжительного дневного перехода, участники экспедиции крепко заснули, кое-как устроившись на первой попавшейся поляне.
Друзья, удостоверившись, что все спят, — даже оставшиеся на часах — захватили заранее заготовленные вещи и оружие и незаметно скрылись в лесу. Лунный свет, лившийся загадочной струей в лесные недра, мог представлять опасность для беглецов, так как преследователи могли их видеть. С другой стороны, этот свет облегчал самим беглецам возможность лучшей ориентировки в лесных чащах.
Первые минуты, казавшиеся Арскому и Скиндеру наиболее опасными, прошли благополучно — ничто не нарушало сонного молчания.
Очутившись на некотором расстоянии от поляны, друзья остановились — не слышатся ли тревожные признаки погони? Однако все было тихо. Сердце у беглецов учащенно билось, в груди спиралось дыхание, и дрожь сильнейшего волнения охватывала все существо. Только бы успеть подальше уйти!.. Только бы царила ничем ненарушимая тишь!.. И холод, и жар, сменяясь мгновенно, охватывали их, и напряжение всех органов чувств дошло до высшего предела.
Друзья осторожно пробирались среди густого леса, запутываясь на минуту в предательских лианах. Тогда им казалось, что они не выберутся из этой лесной вакханалии, и страх, холодный, как лед, сковывал их существо невидимыми щупальцами. Но выбирались они из лиан, надежда окрыляла душу взметенной светлой волной, и одна мысль владела всем существом — вперед, вперед!.. Иногда ломавшиеся под ногами засохшие ветки заставляли их на мгновение застыть в мучительном выжидании. Незначительный шум казался им в эти минуты оглушительным.
Лунный свет создавал по временам причудливые фигуры, напоминавшие людей, и друзья вздрагивали от одной мысли встретиться в этих местах с людьми, казавшимися им теперь самыми лютыми зверьми. Но исчезали лунные видения, и лишь безжизненный серебристый свет скользил холодно и равнодушно по заснувшей зелени, на мгновение задерживаясь в лианных ожерельях, превращая их в фантастические жемчуга — молочно-задумчивые, бледно-далекие…
Арский и Скиндер начинали понемногу привыкать к замершему, сонному лесному царству, и почти с облегчением перевели дух, когда удалились, как им казалось, от опасной поляны на значительное расстояние.
Теперь они пошли быстрее, не обращая большого внимания на треск ветвей под ногами и причудливую игру лунных симфоний.
Чувство свободы заливало горячим потоком все существо и, несмотря на сознание опасностей, могущих случиться в недалеком будущем, минутами им хотелось кричать звериным криком. Свободны они!.. Свободны, как птицы, в необозримом лесу!
И внезапно похолодело все их существо — в сонном лесу явственно послышался шум ломавшихся веток и тяжелый бег каких-то неведомых существ. Это уже не была игра расстроенного воображения, — все усиливавшийся, отчетливый шум не оставлял никаких сомнений в действительности происходившего. Минута оцепенения сменилась у друзей бессознательной и инстинктивной потребностью бегства, и они побежали по лесным чащам, останавливаясь на мгновение перед стеной непроходимых зарослей, лихорадочно ища свободного прохода, и снова бежали в неведомую даль леса.
Но жуткий шум приближался к ним с каждой минутой. Они почувствовали вдруг, что неизвестные преследователи почти нагоняют их. В эту минуту Арским и Скиндером овладела молниеносная решимость и боевой подъем. То же состояние испытывали они в памятную ночь нападения туземцев на экспедицию доктора Фюрста.
Друзья прислонились к пальмовым стволам, стоявшим в ночной тени и, с ружьями наготове, ждали неизвестного врага. Огромные тени двух чудовищ показались перед ними, — было ясно, что два сторожевых орангутанга гнались за ними по пятам.
На мгновение гигантские фигуры остановились, точно соображая, куда могли направиться беглецы. Но тотчас же, каким-то удивительным чутьем, почуяли присутствие юношей и с грозным ревом бросились по направлению к ним.
В то же мгновение в загадочной тишине прозвучали два коротких выстрела, повторенные эхом в переливно-далеких захлебывающихся громах.
Исполинские фигуры зашатались и упали. Однако сейчас же одна из них поднялась и с быстротой тигра бросилась на одного из друзей. Неминуемая гибель ожидала Скиндера, если бы его товарищ растерялся. Но Арский почти в упор выстрелил в орангутанга и сразил его насмерть.
Друзья перевели дыхание. Орангутанг, бросившийся на Скиндера, успел все-таки поранить своими чудовищными руками его плечо. Он чувствовал горячие струи крови, текшие по его телу, но до времени ничего не говорил другу, и оба они продолжали стремительно бежать, все еще опасаясь, не гонятся ли за ними свирепые человекоподобные звери.
Время шло. Тишина стояла ничем ненарушимая.
Ноги подкашивались у беглецов от полного изнеможения и испытанного нервного потрясения.
Обессиленные, почти переставая сознавать окружающее, упали они, наконец, на траву и лежали некоторое время неподвижно.
Стоны Скиндера вывели из дремотной усталости его друга.
Тут только Арский заметил, что его товарищ ранен. Наскоро сделав Скиндеру перевязку из бельевого полотна, он успокоился и погрузился в тревожный сон.
XI В недрах заповедного царства
С раннего утра друзья были на ногах и, наскоро подкрепившись имевшимся у них запасом пищи, двинулись в дальнейший путь.
Они шли, как им казалось, в прямо противоположную сторону возвращавшейся экспедиции Фюрста, и, таким образом, надеялись через некоторое время достигнуть восточного или юго-восточного берега, или, по крайней мере, какого-нибудь берега, казавшегося им одинаково спасительным.
Они прошли несколько дней вполне благополучно, делая время от времени привалы. Иногда на пути они занимались интересной охотой за неведомыми птицами и сумчатыми, из которых больше всего их поражал своим странным видом кенгуру, не скачущий, подобно своему австралийскому родичу, а лазающий по деревьям и обладающий хвостом, покрытым шерстью.
Производили неприятное впечатление своим отвратительным видом monotremata — млекопитающие, казавшиеся на первый взгляд птицами.
По расчету друзей, они должны были пройти более ста километров в южном направлении. Пока лес не представлял никакой опасности — не было ни кошачьих хищников, ни дикарей. И только в загадочные звездные ночи, когда в лесу воцарялась непроглядная тьма, слышны были жуткие шепоты неведомых лесных голосов, повествовавших о неслыханных, призрачных видениях мира, о великих возможностях баснословной были седых тысячелетий…
Зато, когда владычествовал пиршественный день над великим лесом, радость огромная разливалась по чащам, пьянела земля, пьянел воздух, пьянели растения, птицы, звери, люди.
Был светел мир тогда, как мираж золотой сказки.
Волшебные райские жар-птицы горели фантастической игрой красок на позолоченных кронах пальм. И нега великая, вечно весенняя, чувствовалась в этом грезовом мире…
Еще через несколько дней Арский и Скиндер вступили в более высокую область, где господствовал другой пейзаж. Это были сухие склоны гор. Эвкалиптовые леса и акации, — флора, столь характерная для Австралии, — с редко стоявшими деревьями, производили довольно унылое впечатление после волшебных пейзажей пройденного пути.
Эвкалиптовые леса перемежались с совершенно унылым ландшафтом — далекими пустынными саваннами, на которых, под влиянием малейшего ветерка, разбегались волны высокой травы кенгуру.
Впрочем, этот пейзаж не был лишен живописности: открывался широкий горизонт с далекими вершинами гор и темным поясом лесов, окаймлявших травяное море.
Через несколько дней область саванн кончилась, и Арский и Скиндер снова вступили в влажный тропический лес.
Они прошли уже, как им казалось, целые сотни километров, а желанного морского берега все не было и не было.
Понемногу в их душу начало закрадываться сомнение: действительно ли они идут по направлению к берегу, а не в глубь страны? От этой последней возможности дрожь охватывала их, и гибель казалась неминуемой. До сих пор друзьям не встречались туземцы; если бы оказалось, что они идут в глубь острова, опасные встречи оказались бы неизбежными.
Арский и Скиндер пользовались всеми своими элементарными астрономическими и географическими познаниями, чтобы, по возможности, идти в желательном направлении к морскому берегу.
Но дни шли за днями, а их все окружал лес, которому, казалось, никогда не предвиделось конца, точно весь мир был заполнен им.
Отчаяние начало закрадываться в их души. Зажившая было и снова открывшаяся рана Скиндера усиливала безотрадность их положения. Ноги, после долгого, утомительного перехода, отказывались служить. Арский и Скиндер похудели и осунулись.
Наконец настал день, когда они, изнемогши совершенно, опустились беспомощно на землю и стоически стали ожидать смерти. Скорбные мотивы траурной меланхолии наполнили их уставшее существо тоскливыми видениями, внушавшими страх и немощь перед жизнью, перед ее вездесущием и суровой неумолимостью. И тихая утешительница-смерть неслышно приближалась к сраженному, немощному «я», с убаюкивающим шепотом, с вечной сказкой великого покоя, великой нечувствительности, великого безразличия. Томная смертная страсть овладевала душой, расцветая осенними цветами, тихо звуча серебристыми шепотами, преображаясь в бледные видения…
Но в тайниках подсознательного «я» бурлит невидимый поток тысячелетней жизни, по временам умеряющий свой пыл для того только, чтобы с тем большей силой вырваться на поверхность сознания. И кажется, когда затихает его шум, что само существование его невозможно и призрачно; кажется, что он бесследно исчез в неведомых душевных глубинах… Только, когда запенится вновь бурный поток, когда заиграют его водопады и заискрятся сонмом огней бесчисленные брызги его — он снова владычествует над замирающим духом, он снова властно поднимает заглохшие силы тела.
И жизнь поет победную песнь над побежденными призраками немощи, отчаяния, смерти…
Вечер бросил мягкую темную фату на великий лес.
Далекая бездна неба глянула в лесные недра загадочным взглядом звезд.
Огромная тишина величаво плыла по заснувшему царству вечера.
Успокоенный мир точно повторял слова древнего мудреца:
«То, что есть, того нет, — чего нет, то есть».
Арский и Скиндер устроились на ночь. Неизвестная надежда теплилась в их душе. Долго не спали они, устремив взоры вверх. Казалось им, что они так лежат уже давно, что все окружающее их — лишь сонная греза. Казалось им, что они находятся в родных местах, среди близких людей…
И внезапно ослепительный свет сверху заставил Арского и Скиндера оторваться от ласковых видений.
В первую минуту они не могли понять его причины.
Ослепительно белый, мягкий, неведомый свет заливал лесные гущи причудливыми волнами, одевая в волшебные наряды лианы и пальмы.
Арский первым догадался о причине удивительного света.
— Электрические прожекторы! — радостно закричал он другу и, вскочив на ноги, готов был прыгать, кричать, бесноваться от необузданного восторга.
От радостного волнения друзья несколько минут бестолково суетились. Все существо их горело, как в огне. Одна животворная, восторженная мысль вспыхивала, как молния:
— Спасены! спасены!..
Арский и Скиндер еще не знали, кто их спасители, но они были уверены, им хотелось верить, что неведомые прожекторы несут им несомненное спасение.
— Но откуда эти прожекторы? — задал, наконец, вопрос Скиндер.
— Как откуда? — удивился его более зоркий и сообразительный друг, — над нами огромный дирижабль, настоящий воздушный корабль!..
XII На воздушном корабле
Чтобы обратить на себя внимание неведомых пилотов, Арский и Скиндер с лихорадочной поспешностью зажгли огромный костер. Огненные языки костра бледнели в ослепительном потоке электрического света, но, по-видимому, на дирижабле был замечен огонь в лесных дебрях.
Электрический свет начал становиться более ярким, и до слуха друзей долетело чуть слышное вначале жужжание моторов. Остановившееся было над лесом воздушное судно снова пришло в движение. Огромный сигарообразный силуэт начал явственно вырисовываться в море молочного света.
Дирижабль опускался все ниже и ниже, к неописуемой радости Арского и Скиндера. Наконец он остановился почти над самыми вершинами лесных великанов.
Друзья изо всех сил кричали на известных им языках неведомым пилотам, что они заблудившиеся и гибнущие в лесных дебрях европейцы.
Неизвестно, все ли было услышано и понято пилотами, но через несколько минут на спущенном с дирижабля канате с корзиной опустилось несколько человек.
Арский и Скиндер готовы были броситься к незнакомцам с распростертыми объятиями.
Незнакомцы, оказавшиеся англичанами, приветливо отнеслись к погибавшим друзьям и, взяв их с собой в корзину, поднялись на воздушное судно.
Все происшедшее в течение столь короткого времени казалось Арскому и Скиндеру несбыточным сном, почти чудом.
Они вступили на воздушный корабль с чувством некоторого благоговения.
Их пригласили в роскошную каюту, и тут наскоро, в немногих словах, поведали друзья, кто они и каким образом очутились в лесных дебрях. По мере рассказа Арского и Скиндера спокойные, не привыкшие ничему удивляться бритые лица слушателей выражали чрезвычайное удивление, иногда даже недоверие, до того казалась этим людям невозможной одиссее Арского и Скиндера.
А те, в свою очередь, узнали, что дирижабль возвращался на некоторое время в Финшгафен после удачного первого полета внутрь острова. Воздушное судно было снаряжено лондонским Королевским географическим обществом для научных целей — ознакомления с неизвестными местностями Новой Гвинеи.
Финшгафен оказывался всего в нескольких стах километрах от места счастливой встречи Арского и Скиндера с пилотами. Остановка воздушного судна над друзьями была вызвана замеченным с дирижабля значительным озером среди леса. Исследовать его решено было на следующий день.
Арскому и Скиндеру предложено было поместиться в небольшой уютной каюте со всеми удобствами.
С первым проблеском утра ученые пилоты спустились вместе с Арским и Скиндером и вскоре очутились над молочно-жемчужной поверхностью озера. Значительная часть дня была посвящена изучению озера.
Затем все поднялись на воздушный корабль. Зажужжали моторы, и воздушный исполин плавно начал подниматься к лазурному своду.
Арский и Скиндер, опершись о борт дирижабля, смотрели на невиданные ландшафты, расстилавшиеся перед ними, с птичьего полета.
Внизу девственные леса, покрывавшие землю, казались темным сплошным бархатом. По временам лишь светлые, чуть заметные полосы пересекали этот бархат — то были реки. Иногда выделялись жемчужные пятна небольших озер. Над лесом распростерлась золотистая паутина дня. Лазурь неба над воздушным кораблем казалась еще прозрачнее, еще хрустальнее.
Чуть заметная дивная прохлада поднебесных высот (дирижабль летел на значительной высоте) наполняла существо друзей каким-то никогда еще не испытанным ими энтузиазмом.
И невольно, без слов, в душе звенел гордый гимн:
«Слава человеческому разуму! Слава человеческому гению! Слава, слава, слава… В безграничный поднебесный простор устремился он, в воздушный океан, где так бесконечно привольно и свободно, где сердце бьется биением Космоса и радуется стихийной свободе своей… В лазурной купели воздушного мира восприемлется великое, неведомое еще крещение вселенского братства, огромной живой связи со всем миром… И сплетаются в одно волшебное божественное ожерелье: разум, свобода, могущество…»
Прозаическое, на первый взгляд, жужжание моторов вдали от земли превращалось в своеобразную музыку человеческого гения, в символ его силы, могущества.
Арскому и Скиндеру любезно были показаны все особенности воздушного судна. Правда, друзья многого не понимали из-за недостатка технических сведений. Воздушный корабль не был копией известных цеппелинов, но представлял собой усовершенствованный и увеличенный в размерах дирижабль. На нем было несколько кают со всеми удобствами, точно на морском судне, и грузоподъемность его была огромна.
Когда под воздушным судном сверкнуло море, ландшафт стал дивным по роскоши красок.
Красноватые лучи заходившего солнца оттеняли легким пурпуром залитое потоками расплавленного золота море. Оно горело желто-красным заревом и в своей зеркальной глади отражало исполинское воздушное судно. С дирижабля был виден другой дирижабль в глубине прозрачных морских вод.
Воздушное судно парило несколько минут над Финшгафеном, зароившимся вдруг черными точками — людьми, сбегавшимися для наблюдения за спуском дирижабля.
В лучах заходившего солнца воздушный корабль казался фантастическим видением, и только жужжание моторов говорило об его реальности…
Арский и Скиндер сошли на землю и очутились в столь желанном для них портовом городе.
Заключение
Пароход уносил Арского и Скиндера с Фишгафенского порта к Соломоновым островам, и берега земли, принадлежавшей к заповедному царству жар-птицы, терялись в золотистых далях.
Точно в удивительном сне, протекали образы минувших событий, грозных и жутких, наряду с волшебными пейзажами, и не верилось, что все это происходило наяву. Арский и Скиндер чувствовали, что за этот небольшой промежуток времени умственный кругозор их значительно расширился, закалилась воля, развилась самодеятельность.
Через неделю они были у цели своего путешествия.
Дядя Скиндера, чрезвычайно обеспокоенный исчезновением племянника, уведомившего его заблаговременно о дне своего выезда — принял обоих друзей с распростертыми объятиями.
Арский и Скиндер с гордостью рассказали о своей невероятной одиссее, повергши в полное изумление остепенившегося былого искателя приключений.
Приложение
ОКЕАНИЯ (Лекция К. Д. Бальмонта)
Бальмонт — один из немногих избранных певцов светлого, золотистого мира лагунных морей, «тонкой резьбы» воздушного видения коралловых островов, смуглоликих маорийцев, сказочно прекрасных самоанцев и самоанок.
Поэт этот по существу своего оригинального таланта — художник космической жизни, живописующий в пластически современных образах, под покровом сильного гордого индивидуализма, и великий смысл жизнеутверждающей музыки океана, и хороводы морских стрекоз-рыбок, и «литургию ночного Ориона», и грезового альбатроса с его любовью дерзновения, и гармоническую, полную великого смысла жизнь смуглоликих людей. Быть может, потому так полна неиссякаемого очарования его поэтическая летопись, так прекрасна сказка, воплотившаяся где-то в далекой стране, так обворожительно хорош золотистый далекий мир, так возвышен и глубок сокровенный светоч природы — жизнь.
Есть где-то на далеких островах счастливые, солнечные люди, есть беззаботный смех и веселье, есть жгучая пляска и песня, напоминающая «всплески волн», есть благородство и лучшие стороны человеческой души, есть безыскусственная, но глубокая поэзия человеческой жизни, есть ненарушимая, вечная гармония космоса.
* * *
Свою лекцию, которую К. Д. Бальмонт прочитал два раза в Москве и которую можно было бы назвать поэмой экзотической, солнечной Океании, поэт начинает описанием Атлантики и тех переживаний, которые навевает океан и звездное океанское небо.
Прекрасна музыка океана, настраивающая душу на высокий лад. Прекрасна она вечно неизменными приливами и отливами, вечным, неистощимым разнообразием жизни.
Великий смысл таится в сокровенных океанских глубинах, и может оживить он даже «иссохшее русло обедневшей души».
Приходит волна, умирает волна, неся в своем лоне неувядаемую свежесть возврата.
Таинственно могуче внутреннее действие океана на душу… Загадочен лик его, «как стыдливость женской улыбки».
Полна очарования голубая Атлантика; далеко раскинулось исполинское ее царство.
И чудятся в голубых глубинах незримые для глаз горячие струи Гольфстрима, и хочется уйти от севера к югу, уйти прочь от снегов Норвегии, от туманной Британии.
На юг… На юг…
Дальше, все дальше океанские дали, и близкое стало далеким.
Хорош, приятен свежий ветер; гордые альбатросы носятся над океаном; летучие рыбки, «как стаи стрекоз», реют от волны до далекой волны…
На юг… На юг…
А там, в пучинах океанских просторов, покоится таинственно прекрасный материк Атлантиды, материк, который грезился финикиянам и эллинам. Никто не видел этой грезовой Атлантиды. Разве «только рыбки в час разгула залетят в ее концы», загораясь желанием узнать «об Атлантах спящих весть…»
Человек на океане сознает, что в нем слился великий Мир и малый мир.
Лишь в океанских ночах можно постигать звездную тайну, можно ощущать весь ужас отдаленности. Чем дальше к югу, тем светлее на душе, тем ярче, тем глубже «литургия ночного Ориона», трехзвездного Ориона, и чудится, что в ночном небе «Орионом явлен путь».
По мере движения к югу, созвездие Ориона отодвигается в сторону, направо, и затем появляется Южный Крест.
Поэт посвящает немало места в превосходном стихотворении прекрасной птице южных морей — альбатросу. Альбатрос всегда одинокий, независимый, с почти человеческими глазами, в которых светится неугасимое стремление полета. Удивительны очертания его крыла — это крыло — не крыло, а ятаган. И кажется, что у него «крылья хотенья дружат с синевой…» Удивительная птица, возбуждающая неукротимую гордость и любовь дерзновения. Хочется броситься за нею, когда она падает на волны, и грезится, что, упав, можно взлететь на огромной волне к Солнцу.
Южная Африка кажется сладко благоуханным садом — исполинского размаха природы с черными детьми — зулусами, с их гортанным голосом, с их непередаваемой торжественностью, с какой у них делаются самые обыкновенные вещи.
От Южной Африки в Тасманию, в царство смуглоликих.
Когда приходится попасть в область экзотики, чувствуются там живые обломки седой старины, «теневые изображения доисторической жизни».
Поэт с негодованием указывает на всю неприглядность английских культуртрегеров, на систематическое истребление туземцев англичанами.
Англичане уничтожили красивые смуглоликие племена тасманийцев, и от них не осталось ни следа. В Австралии то же явление — систематическое истребление туземцев.
Жестокость англичан превосходит жестокость испанцев при покорении последними Мексики. Творцы политической свободы, они не могут понять просто человеческой свободы…
В Новой Зеландии англичанами истреблены целые леса и опустевшие места засажены вереском и вязами, и в природу вносят бессмысленную дисгармонию. В Австралии мало уже осталось туземцев. Чтобы увидеть их, надо побывать на Новой Гвинее, Самоа, Фиджи.
Как пленительна ночь, так могут быть пленительны черные люди, тем более что понятие красоты относительно — ни один народ не поймет эстетики другого: ни одна раса не поймет другой. Правда, многое можно понять интуицией, уловить неуловимые оттенки, но для этого нужно быть поэтом, природным путешественником, или, по крайней мере, влюбленным.
Поэт далее останавливается на происхождении полинезийской расы, на ее легендах, мифах, на ее необыкновенных дарованиях.
Раса полинезийская (океаническая) — смуглоликая, соединяющая в своем лице самые разнообразные оттенки. Поражают своей красотой туземцы Маркизских островов.
Все полинезийцы имеют одни и те же легенды и вымыслы, но группы их не похожи во многом одна на другую.
Исследователи полагают, что полинезийцы принадлежат к кавказской расе. На длинных ладьях своих не побоялись они одолеть море. Разбросанность легенд, напоминающих легенды египетские и южно-европейские, говорит в пользу приведенного мнения.
Маорийцы, самоанцы, тонга вообще не похожи на определенный тип кавказской расы, но по временам они до странности напоминают то испанцев, то персов, то кавказских горцев.
По всей вероятности, из Персидского залива явились эти смельчаки, следуя зову, повелевавшему им найти неведомые коралловые острова.
Каждый род смуглоликих маори (около сорока тысяч живет их в Новой Зеландии) выводит себя от длинной ладьи (каноа). Есть песня маори, передаваемая лектором с неподражаемым совершенством, в которой воспевается весло с такой глубокой, восторженной верой, точно это — бог. Она указывает на их характер мореплавателей.
Маори чтут благоговейно души своих предков. Они чтут своих праотцов до такой степени, что само повторение имен предков есть молитва.
Среди одухотворенных стихий — солнце, море, земля — наиболее видное место занимает божество.
Все одарено полом. Свет опрокидывается на покорную землю — и рождается жизнь.
Среди звезд два пути: первый тьма с массой эпитетов (тьма взволнованная, тьма исторгнутая, тьма вверху, тьма внизу, земля); второй свет (свет яркий, свет спокойный, свет красный, свет белый, свет черный, свет облюбованный, небо).
Отец-небо и мать-земля любили друг друга, прижавшись один к другому, но бог лесов разъединил небо и землю — встали колонны деревьев, и небо с тех пор плачет дождем и светом.
К чему прикасался гений маори, все принимало совершенные формы. Татуировка, например, развита до полного совершенства.
Любя море, будучи природными мореходами, они преклоняются перед своей длинной ладьей, в производстве этого предмета достигли необыкновенной художественности. Вообще, творческая сила маори чрезвычайна.
Дети каменного века, со своими палицами они целыми столетиями боролись против бледноликих пришельцев, хотевших отнять у них человеческую свободу.
Любя песни и пляску, они даже во время битвы пляшут.
У них красивые женщины, которые умеют любить, умеют и биться вместе с мужьями и братьями. Они живут в стране, где царствует папоротник, где земля в творческом размахе разбросала причудливые растения, распростерла бледно-молочные озера, где вулканическая почва под ногами кажется неверной, где сияют тысячами светляки.
Красота маори — красота суровая, гармонирующая с «взметными утесами» и дикими дебрями.
Далее поэт рисует картину чудного, грезового, солнечного мира, где непрерывно раздается «органное пение» лазурных морей.
Если направиться вправо от Новой Гвинеи, приходится вступить в более светлый мир, голубой, горячий, золотистый мир лагунных морей и коралловых островов.
Там вечная весна и вечная нега…
Там не требуется одежды…
Там природа не требует труда.
Труд постольку там является нужным, поскольку он там необходим для того, чтобы чувствовать себя в полной гармонии с миром.
Кокосовая пальма, бананы, хлебное дерево — это настоящие природные житницы.
Беззаботность — нет мысли о завтрашнем дне — делает людей счастливыми, умеющими радоваться на каждую минуту жизни.
Символом голубого Тонго и золотистого Самоа является высокая пальма с крылатыми листьями, а вместе эти острова — светлый успокоительный храм.
Острова счастливых (Полинезия) полны неиссякаемого очарования. Кругом волшебная глазурь вод и теплая ласка воздуха. И переживания, которые овладевают душой, кажутся навеянными ожиданием неведомого признания в любви.
Душа услажденно радуется теплому морю. Единственная, заставляющая вздрогнуть, красота воздушного видения «тонкой резьбы коралловых островов», окаймленных пальмами, возносящимися из воздушно-изумрудных вод лагунных морей.
Удивителен цвет лагунного моря, напоминающий нежные зелено-голубые переливы, «голубой сон, приснившийся кораллу», это — цвет, который не может быть рассказан. Нет в мире ни одного цвета, который можно было бы сравнить с изумрудом лагунных морей…
Далекие сны здесь сбываются.
На острове Тонго всюду слышен смех — смуглолицые тонганцы и тонганки улыбаются, смеются.
Прекрасные юные тонганки не такие смелые, как девушки на Самоа, но в то же время они удивительно просты и хороши.
Остров Самоа — это улыбчивость постоянного солнца неизменяющего, это — царство плодов, цветов.
Когда приходится плыть на ладьях по мелководью среди коралловых рифов вблизи этого острова, можно перегнуться через край ладьи и увидеть внизу целые коралловые леса — голубые, белые, розовые; проплывают большие, красивые рыбы. Береговая линия обрамлена кокосовыми пальмами. Потухший вулкан порос лианами и бамбуком.
О благородном характере самоанцев может служить следующее свидетельство. Когда корабли белых, пришедших для уничтожения туземцев, начали гибнуть от бури у береговых рифов острова, самоанцы бросились спасать своих неприятелей.
Бальмонт приводит разговор на самоа с одним немцем. Он спросил немца, почему рабочие на плантациях здесь только китайцы. Оказалось, потому, что самоанцы слишком горды, чтобы работать. Самоанцев никогда не заковывают, потому что среди них нет преступников. Между ними нет ни убийств, ни воровства; неизвестны им самоубийства и сумасшествие.
У каждого все свое и вместе с тем ничего своего. Это счастливая община. Гостеприимство необыкновенное и своеобразное. Если самоанец в данную минуту не может угостить своего гостя, он ведет его к соседу, чувствует в доме соседа, как у себя.
Самоанцы красивой наружности, высокие, стройные, почти голые, прикрытые плащом.
Они умащают себя кокосовым маслом с благовониями. Самоанки более одеты (под влиянием миссионеров), но однако и их одежда очень незначительна.
Об интересной встрече рассказывает лектор. Он встретился с самоанцем с испанским лицом, который знал кое-что по-русски. Оказалось, что самоанец был когда-то в России, и имя его среди соплеменников — Нездешний.
Во время посещения поэтом одного из самоанских вождей его встречают, как самого почетного гостя. Скрестив ноги, все располагаются на циновках — мужчины и женщины. Поэту был предложен пьянящий напиток, приготовленный из корней особого растения, и приготовление которого было обставлено целым ритуалом.
Первую чашу напитка передают самому почетному гостю, возглашая его имя. Легкое опьянение, возбуждаемое этим напитком, не затемняло сознания; не хотелось только двигаться; приятно было сидеть в блаженном сосредоточении.
В другом месте собрались вожди с женами и дочерьми.
Вожди плясали, а женщины и девушки пели, сидя рядом. Их песня напоминала всплески волн, это — отрывки пения, раздающиеся где-то издали, там, где волна забегает за волну, там, в лесу…
Напев по мере течения песни делается все оживленнее; в нем начинает звучать страсть. Женщины пляшут всем телом, точно олицетворяя поэму страсти…
«…Самоанка вся движением поет»… Стихи грусти расставания, где каждое мгновение может быть «кристаллом в оправе вечности», где непрерывно несется «органное пение коралловых морей»…
* * *
Лекция кончилась…
Погас несравнимый изумруд лагунных морей, рассыпалась воздушная резьба коралловых островов, померк золотистый мир далекой страны…
Но нет…
В голубом просторе крылатой мечты растут, несутся солнечные видения, гудит «океанный орган», несется далекая песня, пляшут смуглые самоанки, «всем движением поющие»…
Жизнерадостная симфония природы завораживает, притягивает к себе, и жизнь становится полной неведомого обаяния…
Среди искусственного, бездушного моря, среди громоздких условностей и ложных ценностей, среди бессмысленных, но свирепых человеческих масок, среди беспощадной борьбы за существование, среди полного забвения о великой связи человека с космосом, о высшем смысле земли, среди огромного одиночества, — изверившаяся, мятущаяся душа, беспрерывно падающая в мрачные, холодные бездны «культурной» жизни, ищущая и не находящая, погружается в золотые волны созерцания и спокойствия, когда загорятся вдали трепетные огни сказочных призывов, когда мелькнут распростертые, где-то существующие, бледно-молочные озера, когда золотистой дымкой обовьется мир, когда всем существом почувствуется почти невыразимое — что
«Есть миг чудес — И пальма стройная взнеслась и вырос лес…»Об авторе
Литовский литературовед, писатель, историк литературы и переводчик Владас Дубас родился в 1887 г. в дер. Зеленка (ныне Жалейи) Волковышского уезда. Вскоре семья переехала в Волковышки (Вилкавишкис), где Думас посещал начальную немецкую школу. В 1907 г. закончил с серебряной медалью Мариямпольскую гимназию. Учился в Варшавском, Парижском и Московском университетах, в последнем в 1915 г. окончил романское отделение историко-филологического факультета.
В начале литературной карьеры писал на русском языке. С 1913 г. печатал статьи и переводы с французского в журналах «Вокруг света», «Вестник знания».
В 1918 г. переехал в Каунас, где преподавал в гимназии. В 1922 г. был приглашен в только что учрежденный Литовский университет, преподавал романскую филологию (с 1924 г. доцент, с 1928 г. ординарный профессор).
Публиковался в многочисленных литовских периодических изданиях, издал курс истории французской литературы и пр.; в середине 1920-х — нач. 1930-х гг. выпустил также книги о Шатобриане, Вольтере, А. Франсе, Бодлере.
В 1934 г. выпустил повесть «Витукас. История маленького мальчика», посвященную памяти сына Валериана, умершего от менингита. Скончался в 1937 г. в Каунасе.
* * *
Повесть «В царстве жар-птицы» была впервые напечатана в журнале «На суше и на море» в 1914 г. (№ 9), очерк «Океания» — в журнале «Вокруг света» (1913, № 44). Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам. Издательство приносит глубокую благодарность С. Никитину за предоставленный скан повести «В царстве жар-птицы».

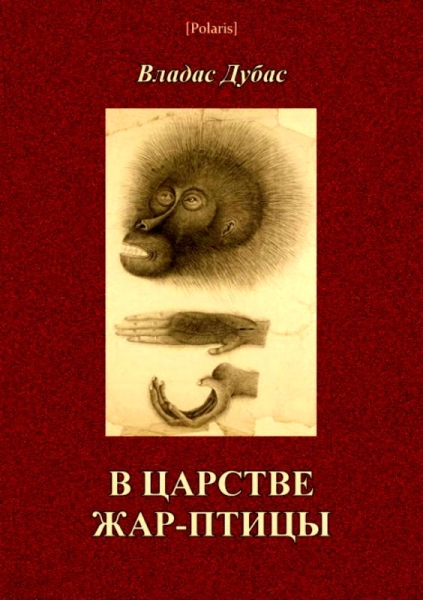
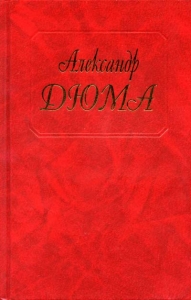

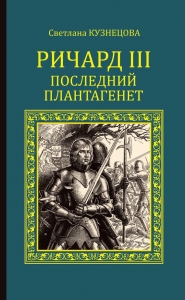


Комментарии к книге «В царстве жар-птицы», Владас Дубас
Всего 0 комментариев