Борис Солоневич Рука адмирала Авантюрный роман из жизни советской молодежи
Нам песня строить и жить помогает, Она нас к счастью зовет и ведет. И тот, кто с пешей по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет… Вперед! (Советская песенка).От автора
Прошу читателя не искать в этой книге социально-политических тем или развязки тонких и путанных «психологических узлов».
«Рука адмирала» — это просто, жизнерадостно-авантюрный роман из жизни современной подсоветской молодежи, тех юных душой, бесшабашных «неунывающих россиян», которым (даже и в трезвом виде) — «море — по колена» и «сам чорт — не брат!», И для которых — вопреки «советской обработке» — мощное величественное слово «РОССИЯ» всегда полно неумирающей силы и неувядающего очарования…
Глава I Звенья таинственной цепи
1. «Историческое решение № 1»
— Ишь, как чешет! Что твой парjвоз! Вот су-у-у-укин сын!.. Мотает[1] то как? А? Глянь — ко: бека обошел, как стоячего, да еще и с катушек срезал…[2] А ну?
Глухой характерный звук сильного удара по футбольному мячу пронесся по затихшему стадиону. Вслед за ним раздался свисток судьи и грохот апплодисментов. Это был уже третий гол, забитый студентами Москвы сборной команде Севастополя.
— Вот это вдарил, что надо! опять восторженно взвизгнул мальчишеский голос. Прямо, как c пушки!
— Ну — это что? Тута не в пушке дело, а в том, что в голу шляпа стоит. Этот мяч очень Даже можно было б переймать!
— Ишь ты какой вумный выискался? Прямо тебе, как Ленинские штаны. Ты бы сам, небось, взял бы? А?
— А ты что думаешь? Может, и взял бы!
— Эх ты, трепло рыжее. Слабо тебе! Перепалка продолжалась. Головы мальчиков с азартом повернулись друг к другу, и футбольный матч был временно забыт.
Опытный наблюдатель советской жизни сразу безошибочно классифицировал бы владельцев этих двух взлохмаченных голов. Примостившиеся над краем большого полуразрушенного каменного забора ребята были типичными представителями, мира беспризорников — детей, потерявших дом, семью, родных, и выброшенных на голодную грязную советскую улицу.
Старший из них, более крепкий и крупный, лет этак 14–15, с большой копной огненно — рыжих волос, был одет в длинные рваные брюки, доходившие ему до подмышек и поддерживаемые остатками скрещенных на груди и спине помочей. Рубашки у него не было. Другой мальчик, худой и, видимо, болезненный, с тонким изсиня бледным лицом и голубыми глазами, красовался в женской кофте и коротких штанах. Обе они были без шапок и босые. Было видно, что им нипочем ни холод, ни жара. Мальчики сидели на самом солнцепеке (матч был Назначен на предобеденные часы, чтобы отвлечь, молодежь от посещения церкви), но жаркие лучи южного солнца не мешали им с жадным интересом смотреть на состязание и с азартом спорить.
Внизу под забором, в тени, лежал небольшой желтый песик со смышленой мордочкой и пушистым хвостиком, типичная дворняжка, к которой как то само собой приставало имя — «Жучка», «Шарик» или «Волчок». Песик изредка поднимал голову и взглядывал на своих хозяев, с видом оживляющегося любопытства поднимая одно острое ухо. Другое у него, видимо, было повреждено в многочисленных собачьих схватках. Но перепалки между хозяевами были для песика, очевидно, делом привычным, его мордочка снова опускалась на лапы, и сладкие собачьи сны о куске вкусной колбасы снова овладевали им.
— Так ты, Митька, говоришь, взял бы тот мяч? насмешливо переспросил младший беспризорник.
— Известное дело взял бы! ответил старший, проводя привычным движением ребра ладони под носом. Конечное дело, тот центр-форвард с Москвы с белыми волосьями — крепко вдарил. Но опять — чего же наш кипер, дурья башка, прыгал за мячом прямо с своего места? До угла гола то, небось, далеко? Это, может, кошка так сигануть может, а он же ведь пока там что — только человек!..
— Одним словом — ты его, курносый, по-у-чил бы? Так, что ля? Лучше его сыграл бы?
Рыжая голова вызывающе вздернулась. Круглое веснусчатое мальчишеское лицо самоуверенно повернулось к футбольному полю.
— Ну, а почему ж бы и нет? Все они — вот там — тоже малыми были, а потом выучились. И я могу! А я, брат, не слабенький, соплей меня не перешибешь! Мной уже сваи вбивать можно… А насчет кипера того — так он, ясно — шляпа. Ему бы сперва надо было шага два к углу гола сделать, а потом уже сигать… И, главное, кулаком метить, а не пальцами, такую бомбу ловить. А то, вишь его, захотел фасон давить — издаля в угол нурнуть… Вот и съел…
— Эх ты, трепло, опять протянул младший презрительно. Вот поставить бы тебя в гол — вот бы смеху было как на похоронах! Голпнкер тоже выискался!
Митька недовольно тряхнул рыжей головой.
— Заткнись, Ванька. И откудова у тебя сколько яду под языком берется? Ей пра, словно у змеюки, И все бы тебе с издевкой, с подвохом. Гадюка! Вот дам тебе раза — не будешь в другой раз смеяться!
Дело запахло дракой. Но в этот момент по стадиону прокатился взрыв смеха, и наши приятели повернули свои раскрасневшиеся лица в сторону площадки, громко называвшейся «стадионом». Оказалось, что публика тесно облепила ворота севастопольцев, и мяч, пущенный с громадной силой мимо гола белокурым москвичом, врезался в толпу Зрителей, сбив нескольких с ног. Но когда волна смеха затихла и сконфуженные «болельщики» поднялись на ноги, оказалось, что какая то девушка осталась лежать на земле. К ней в волнении бросился, вопреки правилам, севастопольский бек, а после секундного колебания и белокурый москвич.
— Глянь ко, Черви — Козырь, а ведь наш то беловолосый звиняться полез! Ха, ха, ха… Совесть, видать, заела! Чуть девочку не спортил! А и верней ведь ежели его удар хорошо в печенку попадет — пишите письма прямо в похоронную процессию. Бьет, совсем как с пушки!
— Ничего, презрительно заметил голубоглазый беспризорник, которого рыжий назвал «Черви-Козырь». Чорт ее не возьмет! Поднимется! Ara, да я ее уже видал. Это сестра того бека севастопольского. Она завсегда около гола становится, чтобы брату подмогнуть. Болельщица![3]. Ха, ха. ха! Так ей и надо. За что, братишечки, боролись — на то и напоролись. Пущай не лезет под мяч!
— А, видать, тот врезал ей подходяще. Глянь ко, сколько народу собравшись.
— Ничего, прочухается. Бабы — они народ живучий. Их сразу пополам не перешибешь. Видишь — уже опять играть зачинают.
— Эх бы мне туда в гол встать, мечтательно произнес Минька. Я бы им показал класс!
Ванька опять презрительно выпятил нижнюю губу и виртуозно сплюнул вниз, норовя попасть плевком в спину стоявшему ближе к забору зрителю.
— Да брось ты, Рыжий, арапа заправлять. От горшка — два вершка, а туда же, небось, в чемпионы метишь. А ты то хоть пробовал?
Будущий чемпион поскреб свою взлохмаченную шевелюру и с несколько сконфуженным видом утер нос тем же привычным движением ребра ладони.
— Нет, врать не буду: взаправдашним мячом еще покеда не приходилось. А так — вроде мячика — гонял. И — ей Богу — здорово выходило… Но опять же: кто ж нам мешает настоящий мячик слямзить. Ты ведь, Черви — Козырь, подмогаешь?
Младший беспризорник, названный так звучно за свою страсть к картежной игре и талант к шулерству, снисходительно усмехнулся.
— Aгa, как что удумать так сейчас: «Ванька»? Твоей головы, видно, не хватает? Ну, чорт с тобой. Неужто я тогда от компании отказывался? Или труса праздновал? Ладно, спулим[4] мяч за милую душу. Я вот пораскину мозгой и, может, этот вот самый мяч и сопрем. Уж если тебя, Рыжий, так заело — хрен с тобой. Ты — парень ловкий. Может, и в самделе что с тебя выйдет? Чем чорт не шутит, когда Бог спит? Даешь!..
* * *
Все в этом бренном мире связано друг с другом. Как говорят в шутку: «Пессимизм шаха персидского влияет на произрастание деревьев в северной Лапландии»…
Жизнь путана и пестра, особенно в наше время. Комбинации событий укладываются часто таким неожиданным и прихотливым узором, что первые звенья этой цепи ничем не напоминают конечных, а промежуточные больше положи на выдумку, чем на действительность…
Решение двух советских беспризорников украсть футбольный мяч оказалось важнейший звеном длинной цепи событий, связанных с тайной руки адмирала. Не будь этого решения, сложившегося в жаркий южный день у футбольного поля — может быть, отчаянный вскрик русского матроса, заглушенный 20 лет тому назад залпом красногвардейцев, оказался бы напрасной попыткой передать в молодые руки то, из за чего можно было с чистой совестью, не опуская глаз, встретить смерть лицом к лицу…
2. То, что произошло 20 лет тому назад
…Яркое раннее летнее утро. Поля еще покрыты светло сиреневой дымкой тумана. Солнце только начинает золотить верхушки тополей на окраине небольшого городка, почти деревни. Беленькие украинские хатки еще спят, но чудится, что через темные пятна маленьких окон чьи то испуганные глаза со страхом следят за небольшой группой людей, направляющихся к оврагу.
Ведет группу молодой еврей в штатском с наганом в руке. За ним четыре солдата, между которыми — богатырь матрос со связанными руками.
Матрос — на голову выше своих конвоиров, грязных усталых солдат в мятых красноармейских шлемах. Он озирается кругом блестящими лихорадочными глазами, словно не веря, что маятник его жизни отсчитывает последние секунды… Идет он прямо и ровно, и губы его на лице, окаймленном небольшой белокурой бородкой, крепко сжаты.
Край оврага.
— Становись вот сюда, белая сволочь! Выстраиваются солдаты, небритые, голодные, злые. Матрос стоит перед ними. Его белая форменка порвана и запятнана грязью. Голова повязана чем то, похожим на старую рубашку, сквозь которую проступили пятна крови. Первые лучи солнца, пробившись сквозь утренний туман и дальние деревья, тенями ходят по его бледному лицу. Края синего матросского воротника треплются свежим полевым ветерком.
Веселый жаворонок вспорхнул навдалеке и со звонкой трелью тонет вверху. Вот аромат полевых цветов донесся до людей, словно желая влить мир в их озлобленные и мятущиеся души…
Но ни злое лицо еврея, ни угрюмые лица солдат не смягчились перед картиной чудесного Божьего утра. Только матрос с тоской взглянул на чистое бледно-голубое небо и глубоко вздохнул своей богатырской грудью.
Неужели это — конец? Неужели нет выхода? Неужели этот вот взгляд, этот вздох — последние в его жизни?.. Боже мой, как хороша жизнь!..
— Сознаешься, что ты — белый шпион? кричит заплетающимся голосом еврей с наганом. Даешь показания? Зачем через фронт шел? Откуда те часы золотые взял? Кто это такой — Деревенько? Ну?.. В последний раз тебя спрашиваю!
Но матрос не слышит его, словно его раненая голова не может осмыслить происходящего. Отблеск какой то напряженной и мучительной внутренней борьбы проходит по его измученному лицу. Задрожал мускул щеки, потом дрогнули губы и опять судорогой сжались в прямую линию, не проронив ни слова.
Никого… Спасенья нет… Еще один взгляд вокруг. Перед ним черные точки в дулах винтовок, а над ними злые глаза. Конец. Смерть… И отчаяние сильного человека вспыхивает в серых глазах богатыря.
— Братишки! резко звучит срывающийся голос. Вы — ведь все таки русские люда. Не жидова проклятая… Богом вас заклинаю: ежели кто встретит где честного русского офицер а, передайте ему, что тайна на руке адмирала… Пусть он…
Жестоко кривятся губы еврея, Взмах руки, и нестройный залп грохочет в утреннем воздухе.
Богатырь шатается. Его широко раскрытые глаза, словно проклиная, не отрываются от лица своего убийцы. На белой форменке расплываются алые пятна крови. Могучее тело борется со смертью. Богатырская грудь разрывается в тщетной попытке еще раз вдохнуть свежий воздух утра. Еще хоть раз!.. Связанные руки конвульсивно рвутся за спиной, в поисках опоры… Но смерть уже рядом, и матрос медленно падает лицом вниз, словно, чтобы поцеловать матушку-землю в прощальный раз. Потом его тело медленно сползает по склону оврага.
Солдаты с красными звездами на шлемах, невольные палачи, хмуро и угрюмо смотрят на упавшее вниз могучее тело матроса с таким простым, родным, русским лицом, теперь залитым кровью. Кровью пролитой… за что? И какую тайну унес он с собой туда, откуда нет возврата?.. Проклятая гражданская война!..
— Эй, чего стали? Мертвяков не видали, что ли? раздается грубый окрик, и солдаты медленно уходят.
Испуганный залпом, примолкший было жаворонок снова пустил звонкую трель своей простой радостной песенки, приветствуя торжественно поднимающееся солнце…
3. Москва, 1938 г.
Юноша, сидевший у стола с опущенной на руки головой, пошевелился и выпрямился, словно отгоняя от себя нахлынувшие видения. Но еще не сразу эта картина, нарисованная его пылким впечатлительным воображением, растаяла перед закрытыми глазами. Скупые слова таинственного письма, которое только что молча было прочтено, были мгновенно дорисованы его молодой фантазией такими яркими красками, словно юноша сам видел то трагическое утро 20 лет тому назад…
Он решительно тряхнул головой и посмотрел кругом.
В комнате было темно. На столе в стеклянной пепельнице догорал листок бумаги. Тоненькие несмелые струйки огня бегали по коряво написанным строчкам загадочного письма, и светло-синий дымок вился над ними капризными струйками.
Улица бросала немного света в комнату. Темным силуэтом выделялась за столом небольшая фигура хозяина, и короткая трубка своими вспышками обрисовывала светлую линию седых усов. В позе мыслителя застыл в углу массивный человек. Рядом скорей угадывался, чем был виден, силуэт женской фигуры, прислонившейся к его плечу. Все молчали и пристально смотрели на последние блики огня, уничтожавшего бумажку, над которой все они так напряженно думали.
Юноше с его кипучей жизнерадостной натурой молчать, видимо, дольше стало невмоготу.
— Ну и ну! Ей Богу, тут без бутылки никак не разберешь!
Этот звонкий голос, казалось, разбил очарование. Старик шевельнулся, вытряхнул из трубки тлеющий пепел на остатки бумаги в пепельнице и тщательно размешал все своей «носогрейкой».
— Без бутылки? медленно переспросил он мягким голосом. Нет, Сережа, ясная голова с бутылкой несовместима. А тут для решения этого дела нужна очень ясная голова. Я ведь не зря вас сюда, ребята, позвал. Мне решение этой загадки уже не под силу, да и прыгать между зубами ГПУ — не по моим годам. А мне почему то очень кажется, что в этом таинственном деле без внимания ГПУ никак не обойтись… Вот поэтому то я и решил сжечь это письмо, чтобы уменьшить ваш риск, если вы за это дело возьметесь. Надеюсь, что вы хорошо запомнили все, что в нем было написано. А беретесь ли вы за это дело — повторяю — дело ваше.
Он протянул руку и повернул выключатель. Комната залилась светом. Высокий стройный юноша, говоривший о бутылке, порывисто поднялся.
— Наше — так наше, с задором отозвался он на слова старика. Ничего, Владимир Алексеевич. Наплевать! Где наша не пропадала? Насчет пугливости у нас — «отсутствие всякого присутствия». Мы, елки-палки, за все беремся! Как это поется в нашем авио-марше:
«Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки — крылья, А вместо сердца — огненный мотор»…Белокурый чуб сполз на лоб, и две полосы белых зубов словно озарили молодое смеющееся смелое лицо.
— Нам, Сережа, разум дал не только крылья и моторы, но и осмотрительность, усмехнувшись, медленно и спокойно, словно взвешивая и вбивая слова, ответил коренастый человек в форме командира Красного Флота. Вот — штормовой ты человечина! И когда это ты, футбольная твоя душа, перестанешь балаганить и будешь к чему либо серьезно относиться?
— Серьезно? А зачем она нужна в жизни, серьезность то твоя, ты, чудище морское? В нашей советской жизни от серьезности, браток, только вешаются. А со смехом — любое дело легче дается. И знаешь что: чем серьезнее дело — тем больше туда нужно смеху вложнть. Ей Богу! Так сказать: колесеки смехом смазать, чтобы легче вертелись. Моряк махнул рукой.
— Ну, тебя не переспоришь… А это дело нужно все-таки всерьез обмозговать. Как по твоему, Ирма?
Девушка подошла к столу. Ее тонкие нервные пальцы уверенно и цепко вытащили из кучки пепла маленький кусок несгоревшей бумаги. Вспыхнувшая спичка дала матово-огненный отблеск на сгибе золотистых кос, уложенных диадемой на маленькой головке. Тонкое строгое лицо усмехнулось в ответ на вопрос моряка. Когда догорел последний кусочек письма, она подняла голову.
— «Об-моз-гу-ем»?.. Ох, Коля! — Скоро ты совсем забудешь русский язык между своими «военморами». «Обмозгуем»… Неужели так трудно то же выразить на чистом русском языке?
— Ладно, ладно, дорогуша. Не придирайся. Наш язык — молодой, растущий, богатый. Почему бы и не перенять яркие слова нашего, так сказать, пролетариата? Конечно, Тургенев, вероятно, так не выражался, но, ей Богу же — ему же и хуже…
— Ну, будя вам ругаться, вмешался веселый юноша. А то еще подеретесь на старости лет…
— Да это мы так — «любя», ответил моряк, и его спокойное лицо с крупно высеченными чертами внезапно осветилось ласковой улыбкой. Девушка ответила ему взглядом, в котором мелькнула застенчивая нежность, так плохо гармонировавшая с ее уверенным и решительным видом.
Старик с седыми усами перевел свои глаза с одного лица на другое и усмехнулся своей доброй улыбкой. Как знал он эти лица, еще недавно зеленую поросль школьных рядов, а теперь вот уже бойцов в шеренге жизни! Как любил он замечать в своей работе с молодежью первые морщинки раздумья чистых лбов, первые эмоции, первые впечатления от мира, полного яркости, чудес и очарования в золотом возрасте полудетства… И теперь вот — эти трое, его старые ученики, взрослые для постороннего взгляда — для него все те же милые дети, тепло его старого сердца…
Да — это смена… Смена в бою жизни. Да и пора. Он так устал, этот старик, когда то боевой полковник, а теперь мирный преподаватель одной из московских школ. Надо передать молодым плечам часть тяжести жизни…
— И правильно, товарищи. Давайте обмозговывать, решительно сказал белокурый юноша. А ты, Ирма, зря взъелась. Николка правильно сказал неправильным русским языком насчет обмозговыванья. Ей же Богу — хорошее слово: целую фразу заменяет! «Обдумаем» — это серо, как то по профессорски. «Провентилируем» — слишком по комсомольски. А тут — «об-моз-гу-ем». Звучно то как… И сразу же чем то умным пахнет… Хотя я, по совести говоря, думать не люблю. Мне бы действовать побольше… Но для такого случая и я своей мозговой извилиной шевельну. Так уж и быть… А… только: что тут обмозговывать? Дело ясно, как самовар. Надо за него взяться и провернуть на ять. Вот и все!
Моряк усмехнулся.
— И как это у нашего Офсайда[5] Иваныча все просто делается: словно гол вбить.
— Ах ты, дубина морская, кашалот адмиральский! — взорвался юноша. Просто, как гол вбить? Попробовал бы сам, тяжелопер влюбленный!.. Ты думаешь — это так легко?.. Это, брат, как у одного снайпера[6] спросили, трудно ли хорошо стрелять. А он — «пустяки, говорит. Нужно только взять ровную мушку, правильно подвести к мишени и плавно спустить курок»… А попробуй сам: ссади зайца на 300 метров… Или на полном ходу между беками всади мяч в угол ворот… Легко? Вот, чорт! Меня от негодования даже в пот вдарило… Моряк опять махнул рукой.
— Ладно, Офсайд Иваныч. Я ведь тебя давно знаю: тебя не переспоришь. Ты, брат, из породы людей, которые сперва действуют, а потом уже думают… А тут нужно как раз наоборот: по нормальному. Дело то ведь не только серьезное, а даже загадочное. Вы как, Владимир Алексеевич, это письмо получили?
— Мне оно было под дверь подсунуто. Значит, не по почте?
— Нет.
— Совсем таинственно. А откуда автор письма знает, что вы были офицером?
Старик молча пожал плечами и зажег трубку. Молодые люди ждали, когда он заговорит.
— Видите ли, друзья, тут не в мелочах дело. Николай прав — дело это, очевидно, серьезное, иначе зря бы я вас сюда не вызывал. Это ведь тоже небезопасно. Вы, конечно, знаете, что за мной, как за бывшим офицером — всегда слежка, но это дело показалось мне достойным кое какого риска. В нем — я чувствую — что то есть. В наше время много таких необычайных совпадений, что я не удивлюсь, если это письмо явится одним из элементов какой то большой и важной тайны. А ты вот, Ирма, со своей женской интуицией — что ты скажешь?
Морщинка прорезала высокий чистый лоб.
— Мое мнение?.. Интуиция?..
Старик заметил добродушно-скептическую усмешку на губах моряка и прервал девушку.
— А ты, Николай, зря кривишь губы. Молод ты еще, брат. Вот поживешь с мое — будешь иначе к женскому чутью относиться. В математике, да, пожалуй, в политике — ему места нет. А в жизни — чувство женщины очень часто угадывает в сто раз вернее, чем все расчеты и логика мужчин. Иная антена нервов.
— Ну, еще бы, фыркнул Сережа. У нашего морского пирата нервы — как смоленые кор-р-р~р р-абельные канаты. А у нашей Ирмочки, как… ну, как… нежная осенняя паутинка на заплаканных ресничках лесной феи.
— Ишь ты, как наш футболист в поэзию ударился? Прямо новый Маяковский. «Облако в штанах»[7]. Постой, покажу я тебе корабельные канаты… Сам испытаешь!
— Ладно, ладно, дети мои, прервал веселую ссору старик. Так каково все таки твое мнение, Ирма?
— Тут определенно что то есть важное и серьезное, задумчиво ответила девушка. Это письмо, по моему, написано просто и искренно и в нем есть какая то правда.
— А мы вот эту Ирмкину правду за ушко, да на солнышко. То ли еще мы проделывали?
Серые глаза девушки усмехнулись. Лукавая улыбка скользнула по спокойным твердым губам.
— Ах, уж этот наш Сережа! Тебе самое важное в жизни — это подраться. Все равно — с кем и по какому поводу: в футболе, на улице, в институте, с бандитами или с ГПУ. Тебя нянька в детстве, вероятно, нечаянно на разлитый скипидар посадила. И с тех пор ты спокойно жить не можешь. Так сказать — гипер-тонус… И осторожности у тебя нет ни на копейку!
— «Ос-то-рож-но-сти»? возмущенно переспросил юноша. Да ты бы еще сказала «страху»? Чего там? Как говаривал Збышко у Сенкевича:
«Пока не убили — чего же бояться то? А как убьют — то и времени для страху больше не будет»…
Чего ж нам то бояться? ГПУсского нагана? Фи! Что такое наган? С научно — технической точки зрения — просто дырка, облитая сталью. А кто же дырок боится? А Сибирь? Ну, так что ж?
И снова задорно и весело прозвучал его голос:
Я Сибири, Сибири не страшуся, Сибирь ведь тоже — русская земля! Эх, вейся, вейся, чубчик кучерявый, Развевайся, чубчик, по ветру…— Не так громко, Сережа!
— Ей Богу — нечаянно, дядя ВАП![8] То-есть, простите, Владимир Алексеевича. Я ведь тоже назвал так вас по школьной привычке — «любя»… А насчет песен — простите еще раз. Не удержался. У меня всегда внутри что то поет. Да ведь и верно:
«Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, И любят песню большие города»…Ну, не буду, не буду… А все таки интересно знать, за что тогда погиб тот матросик?
— Ш-ш-ш-ш!.. недовольно зашипел на него старик. Опять ты! Будто не знаешь, что в наше время даже стены имеют уши. Сексот на сексоте сидит… Пожалуйста, не касайтесь здесь этой темы. Если решитесь взяться за это дело — беритесь. Но меня в него пока не впутывайте. Вы знаете — я не трус, но просто я не имею права рисковать своей жизнью пока еще неизвестно за что. Думаю, что я еще пригожусь настоящей России. А эти приключения, спорт и опасности — не по мне. Для меня, старика, Лубянка — это не интересное жизненное переживание, а смерть… Помните, как сказал Маяковский:
«В этой жизни — умереть не трудно. Сделать жизнь — значительно трудней».Сил у меня осталось мало, и я не могу ими рисковать. А у вас этих сил — непочатый край. Поэтому, если вы заинтересуетесь этим письмом и решите действовать — Бог вам в помощь. Я охотно снабжу Вас советами и деньгами, но пока останусь в стороне. Вы понимаете меня, ребята?
— Ладно, не беспокойтесь, Владимир Алексеевич, решительно сказал моряк, вставая и выпрямляясь по военному. Да будет тебе авралить[9], Офсайд Иванович, дай все взвесить. Мое, так сказать «кокретное» предложение, товарищи пролетарии и пролетарочки, вот какое: пусть каждый обмозгует это дело по одиночке, а потом встретимся и решим вместе, что и как.
— Конечно, откликнулась Ирма. А я дня через три как раз могу достать путевку на лодку на водной станции Пищевиков[10]. Проедем к Воробьевке[11] и заодно там потолкуем на свободе и без лишних ушей.
— Идет, товарищок врачиха! Заметано! весело поддержал ее Сережа. А теперь перестанем мозолить глаза бедному Владлексеичу и потопаем по домам. То-есть, кому по домам, а мне, бедному сиротинке, в осточертевшее общежитие. Ах, что б ему сгореть… Дайте, пожалуйста, Владимир Алексеич, папироску — с горя закурим.
Ирма неодобрительно покачала головой.
— Что это тебя, Сережа, укусило? Зачем тебе папироса? Ты ведь не куришь?
— А так — побаловаться. Погрызть что либо со злости, да с голодухи.
— Вот чудак… Да и вы, дорогой Владимир Алексеевич, поменьше бы курили. Вы ведь только за этот час — я заметила — три раза трубку набивали заново.
Старик мягко усмехнулся.
— Что и говорить — ты, Ирма, права на все 100 процентов. Да только ты судишь со своей узкой медицинской точки зрения.
— Ну да, конечно: нельзя же себе в самом деле жизнь сокращать! А кроме медицинской точки зрения — как еще куренье рассматривать? Просто вредная привычка и больше ничего.
— Не будь так резка, дружок… Для старого курильщика дело не только в физическом удовольствии. А и глубже… Есть в куренье иная — психологическая, так сказать, тонкость. Видишь ли — человек с трубкой или папиросой никогда не чувствует себя одиноким… Тебе этого, может быть, и не понять, а мне, одинокому старику, трубка многое скрашивает… Так то, моя девочка…
Старик опять улыбнулся своей доброй улыбкой.
Ну, а теперь давайте действовать, так сказать, по специальности. «Молодости — движение, старости — покой», процитировал он. Действуйте, двигайтесь. А пока там что — расходитесь. И уговор: если ГПУ придерется к нашей встрече и будет спрашивать, отчего, да почему — будем объяснять, что собирались поговорить о помолвке Николая и Ирмы.
Девушка удивленно подняла глаза на старика и вспыхнула. Моряк ободряюще положил ей руку на плечо и смущенно усмехнулся.
— Ну, и пронзительный же у вас взгляд, Владимир Алексеевич. Ведь в самую точку попали. Мы в самом деле скоро с Ирмой женимся. Но откуда?…
Сережа фыркнул и ударил себя ладонями по бедрам.
— Ну, еще бы… О-го-го! Да тут, видно — настоящее чародейство. Владлексеич под собой на три метра видит! Настоящая «тайна Мадридского двора»… Фу ты, нелегкая! «Невеста была в белом платьи, жених же весь в черных штанах»… Ох, уморил! Секреты ваши… Ах вы, оболтусы Царя Поднебесного! Тетери влюбленные! Да на Лубянке, верно, давно уже дело специальное заведено о ходе вашей любви… «Никто не знает»? Ах, вы… Тьфу, и до чего же эта любва людей слепыми делает? Ходят, чудаки, вечерами под ручку, никого не замечая, пихая друзей по влюбленной рассеянности, а потом — на тебе! «У-див-ля-ет-ся»? «Тайна»?.. Ах ты, Ромео двенадцатидюймовый…
Сережа звонко хлопнул моряка по широкой спине. Все невольно засмеялись.
Только вы, ребятки, не обижайтесь, мягко подхватил старик. Мы ведь все тоже «любя»… А теперь уходите, пока с вами вежливо разговаривают.
Так сказать: «закройте дверь с той стороны»? Так что ли? «Приходите почаще — без вас веселей»?.. Ха, ха, ха… Не обижайтесь, милый Владлексеич. Ей Богу же, я тоже «любя»… А пока там что пойдем, товарищи!
«Бывало шапку наденешь на затылок, Пойдешь гулять попозже к вечерку, Из под шапки чубчик так и вьется, Так и вьется, вьется по ветру»…И откуда, Сережа у тебя берется? Ей Богу, словно, испорченный граммофон!
А пусть поет, стала на защиту веселого студента Ирма. Это у него такая реакция на жизнь.
Правильно подмечено, Ирма, защитил веселого студента и старик. Пусть поет. Да и вообще, как я посмотрю на вас, новое советское поколение, — да сравню с молодежью царского времени — так, признаться; вы много жизнерадостнее и веселее. Почему — уж и объяснить не смогу… Казалось бы — и голод, и холод, и бедность, и нагрузка — а вот поди ж ты… Смеются и поют!..
— «Смех — дар Богов» — важно процитировал Сережа…
Нет страниц 25–28.
4. Еще одно решение
Нет страниц 25–28.
…с зажатой в пальцах папиросой остановилась в воздухе. Глаза впились в строчки:
«Дело № 15424. Деревенько Фрол Петрович. Матрос с яхты „Штандарт“. Дядька Наследника Цесаревича».
Архивного заключения — «расстрелян», «сослан», «умер», «освобожден» или чего либо в этом роде не было. Лихорадочно перелистав несколько страниц этой папки, чекист прочел заключительные строчки:
«Со средины 1919 года известий не поступало».
Это было редкостью — человек, бывший на прицеле ВЧК, исчез, словно растаял в воздухе! «Сведений не поступало»… Гм… Странно…
Чекист опять погрузился в задумчивость. Его худая щека изредка нервно вздрагивала, и по лицу волной проходила судорожная гримаса. Наконец, словно на что то решившись, он взял трубку.
* * *
В кабинете начальника секретного отдела ОГПУ зазвонил внутренний телефон. Сидевший за большим заваленным бумагами столом тучный чисто выбритый латыш, не поднимая головы, протянул руку к трубке.
Алло? Я слушаю.
Товарищ начальник?.. Говорит Садовский. Можно к тебе с докладом?
Через несколько минут уполномоченный входил в кабинет.
Ну, что там у тебя, Садовский? — недовольно спросил начальник. Что за спешка?
Да уж очень интересное дело наклевывается, товарищ Мартон. Чем то важным пахнет…
Ишь ты? А ну, давай, покажи. Садовский положил перед начальником рапорт сексота. Тот внимательно его прочел и поднял холодные острые глаза на своего сотрудника.
— Т-а-а-а-ак, протянул он. Ну, и грамотеи у тебя, твои сексоты! А что там за пост?
— Это в доме на Старой Якиманке. Пишет дворник. Правда — неграмотно, но, надо сказать, нюх у него есть и наблюдательность тоже… Этот Петров — бывший полковник, а теперь преподаватель 241-ой школы-семилетки. Сам он давно уже пассивный и неопасный. Мы его в Москве в вид приманки держим: нет, нет, а кто нибудь из провинции по старому знакомству заезжает. Нам легче для слежки… Вот и теперь — сразу трое ребят собралось. Не зря ведь? Не на именины… И свет тушили и что то жгли. И слово «тайна» и «адмирал Деревянный».
— Это, по твоему, фамилия такая?
— Я справлялся в Особом Отделе. Нет такого, ни теперь, ни в прошлом.
— Гм… Нда… Тут, конечно, не шутка — «деревянный адмирал», а намек на какую то фамилию. А ты не догадался в архиве справиться?.. Нет ли там каких нибудь концов?
— Обязательно. Я проглядел там все имена, похожие на «дерево» и «деревню».
Толстый латыш одобрительно поглядел на молодого чекиста.
— Молодец, Садовский! Ты, видно, парень башковитый. Вверх пойдешь, если не шлепнут… Ну, и что?
Вместе ответа еврей положил на стол два дела. Несколько минут прошло в молчании. Наконец, начальник секретного отдела поднял голову. Теперь и его лицо выражало, пробудившийся интерес.
— Нда, опять повторил он, медленным движением пальцев с драгоценными кольцами потирая жирный подбородок. Действительно, тут и в самом деле, пожалуй, что то есть… Есть у тебя уже какие нибудь соображения по этому поводу?
— Найдутся, товарищ Мартон. Какой то тайной тут несомненно пахнет. Может быть, у моряка этого есть какие либо связи с этим бежавшим за границу офицером Дерево. Военные корабли то ведь наши кое куда ходят. А контр-революция везде проберется. Но что не так уж и важно, это дело. Может быть, мелкий шпионаж. Сумец — моряк этот — парень беспартийный, и особых секретов у него быть не может… А вот насчет Деревенько, если с ним «тайна» связана, да через него с царем расстрелянным — дело может иметь политическое значение и даже немалое. Словом, надо приглядеться. Прошу твоего разрешения, товарищ начальник, установить за ребятами ударную слежку.
— Ладно. А кто был там у этого Петрова, ты не узнал?
— Моряк этот — «здорово дюжий», как описал его дворник — по всей видимости — Сумец, инспектор Штаба Морфлота. Тут у нас в Москве моряков — как кот наплакал, — только Штаб флота. И по описанию Сумец вполне подходит. Тем более, что он с какой то бабой был. А у меня есть агентурные данные, что он как раз с одной молодой врачихой амуры разводит. Вероятно, женщина — это она и есть. Третий — пока еще неизвестно. Но слежка это ведь мигом выяснит. Они, вероятно, на днях опять соберутся, «на совет»…
— А, может быть, просто посадить их сразу в подвал для выяснения твоей «тайны»?
Молодой еврей покачал головой.
— Не стоющее это пока дело, товарищ начальник. Я уже думал над этим, а только — как бы не спугнуть. Дело ведь, видать, только вот-вот началось. Они, верно, и сами пока, может быть, ничего толком не знают. Пускай пока там что открывают свои или там чужие тайны. А мы будем сбоку наблюдать. А когда дело созреет — мы его тепленьким и возьмем.
Латыш одобрительно поглядел на своего молодого помощника.
— Ну, ну… А они нас, Садовский, не обгонят?
Вот еще что? самоуверенно откликнулся еврей. Чья власть — ихняя или наша?
— «Чья власть», говоришь? усмехнулся латыш задору начинающего чекиста. Ну, что ж… Попробуй… Присмотри за этим делом. Дай оперотделу распоряжение установить слежку, какую ты считаешь нужной. Да, и вот еще что: запроси на всякий случай циркулярной телеграммой все областные и районные отделы — нет ли там где нибудь следов твоих «деревянных людей». Может, что и отыщется.
— Есть, товарищ начальник.
— Так, значит, и действуй. А ведь и в самом деле подозрительно, когда беспартийная молодежь «тайны» начинает разгадывать. Чорт их знает, что там у них выйдет. Как бы все в антисоветскую сторону не повернулось? И что там за связь «Тайны» и «Адмирала»? Как ты это понимаешь?
— Да вот в этом то вся загвоздка и есть, товарищ Мартой. Но нет еще пока данных для анализа. Думаю, что все это ближе к Деревенько. Он то ведь сперва простым матросом был до того, как холуем у Императора заделался. Ну, да ничего! Молодежь у меня вся под стеклышком, и никуда ей не деться… Пусть шевелится около этой «тайны». А мы ее разгадаем… чужими руками!
— Ну что ж. Действуй, Садовский! Нюх у тебя — я знаю — чекистский. И слежка хорошо налажена. Словом — бери это дело на сверх-ударный прицел… «Наша власть», говоришь? Ха, ха, ха… Чья же это — «наша»?
— Как это «чья»? Ясно, чья — чекистская! Все здесь во — как держим!
Молодой еврей показал сжатый кулак и самодовольно усмехнулся.
5. Военный совет
Солнце старалось во всю. Над далеким городом поднималась дымка ныли и испарений, словно над раскаленной чадящей плитой в кухне. Но на прибрежном песке, где разлеглись после купанья наши приятели, было так чудесно, что хотелось только впитывать в себя солнечные лучи, ощущать на теле порывы свежего речного ветерка и жить бездумной сладкой ленивой жизнью. Казалось, что даже мозги, и с ними и все мысли плавятся от зноя… После суматошливой полной забот Москвы здесь было так приятно…
«Страна моя, Москва моя, Ты самая Любимая»…По всегдашней привычке Сережа замурлыкал про себя песенку и, вытянувшись на горячем песке, казался готовым совсем заснуть. Но Николай был человеком долга, и его слова прозвучали решительно и сурово.
— Ну ка, ребятье, давайте теперь потолкуем о делах.
— Ох, братцы вы мои? И до чего неохота рта раскрывать, когда кругом такая благодать!.. простонал студент. У меня мозги, совсем в кисель превратились. Пойдем ка лучше еще разик нырнем в воду.
— Ну, ну… Довольно лентяйничать. Надо браться за нашу тайну.
— Да ну ее. Двадцать лет ждала, чорт ее не (возьмет — пусть малость еще пару часов подождет… Как то один пьяница поднял бокал и говорит: «страсть люблю старое вино». А другой ему: «Стоп, стоп, подожди, не пей: оно через минуту еще старей станет»… Старрррая старррринная тайна! Какой шик!..
— Ну, довольно тебе, футбольное мясо, философствовать. Повтори лучше на память текст того письма, которое мы читали у ВАП'а. Не забыл?
— Вот еще: забыть!.. Только, ей Богу — лень даже вспоминать!
Ирма приподнялась на локте и с упреком посмотрела на веселого студента. Тот сконфузился.
— Ладно, ладно, Ирмочка! Только не гляди так на меня своими святыми глазками?
— Почему «святыми»?
— А чорт тебя знает. Николай вот — из дуба сделан ив 10 раз меня сильнее, а я его ни на копейку не боюсь. А при тебе — вот, право, не знаю: веришь — даже ругнуться хррошенько не могу. Язык, как говорится, к гортани прилипает… А уж на что мы «студенты советские» к матовым словам привыкли. «Пролетарское происхождение» доказывать то ведь надо?.. Но при тебе — никак… Ты знаешь, среди спортсменов тебя как прозвали?
— Ну? А как?
— «Накрахмаленная душа»… Вроде как «принцесса-недотрога». И ей Богу — верно! За тобой как то и поухаживать нельзя и даже танцовать не очень охота: поплотнее тебя прижать — рука не поднимется. А как ты меня с упреком поглядишь — я, право, покраснеть готов. Совесть стонет!.. Я ведь — мальчик нежный и застенчивый… Девушка засмеялась.
— Это ты то застенчивый? Это — ново По моему, ты — сорви-голова и порядочный!
— При тебе — ей Богу — нет! А вообще есть, конечно, такой грешок. Но ведь:
«Ты, говорит, нахал, говорит, Каких на свете мало, Все ж, говорит, люблю, говорит, Тебя, говорит, нахала»…Суровый голос Николая прервал веселую болтовню. Юноша замолк, вытянулся всем своим мускулистым телом на песке и минуту молчал, собирая мысли.
— Ну, ладно, чорт с вами, сказал, наконец, он. Сдаюсь!.. Я буду медленно по памяти читать это письмо, а вы, если нужно, поправите. Итак, значит, возьмем!..
«Уважаемый товарищ.
Потому, как я случайно узнала, что вы были когда то офицером, то я и пишу вам этое письмо. Дело в том, что дядя мой недавно помер от белой горячки. А перед самой смертью, как то просветлевши, он поручил мне передать кому нибудь из офицеров такую историю:
Был он в гражданскую войну красногвардейцем. Так вот, один раз, кажись, под Мелитополем, довелось ему по наряду ВЧК расстреливать одного матроса, здорового такого, бородатого. Так когда, значит, поставили того матроса перед ямой, он и крикнул такие слова:
„Братва! Богом заклинаю, ежли повстречаете кого с офицеров, скажите ему, что тайна на руке адмирала“…
Он, видать, хотел еще что то крикнуть, да тут ребята дали залп.
Почему, да отчего шлепнули того матроса
— неизвестно. Только жид-чекист перед расстрелом кричал ему какую то фамилию — похожую не то на дерево, не то на деревню.
Вот и все. Что было потом — дядя не знает — он с Красной Армией ушел.
Дядю своего я очень любила и решилась его просьбу сполнить. Он про старых офицеров дома по вечерам много чего хорошего говорил, так что я и нишу вам: может, вам пригодится. Только очень прошу вас, товарищ офицер, сжечь этое письмо и никому про него не говорить!
Остаюсь с комсомольским приветом, Н.
Москва, 5 июля 1938 г.».
Когда Сережа кончил, Николай одобрительно крякнул.
— Правильно. Быть тебе, Офсайд Иванович, хорошим инженером: память у тебя что надо: много лучше мозгов… Ну, ну не ерепенься: я так — шутя. А теперь давайте разбирать по косточкам это письмо. С ним, по моему, может быть три варианта. Оно — или шутка, или провокация, или правда. Но кому надо было бы старика ВАП'а разыгрывать? Никакого толка с этого не видно. Что смешного мог бы ВАП сделать, получив такое письмо? Нет, ученики такую штуку придумывать бы не стали. Как по твоему, Ирма?
Моряк вытер тыльной стороной ладони пот со лба и вопросительно поглядел на девушку.
— Тут шуткой никак не пахнет. С этим и я согласна. Продолжай, Ника… Но, подожди минутку… Эта сумка все выскальзывает из под головы, а если мне в волосы песок заберется — я буду несчастнейшей из женщин…
— А ты, Ирмочка, побрейся, лукаво предложил студент. И в баню часто ходить не надо будет, и песка бояться, и шикозно выйдет — страсть!
— Иди ты, Сережа, к чорту с такими советами, возмутился Николай. Такие роскошные косы… Да если Ирмочка острижется, я… я… Моряк не находил слов для выражения своих чувств.
— Да не волнуйся, Ника. Я ведь — не комсомолка — «своя в доску, юбка в полоску». Я ценю то женственное, что нам дано от Бога…
— Ишь ты, как наша врачиха мудрено заговорила? А почему это, скажи на милость, мы, мужчины, не должны тоже наше мужественное, дан-но-е нам от Бо-га, ценить? А? Почему это мы бреемся? Вы, бабы, небось, не возражаете?
— Да как сказать? отозвалась девушка. Иным мужчинам борода и усы очень идут. Попробовал бы, например, Зевса обрить!..
Все засмеялись.
— Вот это верно… А Нике русская богатырская борода очень бы, вероятно, подошла! А в супружеском деле, если муж жену за волосы потаскает, то потом она его за бороду… Вот и квиты!
— Ну, и понятия у тебя о браке!.. Слушай, Коля, дай ка я тебе на ноги голову положу? Нет возражений?
— Вот это так ловко, в восторге воскликнул футболист. Жениха в виде подушки приспособить!.. Ай да Ирма! Да ведь это по диамату[12] называется «эксплоатация человека человеком»!
— А если человек не возражает? Юноша фыркнул.
— Еще бы, хотел бы я видеть, кто бы тут возражал… Аж завидно.
— А ты не завидуй. Заведи себе зазнобушку и будь ей подушкой. И все довольны будут.
— Ладно… Рассказывай… Не родилась еще та девица заколдованная ни в боярском роду, ни в купеческом… Пока мое сердце — знойный Гренландский ледник.
— А вдруг там вулкан страстей откроется? лукаво взглянула на него девушка. Смотри, Сережа, не зарекайся. От биологии никуда не уйдешь. А тебе как раз влюбляться пора!
— Чтобы таким обалделым, как Николка, стать? Да ни в жисть!
— Уж будто бы ты никогда не влюбляешься?
— Я то? Хронически! Признаться, я, собственно, не влюбленным никогда и не бываю. У нас там рядом — общежитие студенток. Так что девчат — невпроворот. А ведь сердце не камень… То есть, не подумайте дурного — не у меня, избави Боже! У меня — кррррмень. А у девчат… Но это так себе: просто — легкий флирт. Знаешь, по поговорке — «сороку убей, ворону убей. Руку набьешь—.сокола убьешь»… Пустяки!.. Чтобы сердце не заржавело! Но чтобы до подушки для кос доходить — до такого унижения я еще не дожил… Моряк опять рассердился.
— Вот, чорт футбольный… Когда ты угомонишься?
— А в гробу…
— Ну тебя! Давайте, ребята, посерьезнее!
— Да это же вы там сами воркуете, от дела отбиваете!
— Фу… Моряк угрожающе приподнялся на локте.
— Ну не буду, не буду больше, адмирал. Ей Богу…
— Ладно. Смотри у меня!.. Итак, как я вижу, против моего перваго вывода, что тут шуткой не пахнет — возражений нет? Нет? Ну, и ладно. Теперь второе: провокация. На это, по правде сказать, больше похоже. Возьмем прежде всего — откуда какой то комсомолке знать, что ВАП — бывший офицер?
— Ну это ты, Коля, зря придираешься. Да любой старый солдат на улице переодетого офицера по выправке, по манерам узнает… Мой отец, например, только военный врач был — так и то в нем всю жизнь военного узнавали… А тут — боевой полковник… Да многие и вообще об этом знали… Нет, в этом большой загадочности нет. И в этом провокации искать, по моему, нечего, и для такого диагноза данных нет… Лучше прямо будем считать, что это письмо — правдиво и от этого танцовать…
— Потанцовать бы не плохо, мечтательно отозвался студент, но моряк сразу же прижал его «уклон».
— Стоп! Заткнись, засохни, Дон-Жуан футбольный! Тут о серьезном говорят… Ну, ладно — я согласен с такой отправной точкой: письмо — правда. Тогда прежде всего ясно, что слова, сказанные перед смертью — никак не шутка и не ерунда. И на бред раненого непохоже. Очевидно, что матрос не хотел в чем то сознаться перед ВЧК. Значит, что то есть! И что то важное. Это важное перешло к нам от матроса через пьяницу «дядю», неизвестную комсомолку и потом ВАП'а. Так сказать — по наследству. И от этого наследства мы морально отказываться не имеем права: приказ, так сказать, «с того света».
— Правильно, Колич! Ну, а как насчет самой фразы «тайна на руке адмирала»?
— Тут я — «пасс». Не хватило времени обмозговать.
— Эх ты! А еще сам в красном адмиральском чине. А я вот обмозговал.
— Ты, Сережка? Ну, выкладывай. «Ум — хорошо, а полтора — и того лучше». Только разве у тебя есть такие органы, которые о чем либо, кроме футбола, да сопротивления материалов думают?
— Ах ты, чорт морской! Спрятался, трус, под золотые косы и еще издевается над бедными холостяками. Вот свинтус!
— Ну, ну, не сердись, футбольное мясо. Это ведь я — «любя».
— Ну, то — то же!
Студент приподнялся и охватил колени руками. Его всегда веселое лицо сделалось непривычно серьезным.
— Ты, Колька — у нас известный крепкодум. Только ты из своих 12 — дюймовых пушек просто по воробьям палил, в открытую дверь ломился. Ясно, что мы за это дело взяться обязаны. Уж хотя бы для того, чтобы ГПУ нос утереть. Мы, мол, сами с усами! Но совсем не в этом кино — драма нашей жизни. Нужно расшифровать наш ребус, интегралы в нем определить… Прежде всего слова — «рука адмирала».
Первая собака с парой кошек зарыты именно здесь. Ведь даже и пионерам известно, что адмирал — это «подлое кровожадное исчадие морского ада пррррроклятого царского прижима»… Я, конечно, про старых адмиралов говорю, не про новых, красных — вот вроде тебя… Хотя они тоже пыжатся себя настоящими адмиралами считать. Говорят, что между собой они друг друга иначе, как «Ваше Высокопревосходительство» и не величают… Но это так — мимоходя… Большинство настоящих старых адмиралов, конечно, расстреляно; остатки ушли с Белой Армией или тихо померли где нибудь по ссылкам и Соловкам. Я думаю, что теперь ни одного адмирала в СССР в живых нет. Если нет живых, то придется, очевидно, иметь дело с мертвыми…
— Так ты что ж: предложишь — по адмиральским могилам лазить, гробы вытаскивать и руки осматривать?
— Нет, товарищ красный адмирал. Не кырпычысь. Мы — не гробокопатели, а честные советские молодые контр-революционщики. Но не в этом дело. Кроме живых и мертвых адмиралов есть ведь еще и другие…
— Какие же это? негромко спросила Ирма, с интересом и усмешкой слушавшая высказывания футболиста. Полумертвые?
— А, собственно, ты почти угадала, Ирма. Знаешь, есть в математике этакая аксиома: если равны половины, то равны и целые. И ловушка соответственная есть. Полумертвый ведь равен полуживому, верно? Но, если равны половины, то… Словом — мертвый равен живому! Тут тоже без бутылки сразу разгадки не найдешь… В нашем темном деле, если поискать, то тоже найдутся, адмиралы хотя и мертвые, но не совсем. Словно бы вечно живые.
Моряк резко приподнялся. Глаза его широко раскрылись.
— Клянусь бом-брам-стеньгой, как говаривали пираты… Памятники!
— Ну, ясно. Сказано же ведь матросом — «на руке адмирала»… Что ж — что то вытатуировано было на живой руке? Или всунуто упокойнику? Вернее всего, что тайна связана с рукой какого то адмиральского памятника…
— Браво, Серж! А ты совсем не такой обалдуй, как иногда выглядишь. Молодчага!
— Рад стараться, Ваше Высокое Превосходительство. Служу за робу[13], товарищ красный адмирал… Ну, а ты что скажешь, Ирмка? Ведь не плохо обмозговано? А? Теперь только пустяк остался: про памятники узнать.
В голосе студента проскользнуло выражение самодовольства. Девушка подняла свое смеющееся лицо.
— Эх вы, мужчины! А еще говорят — «у бабы волос долог, да ум короток»… Полчаса самовлюбленно упражняли свою мужскую логику… Эх, вы… А я вот вас сейчас пристыжу…
Она легким движением потянулась за своей сумкой и достала оттуда какую то бумажку. Приятели переглянулись. Массивные плечи моряка передернулись в недоумении.
— Ну так вот, слушайте, товарищи коротковолосые и длинноумные мужчины. Ваши гениальные рассуждения…
— Ирмочка, пощади!.. Без яду!..
— Ara… Сдаетесь заранее?
— Сдаемся. Ей Богу, сдаемся! Даже на все четыре лопатки ляжем, благо песочек такой горячий… И опять же перед таким очаровательным противником… Только не издевайся, а говори толком.
— Ну, ладно, властители мира. Вот что открыл мой короткий бабий ум. Дело, конечно, в памятниках. Пока там вам обоим не хва-ти-ло вре-ме-ни продумать этот вопрос — я урвала часок, побывала в Публичной Библиотеке, просмотрела там монографию о русских адмиралах и сделала выписку о поставленных им памятниках.
Приятели опять переглянулись, но теперь уже в восхищении.
— Кррррасота! Вот это здорово. Нас перекрыла без спора… Ну а, скажи, много там этих памятников нашлось на нашу голову?
— Нет, не так уж и много. Вот слушайте.
Девушка внимательно поглядела на свою бумажку и усмехнулась.
— Не завидую я составителю монографии. Ох, трудно ему было. Различи ка в прошлом, кто был адмиралом, кто нет… Тогда погон ни на плечах, ни на рукавах не было… Вот возьмите: скажем, в 907 году русский князь Олег подошел с флотом к Константинополю — тогдашнему Царьграду, заставил его откупиться от разгрома и прибил к его воротам свой щит в знак победы. Был ли он ад-ми-ра-лом? Или наши запорожцы, которые не раз в средние века со своим лодочным флотом громили Византию? Или казак Дежнев, по суше и по морю доходивший почти до современного Сан-Франциско и завоевавший Аляску? Был ли он адмиралом? Разберись тут формально… Настоящие официальные, так сказать, адмиралы начинаются с конца XVIII века. Ушаков, «Нельсону равный», бравший Рим и Неаполь. Похоронен он в Питере. Сенявин, разбивший Наполеоновского маршала Мармона. Про памятник ничего не сказано. Потом идет герцог Ришелье, основавший Одессу, где ему и памятник стоит. Крузенштерн, первый из русских, совершивший кругосветное плаванье. Корнилов и Нахимов — герои Севастопольской обороны. Им всем трем там и памятники. Потом — Макаров, взорванный япон…
Нет страниц 43,44.
…ленные сокровища? Или старинный клад того времени, когда Олег нагрел Царьград на солидную контрибуцию?
— А что бы ты делал с кладом?
— Тю?.. А по хохлацки:
«iв би сало з салом, та лежав би цiлий день на пiчi»…
Хотя, впрочем, ГПУ прижало бы… Ведь, раз деньги — значит, буржуй. А раз буржуй — остальное понятно.
— Да не в том дело, дети мои, серьезно сказал Николай. Там, по моему, не деньги и не сокровища. Когда дула винтовок глянут в глаза — откупишься! Все выдашь. Шкура дороже денег… Мне кажется, что тайна там никак не денежная. Что то более важное.
Лицо моряка сделалось суровым и твердым.
— И вот еще что, друзья. Две, так сказать, аксиомы. Прежде всего, ВАП'а в это дело не впутывать. И вторая — если ГПУ прицепится — держаться в мертвую и не выдавать никого и ничего. Дело, все таки, может быть здорово опасным… Матроса то ведь расстреляли!
— Иди ты, браток, к Аллаху под рубаху, беззаботно откликнулся футболист. А что у нас в СССР безопасно? Только разве помирать. Ничего! как это поется:
Пить будем, Гулять будем, А время придет — Помирать будем…— Да никто, брат, и не трусит. Не в смерти дело. Важно не почему, да отчего, да когда помирать. А — за что помирать?
— Что ты это в философию вдарился, адмирал? Помрем, так помрем. Кисмет… Эх! «Один раз жить, два раза помирать»!.. Экая важность? Дрефйть не будем Как это певали в революционную старину:
«Нашей ли рати бояться Призрачной силы царей»?..— Так то, Сережа, царей, тихо ответила Ирма. Цари были все таки справедливыми и мягкими.
А вот ГПУ…
— Ну вот еще: «Бог не выдаст, ГПУ не съест»! Ни хрена. А это даже и интересно выйдет: спортивный матч ГПУ — русские ребята. Кто кого? Как казаки говаривали: «добыть, или дома не быть»… Добудем! Ничего!..
— Но ведь мы, по всей вероятности, ввязываемся в явно антисоветскую авантюру!
— Ну так что? Над такими вопросами думать — скоро повесишься, как Есенин… Ведь мы все в какой то степени для советов работаем. Ты вот, Николка, здоровых матросяг для красного флота готовишь. Иначе говоря — военную мощь советов крепишь. Ты, Ирма, советскую молодежь здоровой делаешь — опять же для красной армии. А меня — чорт его знает может быть, укрепления или даже тюрьмы строить заставят. Вот тут и разберись, что к чему. Голова вспухнет!
Моряк провел рукой по лбу, словно отгоняя тяжелые мысли.
— Да, тут парадоксы мучительные. Выходит, что теперь нельзя служить России, одновременно не помогая советской власти…
— Ну, нельзя же так узко смотреть на все это, спокойно возразила девушка. Что такое «Россия»? Территория? Власть? Народ?.. Если меня спросили бы — я сказала бы: Россия — это прежде всего русский народ. И служа ему — мы служим России. Власти меняются, народ остается… И укрепляя народ — и физически и культурно и политически — мы служим России, а не советам. Если советы урвут часть нашего труда для себя — все равно, это не замедлит исторического процесса, не уничтожит их обреченности…
— Так то оно так, а все таки на душе частенько кошки скребут, задумчиво ответил моряк. Ведь не всегда ясно, где кончается Россия и где начинается СССР. И наоборот… Вот что тяжело… Поэтому, быть может, я так охотно и взялся за эту «тайну адмирала». Это словно наш ясный долг перед Россией.
— Правильно, товарищ красный адмиралище. «Ляжем костьми, но не посрамим земли Русской»!.. Кто прррррротив? Никого. Принято единогласно! Итак — ложимся костьми на русскую землю, благо песочек такой горячий!
— Ах ты, чортушка смешливая… Но и верно — довольно дискуссировать. Помолчим немного и запасемся солнечной энергией, как аккумуляторы. Может быть, скоро эти запасы энергии, ох как нам пригодятся! Но как жарит? Прямо, как в Сахаре!
— Или в пекле, добродушно буркнул Николай, удобнее устраиваясь на песке.
— В пекле? «А xiбa ж тобi твой батько писав з пекла, як там жарко»?
Последнее слово всегда оставалось за неунывающим студентом…
Приятели замолчали. На песчаном берегу Москва-реки было мирно и тихо. Вдали глухо шумел город-гигант. Не спеша несла река свои прохладные струи. Птичий гомон наполнял кустарник.
Трое русских молодых людей еще не чувствовали тяжести возложенной на них судьбой тайны. Они беззаботно наслаждались часами отдыха, лежа на горячем песке и не думая о будущем, полном испытаний и тревог. Молодость словно струилась по жилам, вера в себя и в друзей еще не обманывала их в жизни, пыль жизненной дороги еще не побелила их волос и не было еще морщин ни на лбах, ни в сердцах…
Голубое небо ласково изогнулось над ними, и горячие лучи солнца словно пели и смеялись, гладя их молодые, полные жизни и сил тела.
А веселый студент мурлыкал песенку:
Широка страна моя родная. Много в ней полей, лесов и рек. Я такой другой страны не знаю, Где так вольно дышет человек!.. От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Человек проходит, как хозяин Необъятной Родины своей…6. «Всевидящее красное око»
С. О. г. Садовскому.
Рапорт,
Назначенная по приказанию НачСО усиленная слежка типа С3 за гр. Сумец Николаем, Инспектором спорта Морфлота, дала за отчетный день следующие результаты: гр. Сумец в компании девушки и юноши взял лодку на водной станции Пищевиков и отправился на прогулку по Москва-реке. Группа была заснята сотрудницей Оперотдела в форме наблюдения в бинокль. Фотография группы при сем прилагается. Дальнейшая слежка ничего существенного не представила. Компания провела несколько часов на берегу, купаясь и греясь на песке, и, очевидно, о чем то оживленно переговариваясь. Подслушать не представилось возможным. На обратном пути бывшая в лодке девушка порвала и выбросила за борт какой то листок бумаги. Шедший за лодкой «рыбачий челнок» Оперотдела подобрал сачком несколько обрывков, которые сданы в лабораторию. Слежка продолжается.
Уполномоченный V Сектора Оперотдела
Боровков,
13-го июля 1938 г.
* * *
С. О. т. Садовскому.
Рапорт.
Сообщаю дополнительно, что по информации агентов спутники гр. Сумца были: Сергей Шибанов, студент МСИ[14], живет в общежитии Института, Варварка 14, и Ирма Прегер, врач госпиталя нм. т. Семашко, живет на 2 Мещанской, 22. Согласно вашим указаниям, за перечисленными лицами также установлена слежка типа С 3.
Уполномоченный V Сектора Оперотдела
Боровков.
14-го июля 1938 г.
* * *
Лаборатория Оперотдела.
С. О. г. Садовскому.
Анализ № 5709.
Сообщаю, что переданные для анализа обрывки бумаги по мнению экспертов отдела являются карточкой «Государственной Публичной Библиотеки имени Ленина». Произведенная проверка подтвердила, что действительно два дня тому назад кто то требовал по этой карточке монографию о русских адмиралах. Установить фамилию этого лица не представилось возможным, так как № абонемента посетителя среди обрывков бумаги отсутствует.
Начальник лаборатории Крутых.
14-го июля 1938 г.
Садовский прочел эти три рапорта с все возрастающим интересом. Потом он внимательно присмотрелся в лупу к приложенной фотографии. Его догадки относительно Сумца и Прегер оказались правильными.
Он вызвал стенографистку и продиктовал ей три распоряжения. Через несколько минут мотоциклист ГПУ помчался по данным адресам, а еще через два часа перед Садовским лежали ответы.
В первой бумажке было:
Комиссар Штаба Флота,
Секретно.
Характеристика инспектора спорта т. Сумец. Беспартийный. Сын крестьянина. Спецобразование — высшее физкультурное. Отношение к своим обязанностям — в высшей степени добросовестное. Политические убеждения — скрытый противник советской власти. Националист. Спокоен и решителен. Пользуется болъшой любовью и авторитетом у молодежи. Прекрасный специалист по спорту.
Мнение парт-ячейки: политически нежелательный элемент. Нуждается в постоянном наблюдении. При возможности его замещения подлежит переброске на периферию.
Комиссар Штаба Вейнбаум.
Про Ирму Прегер было сказано:
Начинающий врач с большими данными. Беспартийная. Происходит из интеллигентской семьи. Умна и решительна. Может быть руководителем антисоветской группировки. После получения врачстажа подлежит переводу в провинцию подальше от больших центров.
Парторг Мосздравотела Медведев.
О Сереже Шибанове мнение было мягче:
Способный студент. Хорошо учится. Был в комсомоле, но, поссорившись с комитетом, ушел оттуда. В политике не разбирается и ею не интересуется. Без руководства пассивен. Попав под дурное влияние, может быть очень опасен своей необычайной смелостью и энергией. Весьма ценен, как первоклассный спортсмен.
Секретарь комсомольской ячейки МСИ Прейсман.
Прочтя все эти данные, молодой чекист задумался. Группа «заговорщиков» представляла собой опасное соединение, дополняя друг друга. Наделать хлопот они могли, что и говорить…
Садовский был «специалистом по молодежи». Его щупальцы были протянуты во все ВУЗ'ы, во все спорт-клубы, во все школы — словом, во все места, где собиралась молодежь. За бурлившей молодой энергией ГПУ следило с особенным вниманием, провоцируя, подкупая, терроризируя и давя новое поколение, искавшее своих путей в жизни и стремившееся создавать свое собственное миросозерцание. Но из под пресса партии и ГПУ всегда вырывались свежие ростки новой жизни, и Садовский был поставлен для наблюдения и обрезывания этих опасных молодых ростков.
Вот почему к лежавшим перед ним рапортам еврей отнесся с таким тревожным вниманием, и почему энергии трех молодых спортсменов он так опасался.
Просмотрев еще раз присланные характеристики, Садовский взял в руки два склеенных вместе стекла, между которыми были подобраны несколько клочков бумаги. На них сверху можно было прочесть:
«Государ……….ина».
По расшифровке лаборатории это обозначало
«Государственная Публичная библиотека имени Ленина».
Тут же был остаток номера этой карточки —
«671».
Потом стояло несколько слов, написанных чернилом и совершенно расплывшихся. Зато на обороте карточки можно было прочесть обрывки слов, написанных карандашом:
«…град… Уш… Крон… 1799… Круз… нилов…»
Садовский долго и напряженно думал над этими обрывками слов, отыскивая их скрытый смысл. Можно было с большей долей вероятности предположить, что «…град» — окончание слова «Ленинград», а «Крон…» — начало слова «Кронштадт», «…нилов» — окончание фамилии. Но какой? Такое окончание могло быть у тысячи русских фамилий. «Уш…» — неясно. Но вот «Круз…» — уже давал точку опоры для изысканий. Садовский позвонил.
— Принесите мне немедленно из справочнаго отдела энциклопедический словарь старое издание на букву «К».
Через несколько минут он читал:
— «Крузенштерн, Иван Федорович. Русский адмирал. В 1801 году в чине капитана совершил на фрегате „Паллада“ первое кругосветное путешествие. Им открыты Курильские острова, Татарский пролив»…
Положение прояснялось. Было очевидно, что спортсмены проявили необычайный интерес к русским адмиралам. Но какую связь имел, скажем, этот вот Крузенштерн с делом расстрелянного матроса Деревенько или сбежавшего за границу офицера Дерево?..
* * *
Начальник Секретного Отдела прочел все рапорта и справки Садовского также с большим вниманием. Медленным движением, рассеянно, выбрал он из лежавшей перед ним коробки сигару, задумчиво закурил ее и, откинувшись в кресло, толкнул коробку своему помощнику.
Несколько минут прошло в молчании.
— Н..ну, проговорил, наконец, латыш. А нюх в тебе вырабатывается подходящий. Тут несомненно…
Нет страниц 53, 54.
Глава II Состязание началось
7. Рука первого адмирала
Красавица Одесса, казалось, дремала от зноя. Деревья на длинном бульваре у берега моря пожелтели от жары и были покрыты слоем пыли. Яркое южное солнце бросало черные контрастные тени на большой пустой порт, длинные линии пустых пристаней, темную дамбу и ослепительно белый маяк.
На бульваре никого не было: в такую жару — не до прогулок. Да и движение в городе было словно заторможено каскадами горячих лучей, лившихся с неба. Изредка лениво погромыхивал трамвай, да к подъезду больших гостинниц подъезжал неспешащий автомобиль.
На бульвар к старинной пушке, установленной на каменном постаменте, вышли две девушки. Старшая, повыше — была Ирма, только что приехавшая из Москвы. Ее спутницей была маленькая кругленькая живая девушка лет 18–19 с до седины белокурыми волосами и розовым веселым лицом. Она была одета в белую матросскую «форменку» и на груди у нее был значок: якорь и компас, причудливо переплетенные канатами. Впрочем, это одеяние «морского волка» никак не шло к ее юному задору и шалостям.
Видимо, она была очень довольна приезду своей подруги. Тормоша ее за руку, она влюбленными глазами смотрела на москвичку, без умолку тараторила и хохотала во весь рот.
— Господи, и до чего же я рада, что ты, наконец вырвалась из своей противной Москвы, Ирмка! Ужжжжжжасно! А ты теперь совсем гранд — дама. Подумать только — настоящий врач. И как это только тебя Николай отпустил?
— Почему же «отпустил», Мися? усмехнулась Ирма. Я не военнообязанная, чтобы меня можно было «отпускать» или «не отпускать».
— Да я не про дисциплину. А только как это только он с тобой расстался? Разве ревновать не будет?
— Почему это? Ника — не ревнивый.
— Не рев-ни-вый? протянула Мися. Да это, верно, скучно?
— Почему скучно?
— Ну, не так разнообразно… Пикантности нет, полировки крови.
— А ему ревновать нечего, спокойно возразила Ирма. Он знает, что я его люблю крепко, и сердце у меня русское — не мотылек.
Мися словно обиделась и передернула своими круглыми плечиками.
— «Русское»? И я тоже русская не хуже тебя, а пофлиртовать люблю ужжжжжасно. А так — любить, прости, по рыбьему — по моему, скучно… Надо и помучить ухажеров, и стравить их, и заставить поревновать… И самой поволноваться…
Москвичка рассмеялась.
И флиртуй себе на здоровье, Мисенька. Только ведь это — не любовь. Это как ты говоришь — «полировка крови». А сердце любит всерьез только один раз. Поэтому то я и сказала «русское сердце»: оно отдается на совсем и только один раз.
— И одному человеку? тихо с наивным любопытством спросила младшая.
— Да, Мися, одному. Может быть, потом в Ашзни будут и другие, но «это» неповторимо.
— И ты так любишь своего морячка?
Ирма не ответила и только мягко улыбнулась своей подруге.
— Да, да?.. Вот здорово? На всег-да? Как это красиво!.. Я, верно, так не смогла бы! А впрочем — вы хорошая пара. Ты такая… такая, ну как бы сказать — тонкая, непростая, ну… Девушка не находила слов для выражения своей мысли. Такая, ну, небесная, что ли. Не святая — Боже избави, а только ты всегда вверх смотришь, к высшему… А Николка — он словно из крепкого дуба сделан. Ты только не обижайся, Ирмушка. Дуб — ей же Богу, неплохое дерево. Этакий прочный, твердый, спокойный и верный…
Но веселой девушке уже, видимо, надоедал серьезный разговор. С непоследовательностью прыгающей птички она вдруг изменила направление мыслей.
— А только я, право, капельку боюсь за тебя А вдруг его лапы тебя когда нибудь раздавят? Он ведь, Николка то, ужжжасно сильный?
— Глупая ты, улыбнулась Ирма. Это когда такая сила у врага — это плохо. А у друга — так тем лучше. До сих пор, видишь — я жива. А Ника очень даже нежен и мягок.
— Как слон в фарфоровой лавочке! Ну, да Бог с тобой, рискуй своими ребрами, если хочешь. А я такого испугалась бы!
— А ты знаешь, Миська, у нас в Москве друг есть — вот тебе самая пара! Такой же неугомонный чертенок, как ты… Спортсмен и певец, но только сладу с ним нет: такой живой.
Девушка покрутила белокурой головкой, постриженной под мальчишку.
— Нет уж, Ирмочка. Оставь таких ребят про себя. А то я и сама — бесенок в юбке, а если муж еще чертенок в штанах — так мы весь город разнесем… Да и не люблю я заранее прицеливаться в жизни. По моему нужно так: «трах и ваших нет»!.. И замужем!
Ирма рассмеялась такой философии.
— Ну, что ж, Мисенька. Может быть, ты и права. Судьба во все влезет… А суженого и трактором не объедешь, и на авионе не облетишь и на крейсере не обгонишь…
— Во, во… «Кисмет»!.. Но все таки мне нравятся не сорванцы, а… Прежде всего брюнеты, а потом — ну, я так только в теории: на что мне муж?.. А все таки муж мой должен быть солидным, строгим, важным, чтобы я его немно-о-о-жечко и побаивалась… Вот, например, как этот наш милый дюк… Вот он, наш первый одессит. Смотри и любуйся! Ты про него все спрашивала…
На громадном гранитном пъедестале перед ними возвышалась бронзовая фигура герцога в высоких морских ботфортах, треуголке и старинном кафтане. Левая рука его покоилась на рукоятке шпаги, а в правой был сверток пергамента.
Ирма с жадным вниманием изучала руки адмирала. Может быть, на одной из них действительно находятся указания относительно тайны расстрелянного матроса?
Солнечные лучи били почти отвесно, заливая ярким светом рукоять шпаги и часть свертка пергамента, но оставляя другие детали в глубокой тени. Во всяком случае, левая рука была в меньшем подозрении. Она со шпагой была отведена в сторону и ясно видна. Зато правая была прижата к туловищу, и сверток пергамента открывал несколько щелей и отверстий, куда легко могло быть засунуто что либо.
Но как добраться до этих щелей? Как просунуть живую руку во все уголки металла и самой проверить, хранит ли какую либо тайну бронзовая рука русского адмирала, француза по крови, не говорившего по русски, но так много сделавшего для блага и славы России?
Изобретательный ум Ирмы быстро придумал выход из положения. Она, скрывая причину своего интереса к памятнику, рассказала о своем плане. Мисе. Та удивленно поглядела на нее.
— Фу ты… А еще врачиха, почти женатая женщина!.. И меня ругаешь за легкомыслие…
Но потом лукавая улыбка тронула ее розовые подкрашеннные губки.
— А, пожалуй, это и в самом деле смешно выйдет. И уж, во всяком случае, ужасно оригинально. Ну, что ж, Ирменька. Попробуем!
Подруги присели на скамейку на краю бульвара и, казалось, стали кого то или чего то ждать.
Это «кто то» скоро оформился в виде компании немного подгулявших матросов, появившихся на другом краю бульвара. Обнявшись друг с другом, молодые матросы, не торопясь, приближались к памятнику. Один из них негромко запевал:
«Наши нивы глазом не обшаришь, Не упомнишь наших городов, Наше слово гордое — „товарищ“ Нам дороже всех красивых слов»!..Потом хор стройно, хотя ни к селу, ни к городу, подхватил:
«По морям, по волнам, Нынче здесь, завтра там»…Завидев двух девушек, в это время подошедших к памятнику, молодые парни приостановились.
— Что, девчата, памятник себе на память хотите взять, что ль? спросил курносый веснусчатый матрос, загоревший до степени бронзы.
— А вроде как ты и отгадал! задорно ответила Мися. Сфотографироваться хотим на память перед дюком нашим.
— Так за чем же дело встало, товарищок — пупсик?.. Может, помочь надо?
— Вот то то и дело, что надо! А вы поможете?
Компания с радостным хохотом окружила девушек.
— Господи, Марксе снятый! Да мы же с нашим полным удовольствием!.. Может, вам, памятник на землю положить прикажете, а вы ему на голову сядете? Вот клево выйдет!..
— Вот еще — моряк, а балда! сурово оборвала Мися, и матросы захохотали.
— Ишь как отрезала! Наповал! Что, Петька — съел?.. Значит, пущай Ришелье покеда постоит? Милостиво разрешаете?
— Довольно вам авралить. Я сама вот скоро штурманом буду — вас так драить буду, что только держись!.. Теперь, ведь при советской власти — женщине везде ход.
— Ну, ясно — «дорогу женщине»!
— «А троттуар мужчине»! съязвил другой моряк… Только, ей же Богу, товарищок, это к вам не относится. Потому, если такой хорошенький штурман драить будет — одно удовольствие!
— Не одно, а сразу два!
— Только как же так, гражданочка, выйдет? Про штурманов везде поют:
Рожа брита, Грудь открыта, Брюки клеш, «Даешь — берешь»…А как же с вами то будет? Как же грудь то открыть?
— А какую татуировку делать будете? Сердце, пронзенное якорем? А?
— А потом: как же это — штурман с подмазанными губками? А?
— Эх ты, дуботолк, сурово оборвал его другой. Ни черта ты не понимаешь! Тут тоже военное дело — крашеные губки.
— Какое такое «военное»?
— А это, браток, вроде как военная мишень.
— Тю… Для чего?
— Как так «для чего» — для поцелуев: чтобы ненароком не промахнуться в темноте!
Мися сделала вид, что рассердилась на нескромные шутки, но солнышко сияло так ярко, простая грубоватая молодежь была так искренно весела, что у девушки не хватило «сердитости» оборвать задорное нахальство.
— Ну, так все таки, чем же вам, девчата, помочь? А?
— А тут, видите, какое дело. Подруга моя — вот только что с Москвы. Тоже в Мореходку[15] поступать хочет, по морям полазить… И вот заело ее ужжжжасно под ручку с этим важным дюком сняться. А тут высоко — метров, видите сами, с пять… Как же быть?
— Эва, какая беда? При наличии отсутствия лестницы, мы ее и сами мигом подсадим…
Двое матросов подошли к Ирме и несколько смутились — перед ними была не сорванец-девчонка, вроде Миси, а спокойная, высокая, с виду строгая девушка.
— Так как, товарищ… нерешительно спросил один из них. По… Полезете?
Ирма поняла, что ей тут нельзя быть взрослой, врачем, и своим серьезным поведением подчеркнуть, что ее, план имеет под собой особые основания. Нужно было стать на несколько минут — «рубахой-парнем», веселой девушкой, позволяющей фамильярность. Она засмеялась при мысли о своей новой роли и, подхватив под руки своих «кавалеров», подбежала к памятнику.
— Ну и что ж? Где наша не пропадала!.. Полезу!..
— Эй, братва… Ширко, Мамай! Гони сюда! Заместо грот — мачты будете.
Ловкие матросы мигом составили пирамиду.
Двое уперлись руками в гранит, на них влезли еще двое, а на них, подсаживаемая не слишком скромными руками, была поднята Ирма.
— Эй, ты там, чернявый… Не присасывайся так к ноге — кожу протрешь! кричала, смеясь, снизу Мися матросу, не отпускавшему стройной ноги Ирмы. Отцепись, прилипала, а то сфотографирую и на корабль в стен-газету пошлю. Там тебе потом проходу не дадут!..
С помощью молодых рук Ирма без труда взобралась к самому памятнику и схватилась за руку адмирала. Наконец то!
Острые глаза девушки мигом оглядели местами позеленевшую бронзу, ловкие пальцы врача скользнули по нагретой солнцем руке статуи и складкам пергамента. Но — увы: признаков надписей и чего либо спрятанного нигде не было…
— Эй, Ирма! Не вертись там: снимаю… кричал снизу задорный голос Миси, окруженной хохочущими матросами. Те не скупились на шутки:
— Это что ж, товарйщок, с дохлыми идолами под ручку сниматься? Вы бы живого любого из нас взяли бы… Кажный с полным бы удовольствием…
— Эй, на мостике!.. А скоро свадьба?
— Вот бы мне поменяться с дюком! Золото — не девочка! с восхищением причмокнул языком один из матросов.
— Иди ты, Иван Болваныч, к дьяволу, ревниво оборвал его приятель. Сам пьян, как штопор, а туда же «де-воч-ка»…
— А сам то — ни Богу свечка, ни чорту кочерга! Глаз у тебя просто завидущий…
— Эй, не бузите, товарищи, остановила их Мися. А то танцовать с вами не приду… Дайте спокойно еще раз щелкнуть… Правей, Ирма. Рукой за шпагу возьмись… Сделай умное лицо.
— Ха, ха, ха… Ей Богу, у ней там лицо, как у ангела, которому только что рюмку водки…
Нет страниц 63–66.
…В этот момент что то щелкнуло наверху, словно там лопнуло какое то стекло, беловатый газ окутал девушек, и они потеряли сознание…
8. Под стеклышком
Город был уже совсем покрыт мягким сумраком южной ночи, когда проходивший мимо небольшого сквера милиционер заметил неподвижно сидящих на скамейке женщин.
— Эк их развезло! недовольно подумал он. Так назюзюкались, что даже домой не дошли…
Он подошел ближе и тронул одну из них за плечо.
— Ну ка… Вставай, тетка… Тут вам не ночлежка!
Женщины не пошевелились, и только тут милиционер заметил, что положение сидящих какое то странное. Электрический фонарик осветил бледные лица, закрытые глаза и посиневшие губы.
Милиционер поднял тревогу, вызвал карету скорой помощи, и через полчаса девушки очутились в лазарете.
Там, придя в себя, Ирма и Мися сообщили то немногое, что они знали сами: как они сели в такси и как неожиданно потеряли сознание. Что было дальше, они не знали. Но их сумочки, деньги, фото-аппарат — все исчезло.
После того как пострадавшие дали свои показания, они были отправлены к себе домой, в маленькую комнатенку Миси.
На следующее утро за ними приехала машина Угрозыска[16]. В кабинете начальника Угрозыска на письменном столе лежали — сумочки, деньги, вещи и фото-аппарат.
— Узнаете? усмехаясь спросил начальник.
— Наше… Все наше! радостно ответила Мися. И когда это вы успели?
— Быстрота и натиск! самодовольно откликнулся тот. А теперь проверьте, гражданки, все ли на месте.
Все оказалось в целости.
— Ну и ладно. Пишите расписку в возвращении украденных у вас вещей.
Он позвонил, и через несколько минут в кабинет ввели человека в наручниках.
— Узнаете? лаконично спросил начальник.
Девушки вгляделись в лицо арестованного и без колебаний узнали в нем шоффера, гостеприимно предложившего им «уехать от греха».
— Ну, вот и ладно, повторил начальник, когда девушки подписали показание, уличавшее шоффера Вы, гражданки, свободны. Как видите, советские органы безопасности сумели мигом раскрыть покушение на вас… А ты, бандитская рожа, ты живым уже не выйдешь из наших рук… Не первый раз уже за тобой темные делишки водятся… Сволочь молдаванская! Пролетарочек наших будешь грабить?.. Выдавай своих сообщников, пока тебе в подвале ребра наганом не пересчитали… Ну?
— Да у меня никого сообщников не было, товарищ начальник, жалобно взмолился арестованный. За что же в подвал?…
Под аккомпанимент ругательств и угроз девушки вышли из управления Угрозыска. Когда за ними хлопнула выходная дверь, бандит широко улыбнулся и протянул руки в кандалах начальнику Угрозыска:
— А ведь, кажись, чисто сработали? подмигнул он.
* * *
Одесский Областной Отдел НКВД
20 июля 1938 г. № 1477
Москва, Нач С О. Прилагая при сем протокол обыска, произведенного у гражданок Прегер И. и Бурлай М., сообщаю подробности произведенной операции:
Согласно Вашего телеграфного приказа от 16 июля № 1804 с, за прибывшей из Москвы гр. Прегер было установлено ударное наблюдение типа С 3, на что были брошены лучшие силы отдела.
Сего 20 июля, упомянутая выше гражданка в сопровождении своей подруги Бурлай М., студентки мортехникума, проживающей по ул. Подбельского, 19, посетили приморской бульвар и памятник адмиралу дюку де Ришелье. С помощью случайной группы матросов гр. Прегер взобралась на памятник, где и была сфотографирована своей подругой. Незаметный арест подозреваемых гражданок не мог быть произведен ввиду неожиданного сопротивления компании подвыпивших матросов. Но подозреваемых удалось завлечь в «такси» отдела, где они были приведены в бессознательное состояние способом 48 Р. Тщательный обыск литера Г никаких особых результатов не дал. Проявленные фотографии при сем прилагаю. Слежка продолжается. Приложение: протокол произведенного у гр. Прегер и Бурлай обыска и копии осмотренных документов.
НачОблОтдела
Вейцман.
* * *
На следующий день Мися вихрем влетела в комнату, где что то писала Ирма. Ее розовое круглое лицо выражало жестокое разочарование.
— Ирма!.. Ужжжжасное несчастье!..
Та знала экзальтированность подруги. Улыбаясь, она повернулась к ней.
— Ну, уж и несчастье!.. «Он» на свидание не пришел, что ли?
— Вот еще? Попробовал бы!.. Я б ему все глазья выцарапала!.. Нет, дело серьезнее…
— Ты сама влюбилась?
— А что ж тут было бы ужасного?
— Опять сердце кому нибудь разбила бы!
— Ну и пусть! Что ж их, мужчин, жалеть? Позабирали себе все лучшее в мире, нам только объедки оставили… Пусть хоть мы им за это сердца поразбиваем!.. Но не в этом дело. Хуже: из фотографий ни черта не вышло!
— Как так?
— А я не знаю. Сегодня в фото-магазине показали — все пленки темные… Неужели я могла как нибудь ошибиться?
Мися чуть не плакала.
— Такие снимки!.. Второй раз уже не полезем — обожглись… А я так старалась… Ты меня можешь бить, чем не попадя, Ирма… Моя вина…
— А, может быть, этот вор что нибудь сделал? Огорченное лицо Миси оживилось.
— А ведь и в самом деле… Как ото я не подумала? Он, вероятно, открыл крышку аппарата и пустил туда свет… Ах, чорт… Лучше бы он наши деньги взял… А то такие снимки!.. Ужасно обидно!
В голосе девушки было некоторое облегчение: все таки не она оказалась виновной в неудаче снимков. Но Ирма, выдвинувшая теорию вины вора, не была успокоена. Мысли вихрем неслись в ее голове. Она сопоставляла свои наблюдения, и на их почве быстро рос неприятный и тревожный вывод. Мелкий штрих закрепил этот вывод. Ирма вспомнила, как после их приключения она вернулась из госпиталя домой с еще гудящей от отравления головой. Когда она раздевалась, чтобы лечь спать, ей трудно было развязать петлю шнурка на ботинке. Это ее удивило: еще с детства она привыкла шнуровать ботинки по своему способу. А теперь шнуровка ботинка была иной, словно кто то другой, а не ее привычные пальцы, завязывали петлю. Но в тот момент голова сама свалилась на подушку в тяжелом сне, и эта мелочь была забыта. А утром эта деталь совсем ушла из памяти. Но теперь…
Ирма вспомнила внезапное появление милиционеров, их странную настойчивость, «удачное» появление такси, обморок, шнуровку ботинка, что то очень уж скорое расследование кражи… И вывод оформился еще яснее: за нею было наблюдение, и вся история с такси около памятника была ловушкой ОГПУ. Они были в бессознательном состоянии тщательно обысканы (даже и ботинки были сняты) и в фото — аппарат была вложена другая пленка. И чтобы не явилось подозрений от чистой не экспонированной пленки, ее подвергли действию света, словно это сделал вор…
9. Поздно!
Разведка Ирмы в Одессе была закончена, хотя и неудачно. Дюк де Ришелье, Адмирал Российского Императорского Флота, не помог русской молодежи открыть тайну погибшего матроса. Но оставались еще другие памятники и их руки. Такие же задачи разведки лежали и перед Николаем и Сережей. Но друзья Ирмы еще не знали, что холодные ястребиные глаза ГПУ уже следят за ними и стерегут каждое их движение. Эта слежка могла погубить и тайну расстрелянного матроса и подвести самих «раскрывателей» этой тайны.
Но как предупредить их об этих опасностях? Написать? Но если за друзьями следят — письма будут перехвачены, и ГПУ будет в курсе дела, что его игра раскрыта. Но, может быть, еще есть время предупредить друзей лично?
Несмотря на все упрашивания и моления Миси, Ирма, полная тревоги за Николая и Сережу, на следующий же день выехала обратно в Москву.
Там на вокзале она первым же делом пошла в будку телефона-автомата.
— Штаб флота слушает, донесся ответ на ее вызов.
— Попросите, пожалуйста, к телефону товарища Сумца, инспектора спорта.
— Его сейчас нет в штабе.
— А где он, не знаете ли?
— В служебной командировке.
— Надолго? И куда?
— Простите, товарищ, этого не можем сказать — дело военное…
С озабоченным и тревожным лицом Ирма повесила трубку. Было очевидно, что Николай уже выехал в Кронштадт проводить свою «Спартакиаду Морей».
Неудача ждала ее и у Сережи. Комендант студенческого общежития, смешливый жуликоватого вида парень, на вопрос о Сереже осклабился.
— Товарищ Шибанов? А он только что уехал Севастополь громить!
— Как так «громить»?
— А в футбол. У него ведь ноги лучше головы фукцируют. Инженер, видать, с него хрееееновый выйдет, но ноги… Ноги золотые… Так что — уехал, ничего не сделать…
Потом, увидев искреннее огорчение на лице Ирмы, он добродушно подмигнул.
— А вы того… ничего, товарищок… Не унывайте! Он скоро приедет — не разлюбит!
Девушка холодно поглядела на коменданта, но курносая рожа того была настолько дружелюбномилой, что у нее не хватило духа оборвать начинающийся комсомольский флирт.
— Спасибо за утешение, слабо усмехнулась она. Когда Шибанов приедет, попросите его сразу же позвонить в госпиталь. Скажите: Ирма была.
— Скажу, обязательно скажу, товарищ… Ирма. Он не дурак, он сразу позвонит. В этом деле он — мастак. Не пропустит! Одно слово — чемпион. В него тут тоже все баб-общежитие встрескамшись. Как вечером выйдет с гитарой — так девчата и льнут и преют… Так что вы из за него не очень то убивайтесь: не стоит он этого…. А, может, пока там что, коллега, если вам одной скучновато — то, может, я сгожусь в заместители? Ну, там в кино пойтить или просто погулять, лунные ванны попринимать? А?
Ирма не ответила и молча вышла из общежития.
— Фу ты, ну ты, ножки гнуты, обиделся комендант. Видать сразу по роже и обхождению, что не нашего пролетарского классу. Белая кость! Нос воротит. Симпатяга — это верно, да только гордая…
«Увы и ах, сказал монах, Найдя блоху в своих штанах»…Не везет мне! А Сережка — сукин сын, и в Крыму на казенных харчах поправится и здесь этакая краля ждет… «Пусть, мол, сейчас же позвонит»… Мне, небось, никакая не позвонит…
«У сусiда хата бiла, У сусiда жiнка мила, А у мене Нi хатини, А Нi ЖiНКИ в сиротини»…Эх, жнзнь наша комсомолистая!..
Вихрастый курносый парень почесал всклокоченную голову, еще раз взглянул на дверь, через которую ушла Ирма, и еще раз глубоко вздохнул.
10. На оборотной стороне жизни
Наши маленькие приятели, Митька-Рыжий и Ванька — Черви-Козырь, встретились на углу условленной улицы и с торжеством стали расматривать только что украденный футбольный мяч.
— Конфетка! Совсем, видать, новый!
— Чисто вышло. Как корова языком слизнула! А тебя там, Черви-Козырь, не лупцовали?
— Ну вот еще что? Мой плант здорово удуман был: на ять… Я, как уговорились, сперва на стреме[17] был, а потом, когда мяч через забор перепустили, я — на подначку пошел[18]. Они, ясно, за мной. «Держи, мол, вора»… Я ходу, но не так, чтобы уж оченно. Бугай какой то догнал меня. Ну, туды-сюды. Приволокли к полю. Хвать, ясно, за мой мешок, ан там травка круглая сверчена для блезиру[19]. Где же мяч, спрашивают. Ну, тут я им такие слезы развел, что аж дождю впору. «Какой такой мяч?.. Слухом не слыхал, видом не видал… А травка — это я нашей козе бег… Мамка велела»… И у-у-у-у-ууу! А за это время, ты, ясно, когти и подорвал[20]…
— А рубашка то твоя как?
— Кофта то? А я им на память оставил — пущай свой мачт заканчивают. Да там одни швы да вши и остались…
— А и в самом деле — чем они то мачт заканчивать будут?
— А наше которое дело? Пущай помнят: «Не зевай, не клади плохо и не зевай, когда что плохо лежит»…
Митька в восторге посмотрел на мяч еще раз и привычным движением утер нос.
— Здорово! Хорошая у тебя башка, Ванька, жаль только, что дураку досталась. Ладно удумал ты давеча плант этот.
— Еще бы… А ты красивый был бы без моей головы. В зубы дать кому или просто своровать — это ты горазд, а чтобы дело удумать — это тебе не под силу.
На этот раз Митька не был расположен ругаться со своим приятелем. Он любовно гладил желтую кожу мяча, и глаза его блестели.
— Ладно, ладно, Ванька… А знаешь, у меня что то ноги сильно чешутся обнову нашу попробовать? А?
— А куда?
— Да вот на Корабельной под Малаховым площадка маленькая есть. Для нас хватит и там нас никто не застукает. А ежели что — в кусты на Малаховом нырнем.
Худенький младший беспризорник усмехнулся снисходительно, словно он слушал капризы ребенка.
— Эк, тебя разобрало! Только, браток, это ты, может, футболом накормился, а я покрепче чего жрать хочу. Потом опять же на кофту новую надо подработать. Так что ты, Рыжий, не паникуй: успеем еще. До вечера еще далеко. Не знаю, как у тебя, а у меня в животе так от голодухи бурчит, словно там живую кошку на шомполе над костром наворачивают. Пойдем сперва подработаем на шамовку. Как это комиссары треплются: «кто не работает — тот не ест». Идем, проклятьем заклейменный… Эй, Шарик, Кабыздох!.. Фью, фью!..
* * *
Итак, наши приятели направились на работу. В их глазах это действительно была «работа», их основное занятие, хотя для всех других это называлось попросту воровством. Но Ванька и Митька не разбирались в моральных ценностях человеческого мира. Эти дети, выплеснутые волной революции за борт жизни, делили весь мир на две половины: в одной из этих половин — они, брошенные в жизненную грязь дети, а в другой — все остальные. Эти «остальные» в свою очередь делились на две категории: врагов и «фраеров» — источник добычи. Их стремления в жизни были направлены только в две стороны: 1) не попасться врагам — милиции, ОГПУ, всяким комсомольцам из детских приютов, домов и колоний, и 2) украсть что либо у «фраеров».
Жизненная борьба была для них сужена до степени борьбы за сегодняшний кусок хлеба. Других целей существования они не знали. Инстинкт жизни был в них силен, как в молодых волчатах. Умирать покорно, забытые всеми, они не хотели. Но чтобы прожить — нужно было есть. А чтобы достать еду, нужно было красть и изворачиваться… Евангельское «хлеб наш насущный даждь нам днесь» не было для них философией или молитвой. Ежедневный кусок хлеба был для них той тоненькой ниточкой, на которой буквально держалась их маленькая жизнь…
Вот почему через час после разговора, начавшего наш рассказ, мы могли бы видеть наших героев на базаре или, как проще и ярче называли в городе этот базар — на «барахолке».
Площадь «барахолки» была полна. Старики и дети, женщины и подростки, рабочие и крестьяне — все смешались в серую массу, как муравейник шевелившуюся под лучами солнца. Везде были видны напряженные худые лица, озабоченность, бедность, недоедание.
Наши приятели чувствовали себя здесь, как рыба в воде. Они прислушивались. и присматривались ко всему, шныряли между кучками людей, попрошайничали и порой переглядывались, как бы подтверждая, что пока поживы не видно.
Они избегали взглядов старых суровых рабочих, обходили крестьян с длинными кнутами, отворачивались от молодых сильных людей и искали себе более легкой добычи. Наконец, их внимание привлекла старая седая дама с тонким интеллигентным лицом. В руке у нее была какая то корзинка. Приятели переглянулись и поняли друг друга без слов. Незаметно для дамы за ней пошло двое человеческих волчат, уже рассматривавших ее корзинку, как свою собственность. Когда дама подошла к какому то возу, около которого невдалеке гончар расставил ряд своих горшков, Ванька улучил момент и незаметно бросил камнем в эти горшки. Поднялся крик и суматоха. В этот момент он дал даме подножку, а Митька, мгновенно вырвав корзинку, шмыгнул в толпу… Сбитая с ног дама подняла крик, но было уже поздно. Окружившие ее люди ничем не могли ей помочь. Корзинка, где было немного денег и ее последний меховой воротник, который она хотела обменять на хлеб — были украдены. Впереди предстоял голод…
Старая дама подошла, шатаясь, к колесу телеги, оперлась на него и заплакала.
* * *
Ванька и Митька остались недовольными добычей. Денег было немного, а мех нельзя было продать тут же — можно было нарваться на встречу с жертвой.
— Н-да, мрачно произнес Ванька. В сшибчика[21] сыграли мы подходяще, а толку мало. Придется дозавтрева без кофты ходить. Тебе что, Митька? Ты парень — с дуба сделан, а мне холодно. А это, добавил он, указывая на рваную рубаху на своем грязном теле — это, браток, не нагреет. Ее выкрасить, да выбросить…
— Постой, Ванька. Пущай и эта рвань тебе службу сослужит. Давай сюда мяч.
Через несколько минут Ванька превратился в горбуна: сплющенный футбольный мяч и мех были ловко привязаны к его спине под грязную рубаху. Беспризорник согнулся в три погибели и превратился в несчастного нищего-калеку. Потом он нашел на пустыре какой то ржавый гвоздь, соскоблил с него ржавчину, развел ее в слюне и сделал себе у рта что то вроде язвы.
— Ну вот, все и готово!.. А теперя, Рыжий, катим на Исторический Сегодня воскресенье: народ там должен быть, куда же ему деться? Ты в мордобой поиграешь, на баса будешь брать, а я на неврах спекульну. Подработаем по малости… Только, Митяй, ты того… не отходи далеко, а то…
— Ладно, Ванька! Не дрефь. Ничего! Выручу, будьте покойнички. Только свисни!.. Не в первый раз…
* * *
Через полчаса по аллеям Исторического бульвара от скамьи к скамье ходил бледный маленький горбун. Если сидело несколько людей — он жалобным голоском рассказывал истории о смерти своей матери, о расстреле отца, о том, что он голоден и умирает. Вид у него был действительно жалкий, и многие давали ему подаяние.
Иначе относился он к одиноким гуляющим, особенно женщинам, К ним он подходил смело и вплотную:
— Дай двугривенный, товарищ, а то в морду плюну! А у меня, видишь сам, дурная болезнь!
Решительное заявление, наглость и «язва» на лице пугали. Многие давали сразу, чтобы отвязаться. Другие пугали милицией.
— Да что ты меня Мильтонами пугаешь? злобно отвечал Ванька. Смотри, а то я тебе еще и ногтями поцарапаю… Мне все равно — от сифилиса гнить. А ты лучше давай деньги, пока не поздно. Сам знаешь, как теперя лечат. Лучше не ломайся, а то все глаза сейчас заплюю заразой…
Как тут не дать?..
Но на испуганный вскрик одной женщины неожиданно из за угла аллеи показался какой то молодой парень и, приняв Ваньку за воришку, схватил его за шиворот. Тот вложил в рот пальцы и пронзительно свиснул.
В это время Митька невдалеке вел еще более простую политику. Завидев какую нибудь парочку, в которой кавалер не представлял из себя особенной боевой силы, он решительно подходил к нему и таинственным деловым шопотом говорил:
— На минуточку, товарищ… На два слова… Очень сурьезно…
Недоумевающий кавалер оставлял свою даму и отходил с Митькой на несколько шагов в сторону. И тогда Митька сразу же предъявлял ему ультиматум:
— Рупь или в морду!
На лице Митьки была написана ярко выраженная готовность немедленно осуществить свою угрозу. Кулаки его были сжаты, и кавалер чувствовал: слово отказа, и искры посыплются из его глаз. А даже если потом он арестует или изобьет этого паренька — какое ему от этого утешение?
Бывало, что рубля не было. Тогда Митька великодушно снижал цену «небитой рожи» до полтинника. Кавалер платил и, облегченно вздыхая, возвращался к своей даме, путанно объясняя ей тайну происшедшего разговора.
В один из таких моментов, когда Митька ощущал в руке добытую тяжким, трудом серебряную монету, откуда то с нижней аллеи раздался отчаянный свист: это Ванька звал на помощь. Ему не повезло с его шантажем: парень уже скрутил ему руки за спину и собирался тащить в милицию.
Прибытие Митьки и Шарика изменило соотношение сил. Яростный Шарик мигом вцепился парню в штаны, а Митька с размаху ударил его в челюсть. Тот ахнул и свалился на песок аллеи.
Приятели не ждали продолжения: они мигом нырнули в кусты, перепрыгнули через старый каменный забор, спустились по круче и направились к своей «гостиннице».
11. Философия волчат
Удачно «подработав», Ванька с Митькой купили около вокзала на местном небольшом базарчике хлеба, селедок и луку и направились «домой». Домом или, вернее, временной «квартирой», были для них, как и для нескольких десятков других беспризорников, старые большие канализационные трубы, давно уже валявшиеся на берегу Южной бухты.
Там наши приятели выбрали местечко на берегу на песочке и досыта поели.
— Ну вот, сказал, наконец, Митька, повернувшись голым грязным животом к солнцу и жмуря глаза. И чего это люди бывают недовольные? Я думаю — только с голоду. А вот мы с тобой — умяли по киле хлебушка со всякими там оиерами и — благодать. Словно анделы тебя в рай на перинах волокут…
— А ты почем знаешь, что в раю хорошо? Митька пристроил футбольный мяч себе под голову в виде подушки и охотно откликнулся.
— Почему, говоришь, в раю хорошо? А чорт его знает!.. Я там покеда не был, но говорят же люди — «хорошо, как в раю». Не врут же?
— А, может, и врут, лениво возразил Ванька, подгребая по примеру Митьки себе подушку из песку. Очень много врут люди. А по моему, все проще простого: как в брюхе полно — так тут тебе и рай…
Приятели помолчали. В памяти Митьки неожиданно всплыло печальное лицо седой дамы, у которой они вырвали сумку.
— А знаешь что, Черви — Козырь?
— Чего? лениво отозвался Ванька.
— А чтой-то мне той мадамы жаль!
— Какой мадамы?
— А той, у которой мы сумку с мехом сбондили. Такая она седая, да важная была… И, видать, старая, старая…
— Ну вот еще? Жальливый какой выискался. Кажному, брат, пить-есть надо… Она когда то сь свое отъела: небось, буржуйка была, кофеи жрала. Теперь пусть даст нам пошамать!
— Так то оно так, а все таки…
— Чего «все таки»?
— А, может, она с голоду помрет?
— Эва, брат, куда ты заехал?.. Ну, и пускай. Ей, почитай, до могилы и так с полвершка осталось. А нам с тобой помирать ни расчету, ни никоторой охоты нет. Нас тоже никто не жалеет. На блюдечке пирожков сладких не подносят… А мы что ж? Жалеть кого будем?
В голосе Ваньки слышалась злоба. Митька удивленно повернул к нему свою взлохмаченную рыжую голову.
— Что это ты, словно горчицы наелся?.. Скудова у тебя такая злость?
Бледное лицо Ваньки сжалось в гримасе ненависти.
— Злость? А это, брат, правда, что я злой… И никого я не жалею… Да и за что людей жалеть то? Что они мне сделали хорошего?.. Да для них всех лучше, чтоб я скорее подох… У меня, знаешь, иногда как подойдет к сердцу, так кажется, всем бы людям глотку перегрыз!
Добродушному Митьке был чужд такой взрыв злобы. Но он догадывался, что в прошлом Ванька был сильно избит жизнью, и это наложило свой отпечаток на его чувства.
— Ну, браток, тебе, видать, только в наморднике и ходить… Скудова ты стал таким?
— Скудова?.. Как выгонят с дома — и не такой будешь…
— А тебя выгнали? Расскажи, Вань, как ты сюда попал в трубы эти?..
— Да что тут рассказывать? А только везде сволочи… Уехал вот как то мой папка в командировку. А потом — трах — мамке бумажка из ЗАГС[22], что он, мол, с мамкой развелся. Вот и все… Мамка хотела сперва с него алименты[23] стребовать, да куда там: папка мой партейный, секретарь яички был. Да и далеко — ищи ветра в поле: он туда, сюда переехал — найди его. Мамка долго безработной была — голодовали мы сильно. А потом, что ж… Пришлось вроде как замуж пойтить за другого партийца. Куда ж деться? А тот меня скоро гнать стал. Вижу я, мамке и без того жить тошно, А тут я еще попрек горла стою. Раз мамка куда то уехала в гости, меня отчим и проводил коленом под зад на улицу… Вот тебе и вся стория. Весело?
Митька поглядел на своего приятеля. Лицо того было бледнее обыкновенного, и губы дрожали.
— Ну, а теперь где твоя мамка?
— Иди ты к чорту… Разве я знаю?
— Н-да, задумчиво произнес Митька… Теперь я понимаю, скудова у тебя столько злости. Тут даже солнце и полное брюхо не действует… Эх, ты, бедалага… А это паршиво — всегда злым быть… А я вот думаю, что как человеку холодно, да голодно — вот он тогда и злой. А глядишь — пожрал, да согрелся — вот у него доброта так и прет со всех дырок. Потому то, верно, богатеи все и должны быть добрые. Чего им не хватает?
— А ты видал когда живого буржуя?
— Да ты вот сам этую даму буржуйкой назвал!
— Ну, это что? Это разве взаправдашняя? А те вот, кого на заборах на картинах выставляют — как их там называют? «Капиталами», что ль? Толстые такие, да жирные. А морды у них прямо кирпича просят — как собаки цепные… Вроде моего отчима…
— Нет, Ванька, ты себе как хошь, а я не верю энтим картинкам.
Митька перевернулся спиной к солнцу, сладко вытянулся и продолжал.
— Насчет твоего отчима не знаю — тоже, видать, злой был: их ведь партенных всегда, как кобелей, гоняют. На такой работе злее чорта станешь… А я вот по себе знаю: как сытый — так добрый. И им, капиталам, буржуям этим — жирным, да с кольцами на пальцах — с чего им сволочами быть? Чего им не хватает? Видать, жрут что надо. Чего ж им, сытым, народную кровь пить?
Ванька недовольно поглядел на своего приятиля.
— Что это ты, Рыжий, сегодня такие малохольные слова стал разводить? Ангелочек какой выискался, подумаешь! А самому, небось, недавно зубы вышибли. Тоже от доброты, может?
— Да нет, ни черта ты, Ванька, не понимаешь! Ну да, халдей[24] сволочь, в детдоме зубы вышиб… Это верно. Ну, ж так ведь он потому и сволочь был, что голодный…
— Так по твоему, моему отчиму дать жрать, так он ангелом был бы? Брось дурить, Митька. Как сволочью уродился — так таким и помрет. Живот пустой — или полный — все равно сволочь сволочью и останется… Надоел ты мне со своими дуростями. Заткнись! Как это поется у моряков:
Не ходи по палубе, Не стучи подборами, Иди к едреной бабушке С своими разговорами!..И давай лучше малость покемаем[25], пока солнышко печет. А после пойдем — игранем. Хочется позырить[26] какой с тебя кипер выйдет… Думаю, что как с навоза пуля…
— А вот поглядим… Я в себе такую силу чувствую…
Приятели замолчали, потягиваясь на горячем песке. Шарик давно уже с высунутым от жары языком крутился около своих хозяев, но так как свою пушистую шубу снять не мог, то предпочел забраться в тень от трубы, откуда изредка поглядывал на мальчиков.
— Эх, хорошо все таки на слободе, протянул, зевая, Митька. Сам себе начальник. Что захочу, то и делаю!
— Ну и делай, чорт рыжий, только другим спать не мешай…
— Погодь, Ванька. На том свете скоро выспишься. А ты вот давеча про какой то кофей сказал, буржуи им занимаются. А что это за хреновина такая будет, «кофей» то твой?
Ванька приподнялся на локте.
— Кофей? переспросил он, почесывая свою взлохмаченную голову. Рассказывали ребята раз — в кочегарке мы ночевали, парень один там был шибко грамотный. Так он где то читал — кофей этот, буржуи, то ли пьют, то ли едят. Верно, вкусный…
— Вот бы нам? А?
— А ну тебя к чорту в самом деле, Митька! На битое стекло лег, что ли? Давай всхрапнем, пока кишки делом занимаются. Как это говорится:
Спокойной ночи, Спать до полночи, А с полночи плевать на потолок, Чтобы чорт не уволок…Но ведь и то верно: на кой чорт мы чорту сдались, такие голодранцы? Так что и насчет чорта беспокоиться нечего… Спим! А потом потопаем на Малахов нашу обнову пробовать…
12. Встреча двух миров
…Я спою, как росла богатырская рать, Шли бойцы из железа и стали, И как знали они, что идут умирать, И как свято они умирали… Как красавицы. наши сиделками шли К — безотрадному их изголовью, Как за каждый клочек нашей русской земли Нам платили враги своей кровью…— Как, Тамара? Правильно схватил я мотив «Солдатской песни о Севастополе»?
Веселый студент не мог не петь. Песня вырывалась из его горла, вероятно, так же непроизвольно, как у птицы. И новые мотивы он запоминал почти мгновенно.
— Так правда? Уже выходит?
Девушка одобрительно кивнула темной пушистой головой.
— Правильно, Сергей Иванович. У вас необычайный талант…
Сережа в притворном ужасе замахал руками.
— Ради Бога, Тамара, не оскорбляйте моего нежного слуха кошмарным «Иванович». Зовите меня по просту — Сережа. А ты, Боб, «тыкай» меня без всякого стеснения. Вы ведь оба мои «крестники». Я ведь вас обоих сегодня с ног срезал. Пусть на том свете меня за это черти припекут на сковороде, но пока там что воспользуемся этим грехом для хорошего знакомства!
Девушка засмеялась, но вдруг гримаса боли сжала ее лицо. Сережа сконфузился.
— Эх, дернула же меня нелегкая смазать по голу! Чуть такую хорошую дивчину не загубил!
— Ты, Сережа, вообще «зверь из бездны», с упреком сказал другой спутник. А до этого удара и меня с ног сбил.
— Ну, тебя — это что? Слава Богу, не слабенький!.. А вот Тамару — этот грех мне никогда не простится!
Читатели, вероятно, помнят, что в футбольном матче, рассказ о котором начал нашу книгу, Сережа ударил мячом в толпу и сбил там с ног зрительницу. А долго ли потом молодежи познакомиться? Девушка эта оказалась сестрой севастопольского бека, и вот почему наступавший вечер увидел трех новорожденных друзей, поднимавшихся к Малахову кургану.
Девушка шла с некоторым трудом. «Пушечный» удар москвича заставлял ее до сих пор хромать. А когда гримаска боли пересекала ее спокойное милое лицо — Сережа просто не знал, что и делать — опять ли извиняться, или поддержать ее под руку. Но он, смелый и предприимчивый вообще — здесь как то не решался, как он мысленно выражался, «взять дивчину под жабры»… Что то было сильное и независимое в нежном лице Тамары, что не позволяло ему вольностей. Вот почему веселый футболист был несколько смущен…
Дорога к Малахову Кургану вела мимо морских казарм — больших каменных неуютных зданий. За ними стали все чаще попадаться обелиски, памятные плиты и камни с надписями. Около каждого такого памятника наши друзья останавливались, и Тамара давала точные и ясные объяснения.
А объяснять было что: 80 лет тому назад вся эта земля дрожала и гудела от взрывов гранат. Не раз по этим местам, где шли наши приятели, катились лавины яростных аттак, и, вероятно, здесь не было ни одного квадратного метра каменистой земли, где когда то не корчилось бы человеческое тело… Именно здесь, на Малаховом Кургане, 80 лет тому назад решалась судьбы кровавой борьбы русских против соединенных сил англичан, французов, итальянцев и турок.
Трое молодых людей, переходя от одного памятника к другому, казалось, переживали славную эпопею своих героических дедов. Сережа уже не шутил и не пел. Что то новое, глубокое и важное чудилось ему в объяснениях Тамары, а его пылкая фантазия мгновенно переделывала сухие словесные объяснения в яркие картины.
Брат Тамары, крепкий коренастый загорелый парень с техническим значком на защитной рубашке, заметил жадный интерес москвича.
— Все это, вероятно, для тебя, Сережа, ново?
— Еще бы… Сам ведь, Боб, учил нашу «советскую историю». Так там — все: борьба классов, империалистические стремления, революции, да бунты против царей. А толково — ни о чем… Одна полит-грамота. Так что я когда угодно — хоть во время матча, объясню разницу между десятками всяких «измов», а истории России путево так и не знаю… Зато, брат, разницу между марксизмом, ленинизмом, сталинизмом, троцкизмом, анархизмом, бандитизмом, оппортунизмом, нац-социализмом, фашизмом, витализмом, алкоголизмом, спиритизмом, организмом и прочее — это я вытренировал на ять… В запятой не ошибусь!..
* * *
Солнце светило еще ярко и весело. Чем выше поднимались наши экскурсанты, тем более чудесной разворачивалась панорама города и моря. И серьезное настроение, созданное рассказами Тамары, готово было улетучиться от малейшего повода.
Когда компания собиралась через каменные ворота с чугунными орлами войти на самый курган, гость из Москвы внезапно остановился и прислушался.
— Пусть лопнут мои предпоследние перепонные барабанки, если где то здесь не стукают по футбольному мячу!
Спутники его засмеялись.
— Тебе, Сережа, вечно футбол мерещится. Кто здесь стукать будет? Добродушно пожал плечами Боб. Здесь ведь и площадки то нигде нет. Правда, Тамка?
Девушка покачала головой.
— Тут все камень и скалы. Здесь в футбол играть совершенно невозможно.
— Нет, право… Вот послушайте секундочку…
Молодежь остановилась. И, действительно, футбольное ухо не ошиблось: где то невдалеке слышались удары по мячу.
— Ребятишечки, взмолился Сережа. Завернем туда хоть на минуточку — глаза и душу отвести от гробокопательских рассказов Тамары… Там ведь на Малаховом — опять серьезные разговоры начнутся. Надо же передышку — антракт устроить…
— Э, тебя, Сережа, заело с футболом! Неужели утром не наигрался? Ведь собственноножно нам три гола забил!
— Ну, это что: там «работа» была, долг перед желудком: «не поиграешь — не поешь»… А тут, по хорошему, для сердца…
— Погибший ты человек, Серж! Футболист притворно обиделся и попытался сделать серьезно — оскорбленное лицо. Но через секунду губы его опять расплылись в улыбку, словно постоянные невидимые резинки тянули их уголки кверху.
— Ну, уж и «погибший»? А знаете вы, черти бесфутбольные, что с Конан-Дойлем было? Тем, кто Шерлока Холмса изобрел?
— Ну, а что?
— Тот то вот «что»? Он хотя и «сэр» был — а целую жизнь в футбол играл. Кончил играть только на 65-ом году жизни. И что бы вы думали?
Юноша замолчал, приготовляя театральный эффект.
— Да говорите же, Сережа!
— А вот что — как кончил играть в футбол, так взял, да через три года и помер.
Все засмеялись.
— Ну, ладно, ладно, махнул рукой Боб. Пойдем поглядим, чорт с тобой. Ты, брат, совсем футболоумный какой то…
Москвич не обижался на дружеские насмешки. Его круглое мокрое от непривычной жары лицо сияло; открытой улыбкой, и белокурый вихор трепался по ветру.
— А я и не стыжусь своей любви. Каждый с ума сходит по своему. Меня Офсайд Иванычем везде зовут! Каждому чем то жить надо, у каждого свои слабости есть. Вот наша профессорша истории (юноша шутливо церемонно поклонился Тамаре) все науки превзошла: ее, значит, история интересует. Другие — кто что: одни шахматы обожают, другие — кино, третьи — танцы А я, бедный мальчик, в мячик влюблен, и пока мои ноги тягают меня по белу свету — никогда ему, возлюбленному моему, не изменю. Может, потом и с меня профессор какой нибудь хренологии будет, а пока ноги зудят… Да и то ведь верно — в нашей проклятущей советской жизни так мало радости. А всяких неприятностей — хоть отбавляй. А тут — вышел на поле и про все забыл. Словно ни Сталина, ни ГПУ на свете нет… Только мяч под ногами, да ворота впереди, куда этот мяч нужно во что бы то ни стало засадить…
— Ладно, довольно агитировать! Футбольный пропагандист тоже нашелся. А вот тебе и мячик… Да что за дьявольщина?
Компания молодежи, повернув за угол какого то небольшого каменного домика, в удивлении остановилась: на небольшой площадке играло двое оборванных ребят. На каждой стороне «стадиона» стояли условные ворота: по два белых камня. Каждая команда состояла из… одного игрока, но «мачт» был в полном разгаре. Оборванные ребятишки обводили друг друга и с азартом били босыми ногами по мячу.
— Вот она — футбольная зараза, воскликнул Сережа. От нее никому нет спаса! От беспризорника до Конан-Дойля — все болеют…
— «Это юноши все обожают, От мальцов до болванов седых»! —сымпровизировал и спел он. В это время мальчики одновременно ударили по мячу, и оба покатились на землю. Зрители не выдержали и расхохотались.
Мальчики вскочили, как встрепанные. Один из них мгновенно схватил мяч под мышку и приготовился удирать. Сережа увидел это движение.
— Не дрефь, ребята: мы — свои хлопцы. Обижать вас не будем!
Его веселое смеющееся лицо внушало доверие.
— Хотите, я покажу вам, как бить надо, а то вы, чертенята, толком ведь не умеете.
Юноша направился к беспризорникам. Те попятились от него.
— Брось дрефить, мальцы. Все равно, если б я хотел отобрать от вас мячик — дело было б гиблое — я бегаю, как тигр, лев, прямо — заяц.
Веселый футболист потрепал Митьку по плечу.
— Ну, парнище, ставь свой гол перед тем вот забором. А я тебе покажу, как которые понимающие мяч лягают!
— Покажешь, дядя, в самделе? с живым интересом спросил беспризорник. Вот это так клево[27]: я страсть как хочу выучиться, как следовает.
— Aгa, подтвердил другой с насмешкой. Он хотит классным кипером заделаться. Влезло энто ему в печенки — страх!
— Вишь ты? Ну, становись!.. А вы, ребята, обратился он к своим спутникам, посидите, пожалуйста, там в тени. Я тут пока футбольную заразу поглубже в их светло — невинные души запущу… Ну, так вот, мальцы, обратился он к мальчикам. Вы парни босоногие — и это хорошо. По крайности, бить носком не будете. А бить надо вот так — всем подъемом ступни. Так вот: этим боком — «кочерга» зовется. Так — прямой удар, а так вот с вывертом ноги — это у нас в Москве «шведка» прозывается. Ну, становись, ты, чемпион. Бью в правый — тот вот — угол.
Юноша сделал два шага вперед, легко и быстро ударил вытянутой ногой. Мяч точно метнулся в указанный угол «ворот». Но Митька, молниеносно распластавшись, выбил его кулаком. Боб и Тамара, сидевшие в тени деревьев, заапплодировали.
— Ай да Митька! Талантище! Ну, а теперь в тот угол!
Беспризорник опять отбил удар.
— Ишь ты? А ну ка еще!..
Но как москвич не бил, Митька ухитрялся встречать мяч кулаком. Правда «ворота» были небольшие и без перекладины, но все таки опытный футболист изумился.
— Вот так здорово! Да ты, брат, звездой футбольной скоро будешь. Подрости только нужно! И надо не бить, а ловить мячи!
Раскрасневшийся и радостный беспризорник удивился.
— Ловить? А на что он мне сдался?
— А потому, что если ты выбьешь мяч куда нибудь вперед, тут тебе какой нибудь форвард опять мигом по голу стеганет, да еще и в другой угол…
— Может и так, да мне бить много легче. Да и я ведь только начал!
— Это ничего. Что такое «конц-лагерь» знаешь?
— Как не знать? Кто ж в Сесесере этого не знает?
— Ну так вот — в, лагерях так и говорят: «это только первые десять лет трудно, а потом пустяк»! Так и тут… Вытренируешься. Ты здесь живешь, в Севастополе?
Беспризорник не понял вопроса.
— Где живу? А где ни попадается… Мы — птахи вольные…
— Вот как нибудь приезжай в Москву — я тебя потренирую всерьез. Каждое дело ученье любит. Только от кулаков придется, брат* отучиться.
— Как же это? вмешался Ванька. Ему кулаки — первое дело. Вы бы, товарищок, видали, как он дерется. Прямо, как Бог…
— Ну, вот еще… Разве Бог дерется?
— А мне все единственно — пусть, как чорт. Только он всех бьет, с кем ни дерется. Кулаки у его, как пушки… Еще сегодня…
Сережа заинтересовался новым приятелем.
— Вишь ты, какой талантище? Дай ка сюда мяч.
Он прижал мяч к груди и сказал Митьке:
— А ну, ударь по мячу.
Сухо и быстро щелкнул удар. Мальчик словно не бил, а бросал кулак в цель, стремительно отдергивая его обратно.
— А ну ка еще!
Митька ударил еще несколько раз. Лицо его разгорелось. Губы плотно сжались, глаза сузились в щелки, ноздри раздулись, рыжие вихры сияющими протуберанцами поднялись кверху. Он не отрывал взгляда от мяча и забыл окружающее, словно весь смысл данной минуты был сосредоточен для него в ударе по воображаемому врагу.
Опытный спортсмен сразу увидал призвание мальчика.
— Эге, братишечка, присвиснул он, опуская мяч и разминая затекшие руки. Да ты никакой не футболист, а прирожденный боксер. Видно, тебя много драться приходилось?
Лицо Митьки потеряло свое напряжение, и он осклабился.
— Хватало… Да разве в нашем деле можно без драки? И Ваньку вот, когда он засыпется, частенько выручать приходится.
— Ну и ну… Быть тебе чемпионом!
Студент ступил назад и придавил лапу желтому Шарику, который давно уже с бесстрашным любопытством крутился около нового знакомого.
— Ах, чорт… А ты не ходи, песик, босым!
Шарик с визгом отбежал в сторону на трех лапках, обиженно оглядываясь, словно желая сказать: «столько лет прожил, а такого неуклюжего обалдуя еще и не видывал. Надо же во все стороны смотреть, дылда паршивая! Навязался тут на мою голову, орясина… Только две ноги, а места ему нет, куда свое копыто сунуть: — всю лапу отдавил. Вот, стерва»!..
Взгляд песика был настолько красноречив, что все рассмеялись, что еще больше обидело Шарика. Он недовольно повернулся и, ковыляя на трех ногах, спрятался за камнем.
— Что это вы, Сережа, всех сегодня обижаете? шутливо заметила подошедшая Тамара. И наших футболистов разгромили, и брата моего с ног сбили, и меня ушибли, и теперь вот бедного песика обидели…
Веселый футболист сконфуженно засмеялся.
— Да что ж сделать? Кисмет… Случайно случившийся случай… Ей Богу, нечаянно… А, между прочим, у собачки то лапы правда босые, но и у меня не лучше. Ботинки — глядите — каши совсем запросили. Ну, делать нечего — нужно кончать спорт. До свиданья, ребятня. А ты, Митька, тренируйся — да не в футболе, а в боксе: ей Богу, чемпионом будешь. Прямо на Спартакиаде встретимся.
— Если насчет турнировки — это у Рыжего завсегда есть, заметил Ванька. Ему мало что не кажный день драться приходится.
— Прямо чисто боксерская жизнь. А ты, Митька, вот еще что делай: лови мух рукой на лету.
— А это зачем? Что я их — есть буду? Да ни в жисть! Собак жрал, кошек жрал, даже крыс и ворон приходилось. Но мух — никогда…
Да не жрать, не бойся, дружок. А просто быстроту тренировать. Увидишь муху в воздухе и хап ее. А это все равно, как кому в зубы дать — такое же движение… А футбол пока что оставь… Ты еще ростом не вышел… Кстати, откуда вы такой хороший мяч достали?
— А это ваш подарочек, дядя Сережа.
— Это еще — что за новости? Митька осклабился.
— А помните, вы во втором «хаптаме»[28] мяч поверху перепустили, и его так потом и не нашли? Так вот, кто не нашел, а кто и нашел…
— Так это вы, значит, и сперли тот мяч?
— А то кто же? с гордостью отозвался беспризорник. Как это говорится — «купил, нашел, едва ушел»… Если мячи сами по переулкам бегают, что ж на них в сухую смотреть?..
— Вот чертенята! усмехнулся Сережа. Но все таки вы это нехорошо сделали.
— Нехорошо? искренно удивился Митька. А почему такое «нехорошо»?
— «По-ку-пать», что ли, мячик? презрительно вмешался Ванька. Так наших хфинансы поют романсы. А Рыжему приспичило поиграть.
— Так вы бы пошли в футбольный клуб.
— Как же?.. Держи карман ширше: так бы нас туда и пустили. Зараз в милицию и в детдом. А там, сами, небось, знаете — не до футбола. У Митьки вот уже два зуба вышибли в детдоме. Будя!..
— Кто вышиб?
— Да халдей!.. «Воспитывал», сукин сын…
— А вы бы пошли в другой детдом. Вот та девушка, что с нами пришла, она инструктором в детдоме работает. Она, ей Богу, не дерется…
Ванька недоверчиво покосился.
— А кто ее знает? Нам многие красивые слова говорили, а как до дело доходило — то не приведи Бог… Мальцов обмануть — дело нехитрое. Нет, мы уж лучше пока сами по себе…
Сережа знал, как насторожены и обозлены на весь мир такие уличные мальчуганы, никогда не видевшие ласки, тепла и дружеского отношения. Почву для доверия нужно было завоевывать постепенно. Поэтому он дружелюбно пожал руки мальчикам и, беспечно насвистывая, пошел догонять своих друзей.
Компания стала подниматься на Малахов курган. Кто то обернулся и заметил, что двое беспризорников со своей желтой собачкой медленно и нерешительно идут за ними.
— Прямо дружба началась. А вы, ребята, говорите, что футбол, мол, мелочь. А чем я покорил сердца щенят этих, как не футболом?.. Так сказать — обще-политическая платформа. Пригласим их в нашу компанию?
13. Малахов курган
Каменистая тропинка, некогда, видимо, содержавшаяся в большом порядке, привела наших друзей на вершину холма. Там, окруженный небольшими деревцами и кустами, высился памятник адмиралу Корнилову. На громадном гранитном пьедестале, полулежа, смертельно раненый, адмирал приподнялся, очевидно, из последних сил и протянул руку по направлению к городу.
«Отстаивайте Севастополь!» — было выгравировано на граните. Это были последние предсмертные слова адмирала.
Рука памятника указывала на город, расположенный по обеим сторонам Южной бухты. Панорама города была необычайно красива, но Сережу интересовала не эта картина.
Водя биноклем Боба по горизонту, он незаметно перевел фокус и стал искать протянутую над ним на синем фоне темневшего неба руку адмирала. В круглые рамки на фоне далеких розовевших в закате облачков вплыла, наконец, темной массой бронза.
Юноша внимательно вел прицел бинокля по этой руке, изучая каждый изгиб металла, каждую складку. И внезапно вздрогнул: между пальцами протянутой руки он заметил тонкую коротенькую линию, словно упавшую сверху веточку. Кончик этой тоненькой веточки чуть отходил в сторону от ладони… Неужели это была проволочка, что то привязывавшая к руке адмирала?
Сердце юноши забилось сильнее, и бинокль вздрогнул в его руках.
— Что ты, Серж?.. Аэроплан увидел в небе, или что?
Сережа пришел в себя.
— Нет… Показалось, что там вверху орел парит…
Он опустил бинокль вниз, лихорадочно соображая, как ему добраться до таинственной «веточки».
Может быть, действительно что либо привязывавшей к руке адмирала… Но это «привязанное» можно было увидеть только забравшись самому на памятник…
Сейчас этого сделать было нельзя. — солнце слишком ярко освещало курган, и памятник был виден отовсюду. Надо было, очевидно, ждать наступления сумерек. Сережа нетерпеливо вздохнул и поглядел кругом.
А поглядеть было на что.
От подножия покрытого зелеными кустами кургана вниз к Южной бухте сбегали живописные кучки маленьких белых домиков. Самой бухты не было видно, только кое где из за крыш торчали мачты кораблей. За невидимой полосой воды поднималась центральная часть города, увенчанная золотым куполом собора. Правее легла широкая Северная бухта, словно синяя лента, брошенная среди серо-коричневых скал. Прямо перед глазами, вдали, у выхода в открытое море желтела каменная стена некогда грозной Константиновской батареи. А там, еще дальше, широко расстилалась сливавшаяся с небом гладь Черного моря, сверкавшая теперь в лучах заходящего солнца, как расплавленный металл.
Зачарованные дивной картиной, все молчали. Мягкий южный ветерок чуть шумел в листьях деревьев и кустов кургана. Шум города был едва слышен, и только изредка откуда то с рейда приглушенно доносились мягкие мелодичные звуки морских склянок.
Сережу била лихорадка нетерпения. Неужели ему в самом деле посчастливилось напасть на тайну? А ведь очень возможно… Матрос был расстрелян около Мелитополя, то есть, недалеко от Крыма. Может быть, отправляясь через фронт, он действительно спрятал здесь свой клад?.. Ведь веточка, даже если бы ее ветер и забросил на руку, долго там не продержалась бы… Это, конечно, не веточка, а проволочка! Но ведь не зря же она там привязана на руке этого бронзового гиганта?
Скорей бы сумерки!.. Но солнце светило еще ярко, и изобретательный мозг Сережи стал искать поводов задержаться на кургане до наступления ночи, не вызвав подозрений своих новых друзей.
— Тамара, обратился он к девушке. Вы так много знаете про Севастополь. Может быть, вы расскажете мне о всей этой войне? Я ведь только и знаю, что «западные империалисты разбили здесь Николая Палкина». Мы ведь, советские студенты, народ, собственно, безграмотный.
— А и в самом деле, Тамка, поддержал брат. Ты ведь у нас Златоуст. Тебя всегда интересно послушать. Двинь ка!
Девушка ответила не сразу. Она обвела глазами окружающее, и, видимо, какое то чувство заговорило в ней виде этих памятников славного прошлого. Ее мягкое спокойное лицо оживилось, и она кивнула головой.
— Ладно, товарищи. Только условие: помолчать минуту, а после не прерывать.
В этот момент Митька, все время старавшийся быть рядом с Сережей, дернул его за рукав гимнастерки.
— Дяденька?.. Дядя Сережа? А про что энто она тут рассказывать то будет?
— А тут, братишечка, с полсотни лет тому назад большая война была. Вот на этом самом месте. Русские против англичан дрались.
— Вот оно что? протянул беспризорник. А за что они дрались?
— За Россию…
Голос Сережи дрогнул, когда он произносил эти запрещенные в СССР слова. Что то было в этом звуке и гордое и широкое и радостное. Словно это слово, как какое то всеобъемлющее покрывало, размахнулось и покрыло и тысячу лет славной истории и одну шестую часть суши и 150 народов великой страны.
Юноша медленно повернул голову и взглянул на фигуру умиравшего адмирала. И повторил еще тише:
— Да… Они дрались за Россию…
14. Неумирающее прошлое
В наступившем молчании все расселись — кто на траву, кто на ступени памятника. Мальчики устроились прямо на песке дорожки. Сережа незаметно опустил руку в карман и, отвернувшись от Тамары, свернул папиросу.
Девушка задумчиво смотрела вдаль на сверкающую полосу моря и только через минуту тряхнула головой, словно возвращаясь к действительности. Лицо ее все больше оживлялось, и большие темные глаза медленно обвели величественную панораму исторического города.
— Боже мой, тихо сказала она. Сколько раз уже приходилось мне рассказывать историю Севастопольской Обороны, а все таки всегда сердце опять и опять волнуется!.. Есть, собственно, три слова в русском языке, которые заставляют наше русское сердце биться сильнее. Это — Москва, Бородино и Севастополь… Есть и другие, связанные с победами — как Полтава, Измаил или Плевна… Но они почему то не так волнуют душу… А Бородино и Севастополь — это хотя и поражения, но такие поражения, которые стоят иных побед…
Вот там, ребята, продолжала девушка все более оживляясь и указывая рукой вправо. Там, видите, на Северной стороне остроконечная часовня. Это кладбище русских солдат, погибших во время обороны Севастополя. Их там — больше ста тысяч в братских могилах… Это ведь «наши» могилы! Эти сто тысяч солдат — они не только русские люди, но — какие то кирпичики, какие то капли цемента Русского Здания, русской истории. И когда я думаю про них — мне всегда кажется, что между мной и ими есть какие то незримые, нервущиеся нити. Что они — часть России, как часть России и мы, теперешняя русская молодежь… Вот почему, когда я рассказываю о Севастополе, я переживаю эту оборону так, словно я сама в ней участвовала. А сердце и болит за пролитую русскую кровь и гордится героизмом наших дедов… Простите, Сережа, за такое введение. Но мне хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя теперь не посторонним любопытствующим туристом, а внуком тех людей, которые здесь, на этом самом месте, 80 лет тому назад просто и гордо выполнили свой долг перед Родиной.
Девушка легко повернулась и указала рукой в другую сторону.
— Оттуда вот пришли неприятели. Трудно сказать, что бросило их в войну с нами: много было причин. Но самой важной из них была вечная зависть Англии к развивающемуся могуществу России. Именно ее деньги и ее политика подняли на нас полки французов, итальянцев и турок… Эти полки высадились западнее Севастополя. Они выиграли бой под Альмой и под Инкерманом. Их ружья — штуцера били дальше и метче наших ружей. Шансы были неравны… Но, подойдя к городу, они встретили артиллерию, превосходившую своим качеством их артиллерию, и смелость и упорство русских, которые не уступали качествам армии союзников.
Наш русский флот был затоплен самими же русскими моряками в самом узком месте рейда — вот там, видите, перед Константиновской батареей — чтобы не дать возможности вражескому флоту войти в бухту. Кто был на Приморском бульваре — видал, конечно, гранитную колонну с серым орлом наверху: там была линия затопленных судов и именно оттуда после 11-месячной осады по понтонному мосту ушла из Севастополя разбитая, но несдавшаяся русская армия.
Тамара на секунду примолкла и потом еще тише прибавила.
— И отсюда же, из Севастополя, восемнадцать лет тому назад разбитая в гражданской войне, но тоже несдавшаяся, ушла на чужбину Русская Белая Армия…
Ясно и просто лились слова девушки, и слово «Севастополь» приобретало другое значение, словно объяснения Тамары создавали около этого слова ореол героизма и силы. Все смотрели на мирную картину развернувшейся перед ними панорамы уже другими глазами, и даже оба беспризорника, с трудом понимая рассказ Тамары, чувствовали себя перенесенными в мир прошлого, чем то связанный с этой минутой настоящего.
— Неприятель обложил город с трех сторон, продолжала Тамара, но главные аттаки его были направлены на четвертый бастион, ныне Исторический бульвар, видите, Сережа — вот там: парк около здания Панорамы… Именно этот вот знаменитый четвертый бастион так ярко описал Лев Толстой… И, особенно, на Малахов курган. Здесь был ключ от города, ключ обороны. Понятно, что если бы неприятель захватил этот курган, отсюда он был бы полным хозяином над городом и рейдом. Поэтому именно здесь на этом кургане и разыгрались самые кровопролитные бои за Севастополь.
В первую же бомбардировку на этом месте, где мы стоим, где находится памятник, был смертельно ранен адмирал Корнилов, после потопления своей эскадры вместе с матросами начавший сражаться на суше. Там дальше, пойдемте со мной — видите вот — каменная плита: тут убило пулей в голову адмирала Нахимова, героя разгрома турецкого флота при Синопе. Видите вот там, дальше на скате — длинная каменная низкая стенка: там были в последние дни траншеи врагов… А здесь всего то метров 50… А вот там, девушка указала на остатки башни в ложбине у вершины кургана — там разыгрался последний акт великой трагедии. Не думайте, Сережа, что это я так — «для театральности» сказала. А и в действительности здесь, поэтически выражаясь, от последнего удара мечей сорвалась яркая искра, оставившая навсегда свой след в истории солдатского героизма… Именно здесь в этой башне заперлись последние защитники Малахова кургана после заключительной победоносной аттаки французов. Они отстреливались до последнего патрона и не сдавались. Им пригрозили взорвать башню. Они ответили: «взрывайте, но мы не сдадимся». Тогда главнокомандующий французской армией маршал Мак-Магон приказал прекратить шум около башни, чтобы доказать засевшим там солдатам, что оборона уже кончена, и что после 11 месяцев непрерывной, днем и ночью, стрельбы теперь на развалинах города и бастионов царит мертвая тишина… И только тогда поверили русские солдаты, что действительно — все кончено. И в знак своего уважения к храбрецам маршал Мак — Магон разрешил им уйти к русской армии с оружием в руках и со своими убитыми и ранеными… Вот из этих узких бойниц отстреливались до последнего патрона последние сорок защитников Севастополя…
Девушка замолкла. Ее лицо было бледным и взволнованным. Сережа не узнавал в ней той милой, «тишайшей», мягкой Тамары, которая ему так понравилась именно этой своей ясностью и нежностью. Теперь это всегда спокойное лицо преобразилось зажегшимся откуда то извнутри огнем и было одухотворенным, почти вдохновенным. Последние красновато-золотистые лучи солнца резко освещали ее напрягшуюся словно для аттаки фигуру. Рука девушки, лежавшая в амбразуре башни, заметно дрожала. Глаза не отрывались от бронзовой фигуры лежащего адмирала, простершего руку к городу.
Казалось, что эта тишина вечера — только обман чувств, и что — вот, вот — опять раздастся грохот орудий и слабеющий голос умирающего твердо прикажет:
«Отстаивайте Севастополь»!..
В тени небольших деревьев, освещенные мягким светом догорающего вечера, развалины старого порохового погреба казались такими мирными… Не хотелось верить, что еще так недавно здесь гремели, не переставая ни на минуту, взрывы гранат, свистели пули, раздавались крики и стоны, и тысячи и тысячи людей напрягали последние усилия в отчаянной борьбе…
Пылкая фантазия Сережи уже видела иное — не мирную картину вечера. Перед ним была закопченная взрывами башня, стоящая среди разбитых орудий и развороченных укреплений. Вокруг башни — толпа победителей — зуавов, еще тяжело дышащих после последних атак на Малахов курган… Со скрежетом открываются железные двери, и оттуда выходит русские храбрецы — обожженные, израненные, истомленные. Они несут на скрещенных ружьях своих раненых и убитых.
Молча вытягиваются они в шеренгу, уходя с места последней битвы. Но вот — команда французского маршала, лязг ружей, и победители отдают честь побежденным, но не сдавшимся. И в великом и славном молчании кучка легендарных героев спускается с холма, покрытого русской и вражеской кровью, холма, вошедшего навсегда в историю солдатского героизма…
Рассказ девушки оживил эти старинные развалины. И долго еще молчали все, словно слушали, как эти немые, когда то облитые кровью, камни без слов продолжают вдохновенный рассказ русской девушки. В голове Сережи звенели слова военной песни, смысл которых только теперь стал ему понятен:
«Никто пути пройденного У нас не отберет»…Действительно, разве прошлое, настоящее и будущее не связаны неразрывными нитями? Разве прошли эти жертвы и этот героизм бесследно для России? Разве Севастополь, его Оборона, сто тысяч погибших солдат, этот знаменитый Малахов курган, и, наконец, все они, русская молодежь, это разве не — Россия?..
Папироса была забыта и давно потухла в руке… Непривычное волнение сжало сердце. В первый раз в жизни Сережа, замотанный советский студент, почувствовал свою кровную связь с русским прошлым, и волна любви к этой каменистой, негостеприимной, но Русской земле охватила его сердце. Как радостно было вдруг осознать себя русским, для которого пролитая здесь когда то кровь была своей родной, не просто человеческой, а именно русской кровью… И на секунду бесшабашный студент увидал себя незримо в рядах тех солдат, которые в веках шли и умирали за Россию…
«Где пулей неймем, Там грудью берем! Где грудью не возьмем — Там Богу душу отдаем»!..* * *
Взволнованное молчание москвича было прервано Митькой, который тряхнул его за руку.
— Слышь, дядя Сережа… А дядя Сережа…
— Чего тебе? очнулся юноша.
— Значит, выходит, что наши здеся здорово дрались?
— Здорово, Митя. Не даром ведь им здесь памятники вот поставили.
Глаза беспризорника сияли.
— Ишь ты? Видать, против наших никому не сустоять!.. Всем нос утрем.
Неподдельный энтузиазм мальчика заставил Тамару улыбнуться.
— А ведь знаешь, Митя, здесь много и ребят, сыновей матросов, тоже сражалось. На разведку ходили, ядра, патроны подносили, раненым помогали, в тыл лазали, даже из пушек стреляли! Многие на всю Россию прославились.
— Эх, Ванька, с живым сожалением проговорил Митька, вытирая нос рукавом. Не подвезло, брат, нам. Оплошали нашие родители! Нам бы вот пораньше, в тое время было родиться: вот бы мы с тобой делов бы тогда понаделали! Может, и нам бы тоже такой вот здоровенный памятник сгрохали бы… Вы знаете, тетя, доверчиво сказал он, обращаясь к Тамаре. Вы не смейтесь: мой Ванька — чистое золото. Прямо комиссарская голова!
— Почему же «комиссарская»?
— Ну, как бы это объяснить?.. Ну, жульничать горазд. Везде что нибудь этакое выдумает… Эх, вот в тое время нам была бы лафа. Я бы с этих англичанов кишки бы во-как выматывал… Пущай к нам не лезут!
Москвич потрепал беспризорника по плечу.
— Ишь, ты какое «неглиже с отвагой»? Кишки бы, говоришь, выматывал? Ну, ничего, Большевик Иванович, не унывай. Подвиги ведь не только на войне совершаются. Их, брат, и в жизни сколько угодно. Еще, может, и тебе придется что нибудь смелое сделать…
Потом, оглядев его лохмотья, Сережа добавил:
— А ты бы, Митя, пока там до подвигов — вымылся… Море то ведь под боком — баня даровая.
Беспризорник осклабился.
— Мыться? А зачем это? Когда грязный, вши лучше греют, а потом все равно — другого то ведь платья нет; домой влезешь — все едино такой же станешь.
— «Домой»? А где ты живешь?
— А в трубах коло вокзала. Гостинница екстра — первого класса.
— А ты пошел бы лучше вот к Тамаре в детдом. Вы, Тамара, их взяли бы к себе?
Девушка приветливо кивнула головой.
— Ну, конечно. Видите, ребята, там вот внизу на Корабельной красную крышу — это мой детдом. Когда вам захочется — приходите. Если не понравится — я отпущу обратно.
— Да брось ты, тетка, трепаться, ворчливо ответил Ванька. Власти у тебя там будет с Гулькин нос. Какой халдей комсомолец что захотит, то и сделает… И никуда больше не выпустит и работать заставит.
— А ты работать не хочешь?
— Вот еще? От работы даже лошади дохнут. Да и Митька тоже до работы не охоч.
— Ну, ну, ты, Черви-Козырь, не ври, с веселым огоньком в глазах под рыжими космами волос отозвался Митька. Откуда ты взял, что я работать не хочу?.. Что мне работа? Я совсем ее не боюсь — даже спать рядом с ней могу. Вот какой я!
Все рассмеялись.
— Ладно… Не хотите, ребята — не надо. А если надумаете — приходите ко мне — там у нас не дерутся… Там еще есть такие девушки, как я..
— Ладно, тетенька… Спасибо… Мы пока вольными птахами побудем, а если уж трудно придется — к зиме холодно станет — поглядим…
Сережа с тоской смотрел на медленно спускавшийся в море диск солнца. До сумерек еще нужно было ждать около часу… Что бы такое тем временем выдумать, чтобы задержаться и остаться тут до самого вечера?
— Ну, довольно вам дискуссировать, сказал он. В рай за волосья не тащут. Если им лучше в трубах — пусть пока там поживут. А вы, хозяева, покажите мне, гостю, еще что нибудь. Тут ведь дальше иностранные кладбища есть, где были похоронены солдаты осаждавших армий. Нельзя ли их поглядеть? А потом, вероятно, отсюда вечером должен быть замечательный вид…
— Да ты у нас — герой дня, Сережа, дружелюбно ответил Боб. Приказывай — мы тебе все достопримечательности выложим на ладонь. Пойдем.
— А нам можно с вами? спросил Митька.
— Можно, то можно, да трудновато, ребятки. Дорога там каменистая, а возвращаться мы будем под вечер. Ноги себе обломаете.
— Вы нас тут лучше подождите — мы скоро придем, добавил Сережа. Ты, Митя, кстати, мне нужен будешь. Я тебе еще про Москву расскажу, про бокс и футбол — может быть, еще и в самом деле чемпионом станешь!
Митька обрадовался и привычным движением утер нос ребром ладони.
— Вот это дело, дядя Сережа. Я подожду обязательно.
— Молодец! Держи свое слово! Жди здесь около памятника. А потом вместе пойдем в город — я вас обоих там подкормлю…
Футболист дружески привлек к себе мальчика, похлопал его по плечу и ласково провел рукой по его спутанным рыжим волосам. Сердце Сережи было так же широко, как и его плечи и его улыбка. Он любил жизнь и все живое в мире, и жизнерадостная сердечность была у него и для голодного забытого щенка и для усталого друга и для озлобленного оборванного мальчугана.
Ласку сердца не подделаешь. И только на такую искреннюю ласку отзывается другое человеческое сердце…
Митька доверчиво прижался к сильному плечу юноши и вздрогнул. Что то новое, неиспытанное шевельнулось в его сердце: человеческий волченок почувствовал в себе пробуждение инстинкта любви. Эта секунда оказалась переломной в его жизни. Молодая душа, огрубевшая и измученная от постоянных опасностей, издевательств, необходимости воровать, врать, изворачиваться в суровой грязной борьбе за жизнь, на миг почувствовала точку опоры — большого и сильного друга, которому можно было вверить и свою дружбу и свою любовь.
Мальчик не мог разобраться в своих чувствах, но ему показалось, что в пустоту и холод его души, брошенной нежной и хрупкой на утесы, в грязь и колючки жизни, вошло что то светлое и теплое. Впервые с детства, которого он уже почти не помнил, его приласкали, приголубили, привлекли к себе. И эта теплота ласки была олицетворена в виде высокого смеющегося юноши, отнесшегося к нему, как к своему младшему братику.
Митька поднял кверху свое взволнованное преображенное лицо. Глаза его светились обожанием.
Сережа понял этот взгляд и был тронут выражением этой немой любви и преданности. Он ласково подмигнул мальчику, еще раз дружески тряхнул его за плечи и переспросил:
— Так ты подождешь меня? Не сбежишь?
— Подожду, тихо ответил Митька, и юноша понял, что в лице этого оборванного беспризорного мальчика он приобрел верного друга, который не выдаст и не предаст. Он еще раз кивнул ему и стал со своими спутниками спускаться с холма. По своей всегдашней привычке футболист начал петь. Память вынесла ему песню, где причудливо сплелась цыганщина, казачий дух и русская мощь:
«Наш Отец — широкий Дон, Наша Мать — Россия… Нам повсюду путь волен, Все места родные»!..15. Засада
С различными чувствами смотрели оба беспризорника вслед уходящим. У Митьки было радостно — оживленное лицо, словно он пережил что то светлое, большое. Ванька был нахмурен. Его предубеждение против «больших» не было развеяно дружеским обращением новых знакомых.
— «Накормлю»? проворчал он. Так бы и раньше говорили, а то вот только болты болтали. Только никуда я с ними не пойду.
— Почему такое? рассеянно переспросил Митька, не отрывая глаз от удалявшихся фигур новых друзей.
— А потому, угрюмо отозвался Ванька. Никакого интереса нет.
— Чего ты окрысился? Ладные парни и, верно, здорово покормят.
Ванька презрительно ухмыльнулся.
— Покормят? Жди!.. Пока мы себя сами не покормим — никому до нас дела нет. Обойдемся и без ихней милости!.. Сами!
И он вытащил из кармана чей то кошелек.
— Это откуда ты слямзил? удивился Митька.
— А у тетки энтой, хвастливо ответил Ванька.
— У той, что рассказывала?
— Ara… Покеда она там разорялась насчет адмиралов, я у ей из сумки и сбондил. Ловко?..
Беспризорник не договорил. От сильного удара приятеля он шлепнулся на землю.
— Что это ты, Митяй? С ума слез, что ли? со злобным недоумением спросил он снизу.
Митькино лицо было искажено яростью. Он задыхался от негодования.
— Ах ты, сволочь, сукин сын… Лярва!.. Это что б у таких людей что нибудь пулить? Гадина!.. Да я тебе сейчас череп вот прошибу, стерва, за такую штуку… Они к нам по душевному, как люди, а ты, гадюка, сзади их вжалил… Фраеров тоже себе нашел… Отдавай сейчас же!
Ванька еще ни разу не видал своего приятеля в таком яростном состоянии. Зная по опыту, как решителен и силен Митька, он мрачно поднялся и отдал кошелек.
— И что это тебя так укусило?.. На кой хрен нам ихний обед, когда, может, в этом портмонете побольше найдем?
— Вот кусок идиета, еще кипятился Митька. Да как же ты, сучья башка, не понимаешь, что у таких людей стыдно тибрить? Это все равно, как ты у меня что спулил бы… Фу, даже в пот вдарило…. Тьфу, какой ты обалдуй… Ты только не серчай, что я тебя так вдарил — очень уж за сердце взяло… А теперя мы так сделаем: они тут как раз возвращаться будут — мы им и подкинем обратно портмонет этот… А ты не скрипи, Вань. Я тебе в трамвае любой портмонет сопру — по твоему выбору. Руки, знаешь сам, у меня — золотые… А то деньги этих ребят мне бы руки жгли… Ш.ш.ш.ш. ш…
Он внезапно схватил своего товарища за руку и нырнул в кусты. В темноте наступавшего вечера кто то осторожно шел по тропинке. Крадущиеся шаги приближались к месту, где спрятались беспризорники. Через минуту на вершине кургана показался какой то молодой парень в кепке, внимательно оглядывавшийся кругом. Он увидал удалявшуюся группу спортсменов и скользнул за плиту какого то памятника. Его острые злые глаза не отрывались от уходивших. Когда группа стала скрываться за поворотом, он быстро перебежал к нижним кустам и опять замер. В его руках блеснул бинокль.
Митька сжал руку своего приятеля.
— Сексот… За ними шпионит… Ах, сволочь!..
Ванька, видя взволнованное лицо своего друга, забеспокоился.
— Что ж ты хотишь делать, Митька?
— Что? А вот что: голову ему проломаю, что б не повадно было в следовающий раз следить за хорошими парнями. Бери каменюку, Вань!
— Это мы могем… Для сексота и каменюки не жаль!..
Приятели, вооружившись осколками камней, осторожно подкрались к кусту, за которым спрятался неизвестный парень. Тот, наконец, решил идти дальше и вышел на тропинку. В этот момент один камень ударил его в плечо, другой — в голову. Он споткнулся, обернулся и схватился за карман. Еще два удара камней свалили его на землю, и в кустах послышался топот убегавших ног.
Беспризорники были ребятами смелыми. Они сделали круг по кустам Малахова кургана и опять подкрались к месту «боя». Сбитый камнями с ног парень уже приходил в себя. Приподнявшись на земле, он со стоном ощупал раненую голову, вытащил платок, вытер обильно струившуюся кровь и опять упал. Потом собрал все свои силы, поднялся и, шатаясь, с вытащенным револьвером в руке, медленно пошел обратно к воротам.
Митька и Ванька, сидя в кустах, довольно переглянулись.
— Больше не придет! торжествующе произнес Митька. Причесали ему голову: долго не забудет, сволочь чекистская. Будет знать, как бегать, как пиявка, за хорошими ребятами!..
* * *
Раненый парень, с трудом спустившись к ограде кургана, тихонько свиснул. Из за забора и кустов показались чьи то головы.
— А где старший? тихо спросил чекист. — Тама у ворот.
Через минуту раненый докладывал:
— Так что, товарищ уполномоченный, около памятника ничего интересного не было. Поговорили и пошли дальше — кладбища смотреть. Сейчас вернутся.
— А что это у тебя с головой? Сексот болезненно сморщился.
— Беспризорники те, видно, камнем долбанули. Поймать их надо и пристрелить…
— Подождешь пока… Кто ж за щукой гоняясь — колюшек ловит?.. Ничего! Пролил малость крови за мировую революцию… Иди в казарму на перевязку. А мы пока что сами закончим оцепление. Они, говоришь, опять сюда придут? Тут мы их и зацапаем вместях. А пока надо ближе подобраться…
Темные фигуры стали осторожно подползать по кустам к памятнику адмирала Корнилова.
Глава III Живая пылинка, остановившая машину ОГПУ
16. Рука второго адмирала
В тот же день, когда наш футболист Сережа напряженно всматривался в руку памятника адмирала Корнилова, на 2000 километров северней на пустынной площади перед громадным собором с золотым куполом, но без креста, прогуливался коренастый массивный моряк в костюме командира Красного Флота. Николая (читатели уже, конечно, догадались, что это был Сумец) не интересовал собор, превращенный теперь в политический клуб. Он напряженно вглядывался в памятник адмиралу Макарову, стоявший на краю площади.
Фигура адмирала была очень выразительной. Одетый в шинель, которая, как и его широкая русская борода, развевалась под ударами яростного морского ветра, адмирал весь подался вперед, как бы бросая какую то решительную команду. Его левая рука была спрятана в карман, а правая простерта вперед широким, властным жестом. К ногам адмирала подкатывались бронзовые волны, словно бурно и радостно приветствуя этого знаменитого героя русских морей.
Внизу на пьедестале были, слова:
«Помни войну»!
И каждый моряк, любивший море и свой флот, вздрагивал от этих слов, словно что то обжигало его душу.
Он вспоминал одновременно. и бесславную и героическую гибель русских кораблей под Цусимой в 1905 году, когда Балтийский флот, заведомо более слабый, чем японский, сделал невиданный переход из Кронштадта кругом Африки и Азии, чтобы принять неравный бой и тем ослабить японский нажим на Дальний Восток. Там же незадолго до Цусимы в далеких южных морях у Порт-Артура на адмиральском броненосце «Петропавловск», взорванном японской миной, погиб и адмирал Макаров. Его трагическая гибель на боевом посту придала характер завещания-приказа его фразе «Помни войну»!..
Трудно сказать, почему советская власть не уничтожила этот памятник царскому адмиралу. Может быть потому, что сам он был простым солдатом и никогда не занимался политикой. Может быть потому, что его призыв совпадал с ее задачей — усилением красного флота, защищавшего не Россию, а СССР. А, может быть, просто потому, что в фигуре адмирала было столько силы и выразительности, что весь этот памятник как то возбуждал желание работать, напоминал о кораблях, о море, о той жизни моряка, про которую сказал этот герой-адмирал:
«В море — значит, дома»!..
Но, конечно, не эти мысли блуждали в голове Николая, когда он вместе со своим помощником осматривал памятник. «Как бы, чорт побери, туда забраться? думал он. Как бы осмотреть эту протянутую руку»?..
Это внимание удивило его спутника.
— Что это вы, товарищ Сумец, этак воззрились на адмирала? Бороду такую отпустить хотите, что ль? Для авторитета?
В это время смелая мысль пришла в голову Николаю, и он усмехнулся.
— Нет, товарищ Лоренц… Я про иное думаю.
Видите ли, завтра тут на площади большой парад будет перед открытием Спартакиады. Так вот мне и пришло в голову нечто вроде сюрприза устроить — в руку адмиралу красный флаг вставить…
Простое добродушное лицо моряка озарилось усмешкой.
— А ведь и верно… Это вы здорово придумали, т. Сумец. Вот смеху будет — как на похоронах… Старый царский бородач с красным флагом… Ха, ха, ха… Надо это сгрохать и в самом деле.
План был выработан быстро. Инспектора спорта зашли в казарму, где помещались съехавшиеся со всех флотов спортсмены, выбрали там нескольких здоровых ребят, взяли крепкую табуретку, четыре бамбуковых шеста для прыжков, флаг и опять подошли к памятнику.
Никто из них не заметил, как какая то темная фигура, увидев эти приготовления, бросилась к ближайшему телефонному посту.
Моряки, как это везде в- мире, были народом энергичным, смелым и изобретательным. Длинные четырехметровые шесты были прикреплены к ножкам табуретки, и восемь пар дюжих рук мигом взнесли это сооружение на высоту пяти метров.
— Хватит теперя достать до адмирала? прищурившись, спросил Лоренц.
— В самый раз, ответил один из моряков. Только слышьте-ка, товарищ Сумец… Как бы этак другого человечка вверх взнести? Больно уж вы тяжеловатеньки — небось, с тарой под 100 кил подваливаете?
— Никак, товарищ, нельзя. Мое дело — мой и ответ. А вам ведь только лишняя тренировка в тяжелой атлетике будет. Да это и пустяк — сто кил разделите на 8 рук… По сколько это выйдет на руку? По 12 кило? А если кто другой, а не я сам, сверзится — я под суд пойду. А так — мне первая чарка, мне и первая палка…
— Ну, что ж, ежели так — топайте. А ежели там что — не дрефьте — похороним по первому разряду. Знаете: покойник сам правит машиной…
— И споем нашу грустную кочегарную, подхватил другой матрос:
«Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут — она зарыдает… А волны бегут, да бегут за кормой, И с плеском вдали пропадают…»— Значится, так таки и полезете, т. Сумец?
— Так, не так, а перетакивать не будем. Конечно, полезу.
— По шестам, как облизляна?
Николай оглянулся кругом. На краю площади росли большие угрюмые деревья. Он распорядился группе спортсменов подойти к одному из деревьев, а сам, взяв с собой веревку и флаг, ловко полез по сучьям наверх. На дереве он выбрал большую ветку метрах в пяти над землей, оседлал ее, и когда табуретка на шестах была поднесена к этой высоте, осторожно взгромоздился на нее. Медленно и плавно моряки понесли Николая по площади к памятнику.
Предприятие было далеко не безопасным. Шесты скрипели и качались.
— Эй, Сумец, крикнул снизу Лоренц. У вас видно там, как на мостике эсминца в хороший шторм…
— Или после бутылки водки, настоенной на колючей проволоке, добавил один из моряков… Качает сурьезно!..
— Ничего, ребята, ответил сверху Николай.
Раз уж родился — о чем тут горевать? Доплывем!..
— Ладно — главное, не дрефь и держись покрепчае за воздух…
— Как это поется:
Терпи немного, Держи на норд, Ясна дорога И близок порт! Ты будешь первый, Не сядь на мель! Чем крепче нервы, Тем ближе цель…Веселые моряки не знали цели усилий Николая. Им казалось, что идея прикрепить красный флаг к памятнику адмирала — веселая шутка для парада… И Николай, сидя на качающейся табуретке на высоте пяти метров, тоже усмехнулся припеву:
Чем крепче нервы, Тем ближе цель…А цель была уже близка. Еще несколько секунд, и на уровне лица моряка очутилась бронзовая рука адмирала. Он схватился за нее и стал внимательно всматриваться во все изгибы и складки металла.
Бронза уже позеленела от времени. Широкий рукав морской шинели не имел ни крупных складок, ни отверстий. Надписей тоже нигде не было. Пальцы рук были растопырены властным широким жестом, но ни на руке, ни между пальцами ничего не было… Вторая рука адмирала, была плотно засунута в карман шинели, не образуя даже и мест для тайника.
Щемящая боль разочарования охватила Николая, когда он под шутливые возгласы моряков собирался привязывать флаг к руке адмирала. Никто не заметил, как к ним быстрыми шагами приближаются двое людей.
— Эй, товарищи! внезапно раздался властный окрик. Что это вы тут делаете?
Моряки обернулись.
— Товарищ Корнфельд, прошептал Лоренц. Ах, тещу твою в негашеную известь!.. Откудова его нелегкая принесла, пуд дыму ему за пазуху?
Оглянулись в сторону окрика и другие матросы. Кто то из них на секунду ослабил напряжение, вся неустойчивая пирамида потеряла равновесие и закачалась. Сумец попытался удержаться за руку адмирала, но шесты уже расползлись, и табуретка с «альпинистом» с грохотом упала на землю. Ошеломленный падением Сумец медленно поднимался на ноги, когда человек с несколькими нашивками — большой чин, подошел к группе моряков.
Это действительно был комиссар Балтийского флота, известный своей придирчивостью и суровостью. Рядом с ним шел какой то незнакомый никому моряк.
Лоренц шагнул вперед.
— Так что, товарищ комиссар, отрапортовал он, мы тут надумали флаг прикрепить к параду спортсменов на завтра.
— Какой такой флаг?
— Да, красный, ясно…
— А кто это надумал?
— Товарищ Сумец, инспектор штаба флота.
— Это он сковырнулся оттуда?
— Он самый, товарищ комиссар.
Комиссар шагнул вперед к Сумцу, который, с трудом поднявшись, счищал с себя пыль. Суровый взгляд комиссара буравил его перекошенное от боли лицо.
— Что это вы, т. Сумец, придумали такую нелепицу делать?
— А мне казалось, товарищ Корнфельд, что будет оригинально укрепить там наверху флаг. Парад ведь не военный, а, собственно, спортивный, для молодежи. Пусть посмеялись бы.
Жесткое сухое лицо комиссара не улыбнулось выдумке.
— Политического нюха у вас, т. Сумец, видно, никоторого нет. Прямо стыдно слушать такую ахинею. И как это вам могло в голову придти: адмиралу Императорского флота, реакционному царскому опричнику — и тут — на тебе, здрассте — вставить в руку наш революционный красный флаг? Разве вы не понимаете, что это — политическая бестактность? Что это у вас в голове заскочило?
— Виноват, товарищ комиссар.
— «Виноват», передразнил Николая комиссар, не меняя сурового выражения своего желчного лица. Вместо «виноват» спросили бы лучше сперва у меня. А то вот хорошо, что я тут случайно оказался. А представьте себе, что фотографии с вашей «выдумкой» — такой «о-ри-ги-наль-ной» — пошли бы в Москву. Тогда кому пришлось бы отвечать? А? Кого Реввоенсовет взгрел бы? Кому фитиль вставил бы?
— Виноват, товарищ комиссар.
— Эх, вы… Да еще и свалились. Как это вас угораздило?
— Не знаю… Вероятно, кто то на вашу команду оглянулся и нарушил равновесие.
— Этакую подставку еще выдумали. А расшиблись сильно? Что то лицо у вас бледное.
Действительно, лицо Сумца морщилось от боли.
— Не знаю, товарищ комиссар. Кажется, руку сильно повредил…
— Ну, ладно. Пройдет! А чтобы вам не повадно было больше такие штуки выдумывать, придется вас отправить на губу денька на три. Товарищ Фирин, будьте добры отвести т. Сумца на гауптвахту и передать там мое распоряжение. Об исполнении донести.
Глаза Корнфельда пристально поглядели на лицо своего спутника. Тот незаметно опустил веки в знак одобрения.
— Есть, товарищ комиссар, откозырнул он. Пойдемте, товарищ Сумец.
— А вы, товарищи, строго обратился к морякам еврей. А вы — думайте своей головой. Комсомольцы и партийцы среди вас есть?
— Я… Я… Я… раздалось из кучки.
— Ну, вот видите. А товарищ Сумец — беспартийный. Как же вы так маху дали, товарищи? Как же вы позволили себя так около пальца обвести? Тут ведь не спортивное, а политическое дело. Может быть, даже и контр-революция. Нужно ухо остро держать, товарищи. Пролетарии должны быть всегда на чеку и не поддаваться на всякие провокации. Красный флаг в руку царскому опричнику вложить? Как же вы не поняли, товарищи, что это — оскорбление и унижение для революционного флага?.. Можете идти по местам, но в следующий раз не забывайте, что голова сделана не только для того, чтобы бескозырку носить. Ею изредка и думать нужно. На этот раз я вас прощаю, но смотрите, товарищи — этак и до подвала ГПУ докатиться можно с такими «шут-ка-ми»…
Комиссар, круто повернувшись, пошел через площадь. Моряки проводили его долгими недружелюбными взглядами.
— Tю… И чего это он окрысился? Чуть не контру выискал. Вот чудак! Экая беда, что завтра братва поржала бы насчет флага. Что это его разобрало?
— А Сумца то? Запаял таки, сукин сын, на губу!
— Да, что и говорить, братва: «За что боролись, на то и напоролись»…
— Сумца жаль: Его бы не на губу, а в женский монастырь на покаяние послать бы. Это бы дело было: парень, как дуб…
— И дуб, видно, трещит!.. Легко сказать — с пяти метров слетел… Видать, здорово расшибся. А завтра, небось — Спартакиада начинается.
— Ничего — он главным судьей. Распоряжаться только будет. Да и мы ему поможем — хороший он парень!
— А кто это с комиссаром то был? Такой — тоже жиделеватистый. Адъютант, что ли?
— А чорт его знает. Кто то верно с центра. Я тута в Кронштадте всех жи… евреев знаю, а такой новой рожи не видывал.
— Ну, ну… Слышь ка, Петро? Как встретишь где вечером в переулке этого сукина сына — дай ему за мой счет в харю. А я тебе потом с процентой отдам…
* * *
Острые глаза «адъютанта» не упускали из виду ни одного из движений Сумца, пока они молча шли к комендатуре, где помещалась и гауптвахта. Там он передал распоряжение комиссара, и когда Сумца увели в камеру, вызвал к себе коменданта. Оставшись с ним с глазу на глаз, он что то сказал и показал бумажку. Прочтя ее, комендант вытянулся.
— Есть, товарищ начальник. Будет сделано, ответил ои и вышел.
Через пять минут к арестованному вошел дежурный по «губе».
— И как это вас угораздило, товарищ Сумец, сесть сюда? Да еще с исполнением служебных обязанностей? Кажную ночь сюда придется приходить ночевать.
— Экая важность! Будто бы не все равно, где спать? А я сплю везде без просыпу. Это то пустяк. Но вот что, товарищ. Вызовите мне, пожалуйста, из моргоспиталя дежурного врача. Я, кажется, сильно расшиб руку.
— Ладно, сейчас протелефонирую… Только вот, товарищ Сумец, какая беда для вас. Придется вам всю свою робу снять, в дезинфекцию отдать. Тут, видите ли, у нас случай сыпняка был, так все начальство в панике…
— Но я ведь из Москвы только что. На кой чорт мне дезинфецироваться?
— Ничего не попишешь, товарищок. Правила… А наше дело — маленькое: приказано и точка. Так что — раздевайтесь…
17. Чего они ищут в памятниках?
НачОперотдела НКВД. Москва.
Рапорт.
Доношу, что сего числа согласно установленной слежке за гр. Сумец, инспектором спорта Штаба Флота, выяснилось нижеследующее. Прибыв в Ленинград, означенный Сумец посетил штаб Л. В. О.[29] и оттуда направился на Волково кладбище. Там он обратился к смотрителю за справкой и пошел на указанное место. Подойдя к памятнику одной из могил, он долго осматривал его издали, потом перекрестился и ушел.
Смотритель показал, что т. Сумец спрашивал его про памятник на могиле б. адмирала Ушакова. Передав слежку другим агентам, я лично осмотрел бюст, стоящий на могиле Ушакова. Ничего подозрительного и заслуживающего внимания на бюсте и на могиле не обнаружено. Цель посещения могилы осталась неизвестной.
По данным Штаба ЛВО т. Сумец сегодня вечером выезжает в Кронштадт для проведения там Спартакиады Морей.
Уполномоченный Оперсектора
Фирин.
Ленинград, 26-7-38 г.
* * *
Нач Оперотдела НКВД. Москва.
Рапорт.
Доношу дополнительно. Слежка за тов. Сумец в Кронштадте выяснила нижеследующее. т. Сумец долго изучал памятник адмиралу Макарову. Потом с группой моряков подошел к памятнику и с помощью ловко устроенной пирамиды полез наверх. Там он внимательно осматривал и щупал руку адмирала и потом хотел привязать там красный флаг.
Вызванный мной комиссар Балтфлота т. Корнфельд точно выполнил мои указания. К сожалению, в момент нашего вмешательства в операцию, проводимую товарищем Сумцом, последний упал с памятника и сильно расшибся. Как мне впоследствии доложили, у него оказался перелом руки. Впрочем, по мнению врача, это не помешает т. Сумцу выполнять свои обязанности на Спартакиаде.
Я разрешил перевод т. Сумца в госпиталь только на следующий день. На гауптвахте одежда т. Сумца была мною лично подвергнута тщательному осмотру, равно, как и его камера.
Считая ваше задание ответственным и важным, я ночью вызвал грузовую машину Политотдела с лестницами и сам лично внимательно осмотрел памятник. Ничего подозрительного мной обнаружено не было.
Согласно вашего распоряжения о проведении операции возможно более незаметным образом, т. Корнфельд завтра к вечеру освободит т. Сумца от наказания, чтобы не возбуждать в нем подозрений.
Список вещей и документов, обнаруженных при обыске, при сем прилагаю.
Уполномоченный Оперсектора Фирин.
Кронштадт, 29-7-38 г.
* * *
Эти два рапорта были получены Садовским в тот самый теплый летний вечер, когда оцепление севастопольских чекистов осторожно подбиралось по кустам Малахова кургана, поджидая возвращения молодых людей к памятнику адмирала Корнилова.
Рапорта эти заставили чекиста задуматься. Он долго сидел, опустив голову на руки, в глубоком размышлении. В открытое окно доносился шум Лубянской площади, звонки трамваев, шелест ленты пешеходов на троттуарах, но эти звуки не доходили до сознания Садовского. Он перечитывал строки донесения Фирина и пытался связать их значение с материалами донесений из Одессы.
Чего искали спортсмены в памятниках адмиралов? В чем ключ их розысков?
Садовский курил одну папиросу за другой, и его сухие нервные пальцы с раздражением перелистывали лежавшие перед ним страницы. Острые глаза под нахмуренными бровями и наморщенным лбом вглядывались в каждую строчку донесений. Потом чекист закрыл папку, уже носившую звучное название «Тайна Адмирала», и, взяв лупу, стал вглядываться в присланные из Одессы фотографии, потеря которых доставила столько огорчения Мисе.
На этих фотографиях было ясно видно, как Ирма, держась за руку герцога Ришелье, стоит и весело улыбается. На другой фотографии Ирма делала шутливый вид, что пытается выдернуть тяжелую шпагу из ножен.
На третьей фотографии она нежно взяла герцога под ручку. На всех фотографиях положение девушки была связано с Рукой Адмирала.
Садовский вздрогнул и лихорадочным движением взялся опять за рапорты Фирина… Его догадка подтверждалась: бюст адмирала Ушакова никак не заинтересовал Сумца, ибо в бюсте не было рук… А зато в памятнике адмирала Макарова Сумец, как и Прегер в Одессе, проявил громадное внимание именно к рукам памятника.
— Вот оно что! воскликнул молодой еврей, и хмурое лицо его преобразилось в торжествующей усмешке… Попался, который кусался!.. Наконец то!
Он схватил лежавший рядом телеграфный бланк и написал:
«Севастополь. НачОблотдела НКВД. Дополнительно инструкции 7601 предлагаю порядке боевого политзадания немедленно тщательно осмотреть руки памятника адмирала Корнилова малаховом кургане тчк результаты молнируйте[30]. СО. № 27415».
На звонок бесшумно появился рассыльный.
— Срочно. Литера СС, коротко сказал Садовский.
18. Рука третьего адмирала
В это время, весело болтая и шутя, молодые люди возвращались в сумерках на Малахов курган.
— А долго мы все таки пробыли у мертвых иностранцев в гостях, сказал Сережа. Интересно, дожидаются ли нас наши «беспозорники»?
— А зачем они тебе?
— Да ведь хорошие ребятишки. Они ко всем, собственно, как волчата относятся: как бы укусить, слямзить, ударить… Рубль в чужом кармане для них, так сказать — вроде личного оскорбления… Если вообще в нашем дурацком мире человек человеку — волк, то для них человек человеку прямо — чорт!.. Но лаской с ними можно многое сделать. Вот, может быть, Тамаре их в свой детдом удастся затащить. На том свете это спасение душ зачтется…
Но на тропинке, где спортсмены расстались с беспризорниками, никого не было.
— Неужели сбежали наши герои? разочарованно протянул Сережа. Экая жаль… Митька этот — прямо бриллиант боксерский. Какого чемпиона можно было бы сделать!
Как и обещали, они шли по старой тропинке к памятнику. Проходя мимо плиты, установленной на месте гибели адмирала Нахимова, Боб вдруг заметил своими зоркими глазами что то белое.
— Это что еще за сюрприз?
Все подошли к плите. Там, завернутый в платок, лежал какой то предмет, оказавшийся… портмонэ Тамары.
— Вот те на… И тут на камне еще что то написано.
При свете нескольких спичек можно было прочесть коряво написанные мелом слова: «вертаем взад звените».
— Ну, и грамотеи!..
— Не в этом дело, торжествующе воскликнул Сережа. А вот видите — я был прав: в каждой душе где то кусочек благородства сидит. И всегда лучше в это верить… Этот кусочек никогда не обманет… Тут, видно, младший спер, а Митька и взъелся на него. Вероятно, у них и драка по этому поводу вышла. Молодцы ребята!
— Постой ка. Да этот платок совсем в крови!
— Вероятно, Митька тому, другому, нос и расквасил.
— Да нет, непохоже. Тут слишком много крови. Посмотри… Тут не расквашенным носом пахнет. Было что то серьезнее: не дружеский мордобой, а настоящее кровопускание, вроде Севастопольской Обороны. Кто то кого то и от кого то оборонял…
— Но где же в самом деле наши ребятишечки? Они ведь обещали обождать.
— Не выдержали, видно. Сбежали.
— Не может быть! Не верю. Этот Митька — парень не таковский, чтобы сбежать!
Москвич оглянулся и крикнул:
— Митька!.. Эй, дружок… Митька! Все молчало.
— Митька!
Неожиданно из кустов послышался неуверенный отклик:
— Я тута.
— Ну, так иди, брат, сюда. Чего ж ты там прячешься?
Несколько секунд длилось молчание. — А драться не будете? Сережа рассмеялся.
— Это он боится наказания за портмонэ. Нет, Митя! Не бойся, выходи! Никто драться не будет.
— Ей Богу?
— Честное слово футболиста.
Очевидно, это обещание подействовало. Смущенная рожа мальчика показалась в кустах. Он нерешительно подошел к молодым людям.
— Так, ей Богу, бить не будете? Вишь ведь вас сколько!
Сережа потрепал его по плечу.
— Не дрефь, Митя. Мы ведь не милиция и не халдеи… А ты ведь все вернул.
— Это, ей Богу — не я, оправдывался Митя. Это — Ванька, сукин сын…
— Так это вы из за этого и дрались? Мальчик качнул головой.
— Угу… Это я ему холку мылил. Пусть не тибрит у своих.
Тамара невольно рассмеялась.
— Ну, значит, мы теперь в «свои» попали? А что такое «свои»?
Беспризорник замялся.
— «Свои» — это которые, значится, свойские. Не фраера. Которые понимают, что и нам жить тоже хотится. Не сволочь, как один тут заявился с кустов!.. Мы тут ему…
— Ладно, ладно, Митя, потом расскажешь… Мне надо теперь с тобой всерьез потолковать. А где, кстати, Ванька?
— Черви-Козырь то? Да он боится сюда идти. Он где то сь с Шариком в кустах сидит.
— Ладно, и пусть посидит. Пока ты мне один только нужен. Ребята, обратился он к Бобу и Тамаре. Будьте хоть раз в жизни перепендикулярны — посидите тут, пожалуйста, несколько минуток в одиночестве. А мне с Митькой кое о чем договориться нужно!
Сережа с мальчиком подошли к памятнику. Уже совсем смерклось. В городе зажглись фонари. На бледно-синем небе показались первые звезды. На Малаховом кургане царила торжественная тишина. Темные кусты скрывали пьедестал памятника адмиралу, мощный силуэт которого резко вырисовывался на светлом фоне неба.
— Видишь ли, Митя, какое дело, тихо начал Сережа. Мой брат — это я тебе по секрету говорю, конечно — офицером был тоже. За Россию сражался — против чекистов. А когда он с Белой Армией уходил за границу, он спрятал для меня наши семейные документы. Я в то время мальчиком был, в Москве жил. Так вот, написал он мне недавно из за границы, где он спрятал бумаги эти. Написал осторожно, но я понял… Эти бумаги очень важны для меня. Ты мне поможешь достать их?
Мальчик шевельнулся.
— Ну, ясно. Для тебя, дядя Сережа, я все сделаю.
— Спасибо. Так вот что: документы эти должны быть там, на памятнике. Я бы и сам достал, да боюсь лезть — я тяжелый. А тебе легче.
— А куда лезть то?
— А вот видишь — адмирал руку протянул. Так там вот на руке и должны быть привязаны бумаги эти. Если никто не украл…
— Даешь!..
Подсаженный Сережей, Митька мигом взобрался на памятник. Там на гигантском плече умирающего адмирала он вытянулся всем телом и медленно и осторожно пополз по бронзовой руке к пальцам. Сережа с замиранием сердца ждал результатов.
— Ну что? Есть что нибудь? сдавленным взволнованным шопотом спросил он.
— Погоди… Сейчас… донеслось сверху… Есть!.. Что то проволокой привязанное… Вроде палочки какой.
— Сними ее и брось мне!
— Сей минут.
В темноте можно было догадываться, что Митька что то откручивает. Прошло еще минута напряженного молчания.
— Готово!
— Отвязал?
— Ara! Где ты там?
— Здесь… Бросай…
Но Митька не успел ничего бросить. В кустах внезапно раздался яростный лай Шарика и вслед за ним отчаянный вскрик Ваньки:
— Ребята… Облава!.. Спасайся!
В кустах затрещали шаги бегущих людей. Сердце Сережи замерло. Неужели в последний момент тайна уйдет из его рук?..
— Митька! тревожно зашептал он. Не слезай!.. Прижмись — тебя не увидят. И, Бога ради, сохрани мне эту штуку. Я тебе верю, Митя, дорогой!..
— Ладно. Не дрефь! раздался сверху решительный шопот, и Сережа метнулся вниз. Но, пробежав несколько шагов, он вынужден был остановиться. В лицо ему блеснул электрический фонарик, и под ним его острые глаза разглядели блеск револьверного дула. Где то сбоку бежал еще кто то.
— Стой!.. Руки вверх!
Юноша послушно поднял руки. Кружок света уперся ему в лицо.
— Оружие есть?
— Ну, вот… Откуда оружие? А вы кто такой?
— Вас не касается! раздался грубый ответ.
— Значит, не бандиты?
— Нет… Охотники за бандитами.
Сережа сделал вид, что облегченно вздыхает.
— Ну, и ладно… А я думал было — бандиты.
— Мне чхать на то, что вы думали. Идите вперед. Шаг в сторону — буду стрелять.
Голос звучал решительно. Сережа понял, что сопротивление бесполезно. С замирающим сердцем он слышал вскрики и шум в кустах, и одна мысль билась в его сознании:
— Заметят ли Митьку? Удастся ли ему скрыться? Спасет ли он привязанную к руке адмирала «палочку»?
Скоро внизу у ворот Малахова кургана зашумел мотор грузовика. Задержанных спортсменов вместе с пойманным Ванькой повезли в ГПУ. Митьки в грузовике не было…
Когда шум мотора затих в отдалении, Митька, судорожно сжимая в руке небольшой предмет, похожий на обклеенный чем то винтовочный патрон, осторожно слез с памятника. Все было тихо. Он несмело сделал несколько шагов и вздрогнул: навстречу ему метнулось что то темное, мохнатое. Это был Шарик; радостно визжащий и старавшийся лизнуть своего друга прямо в губы.
Пережитое волнение было так сильно, что беспризорник невольно сел на первую попавшуюся скамейку и долго еще не мог собрать своих мыслей. Он крепко зажал в руке таинственный предмет, снятый с руки адмирала и, тревожно дыша, смотрел в темноту, откуда еще, казалось, доносился шум грузовика, увезшего его друзей.
Тайна расстрелянного матроса силой случая попала в руки маленького беспризорника, одного из миллионов человеческих пылинок, разбросанных полураздавленными по дороге революции…
И по странному совпадению именно этой пылинке суждено было остановить ход громадной машины ОГПУ…
19. За бортом жизни
Всякая революция — прежде всего несчастье. Даже если она и внесет в жизнь страны какие то очистительные перемены, все равно: страшное напряжение этого периода никогда не проходит даром. Плата оказывается всегда дороже полученных выгод. Революция приносит с собой не только кровь и разрушения, но всегда и длительные, даже неизлечимые болезни народного организма.
Советская революция принесла с собой ужасающие разрушения. Часть из них удалось кое как восстановить, но несколько приобретенных болезней
Нет страницы 132.
В этих трубах обычно обитало не меньше сотни детей. Если приток новых «постояльцев» с севера был особенно велик — это бывало к времени сбора винограда — то «трубная гостинница» не вмещала всех желающих. Тогда те, кто не сумел устроиться в пустых вагонах, сараях, старых домах, кочегарках — уходили в Инкерманские пещеры, в глубине Северной бухты. Там в меловых утесах, ясно видимые даже проезжающими в поездах пассажирами, зияют отверстия пещер доисторического времени. Когда то там жили люди пещерного века, вооруженные каменными топорами и одетые в меха зверей. Они разводили там свои костры, спали на шкурах и мхе и защищались от хищных зверей. Теперь после перерыва в несколько миллионов лет эти же пещеры опять были заняты под жилье русскими детьми, одетыми в лохмотья и вместо каменных топоров вооруженных ножами.
И так же, как и их предки в доисторические времена, эти дети оберегали свою свободу и жизнь обломками скал, которые они сбрасывали не на мамонтов или пещерных медведей, а на милиционеров, чекистов и комсомольцев, грозивших отнять у них свободу и запрятать их в «детдома», больше похожие на тюрьмы, чем на воспитательные учреждения…
* * *
Митька крепко спал, свернувшись калачиком на соломе в своей трубе. К его ногам плотно прижался желтый клубочек — верный Шарик, испытанный друг мальчика. К босым грязным пяткам беспризорника подбирались струйки холодной воды: снаружи, вне «дома» шел мелкий косой дождь, ветром забрасывавшийся в трубу. Но такие мелочи не беспокоили Митьку, уставшего от бурных переживаний дня.
Внезапно Шарик зашевелился и заворчал.
Несломанное его ухо поднялось и прислушалось. Потом собака звонко тявкнула, будя, хозяина, но, когда в отверстии трубы показалась какая то тень — довольно заворчала. Митьке можно было и не окликать появившуюся тень — только Ваньку мог бы так дружелюбно встретить Шарик.
— Ты — Вань?
— А то кому же еще? ворчливо ответил мокрый Ванька. Вот сволочи: как туда — так в машине отвезли. А как домой топать — так на своих, на двоих… Версты две протрепал пехом под дождем…
— А ты где было то? В Гепее?
— Не в пивнушке же!.. Ясно — в Гепее.
— И не оказали, значит, там тебе уважения? подсмеиваясь, сказал Митька. Не довезли обратно?.. Ха, ха, ха… А на кой чорт тебя туда забрали?
— А чорт их знает. Облава была. Тех всех ребят застукали. А за что — не знаю. Ну, я в комендатуре такие слезы развел — дождю впору. А и верно — я тот тут причем? Тех обыскали, а меня послали с солдатом в детдом. На дворе, знаешь, темно, мокро… Я тому чекисту подножку сунул и в переулок. Долго ли умеючи?..
— Молодец, Ванька! А что с теми?
— А я знаю? Я — доктор?.. Кажись, их зацапали. А девка этая, чорт ее раздери — ну и яду там пущала на чекистов! И смех и слезы… Молодец!.. А что потом — откуда мне знать? А, промежду прочим, злой я на тебя, Митька — страх. Полдня проканителили мы с тобой коло тех ребят — и хоть бы копейка поживы. Портмонет заставил отдать, а тут еще вот в облаву вляпались… Чорт тебя, знает, Митюха. Вечно ты не в свое дело влезешь!.. Этак с тобой с голоду пропадешь…
— Брось панику разводить! Ни хрена преподобного… Ну, и поголодаешь ночку — экая невидаль? А завтра опять что нибудь подработаем. Ты на вокзале с кем нибудь в картишки перекинешься и в «двадцать одно» сплутуешь. А я тебе по твоему выбору любой чемодан спулю. Руки у меня на это дело — сам знаешь — золотые.
— Золотые, ворчал Ванька. Чорта мне, что они золотые, когда в животе пусто.
— Ну, не шипи. На, держи!
Митька протянул приятелю кусок черного хлеба, оставшийся под соломой от их «обеда». Тот жадно впился в него зубами.
— Фу, дьявол, сказал он через несколько минут. Ей Бо, по моему, вкуснее черного хлебушка — ничего на свете у нет.
— А кофей буржуйский? съязвил Митька. Ты ж сам говорил, что, верно, вкуснее его ничего нет? Намазать бы этого кофея на хлеб вместо сала — вот бы дело было… Ну, ну, не фырчи… Давай, пока там что покемаем[31] малость.
Приятели прижались друг к другу. Засыпая, Митька протянул руку и еще раз пощупал привязанный под коленом предмет, найденный им на памятнике.
— Гадом буду, а никому не отдам! подумал он, и в его воображении мелькнуло веселое смеющееся лицо московского футболиста. И снова словно теплая волна прошла по маленькому сердцу заброшенного бездомного русского мальчика, засыпающего в старых канализационных трубах под монотонный рокот стучащего сверху дождя.
20. Три часа опоздания
Тщательный обыск наших друзей, как и следовало ожидать, не дал никаких результатов. Начальник ОГПУ, помня приказание центра по мере возможности не возбуждать подозрений на участие в этом обыске Москвы, вежливо извинился перед арестованными.
— Вы уж, товарищи, не серчайте. У нас тут везде сейчас идут облавы на бандитов и белогвардейцев. Несколько наших сотрудников недавно на тот свет отправлено и, конечное дело, мы все перетряхаем. А как вас вечером на Малаховом застукали — ну, и сочли подозрительными… Вот и вся недолга. А теперя, как мы вас проверили — можете идти на все четыре с половиной стороны…
Когда молодые люди ушли, начальник сел за составление рапорта Москве. Рапорт был короток: следили, арестовали; ничего подозрительного не обнаружено.
Подписав рапорт, начальник дал распоряжение срочно отправить его в Москву, а сам, облегченно вздохнув, отправился домой.
Хорошо обставленная его квартира была расположена в соседнем доме того квартала, который целиком был реквизирован ОГПУ. Выпив водки и закусив, начальник уже лег в кровать, когда внезапно зазвонил телефон.
— Алло, я слушаю, недовольно ответил он.
— Товарищ Пруденко? переспросил дежурный. Тут срочная телеграмма с Москвы на вашее имя.
— Ах, чтобы они там все передохли! злобно проворчал начальник, спуская ноги с кровати. Только вздремнул! Ну, неси ее сюда, твою телеграмму…
В телеграмме было приказание Садовского осмотреть памятник.
— Что это им приспичило? недовольно подумал чекист. Дались им эти памятники? У нас тут наших людей из обрезов, как воробьев бьют, а они вздумали тут мертвяков чугунных обыскивать…
Разве завтра сделать это?
Но посмотрев на телеграмму, Пруденко заметил шифр — «Литера СС». Это обозначало — «срочно, вне всякой очереди».
— Вот, сволочи! Поспать даже не дают! И что там может быть срочного? Стоял памятник полсотни лет и хлеба не просил. А тут на тебе: «срочно»!.. «Молнируйте»! Идиеты московские!.. «Боевое задание»! Тьфу!..
Но все таки старая привычка к военному подчинению сбросила его с постели. Пока он одевался, в мозгу его мелькнул хороший план.
— Алло? наклонился он к телефону. Коммутатор? Дай мне Начпожохра.
Через несколько минут в трубке зазвучал недовольный заспанный голос начальника пожарной охраны.
— Это ты, Иваныч?
— Я… Кому ж еще? А это ты, Пруденко? Какие еще тебе там черти спать не дают? Что у вас там за пожар такой под дождем?
— Пожар, не пожар, а дело, брат, срочное. Приказ Москвы. Дай распоряжение немедленно доставить сюда пожарную переносную лестницу, машину и четырех расторопных ребят.
— А что надо то?
— На Малахов курган полезем. Памятник седлать.
В трубке свиснуло.
— Да ты трезвый ли, Пруденко?
— Ни черта, Иваныч. Давай. Нечего рассусоливать. Приказ и точка!
— Ночь и дождь на дворе! Нельзя ли утречком?
— Никак нельзя. Боевое политическое задание! важно ответил чекист. В ответ ему послышалось сочное ругательство, и трубка щелкнула.
* * *
Минут через десять пожарный автомобиль, громыхая, несся на Корабельную сторону[32]. У ворот Малахова кургана он остановился, и несколько человек с фонарями и переносной лестницей во тьме и под дождем пошли наверх.
К руке памятника полез сам Пруденко. На груди его висел сильный электрический фонарь и, кроме того, снизу поднимались снопы света пожарных прожекторов. Во всей этой картине было что то фантастическое: в кромешной тьме южной дождливой ночи над кучкой людей мертвым призраком возвышалась громада памятника, й казалось, что протянутая рука адмирала, резко освещенная снизу лучами света, готова с яростью опуститься и раздавить пришельцев, дерзнувших покусится на вверенную ей тайну…
Фигура человека карабкалась по ступенькам все выше. Дождик монотонно хлестал по непромокаемому плащу и затекал в рукава. Ругаясь и ворча, Пруденко поднялся, наконец, на уровень бронзовой руки и стал ее осматривать и ощупывать. На плече адмирала ничего не было.
— Эй, ребята, крикнул он вниз. Передвинь ка меня левее. Только смотрите, черти, не уроните. Я не ангел, чтобы ночью под небесами летать…
Лестница в крепких руках легко переместилась, и на уровне лица Пруденко оказалась, наконец, рука адмирала. Луч фонаря упал на ее пальцы, и к своему удивлению чекист увидал там остатки ржавой проволочки, что то раньше, очевидно, привязывавшей к руке адмирала.
— Ах, дьявол! выругался Пруденко. Значит, Москва не совсем таки спятила с этими памятниками! Тут что то действительно было!..
Сонное и оппозиционное настроение сразу слетело с него. В чекисте проснулся инстинкт ищейки. Тщательно сняв остатки проволоки, он внимательно осмотрел руку. По остававшемуся следу нетрудно было заключить, что на руке долгое время была привязана какая то небольшая вещица, недавно снятая.
Начальник ГПУ задумчиво покрутил головой и стал слезать с лестницы.
— Вот что, ребята. Тут, может быть, кое что потеряно под памятником. Обыщите ка все это место кругом. Если есть что — тащите мне. Премия за найденное — пятьсот рублей. Думаю, что это, должна быть мелкая вещица, может быть, ржавая и старая, величиной, этак, с кулак. Эту штуку сама Москва ищет!..
Полчаса поисков под дождем в темноте оказались безрезультатными.
— Ладно, завтра утрешком еще раз обыщем. Может, эту таинственную штуку бросили при облаве куда в кусты… Москва, видно, зря паниковать и стреляться телеграммами-молниями не стала бы…
Потом, когда они все были уже около машины, неприятная мысль пришла ему в голову.
— А что ежели те отпущенные ребята сейчас придут сюда искать эту самую штуку, брошенную под куст при облаве?
Но, поглядевши кругом, он несколько успокоился, Кругом было темно, как в колодце, и шум дождя все усиливался.
— Чорта лысого тут что теперь найдешь…
Но все таки он оставил дежурить двух своих спутников со строгим приказом арестовать всякого, кто придет ночью на курган, а сам, придя в отдел ГПУ, написал срочное распоряжение вызвать на пять часов утра всех сотрудников для производства тщательного обыска всего Малахова кургана.
Передав приказание, Пруденко несколько успокоился. Но что то внутри все таки не давало ему возможности заснуть. Ржавая проволочка на руке адмирала, предсказанная телеграммой- молнией из Москвы, не выходила из его памяти. Задумчиво наливая себе стакан водки («чтобы мозги прочистить», как подумал он), чекист вдруг охнул.
— Ах, елки — палки! Да ведь с этими ребятами еще какой то шибздик, кажется, был. Обыскали ли и его? И где он?.. Ах да! Я велел его в детдом отвести. А ну ка?
Через полчаса выяснилось, что беспризорник бежал из под конвоя. Солдат комендатуры с побагровевшим лицом молча стоял перед начальником и слушал, потупясь, его ругательства и угрозы. Но словами помочь было нельзя. Когда ярость начальника немного улеглась, стоявший рядом сотрудник отдела с перевязанной головой — «крестник» наших беспризорников, осмелился сказать:
— Так что дозвольте доложить, товарищ начальник…
— Доложить, доложить, передразнил Пруденко. Выпустили пташку, а теперь лови ее в чистом поле. Обалдуи стоеросовые…
— Так что вовсе не так уж и страшно, товарищ начальник. Как я думаю, все беспризорники, которые коло вокзала крутятся — а там как раз и Корабельная и Малахов близко — так они завсегда в трубах ночуют. Я сколько разов там облаву делал!.. А теперь дождь — куда им податься, окромя труб? Так что ежели…
— Ах ты, чертушка поломатая! Вот здорово удумал! Значится, у тебя не все мозги каменьями вышибло?.. Правильно! Звякни сейчас же в батальон наших войск и затребуй пару грузовиков и дежурный взвод. Мы это дело сейчас же и провернем!..
— Ясное дело, товарищ начальник, подхватил польщенный похвалой чекист. Я там все дыры, как своих шесть пальцев знаю. Мы этих ребят мигом оттеда выловим!
— Каких таких ребят? поправил красноармеец. Там только один оборванец и был.
Забинтованный: чекист удивленно поднял брови.
— Как это так — «один»? Когда я под вечер следил за всей этой шайкой — там ведь двое ребят крутилось.
— Что было — того не знаю, упрямо стоял на своем красноармеец. А поймали и привезли вы одного…
Начальник ГПУ слушал перебранку со стесненным сердцем и потом опять прорвался в граде ругательств.
— Так, выходит, что вы, сукины дети, одного то и вообще не поймали? Ах вы! Чекисты с вас, как с дерьма пуля. О-б-л-а-в-у делали!.. Расстреливать вас, сволочей, мало! Государственное задание проворонили. Одного выпустили с рук, а другого и совсем вовсе не поймали. Ну, смотрите: ежели их в трубах не окажется — завтра весь город перетрясти надо, а этих двух обратно поймать… Может, им эта штука с памятника была передана! Ах, дьявольщина! И зачем это я на свою голову уже послал рапорт в Москву?.. Теперь уж никак не скроешь, что мы важное дело проворонили… Зря ведь Москва литерами СС швыряться не будет! Ах, если бы эта чортова молния пришла бы часа на три раньше!..
21. «Ищи ветра в поле»
Слаще всего спал Шарик. Он ухитрился забраться в пространство между телами своих хозяев, прикрыл пушистым хвостиком свою мордочку, и только остренькое ушко его оставалось настороженным, словно бодрствовало, охраняя сон своих друзей.
Это ушко первое услышало далекие заглушённые крики сквозь шум дождя. Шарик звонко залаял, и беспризорники мигом проснулись: они знали, что их собака зря не лает.
Объяснять доносившиеся крики не было нужды. Митька и Ванька поняли, что отряды милиции или ГПУ окружают их «дом», чтобы, забрав всех, насильно поместить в детские приюты. А этого ребята боялись не меньше голода. Они предпочитали голодать на воле, чем быть на тюремном и тоже голодном положении в детдомах и приютах. Поэтому крик — «Облава»! «Менты»![33] мигом заставил несколько десятков беспризорников выскочить из своих нор в надежде, что им удастся ускользнуть из кольца облавы, пока оно еще не замкнулось.
На дворе по прежнему было холодно и темно. Моросил мелкий дождик, и дул порывистый ветер.
Невдалеке мерцали огоньки вокзала, да со стороны бухты монотонно и глухо всплескивали мелкие волны залива.
Разбросанные на берегу цементные трубы были уже окружены цепью карманных фонариков. Где то в темноте раздавались детские вскрики, и кого то уже вели к темной громаде стоявшего вдали грузовика. «Ликвидация беспризорности» шла советскими методами…
— Держись вместях, Ванька! быстро крикнул Митька, принимавший командование везде, где требовалась быстрота решения и напор. Не отставай. Какую нибудь дырку еще найдем…
Он быстро сунулся по краю берега в ту сторону, где стояли обгорелые стены громадной мельницы Радаконаки, сожженной в гражданскую войну. Но и там уже были огоньки облавы. Тогда наши герои побежали, спотыкаясь в темноте, в сторону порта. Казалось, там еще был выход. Но внезапно перед Митькой сверкнул огонек фонарика, и грубый голос окликнул:
— Стой, шпана! Куда драпаешь?
Сильная рука схватила Митьку за плечо. Фонарик вспыхнул ему в лицо. С боку блеснул еще один фонарь, осветивший и самого «охотника». И при этом свете Митька узнал того чекиста, который недавно на кургане следил за его новыми друзьями.
Голова у него была перевязана.
— Эй, товарищ Карпов! крикнул раненый в темноту. Я тута одного зацапал. Давай его в грузовик — там потом при свете разберемся…
Митька с ненавистью вгляделся в грубое лицо над которым белела полоска бинта.
— В грузовик? насмешливо прошипел он. Жалко, что мы тебе на Малаховом совсем голову не продолбалн, сволочи чекистской. Шарик!.. Эй, Шарик — бери его!..
Яростный лай собаки раздался внизу. Чекист почувствовал, что его брюки выше сапог треснули от рывка зубами. Он брыкнул ногой назад, надеясь ударить собаку, но в этот момент Митька, извернувшись, резко и точно ударил его по челюсти. Рука чекиста выпустила беспризорника, и фонарик упал на землю.
Крики и топот бегущих ног раздались в темноте. Митька, нырнув в сторону, был спасен. Но надолго ли?.. Цепь облавы сдвигалась все ближе. Крики беспризорников раздавались то здесь, то там. Часть сдавалась покорно. Другие дрались, и их вязали веревками. Третьи прижались в трубах, и их оттуда выталкивали длинными шестами. Выхода, как будто, не было.
— Что ж делать? взволнованно спросил Ванька. Неужто попадемся?
— Ни черта, мрачно ответил Митька. Ты плавать умеешь?
— Я то? Да почти что, как топор.
— Ну, ничего. Я зато — как селедка в водке. Идем, Вань. Поплывем в порт. Неужто ж этим гадам так податься?
— А далеко плыть то?
— Да пустяк… Может шагов двести.
Вода была теплой, но шорох дождя по поверхности воды и шум волн испугал Ваньку. Когда вода дошла ему до пояса, он взмолился.
— А ну его к чорту, воду то… Может, Митька, так как нибудь прорвемся? А то страшно. Глянь вода то — как чернило черная…
— Тише ты, дурья твоя башка. А то услышат и из воды выловят… Не дрефь — разве я тебя когда бросал?… Ну, держись вот за меня… Шарик — сюда…
На полпути у берега стояла небольшая старая пловучая пристань. Приятели добрались до нее, вцепились в цепи, державшие понтоны, и стали отдыхать.
На берегу по прежнему был слышен шум драки. Внезапно оттуда донеслось два выстрела.
— Ara, удовлетворенно произнес Митька. Знать, кто то кому то перышко[34] под ребра сунул… Так им и надо, лягавым![35]
— Правильно! Мы бы тоже, ясно, даром не сдались бы. Только потом избили бы в милиции, да заместо детдома в кичу[36] запхали бы… А теперь мы вольными птахами опять будем… Ш.ш.ш. ш! Прячься, Мить!.. Прожектор.
Действительно, на берегу показался свет большого автомобильного фонаря. Луч скользнул по трубам, был перенесен на воду и там открыл несколько голов беспризорников, пытавшихся спрятаться в воде от облавы. Их выудили и оттуда.
— А хорошо, что мы не побоялись поплыть… Ну, айда дальше…
Поддерживая Ваньку, Митька скоро добрался до портового берега и вылез из воды. Ночной холодный ветер охватил их со всех сторон.
— У… Бр.р.р. р! Этак мы скоро к чортовой бабушке, совсем замерзнем! Идем, Митька — там, я знаю, дальше кочегарка есть. Может, пустят погреться.
Подлезая под вагонами, спотыкаясь в темноте об рельсы, наши приятели скоро дошли до большого белого здания у подножия горы — электростанции порта. Ванька уверенно провел своего друга на задний двор между горами каменного угля к ярко освещенной открытой двери. Там в длинной низкой комнате виднелись железные стены паровых котлов, между которыми медленно ходили двое кочегаров. Время от времени, один из них открывал дверцу котла, чтобы подбросить угля, и тогда оттуда вырывался яркий блеск белого пламени.
— Вот где тепло! с завистью сказал Митька.
— Туда то мы и топаем! Бог даст, так нагреемся, что до смерти хватит… Ты подожди тут, а я пойду канючить.
Через несколько секунд перед глазами кочегаров показался худой согнувшийся мальчик с бледным жалким лицом. Его большие голубые глаза смотрели умоляюще.
— Дяденьки, жалобно прозвенел тонкий голос. Пустите обогреться, Христа ради… Пожалуйста… Замерзаю совсем!..
Младший из кочегаров недружелюбно поглядел на него.
— А ты откентелева тут такой взялся? Посторонних сюда пускать не велено.
— Да какой же я — «посторонний»? взмолился Ванька. У меня батька с Морзавода… Только он заболел, и его в больницу свезли… А я не знаю, где и согреться… Вот, по дождю шедши, заплутался. А на дворе дюже холодно… Пустите…
— Много вас тут шатается. Пустишь, а потом отвечай за вас!
Старый бородатый рабочий вмешался.
— Да брось ты, Петруха. Видишь сам — дите малое… А там кто еще с тобой?
— А это брат мой. Вместе тепла ищем. Дома куска хлеба нет… Будьте человеками, товарищи… Век Бога будем молить… страсть холодно…
— Да что ж с вами делать? Уж идите, горемычные. Да ты не бузи, Петруха, остановил старший своего товарища. Я в ответе. Нельзя же жизни губить. И без того столько горя на свете. Ну, идите вот туда, сбоку котла. Только, чтоб ничего не красть!
— Да что вы, товарищок? Разве мы сволочи какие? радостно отозвался Ванька. Ведь вы же рабочие, не фраера! Мы понимаем… Дай вам Бог здоровья…
Беспризорники забрались на какую то пристройку около котла, где было сухо и жарко, и мигом уснули. Старший рабочий поглядел на их оборванные, грязные лохмотья.
— Вот дожились к чортовой матери. Дети наши, как волчата в лесу, бегают… За Расею стыдно…
— Ну, что ж… Планида, значит, такая. На то и революция! наставительно произнес младший.
— Революция? тихо, но мрачно произнес бородач. Нужна была нам эта революция, как собаке пятая нога… Разве мы до этой проклятущей твоей революции видали такие виды?
Он негодующим жестом показал на спящих у котла мальчиков и злобно рванул дверцу топки.
22. В путь
Митька спал очень беспокойно. Уже часа через два он проснулся и почесал свою взлохмаченную голову. Шарик умильно вильнул ему хвостиком и опять свернулся узлом.
Но Митька уже не мог уснуть — какая то мысль, видимо, сильно тревожила его. Потом он толкнул в бок Ваньку.
— Чего тебе? недовольно проворчал тот.
— А ну очухайся, браток. Поспал в тепле и будя. Нужно дело думать.
— А какое такое дело? зевнул Ванька. Ишь тут как тепло… Я думаю — что если люди не врут, что в пекле жарко — ей Богу, я согласен там квартиру снять… Хорошо, когда все косточки прогреются…
Лицо Митьки было озабоченным.
— Погодь, Вань… Не трепись. А дело то ведь хреновое выходит! Смываться, брат, нам нужно с Севастополя.
— Смываться? А почему это?
— А очень просто. Я тому чекисту поломатому здорово в зубы въехал — аж до сих пор кулак болит. Если он меня теперь где встретит — враз узнает! Он, сволочь, на меня здорово фонарь навел… А потом я ему сдуру, да по злобе, про Малахов курган ляпнул, что это мы его там каменюками гвоздили… И ежли он меня теперя где поймает — аминь — враз дух вышибет.
— Н-да… Он тебе не простит. Я знаю — как ты кому дашь в зубы — могила!.. И в кого только ты такой здоровый чорт уродился?.. Н-да, видно драпать и в самделе нужно. А только куда?
— А в Москву!..
— В Москву-у-у-у? Чего ты там делать будешь? — Как это чего делать? Находиться!
— Но почему тебя чорт в Москву тащит, а не в другое место?
В памяти Митьки мелькнуло веселое лицо Серёжи, который так ласково потрепал его за волосы и дружески прижал к себе. И опять теплое чувство нежности и привязанности поднялось в нем. Но Митя не сказал своему приятелю ни о своем чувстве, ни о желании встретить веселого футболиста, чтобы передать ему порученную тайну.
— Почему, говоришь, в Москву? Да, просто не видал я еще ее. Позырить хочется.
— Да ведь тута скоро виноград доспеет.
— Эва, виноград? А мы смотаемся туда-сюда мигом. Поезда дармовые… Первым классом махнем!..
— Ну что ж. Если тебе уж так приспичило — топаем. Чорт с тобой, а я — парень компанейский. Да и то верно: тот парень, кого мы каменюками причесали, а потом ты ему в зубы дал — он с тебя и взаправду душу вытряхнет, пока до ГПУ доведет… Айда, Митька, на вокзал. Как раз, кажись, утром скорый на Москву идет…
* * *
Приятели поблагодарили кочегаров и вышли из станции. На дворе было еще совсем темно, и только редкие фонари порта освещали мертвые вагоны и стены пакгаузов. Ванька всматривался в груды бочек и мешков и наконец воскликнул:
— Во… То, что нам надо!
— А что?
— А видишь, там что в мешках? Верно, картошка!
— А на что тебе — все равно отсюда никуда не вынесешь!
— Да нам не картошка нужна, а мешки.
— Мешки? А на что?
— Ах ты, тетеря деревенская… Ты, видать, сюда под вагоном приехал?
— Ara.
— Ну, это другое дело… А нам здесь на вокзале нипочем ни под вагон, ни в вагон не влезть — конечная станция — здорово осматривают. Надо на крыше ехать. А ты знаешь — тут коло Севастополя девять тоннелей проехать надо… А там без мешка не проедешь — дым, да искры с паровоза так бьют, что не приведи Бог. Сколько наших, не знаючи, так вот — турманами[37] в рай полетели…
Приятели украли два мешка, перебросили их через высокую каменную стену и пошли в ворота. Заспанный сторож, не видя у них ничего в руках, выпустил их свободно.
Ванька не ошибся. Действительно, у перрона вокзала стоял скорый поезд на Москву. Беспризорники подкрались к поезду с другой стороны перрона. Митька свистнул и поставил руку. Умный Шарик мгновенно вспрыгнул на руку и забрался за пазуху. Приятели незаметно влезли на крышу, укрылись мешками и опять задремали. Скоро паровоз свистнул, и пассажиры первого беспризорного класса поехали в Белокаменную…
23. Концерт
Вагон третьего класса был переполнен. Люди, вплотную прижавшись друг к другу, сидели на нижних скамьях. Над ними на спальных полках. и на полках для багажа — везде виднелись человеческие фигуры. В проходах между скамьями сидели на своих чемоданах и узлах менее удачливые пассажиры. Неясный гул разговоров вторил глухому шуму колес. Скорый поезд «Севастополь-Москва» приближался к Мелитополю.
Как то незаметно в гул разговоров вплелся чистый звонкий детский голосок.
На окраине где то города Я в убогой семье родилась…На фоне неясного шума этот голосок пронесся, как звук колокольчика среди отдаленного грома. Разговоры прекратились. Голосок, теперь поддержанный другим более низким голосом, продолжал:
Горемыкою, лет шашнадцати, На кирпичный завод нанялась…Песенка была всем известной свежей любимой народной песенкой. В ней рассказывалась история одной рабочей девушки, которая на этом заводе встретила своего суженого — Сеньку.
Вот за Сеньку то, за, кирпичики, Полюбила я милый завод…Песенка трогательно рассказывала о том, как был разрушен завод во время революции, как потом рабочие, те, кто был привязан к старому пепелищу, взялись за его восстановление, как после долгих скитаний по стране девушка встретила своего Сеньку на том же старом милом кирпичном заводе.
Зашумел завод, загудел гудок, Как во время бывалое он, Стал директором, управляющим На заводе товарищ Семен…Прошли годы лихолетья. И о наступлении новой счастливой эры пел звонкий голос Ваньки… Эти слова находили отклик в каждом сердце слушателя. В счастье верили все бедняки, наполнявшие этот вагон. Они тоже мечтали о конце испытаний, голода, гнета. Вот почему слова простой знакомой родной песенки, пропетые так музыкально и выразительно, глубоко волновали сердца.
И когда замолкли последние слова, примолкшие люди негромко заапплодировали и стали выглядывать из своих углов, чтобы увидеть поющих. В конце вагона стояли наши приятели — Митька и Ванька — босые, оборванные, без шапок.
Шум разговоров еще не успел восстановиться, как опять раздался ясный голос Ваньки:
— Мить… Слышь ка, Митька?
— Чего тебе?
— А ты не знаешь, чего это в Типлисе дом с мамкой Сталина так здорово стерегут?
— Не, не знаю… А чего?
В тишину притихшего вагона врезался театральный шопот:
— А это, чтобы, избави Бог, она второго Сталина на наше несчастье не родила!..
Кое — кто фыркнул. Кто то наверху рассмеялся. А беспризорники уже пели:
Эх, раньше была водка царская, Ну, а теперь она — «пролетарская»… Но тот же запах, Те же цели И такой же цвет! Заразнйцы на самом деле Никакой ведь нет…На этот раз в вагоне откровенно засмеялись. Несколько бородачей, пожилых крестьян и рабочих переглянулись:
— А и то верно…
— Нет, не говори — в царское время водочка лучше была…
А беспризорники продолжали:
И раньше была — все полиция, Ну, а теперь она — «губмилиция»… Но тот же запах, Те же цели…Среди пассажиров пронеслись смешки более откровенные. Песенка била не в бровь, а в глаз, и ядовито высмеивала советские «достижения». Слушатели знали, что только такие вот ребята — беспризорники и могут петь эти песенки: что с них возьмешь? Голому терять нечего…
— Эй, Митька? опять раздалось в тишине.
— А?
— А ну — разгадай ка загадку?
— Ну?
— Что такое: сверху перушки, а внизу — страшно.
— Как, как говоришь?
— А вот: сверху перушки, а под низом страшно.
— Гм… Митька с недоумением почесал свои рыжие вихры. Слушатели с любопытством и усмешками переглянулись.
— Ну?…
— А чорт его знает… Постой, постой!.. Ага!.. Это, видать, в Москве: воробей, который на крышу ГПУ сел… Верно?
В вагоне засмеялись.
— Здорово Митька! Ты, видать, здорово вумный… Ягода[38] бы в жисть не догадался… Вот, видать, потому, что он был несообразительный — его и шлепнули. А тебе, Митька, помирать охота?
— Что ты — опупел что ли? За что мне помирать?
— Как так за что? А за Сталина?
— За Сталина… Да ни в жисть!..
— Вот тот то, браток, и есть: За Сталина никто у нас помирать не хотит, а от Сталина — ох, как многие помирают!..
На этот раз никто не засмеялся — шутка была слишком сильной. Но беспризорники не дали времени слушателям для испуга. В молчание вагона ворвались задорные слова:
Чепуха, да чепуха, Это просто враки: Молотками на печи Рыбу косят раки…Митька широко раскрыл рот и выбивал мотив пальцами по зубам. Это на языке беспризорников называлось: быть «зубариком». На фоне этого «аккомпанимента» Ванька «выкомаривал»:
Жид селедку запрягал В царские монетки И по Сесесер скакал В виде пятилетки…Пассажиры смеялись. А песенка лилась дальше:
А за ними во всю прыть, Тихими шагами Чека старалась переплыть Лагерь с кулаками… Чепуха, да чепуха, Это просто враки! Сталин едет на свинье, Ленин — на собаке…И вдруг:
— Ты чего, сучья твоя душа, нарочито сурова прервал песню Митька, нашу родную советскую власть срамишь? А? В ГПУ, что ли, захотелось?
— А что ж ей в зубы глядеть то? — Огрызнулся Ванька. Я с ей в земельной программе не согласен!
— Как, как ты сказал? удивленно переспросил Митька. Да ты сам понимаешь ли слова энти? Сбрендил что ли? Какая же это зе-мель-на-я про-грам-ма?
— А очень даже просто: советская власть меня хотит в землю зарыть, а я ее. Вот и все… Гляди, вот даже собака, и та понимает: Эй, Шарик, дружок мой ненаглядный!..
Желтый хвостик приобрел вращательное движение, и умная мордочка поглядела на хозяина.
Ванька взял у дверей заранее приготовленную палочку.
— Ну, Шарик, ты у нас собачка ученая — политграмоту здорово знаешь. А ну ка, прыгни за Ленина.
Собачка охотно перепрыгнула через протянутую палочку.
— Молодец. Ты, видать, пролетарского звания — не буржуйка. Ну, а теперь — за Крупскую!
Шарик охотно перепрыгнул через выше поднятое препятствие.
— Молодец! Ну, а теперь прыгни, милок, за Сталина.
Палочка была опущена совсем низко. Но, тем не менее, Шарик не прыгал.
— Что ж ты, Шарик?.. Сукин сын. Сигай за Сталина!
Шарик повернулся спиной к палочке. Митька взял его за шею и хвост и повернул мордой к палочке. Но собака вырвалась из рук мальчика и забралась под скамью.
— Ишь ты? сказал, качая головой, Ванька. Это только, видать, стахановцы за Сталина сигают, а простая собачья душа не выносит…
Снова раздался смех. А мальчики запели:
Калина, малина Мы поймаем Сталина, В… ноздрю пороху набьем И Калинина убьем…Вагон слушал с удовольствием. Улыбающиеся лица виднелись отовсюду. Видимо, концерт был — хоть куда. Понеслись и подзадоривания.
— А ну ка еще, ребятишечки!..
— Спойте еще что… Печальное! Беспризорники переглянулись.
— Ну, раз просят — давай нашу — «беспозорную»…
И опять тонкий печальный голосок начал:
Во саду, на рябине Песни пел соловей, А я, мальчик на чужбине, Позабыт от людей. Позабыт, позаброшен С молодых юных лет. Я родился сиротою, Счастья, доли мне нет.В песне звучала жалоба этих маленьких человечков, словно они протягивали теперь свою боль и свой упрек взрослым людям, позволившим им дойти до такой жизни…
Ах, умру я, умру, Похоронят меня. И никто не узнает, Где могилка моя… И на ту на могилку Никто не придет… Только раннею весною Соловей пропоет…Голосок Ваньки рыдал и звенел. И жалостью дрогнули сердца женщин, потупились бородатые лица мужчин, словно им всем стало стыдно за то, что на свете существуют такие вот грязные оборванные русские дети, без дома, без. крова, без семьи, кочующие по советской земле…
И когда замолкли звуки песни, и тонкая бледная рука Ваньки протянулась за подаянием — редко кто не положил в протянутую ладонь какой либо монеты, со сжавшимся сердцем вглядываясь в худое лицо мальчика-сироты…
Едва мальчики окончили обход пассажиров, как в другом конце вагона показались солдаты. Пожилой рабочий, увидев форму ГПУ, тороплива шепнул беспризорникам:
— Ну, ребятки, теперя смывайтесь быстрее. ГПУ идет… Проверка документов!
Наши приятели и сами знали, что делать. Они быстро нырнули на площадку вагона и по железной лестничке забрались на крышу. На их счастье день был теплый.
Подождав, пока пройдет обход ГПУ, ребята спустились опять вниз — днем на крыше нельзя было ездить: слишком видно.
— На следующей станции слезем, Черви-Козырь. Малость подработали — пошамаем всласть. И знаешь что: тырить ничего не будем — а то еще засыпемся и от поездов отстанем… А мне в Москву поскорее охота… А концерт наш здорово вышел! На ять! Но вот что я тебе скажу, Ванька… Воровать ты не такой уж мастак. Но вот петь — прямо не знаю, откуда у тебя что берется? Так ты сегодня пел, что даже у меня в носе защипало… Аж всю душу перевернул!..
— А что ж ты думаешь? печально отозвался Ванька. В его бледном лице теперь не было обычной озлобленности и вызова, словно откуда то извнутри хлынула и все затопила долго сдерживаемая грусть и боль. А что ж ты думаешь, у меня на душе что: камни, да мат?.. У меня, браток, там тоже слезы, да горе… Вот, видать, они то так жалостно и поют…
24. На крыше
Скорый поезд — «Севастополь — Москва» полным ходом несся на север. Была темная безлунная облачная ночь, и в этой темноте казалось, что паровоз с гневным напряжением разрывает своей грудью заросли тьмы, и от трения металла об эту тьму летят искры и раскаливаются окна вагонов. Но за мелькнувшим огненной полосой поездом тьма смыкалась опять непроницаемой стеной, и ночь и широкие русские поля опять казались мертвыми, словно их и не прорезала только что с гневным гулом сверкающая полоса скорого поезда.
На крыше последнего вагона, подальше от искр паровоза, небольшой темной кучкой, держась за вентиляторные трубы, лежали наши друзья. Ночь была холодной. Ветер жестоко рвал их мешечную покрышку, и каждые 10–15 минут наши герои менялись местами, по очереди подставляя свои спины ударам холодного встречного ветра.
Разговаривать было трудно, да ребятам и не хотелось разговаривать. Прижавшись друг к другу, они лежали на качающейся покатой крыше и наслаждались ощущением хорошего, обеда: на вырученные от «концерта» деньги им удалось купить на базаре одной станции кусок сала, и это редкое лакомство вместе со стаканом водки наполняло их желудки блаженным ощущением сытости и теплоты.
Изредка в темноте каким то светящимся призраком мелькали мелкие станции, на которых скорый поезд не останавливался, и опять железное чудовище ныряло в. мрачную тьму и ревело, прорываясь сквозь леса и холмы. Порой над сжавшимися в клубок приятелями пролетала какая нибудь особенно яркая искра из трубы паровоза, и тогда они молча следили за ее огненным полетом во тьме.
— Ну как, Ванька? заботливо спросил Митька. Не замерз?
— Не… хрипло ответил младший беспризорник. Только вот ноги поддувает…
— А ты скрючься побольше. Так вот. Коленки к носу прижмай, а со спины я тебя загорожу.
Митька был сегодня особенно внимателен к своему слабенькому другу. Он старался прикрыть его от холода и подольше побыть спиной к встречному ветру. Ему было почему то особенно жалко своего бледного болезненного товарища. Тоска и грусть, которые сегодня особенно ясно проявились в его недавних песнях, напомнили Митьке позабытые картинки его деревенского дома и пенье матери. А этот худенький мальчик был единственным близким ему человеком в свете. И как более сильный и старший, Митька заботился о своем друге, как о младшем брате.
Почему то Ванька был каким то нервным, неровным и возбужденным, словно какая то жгучая боль всплыла наружу откуда то из самой глубины души. Он как будто стыдился этой боли и старался напускным ухарством скрыть свое волнение от глаз товарища.
— Брось ты, Митяй, нежности выдумывать! нервно огрызнулся он в ответ на заботливые слова товарища. Тута, браток, от ветра свнутра греться нужно. Молочком от бешеной коровки… Гляди вот.
Ванька вытащил недопитую бутылку водки, лег на спину, и что то забулькало в темноте. Митька смотрел на эту сцену неодобрительно.
— Брось… Спьянеешь совсем и сковырнешься к чортовой матери с вагона.
— Вот еще?.. Это я то? с обидой в голосе произнес Ванька. Ах ты, тетеря колхозная. Я как себя помню — завсегда водку пил… Надо же душу чем заливать! Хочешь, я, ни за что не держась, по крыше пройду?
— Да брось трепаться! Эк, тебя разобрало. Лежи!
Но Ванька был близок к истерике.
— Как это: лежи? Ты, что ль, деревня, мне приказывать будешь? Я… Я сам себе хозяин!.. Захочу, хоть до паровоза дойду!
Придерживаясь за трубу вентилятора, Ванька хотел встать, но сильная рука Митьки удержала его на месте.
— Лежи, пьяное рыло! сердито прикрикнул он. А то как дам в рожу, так все зубы растревожу. Нашелся тут тоже прогульщик… Лежи!
— Что ты тут разоряешься, да командуешь? пытался бунтовать пьяный Ванька.
— Лежи, еще раз прикрикнул Митька. Знаешь сам — рука у меня тяжелая. Выдумал тоже фокусы показывать… Лежи, сучий сын!
Он прижал к себе тело приятеля и так крепко обнял его руками, что лежавший за пазухой Шарик даже пискнул.
Ванька уже начинал сдавать.
— «Сковырнусь»? ворчал он… Ну, и сковырнусь… Никому до этого дела нет… Кому я нужон?
И он опять потянулся к бутылке. Митька протянул руку, чтобы отобрать ее, но Ванька не давал. Завязалась короткая борьба. Митька одолел и отобрал бутылку. Но в тот момент, когда он размахивался, чтобы выбросить ее в гудящую кругом тьму, вагон особенно сильно рвануло. Приятели быстро схватились за трубы вентиляторов. Выскочивший из за пазухи Шарик пытался удержаться лапами за лежавший мешок, но потом стал скользить по наклонной плоскости крыши вагона. Друзья, еще разгоряченные происшедшей стычкой, не сразу заметили усилий их маленького друга.
Тот, наконец, жалобно взвизгнул. Ванька первым оглянулся и увидел темный клубочек, тщетно пытав…
Нет страниц 159, 160.
25. Пустая душа
…Комок горячих слез подкатился к горлу мальчика. Он с еще большей ясностью понял, что он потерял единственное в жизни. Что вот у «других», там вот наверху, на скамьях вагона, есть родные, знакомые, друзья. А он — один в целом мире, и у него ничего не осталось, кроме воровства, тюрем, грязи, побоев, попрошайничества. Волна боли и отчаяния опять поднялась в нем. Он вцепился зубами в руку и затрясся в глухих рыданиях…
Теплый язычок коснулся его щеки и слизнул соленые слезинки. Ласковое повизгивание раздалось над ухом. Шарик, почуявший горе хозяина, прижимался к нему всем своим пушистым телом, словно стараясь сказать:
«Ничего, Митя… Ведь я с тобой»…
Нежность маленького друга как то успокоила Митьку. Он погладил свою собачку, вытер слезы и вздохнул. На минуту в его памяти всплыла картинка, как в Одессе он нашел маленького щеночка в помойной яме, куда он сунулся за отбросами. Этот жалобно пищащий комочек тоже показался ему товарищем по несчастью, и он запихнул, его за пазуху не без задней мысли съесть его в трудную минуту. Но потом Митьке «пофартило»[39], голодная полоса в жизни как то прошла, Шарик оказался умной, славной собаченкой и сделался верным товарищем во всех радостях и невзгодах… Даже с таким маленьким другом легче на свете. Все таки он не совсем один в жизни! Потом он вспомнил, что едет в Москву, к своему другу-футболисту, белокурому, высокому, сильному, с открытым веселым лицом… И снова какая то вера, какие то теплые струйки стали пробираться в его измученное сердце…
В этот момент в спину мальчика ударилось что то твердое.
— Вот напхали вещей, дьяволы, сердито раздалось сверху. Чемодана поставить некуда!..
Чье то лицо нагнулось под лавку, и острые глаза заметили скорчившуюся фигуру Митьки.
— Эге… Вот оно кто там себе место занял?.. Эй, милок, вылезай ка оттуда, а то ГПУ позову… Этак, товарищи, у нас от вещей ничего не останется…
— Вора поймал? Да ну?.
Несколько мешков и чемоданов было отодвинуто в сторону, и под скамейку заглядывало уже несколько лиц.
— ГПУ вызвать надоть. А то все сворует…
— А ну вылезай!
— «Вылезай»? проговорил сквозь зубы Митька, шаря в своем мешке. Как бы не так!
Он прополз между мешками и высунул голову наверх.
— Ara, вот он… Ну, вылезай, а то в ГПУ сдадим!
Злобные и настороженные лица окружили мальчика. Кто то протянул к нему руку. Шарик яростно заворчал.
— Не замай! резко окрикнул Митька. В его голосе и выражении лица было что то похожее на ярость волченка, и человек, протянувший было руку, невольно отдернул ее.
— Не трожь меня, товарищи! угрожающе сказал мальчик. У меня отца шлепнули, мать с голодухи померла… Я к брату в Москву еду… Не трожь нас с собакой. Мы никому злого не сделаем. Богом клянусь, ничего не сворую!..
В голосе Митьки слышались боль и отчаяние. Его лицо было еще мокро от слез и судорожно подергивалось от пережитых только что рыданий. Люди инстинктом поняли, что мальчик действительно испытал большое горе, и что на его душе лежит какая то большая тяжесть.
— А пусть себе едет, мягко произнес чей то женский голос. Раз он обещает не красть…
— Да и как же он оттеда что вынесет? Мы же тут все видим…
— Пущай едет…
— Эва? отозвался другой, злобный голос. Они — воры хитрые. Вытащат — не заметишь… И притворяться могут… Лучше в ГПУ сдать.
Глаза Митьки загорелись.
— В ГПУ, сучья твоя душа?.. Так дай же Бог, чтобы твои дети так же бегали по улице, как я!.. Чтоб и они с голодухи дохли! И ты тоже, гадина ты подлая. Тебе абы только твой мешок целый был, стерва, а что тут вся душа в крови — тебе дела нет. Тебе это все едино!.. Сволочь ты советская!..
— Молчи, щенок!.. Да я тебя…
Волосатая грубая рука потянулась к Митькиной шее. Он отбил ее резким ударом и крикнул зады-хающим голосом:
— Эй ты… Лапы убери, а то палец откушу или ножом пырну. Не трожь лучше. А то — видишь?
В руке Митьки появилась бутылка.
— Видишь? Керосин тута. Если вытаскивать будешь или в ГПУ стукнешь — мне все едино терять нечего: я бутылку разобью и спичку суну… Чуешь?
В голосе мальчика было столько отчаянной решимости, что в вагоне поняли: беспризорник свою угрозу выполнит. Никто не знал, что в бутылке простая водка, не загорающаяся от спички. Да, пожалуй, в приступе отчаяния Митька и сам верил, что все вспыхнет от его спички. Но, во всяком случае, угроза подействовала. Рука, протянутая к мальчику, опять опустилась.
— Ну вот: так то лучше… Миром. А я гадом буду — ничего не украду!
Голова беспризорника исчезла под скамейкой. Пассажиры переглянулись и словно по молчаливому соглашению поставили, чемоданы и мешки на старое место. Каждый из тех, кто наблюдал эту сценку, почувствовал, что во вспышке мальчика есть какая то доля личной только что пережитой трагедии, и что этому беспризорнику с исковерканным от злобы и отчаяния лицом можно верить.
А Митька внизу под скамьей, опять свернулся клубком, пощупал привязанный под коленом предмет, обнял Шарика и устало уронил голову на руку. Скорый поезд мчался к Москве…
Глава IV Несгибающаяся молодёжь
26. Неизвестность
— Так что вот, ребятишечки, каков мой рапорт. Можете ругать меня почем зря, но, право же — я то чем виноват? Слежка — вы сами знаете, здо-о-о-рово была поставлена. Вы ведь сами тоже во время не заметили… А насчет нашей «тайны» — уж, значит, такая судьба… «Кисмет»… Не повезло — вот вроде как и тебе, Колька, с твоей лапой, И как только тебя угораздило сверху так загреметь? Как лапа — «фукцирует» уже?
— Ничего… Заживет!
Наши друзья сидели на набережной Москва-реки, откуда во все стороны можно было видеть на сотню метров, и рассказывали свои приключения. Героем рассказа был Сережа, которому удалось напасть на след их «тайны». Но заметно было, что неудача немного ошеломила бесшабашного студента.
— А остаться на дольше мне никак нельзя было, несколько виноватым тоном закончил он свой рассказ. Денег не было ни копья, команда уезжала, торчать в Севастополе было незачем, да и опасно. Целый день я шатался по всяким дырам, думая встретить этих ребят, да разве их найдешь? Это все равно, что найти знакомую блоху в стоге сена. Так ни с чем и уехал. Хорошо, что хоть свою шкуру целой вытащил из этой странной истории… Не везет нам, ребята, с этой тайной адмирала. Вот навязался старый хрыч на нашу голову!
— Так ведь ты же сам голосовал за то, чтобы взяться?
— А я думал, что тут только забавно будет: вроде крестословицы в журнале. А тут — на тебе: плюнуть некуда — везде около нас ГПУ…
Друзья задумались. Слежка ГПУ для них не была новостью. В какой то степени они все к ней привыкли, как привык каждый гражданин СССР. Но то напряжение слежки, которое было установлено именно за ними, показывало на какой то чрезвычайный интерес «всевидящего, ока» к этому делу. Было очевидно, что ГПУ знает или подозревает в этой тайне что то весьма важное, и что, не будь случайности с беспризорником, тайна, которую они пытались открыть, уже была бы в руках ГПУ… А теперь?
Николай первым нарушил молчание.
— Ну, хорошо… А по твоему, Сережа, этот твой паренек — Митька, кажется? — он не сдаст найденной штуки в ГПУ?
Сережа задумчиво покачал головой, глядя на уходящие вдаль темно-красные стены и башни Кремля.
В ГПУ? переспросил он. Да как сказать? В паше сволочное время ни за кого нельзя поручиться. «Люди-овечки — рвань человечки»!.. Даже за себя самого не поручишься… Знаете, как рассказывают — взял один жид зеркало, глядит в него и говорит самому себе:
«Знаешь, Хаим? Я уж не могу сказать, кто именно, но один из нас — сексот»…
Такое время!.. Но должен сказать по совести — тот паренек — на Малаховом — мне очень понравился. Такая у него круглая, курносая рожа. Весь рыжий, а глаза славные. И крепкий паренек — право, даже удивительно! И — спортсмен, а это, как ни говори, черточка характера хорошая. Значит — не трус и не предатель… Но ведь Бог знает, что может случиться. Жизнь беспризорника — не гладкая радость…
— Но где же мы его выудим? задумчиво спросила Ирма.
— А это, Ирмушка, как Бог даст. Знаешь ведь сама советскую поговорку:
«Все под Богом и ГПУ ходим»…
Будем спрашивать, интересоваться. Потом — Митька ведь знает, что я из Москвы. А билеты у него даровые — под вагоном или на крыше. Ребята не погибающие: в крематории не горят и в водке не тонут… Может быть, и приедет. Да и потом я севастопольцев очень просил поискать этих ребятишек. Они обещали… Особенно я надеюсь на дивчину там одну — чу-у-удесная дивчина! Тамарой звать. Я ей на матче мячом здорово в бок въехал, с этого и знакомство началось… Так она крепко мне обещала…
При слове «Тамара» девушка зорко поглядела на Сережу. Под влиянием ее внимательного взгляда легкая краска поползла по щекам юноши. Николай многозначительно крякнул.
— Чего это ты? вызывающе окрысился Сережа.
— А в чем дело? самым невинным тоном спросил моряк.
— Да вот крякаешь, как грот-мачта во время бури?
— А это я так, дорогой Офсайд Иванович!.. Голос пробую перед докладом…
— Ну, то-то же!
— Чего «то-то же»? А ты чего покраснел, футбольное мясо?
— Кто? Я?
— Ну да, ты… Та-ма-роч-ка тут нечаянно не при чем?
— Иди ты, браток, к Аллаху под рубаху, вспыхнул Сережа. Сам по макушку влюблен, так и других видишь в этом обалделом состоянии.
— Почему же в «обалделом»? Что плохого во влюбленности? улыбаясь, вмешалась Ирма. Ее тон был мягок и спокоен. Почему ты, Сережа, так взъерепенился? Ей Богу, на свете много приятней и легче жить, когда сердце поет, руки тянутся к милому, и губы сами собой улыбаются. Если ты и влюбился немножко — что ж тут плохого?
— Нет, уж, Ирмочка. Не пой! Я, знаешь, не поэт, а человек инженерный и футболист. В старину так певали солдаты:
«Наши жены — ружья заряжены. Вот где наши жены»…Ну, а теперь — в период индустриализации поется иначе:
«Трактор сеет, Трактор жнет, Трактор песенки, поет, Одевает, Обувает, А весеннею порой Слаще девушки ласкает»…— А ты брось свою механизацию, вмешался Николай в разговор. Будь человеком, а не машиной для забиванья голов! Ирма права — куда лучше на свете жить, когда любишь!.. Читал когда нибудь, как премудрый Соломон говаривал: «Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого — любовь и мудрость»…
— Насчет любви — не знаю, может быть, Соломон и был прав. Ему и книги в руки! Не зря же у него было 300 жен и сколько то там… как это? Подруг, что ли?.. Но вот насчет мудрости — у меня ее, слава Богу, нет ни на копейку. Ну его к чорту — мозгами жить! Если задуматься — так и жизнь разлюбишь!.. А насчет бабьего вопроса, ты, значит, думаешь, что:
«Если парень холостой, Он как будто бы — пустой»…— Ну, конечно, же, мягко усмехнулась Ирма, осторожно прислоняясь своей золотистой головкой к массивному плечу своего моряка. Она заботливо поправила косынку на забинтованной руке и смеющимися глазами посмотрела на смущенного студента. И почему тебе, Сережа, стыдится своего чувства? Тебе давно уже пора по настоящему влюбиться. Я хотела тебе свою одесскую подругу Мисю сосватать, да только она такой сорванец, что вы вдвоем Москву перевернете. А если твоя севастопольская дивчина славная и тебе понравилась — так почему тебе скрывать это?
Но футболист не сдавался.
— «Понравилась»? Да мне, собственно, многие нравятся… Только тут что то иное: она, Тамара, то-есть, знаешь, на тебя малость похожа: тоже «принцесса-недотрога». Я перед ней как то робею. Я ведь ей здорово мячем въехал, и хромала она сильно. Что ж — я не виноват, я ведь в гол стрелял. Сорвалось. А почему то все таки совестно было. С другой девочкой — по этому случайно случившемуся случаю такой флирт бы закрутили, что небесам жарко стало бы. А с Тамарой этой — ну, ни в какую… Даже на Малаховом кургане, — когда она опять сильно захромала — я, понимаешь, даже под руку ее взять не решился, хотя лапы к ней так сами и тянулись… Она тоже с косами, только темными. Глаза — ну, как бы тебе сказать — ну… как у обиженного ангела… Лицо — такое хорошее женское лицо, славное и мягкое. Сперва я так и думал — этакая милая мягенькая шляпка… Симпатяга! А потом…
— Ну, теперь и спой, Офсайд Иваныч:
«Весенний ветер за дверьми, В кого б влюбиться, чорт возьми?»…— Да и, кроме того, послушай, Сережа, серьезно добавила Ирма. Ты не забудь, что перед нами тяжелая задача — отыскать нашу тайну. Ведь взялись! Отступать не будем! А когда есть дружная хорошая компания, любящие, доверяющие друг другу люди — все лучше выходит. Знаешь: разделенное горе — пол-горя. Разделенная радость — радость вдвойне. Не бойся открыть свое сердце теплу… Я же вижу — Тамара тебе сильно понравилась. И слава Богу… Что ж в этом плохого?
Сконфуженный футболист махнул рукой.
— Ну, и психолог же ты, Ирмочка! Прямо в самую душу залезешь и крыть нечем… Ведь, сказать по правде — я о Тамарочке моей частенько вспоминаю. Я уже тебе рассказывал — с виду она так себе симпатяга — мягкая, уютная, без всяких намеков на флирт. Простая; чудесный, видно, товарищ и друг. А потом — на Малаховом как стала она про Оборону Севастополя рассказывать — так словно в ней что то загорелось, и она выросла. До сих пор, знаешь, сердце у меня только на футболе, да в танцах билось посильнее… А там — она за что то русское задела. Я, помню, про папиросу свою забыл, сердце билось, как… ну, как 11-метровый удар бьешь на последней минуте матча[40], а то еще сильнее… Ей Богу, до ее рассказа я никогда и не думал, что я такой русский… Даже сам удивился! Вот и сейчас, продолжал студент, показав широким жестом на освещенные закатом Кремлевские башни. Я вот и на наш Кремль гляжу иными глазами. И только теперь стал понимать Пушкина, когда он писал:
Москва!.. Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось…И все это моя Тамарочка со мной сделала. Прямо наизнанку меня вывернула!..
Ну, а потом в ГПУ — там прямо уже умора была: так она над чекистами издевалась. И все этак вежливо, но яду-у-у-у было… И спокойно, словно это для нее обычная вещь — в Чека сидеть и с чекистами ругаться… И брат у нее тоже — гвоздь-парень. Против меня как раз за Севастополь играл. Пришлось раза три его с копыт снять, чтобы он дорогу давал. Упрямый… Ты, знаешь, Ирма, я думаю, что эти двое найдут наших беспризорников.
— Дай то Бог… И ведь надо же было случиться, что тайна, пробывшая 20 лет на руке адмирала, попала теперь в грязную лапку беспризорника. Вот судьба… А знаешь что, Сережа — моя, как назвал ВАП, женская интуиция тоже подсказывает, что тот паренек — Митька, кажется — не выдаст…
— Клянусь футболом, не выдаст! уверенно заявил Сережа. Хороший спортсмен не может быть предателем! Не такое у него нутро… Ну, а пока там что, ребята, давайте ваши лапы, я должен уже бежать. Если ГПУ опять прицепиться, о чем вы, мол, тут толковали — условимся — о моих, футбольных подвигах в Севастополе. Гут? А у меня — диамат, матери его чорт… И такая строгая проверка в Институте, что некуда податься. А и та верно — не будь нажима — кто бы пошел Карлу Марлу изучать?..
Неунывающий студент пожал руки друзьям и направился к трамваю. Ирма и Николай с улыбкой следили за его высокой фигурой, одетой по комсомольски — в защитную рубашку с распахнутым воротником, военные штаны и высокие сапоги. Издалека до них донеслись звуки песенки, которую по своему обыкновению затянул веселый футболист, сам мгновенно создав музыку к стиху Есенина:
«Я не знал, что любовь — зараза, Я не знал, что любовь — чума. Подошла и прищуренным глазом Хулигана свела с ума…»Моряк усмехнулся.
— Ну, Ирмочка. Не думал я, что ты такая сваха! Неужели инстинкт сватовства действительно лежит в душе каждой женщины?
Девушка-врач сделалась серьезной.
— А ты не язви, Ника. Вы, ведь мужчины, в жизни не столько создаватели и творцы — сколько разрушители: все эти войны, революции, несправедливости, грызня, политика, всякие «измы», из за которых мужчины друг другу животы вспаривают — это все ведь произведения мужских рук. А мы — женщины — мы призваны давать и сохранять жизнь; так сказать, подпирать мужчин, направлять в лучшую сторону, как то коррегировать их «заскоки»… Я, признаться, боюсь одиноких мужчин: они не сбалансированы… Помнишь, как говорил Лонгфелло в «Песне о Хайавате»:
«Муж с женой — подобен луку, Луку с крепкой титевою. Хоть она его сгибает, Но сама ему послушна. Хоть она его и тянет, Но сама с ним неразлучна. Порознь — оба бесполезны»…— Ишь ты, куда тебя занесло, опять усмехнулся моряк. Этак выходит, что без тебя и я бесполезен?
Серые глаза ласково взглянули на Николая.
— Да не то, что бесполезен, но с биологической точки зрения — неполноценен… А вместе вдвоем куда легче жить и работать! Ведь верно? А за Сережу я сильно побаиваюсь. Он ведь из породы «трудноуправляемых». Напора в нем — сверх нормы. Сорваться может… Боюсь я за него. Где то давно, давно вычитала я чудесную фразу: «мужчины и дети никогда не должны оставаться одни»! Разве это, Ники, не глубоко? И неправда?
Сильная тяжелая рука ласково обняла плечи девушки.
— Молодец, мой милый доктор. Правильно. Ведь есть и еще в Писании:
«И сказал Господь Бог: нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему»…
Кажется, так? И насчет Сережи ты права. Ему какой то тормоз, какой то якорь, ох как, нужен! И ты правильно толкнула его мысли в сторону Тамары… Бог даст, что нибудь у них и выйдет… Я очень люблю в тебе, Ирмочка, вот эту ясность мозгов, которая никак не мешает тебе иметь и золотое сердце. Я не могу сказать, за что я тебя люблю — это не поддается точному анализу, но в том числе и за эту ясность головы… Но, по совести говоря, я вот никак не понимаю, меня то за что ты полюбила? Такого дубового, простого парня?..
Девушка ласково усмехнулась и пристально поглядела прямо в твердое мужественное лицо моряка. Потом внезапно ее глаза затуманились застенчивой нежностью. Она легонько провела пальцами по забинтованной руке Николая, прижалась к его плечу и, опустив глаза, тихо продекламировала:
«Из ребра твоего сотворенная, Как могу я тебя не любить?»* * *
Приказ по НКВД
№ 1724. 7 августа 1938 г.
п. 9.
За проявленную нераспорядительность в выполнении срочно — оперативного задания С. О.
снимаются с постов и переводятся в распоряжение Управления Соловецкими Лагерями:
а) Начальник Севастопольского Облотдела — т. Пруденко.
б) Уполномоченный того же отдела — т. Лукин.
в) Красноармеец 2 полка войск ОННКВД — т. Груздь.
Л. п. (Берия).
Садовский с досадой положил лист приказа в папку «Тайна адмирала». Лицо его по прежнему оставалось нахмуренным. Да, конечно, Севастопольское ГПУ проворонило тайну, за что его и взгрели, но, по существу, им действительно не повезло. Так проворонить мог всякий. Какую облаву можно было упрекнуть, что она не заметила где нибудь ночью в кустах мальчонку беспризорника, на которого она и не охотилась? И кто мог предположить, что этот беспризорник будет важным звеном в загадочной цепи событий? Кто мог предположить, что сильный большой солдат будет одурачен и даст возможность другому мальчишке бежать из под ареста? И наконец, кто мог бы уверенно найти среди ста тысяч жителей Севастополя двух нужных беспризорников?
Для очистки совести Садовский дал распоряжение во все отделении милиции и угрозыска Крыма разыскать двух беспризорников с такой то внешностью, но это, по существу, было безнадежно. Если их не нашли в Севастополе, то где же их найти во всем Крыму?
Правда, слежка за тремя спортсменами по прежнему продолжалась. Но они уже знали, конечно, об этой слежке, и, кроме того, было очевидно, что «тайна адмирала» скользнула мимо их рук, как она проскользнула и между пальцами ОГПУ. Теперь оставалось одно — ждать. Садовский чувствовал себя громадным сильным пауком, который раскинул сети по всей стране и спокойно сидит, следя за малейшим трепетом своей паутины, в которую уже начала запутываться его жертва…
Громадная папка с бумагами и донесениями все пухла. На ней стояли странные в номенклатуре ГПУ слова «Тайна Адмирала». А сама эта тайна, привязанная грязной тряпкой к грязной ноге беспризорника, потонула в человеческом море…
27. Митька-рыжий
Маленький русский человечек, Митька, один из миллиона других бездомных мальчиков, кочевал по Москве. Он чистил карманы в трамваях, просил подаяние по домам, пел песенки в пригородных поездах, спал в подъездах домов — словом, вел жизнь обыкновенного беспризорника. С ним вместе, разделяя его радость и горе, сытость и голод, бегал его неразлучный Шарик, никогда не опуская своего оптимистически закрученого желтого хвостика и постоянно весело оглядываясь на своего хозяина смышлеными карими глазками.
Митька не терял надежды найти своего большого друга, футболиста Сережу. Но мальчик не знал его фамилии. А только студентов и футболистов в Москве много тысяч. Правда, «его» футболист был первоклассным и, вероятно, регулярно участвовал в больших матчах. И стадионы во время таких больших матчей были самым вероятным местом встречи.
Но пробираться на такие матчи было делом далеко нелегким. Это в Севастополе было просто: оседлать забор и любоваться бесплатным зрелищем. В Москве все было сложнее и труднее. Но Митька не унывал.
В один из теплых солнечных сентябрьских дней он увидал у стены громадного стадиона «Динамо» большую толпу. На афише значилось:
ФУТБОЛ
ОДЕССА-МОСКВА.
Такие громадные буквы даже полуграмотный Митька мог прочесть. Он живо засунул своего Шарика за пазуху, ловко проскользнул мимо контролеров и в потоке спешащих зрителей пробрался на стадион.
Кругом уже шумели тысячи любителей футбола, постепенно заполняя трибуны. Поле пока было пусто, и светло-зеленый прямоугольник с яркими белыми линиями, казалось, отдыхал перед боем. Зрители обменивались мнениями и гадали о результатах матча. А встреча обещала быть интересной: Одесса выиграла первенство южной зоны СССР, Москва — северной. Предстоявший матч решал вопрос о первенстве всего Союза.
Наконец, на поле выбежали в голубом игроки Одессы. Стадион дрогнул могучим гулом радушных приветствий. Через минуту показались москвичи в традиционных красных фуфайках, и многотысячная толпа заревела.
Под рокот этого рева голубая и красная линии игроков вытянулись у центра поля для официальных приветствий, и в этот напряженный момент никто не услыхал радостного взвизга мальчика:
— Сережа!.. Ей же Богу — это Сережа!.. Тонкий голосок Шарика звонко затявкал у Митьки за пазухой, но беспризорник даже не слышал этого. Глаза его сияли, сердце билось бурными толчками… Там, на поле, его, его Сережа, единственный близкий любимый человек в мире, его друг и брат, бежал, чтобы занять свое место — центр-форварда сборной Москвы…
— Сережа!.. Миляга!.. Окружающие недовольно заворчали.
— Стой смирно, шпаненок! Смотреть мешаешь!..
Мальчик злобно покосился на них, но сдержался. Теперь перед встречей с Сережей зря было затевать драку… Осторожно и медленно он стал протискиваться ближе к полю. Минут через десять он приблизился к барьеру, отделявшему галерку от скамей. Там, воспользовавшись моментам, когда в критический момент все замерли, наблрдая схватку у ворот, он ловко перелез через барьер. Оставалось пробраться по корридору между скамей, перелезть еще через один барьер, и тогда Митька будет на поле. А там… Там стоит только ему крикнуть «Сережа», и все его тревоги будут сразу кончены… Сережа, конечно, сумеет защитить его, и опять на его сердце станет так же легко и спокойно, как тогда, на Малаховом кургане…
Незаметно и ловко протиснулся Митька вперед. И когда раздался свисток перерыва, он ловким прыжком перелетел барьер и бросился к уходившим в раздевалку игрокам с радостным криком «Сережа»!
Но игроки были далеко. Разгоряченный матчем футболист не услышал голоса беспризорника. А за Митькой уже гнался сторож, а потом его дорогу преградил какой то маленького роста крепкий юноша, видимо, распорядитель, схвативший его за рукав.
— Пусти… Иди к чорту! яростно крикнул ему Митька. Там мой брат на поле… Я его вот уже два года, как потерял… Я к нему бегу…
Чистое выбритое лицо парня усмехнулось.
— Ладно, треплись тут, шпана… Иди сам ко всем чертям с поля. Еще скажи спасибо, что шею не накостыляли…
— Пусти! яростно рвался Митька. Ей Богу, я к Сереже!..
Парень не слушал и тащил его к выходу. Внимание огромной толпы, освобожденное от наблюдения за матчем, теперь обратилось к этой странной картине. Под ярким светом солнца все детали происходившего были видны чрезвычайно отчетливо: и напряжение юноши и яростное сопротивление рыжеголового оборванца и даже желтая мордочка собачки, лающей из за пазухи.
В толпе пронесся шум смеха. Парень рассердился не на шутку.
— Ах сукин сын! Еще сопротивляться будешь?.. ну…
Он рванул беспризорника в сторону и ловко схватил его ключом Джиу-Джитсу. Но тут произошло нечто неожиданное. Выскочившая из-за пазухи желтая собачка яростно вцепилась в его брюки. Парень ослабил хватку, обернулся, но в этот момент мальчик извернулся и мгновенным ловким движением ударил его в челюсть. Тот выпустил руку «арестованного», как то странно и нелепо качнулся и мешком упал на траву.
Стадион загудел от смеха. Симпатии толпы мгновенно перенеслись на сторону рыжего мальчугана и его собачки. Но к тому уже протянулось несколько рук, и его утащили за барьер.
— Шарик!.. Жди тут! донесся отчаянный вскрик Митьки, и его увели. К лежащему подошли люди. Стадион замер в удивлении: юноша лежал без движения. Мигом появились носилки, и под поднявшийся гул толпы, молодой человек был унесен с поля.
Между тем, Митьку сдали в распоряжение милиции, он был посажен в машину и минут через десять уже сидел за решетками.
За Шарика Митька не боялся: он знал, что собака будет его ждать там, где потеряла. Ждать хотя бы несколько месяцев… Его беспокоила только неудача с Сережей. Но с другой стороны было уже известно, что Сережа играет центр-форвардом сборной Москвы… Теперь можно было легко узнать его фамилию, а дальше — была уже не штука…
Митька был радостен. Потирая ссадину на кулаке, он ходил по тюремной камере и не отвечал на расспросы других арестованных.
— А здорово я ему въехал, тому сукину сыну, бормотал он… Руку, вишь, вздумал выворачивать, сволочь… А Сережик все таки тута!..
* * *
Странную сцену на поле видела не только сотня тысяч глаз зрителей стадиона. Видела ее и пара черных суровых глаз маленького человека, сидевшего в скрытой ложе, окруженной со всех сторон охраной из переодетых чекистов. Это был начальник ОГПУ Берия.
Когда молодого человека унесли на носилках, он повернулся и коротко сказал дежурному сотруднику.
— Узнайте, в чем там было дело.
Через несколько минут ему доложили:
— Товарищ начальник. Там какой то беспризорник собирался к футболистам пролезть… Его задержали…
— Ну? с нетерпением спросил Берия. Я это и сам не хуже вашего видал. А кто его задерживал?
Дежурный замялся.
— Ну? опять с нетерпением опросил грузин.
— Это — инструктор «Динамо», Градополов. Брови чекиста поднялись в сильнейшем удивлении.
— Как — Градополов? Наш чемпион по боксу?
— Он самый, товарищ начальник.
— А тот беспризорник?
— Увезен в милицию.
Сухое желчное лицо грузина усмехнулось.
— Вот те на… Нок-аут[41] чемпиону СССР от беспризорника! И, главное, публично!.. Ха, ха, ха… Вот что: передайте от моего имени этого беспризорника в «Динамо»[42]. Может быть, это какой нибудь самородок окажется…
— Есть, товарищ начальник.
28. «Чудеса в решете»!
Часа через два, вымытый, одетый в чистое, накормленный, Митька был приведен в какой то кабинет на Лубянке.
Видавший виды паренек был смущен. Он за эти два-три часа поездил на автомобилях столько, сколько он не наездил за все свои немногочисленные годы прошлого. Он не только был сыт, но с ним обращались вежливо, и даже с каким то оттенком юмористического дружелюбия. Человек, перед которым он теперь стоял, носил на воротничке своего военного мундира четыре ромба, то-есть — Митька знал это — был в чине командующего армией. А ему то и всего было лет около 30. И он тоже смеялся… Чего они все от него хотели?
— Нет, это прямо умора была… Правда, Лапин? Перед всем стадионом. И ведь какой нок-аут?.. Начисто срезал!.. Ха, ха, ха…
— И кому, главное? Самому Гра-до-по-ло-ву… У него в прошлом чуть ли не полсотни побед нок-аутамн… А тут?..
Оба собеседника опять залились смехом, глядя на смущенное лицо Митькн.
— Ты не бойся, паренек. Тебе ничего, кроме хорошего, не будет. Что ты там делал на стадионе?
— А я там брата своего увидал.
— Брата?
— Ara… Сережу.
— А по фамилии как?
Мальчик замялся. Чекисты переглянулись.
— Ну, ладно. Врать, видно, ты еще плохо умеешь. А ну ка, согни руку.
Чекисты пощупали его мускулы.
— Ого!.. Упругость зверская. Вероятно, и качество аховое. Быть ему чемпионом… Если правильная тренировка, конечно…
— А сколько тебе лет?
— А я точно и не знаю. По зубам, как у лошади, в зеркале не видал. Годов с 15, верно, уже набежало…
— Так сказать, «дефективный переросток», смеясь сказал Манцев. Но паренек крепкий. Вероятно, наследственность хороша: от него деревней за три версты несет… А как тебя звать?
— А Митька.
— Дмитрий… А по фамилии?
— Не знаю… Меня Митькой Рыжим завсегда звали. А фамилию свою я уж и не помню.
— Это, так сказать: «не помнящий родства, губернии Небывалой, уезда Незнаемого, деревни Безымянной»… Таких ребят теперь много… А, скажи, тебе драться часто приходилось?
— Драться то? А почитай — все время. В нашем деле без драки — нельзя.
Чекисты опять засмеялись.
— Почему это: нельзя?
— А потому: кажный норовит обидеть. Тот вот, например, парень, что на стадионе. Ну, пусть по хорошему, как человек волочил бы. Он сильный. А то руку, стерва, выкручивать стал. Разве ж люди так делают?
— Так ты ему за это и смазал?
— А то за что ж? Пущай помнит Митьку Рыжего. Не замай наших!
Опять хохот овладел чекистами.
— Ай да находка!.. Таких — не трогай… А интересно вызвать сюда Градополова… Пусть с «крестником» покалякает.
Он взял трубку телефона.
— Дайте стадион «Динамо»… Стадион?.. Говорит Манцев. Скажите, где Градополов… Что?.. Да не может быть?.. В Бутырской больнице?.. Хорошо… Больше ничего…
Когда Манцев повернулся к Лапину, лицо его было серьезным.
— Знаешь, медленно проговорил он… У Гра-дополова сломана челюсть.
Лапин высоко поднял брови.
— Челюсть? Чорт побери… Да как же так?.. Митька злобно усмехнулся.
— А так ему и надо. Пущай в следующий раз не выворачивает рук. Я ему хорошо подъехал под энту вот пупочку! (Он показал на угол нижней челюсти).
— Так ты, значит, знал, куда надо бить?
— А то как же? самоуверенно ответил беспризорник. Раз уж я бью в этое место — могила. Дам раза и с катушек долой!
Оба чекиста внимательно посмотрели на него.
— Та-а-ак, задумчиво проговорил Манцев и позвонил.
— Возьми этого мальчика в буфет и покорми, сколько в него влезет, сказал он вошедшему секретарю. Это — не политический, улыбнулся он в ответ на вопросительный взгляд.
Когда чекисты остались одни, Манцев с беспокойством сказал:
— Сломанная челюсть… Это значит: Градополов месяца на три вышел из строя. А тут через месяц матч с Турцией. Как быть? Градополов был нашей основной ставкой… Неужели этот шибздик — такой талант? Или просто случайность?
— А мы это проверить можем, Манцев. Давай, я его вечером свезу в «Динамо», дам доктору Полакк осмотреть, а потом к Спарре на ринг. Сразу и эыяснится — липа это, случайность или талант.
— Ну, добре. Займись, пожалуйста, этим, Лапин. Чорт его знает — может быть, и в самом, деле придется этого парнишку вместо Градополова выпустить… Возрастом только он не вышел. Раньше 18 лет — правила не разрешают на состязаниях выступать.
— Эва, не в правилах дело! Мы ему паспорт с любым годом рождения дадим! А по своему физическому развитию он много старше своих лет выглядит. Да и легчайшая категория. Я иного боюсь, товарищ Манцев. А что, если он в азарте боя въедет арбитру в зубы или даст противнику головой в живот? Что тогда? Осрамимся, ведь! Скажут: «СССР своих дикарей на интернациональные матчи выставляет»… Срам!
— Ну что ж? Надо рискнуть! Мне он показался пареньком сообразительным. Дай Спарре спец — задание. Пусть кормит этого Митьку до отвала, никуда пока не выпускает и тренирует во всю. Я думаю, из всего этого что нибудь да выйдет… А знаешь, Лапин, эта вся история сколько отдыха мне принесла! После всех наших приговоров, да процессов — Митька этот — как свежая струя.
«Дал, говорит, раза и с катушек долой»… Ха, ха, ха… Вот если бы так же и на матче с турком!.. Эх, сколько талантов у нас в русском народе есть… Раскопать бы только… Да вот, справимся с контрреволюцией — сотни Митек раскопаем!
29. Дело государственной важности
Садовский нервничал все больше и больше. После неудачи на Малаховом кургане дело дальше не двигалось. Правда, к нему все время поступали донесения его сексотов, но толку в этих донесениях было мало.
Закусив зубами папиросу так, что на худых щеках вздувались желваки, он часто пересматривал толстую папку «Тайна Адмирала» и вдумывался в каждое слово последних донесений:
— Сумец, Прегер и Шибанов встретились на набережной Москва-реки и разговаривали около получасу. Подойти к ним не представилось возможным…
— В Москву приехала для поступления в ВУЗ Тамара Савич, арестованная Севастопольским Облотделом на Малаховом кургане вместе с Сергеем Шибановым…
— Сумец, Прегер, Шибанов и Савнч гуляли вместе в Петровском парке и посетили кнно-фильм «Путевка в жизнь».
— Шибанов и Савич долго гуляли вечером у Кремля…
Все такие сведения поступали непрерывно, но не в них крылась разгадка ребуса. Дело «Рука Адмирала» все пухло, а где то в пространстве, как оборванные нити электрических проводов, крутились звенья незамкнутой цепи: письмо, дружная компания молодежи, какой то предмет, бывший на руке памятника к исчезнувший беспризорный мальчик А над всем этим неясным призраком вставала тень погибшего Императора…
Садовский скрипел зубами и кипятился. В его распоряжении была машина невиданной в мире мощности. Блестяще налаженный аппарат слежки, доносов и террора. Но сейчас этот аппарат был бессилен.
Арестовать трех спортсменов не стоило ничего. Ну, а дальше? Ребята были крепкие: добровольно, во всяком случае, ничего не выдали бы. Даже то немногое, что они уже знают про свою тайну. Правда, в распоряжении ГПУ были средства, чтобы заставить их заговорить, но после применения этих методов — в самом лучшем случае молодых людей нужно было послать куда нибудь в конц-лагерь. А если применить меры покруче, то придется и расстрелять, ибо о существовании пыточных камер в ОГПУ никто не должен был точно знать.
Все это было ясно. Садовскому, привыкшему в своей чекистской практике применять самые жестокие меры, очень трудно было сдержаться, и теперь, в деле «Адмирала». Но он понимал, что вряд ли спортсмены уже знают все: ведь беспризорник пропал не только для ГПУ, но и для них самих. Если арестовать всех троих — нити дела будут обрезаны совсем. Если послать всех троих, в конц-лагерь — все будет кончено. Ведь исчезнувшего беспризорника с таинственным предметом можно было поймать только на крючок Шибанова и его товарищей. Да и кроме того, арестовать спортсменов — это значило бы расписаться в своей неудаче. А чувство самолюбия мешало Садовскому признаться, что до сих пор все его усилия оказались тщетными, и он споткнулся на стойком сопротивлении молодежи перед ГПУ…
Одну за другую курил Садовский крепкие папиросы, и мысли его напряженно метались в разгадках ребуса. Но чего то еще не хватало в рисунке ребуса и оставалось только ждать.
На столе зазвонил телефон.
— Алло! Ты — Садовский? Садовский узнал голос Мартона.
— Я, товарищ начальник.
— Двинь ка сюда. Есть для тебя кое что новенькое.
Через несколько минут Садовский был в кабинете латыша.
— Ну, прежде всего, рассказывай, что у тебя нового с твоей тайной.
— Нового не так чтобы много, товарищ Мартон.
Слежка установлена серьезная. Мимо наших глаз ничего не проскочит. Но пока, сведений об исчезнувшем беспризорнике никаких нет. Нужно ждать.
— Гм… Ждать? А ты уверен, что ждать есть чего? А может просто — ликвиднуть твоих ребят из Москвы, чтобы они нам больше головы не морочили?
Садовский пожал плечами.
— Да как сказать? Формально говоря — данных о важности этого дела у меня нет. Но… Что то мне говорит, что тут что то есть… Запаять ребятам По тройке или пятерке ничего не стоит… Только…4
— Только? Почему же ты этого не делаешь? Молодой чекист задумчиво потер небритый подбородок.
— Засадить их можно — все это элемент антисоветский… Из этих ребят, мы, конечно, никаких большевиков не сделаем. Но беда то в том, что если их посадить — это значит: отрезать все концы этой тайны…
Мартон выжидательно смотрел на своего сотрудника.
— И по моему, товарищ начальник, надо еще подождать. Данные по этому делу все прибывают. Надо все дело их руками сделать… Если же я приду к выводу, что во всем этом деле ничего важного нет — я тебе доложу, и мы их ликвиднем, как класс… Латыш одобрительно поглядел на Садовского.
— А ты, право слово, молодчага. Толково рассуждаешь, и нюх у тебя есть. Я тебя хотел малость спровоцировать, настойчивость твою испытать. Ты оказался прав: в этом деле что то есть. Вот погляди, что нам тут прислали по твоему делу.
Начальник Секретного Отдела вынул из ящика стола несколько бумаг и протянул их своему помощнику. Тот стал внимательно их читать.
Бумаг было четыре.
* * *
Мелитопольский районный отдел НКВД.
2 августа 1938 г.
Москва. НачСО.
На ваш — 1867 сообщаю:
После тщательного рассмотрения архивных дел 1919-20 гг. оказалось: 24 августа 1919 г., на ст. Федоровка, Мелитопольского района, был арестован матрос Балтийского флота, отказавшийся назвать свою фамилию. При обыске при нем были найдены деньги белых армий и золотые часы с надписью «Милому Фролу Деревенько от любящего Цесаревича». Уполномоченный ВЧК т. Гройцман, считая часы украденными, а матроса — белогвардейцем, расстрелял последнего 28 августа.
Поступивший в Мелитопольский отдел ВЧК материал заинтересовал чрезтронку. При опросе т. Гройцмана выяснилось, что матрос перед расстрелом кричал о какой то тайне, но что именно — тов. Гройцман, будучи утомленным, не помнит. Свидетельские показания установили, что т. Гройцман был в тот день пьяным и, поторопившись расстрелять матроса (очевидно, и бывшего Фролом Деревенько, дядькой Алексея Романова, бывшего наследника), тем лишил ВЧК возможности выяснить обстоятельства появления Деревенько в тылу Красной Армии. За проявленную халатность т. Гройцман по постановлению чрезтройки расстрелян. Выяснить дополнительно, что именно кричал матрос перед расстрелом, оказалось невозможным, ибо красногвардейцы, назначенные в распоряжение т. Гройцмана для приведения приговора в исполнение, при последующем налете белых банд ушли в свои воинские части, отступившие в совершенном беспорядке.
Начальник Отдела Козлов.
* * *
Свердловский Облотдел НКВД.
Москва. НачСО.
На ваш — 1867 сообщаю:
В деле о расстреле б. Царской семьи 19 июля 1918 года имеются нижеследующие данные о матросе яхты «Штандарт» Фроле Деревенко. Этот матрос последовал с царской семьей добровольно в ссылку и неотлучно был при наследнике цесаревиче. При перемещении царской семьи из Тобольска в Свердловск Деревенько воспользовался случаем при переправе через разлившуюся реку. Будучи человеком чрезвычайной силы, опрокинул двух красногвардейцев и скрылся. Погоня за ним не увенчалась успехом.
В дальнейшем в бытность царской семьи в Свердловске (тогда еще Екатеринбург) осведомители доносили, что матрос, похожий по описаниям на Деревенько, приезжал в город, несомненно с целью организовать или помочь бегству царской семьи. Были подозрения, что при своем побеге он увез какие то документы и ценности большой важности. Больше сведений о Деревенько в отдел не поступало, и все дело в оригинале передано в архив ОГПУ.
Начоблотдела Мальцев.
7-8-38 г.
Другие две бумаги были справками из архива центрального ГПУ. Одна из них представляла собой листок блокнота со штампом:
С. Н. К.[43]
Председатель.
17-ХИ-1918.
Москва. Кремль.
Совершенно Секретно.
Служебная записка.
ПредВЧК т. Дзержинскому.
Дорогой Феликс.
Мне только сообщил командарм Тухачевский, что в районе расположения его войск поймали каких то двух странствующих попов, которые рассказывали крестьянам подробности расстрела царской семьи. Эти попы сообщали, что будто бы Николай успел перед расстрелом передать кому то завещание «будущему царю» и какие то реликвии: железное кольцо, сделанное будто бы из гвоздя, которым распинали так называемого Христа, и старинную иконку Владимира «святого». И все это распространяется под соусом, что мол, пока эти вещи не попали в руки сатанинской власти, иначе говоря — нам, то Россия еще не погибла, и царь вернется.
Ты. понимаешь сам, Феликс, что при современном состоянии умов, в эпоху ожесточенной гражданской войны, такие небылицы могут посеять большую смуту и быть использованными всякими «претендентами на престол». Выясни, пожалуйста, срочно, что в этих рассказах имеет оттенок правдоподобности й сообщи мне. В методах следствия не останавливайся ни перед чем: сам понимаешь, насколько нам важно с корнем вырвать такие слухи.
С комприветом Ульянов (Ленин).
На этот запрос тут же был приложен ответ:
ПредВЧК
4-1-1919 г.
Москва.
Совершено секретно.
ПредСНК т. Ленину
Дорогой Ильич.
На твой запрос о таинственных слухах насчет «императорского завещания» мне донесли из Екатеринбурга, что приведение приговора в исполнение происходило в условиях страшной спешки и при понятной степени возбуждения операторов.
Ты ведь в курсе дела, что в связи с наступлением белговардейских банд Екатеринбургский Совет постановил ликвидировать не только самого императора, но и всех его детей. Закаленных чекистов, какими мы обладаем в
Москве, в провинции еще нет. Поэтому все произошло без соблюдения революционных формальностей, нечетко, и выяснить в точности, погибли или нет упомянутые тобой вещи — невозможно. Но, во всяком случае, выяснено, что указанных вещей среди реквизированного имущества царской семьи — нет. Возможно, конечно, что кое что сумел унести сбежавший дядька цесаревича матрос Деревенько, не найденный, несмотря на тщательные поиски.
Вполне согласен с тобой, что появление таких слухов, а, тем более, таких вещей и «завещания» при неустойчивости нашего политического положения могло бы оказаться даже и роковым, особенно если белая армия широко использовала, бы лозунг восстановления монархии даже с каким либо самозванцем или очерёдным «наследником». Поэтому я дал срочное распоряжение усилить борьбу с распространителями всяких слухов и не терять прицела в этом деле. Что касается методов — то ты, Ильич, пожалуйста, не указывай мне: сам ведь знаешь — я ни перед чем не остановлюсь для блага революции. Так что — будь спокоен. Что можно будет и нельзя будет — сделаем.
Феликс.
Прочтя эти бумаги, Садовский глубже осел в кресле и глубоко задумался. Мартон, отмечавший что то в лежавших перед ним бумагах, поднял голову и с интересом поглядел на нахмуренное лицо своего помощника.
— Ну что? Заело тебя?.. Да, что ни говори: из пустяковины все это вырастает в что то очень важное. Как, кстати, ты назвал это все дело?
— «Тайна адмирала».
— Теперь можешь, пожалуй, переменить — «Тайна Шлепнутого Царя».
Садовский резко поднялся.
— А ты, Мартон, не шути. Я считаю, что все это звенья одной цепи. И только вот одного звена не хватает — и самого важного — этого чортового неуловимого беспризорника с таинственным предметом, снятым с памятника адмиралу Корнилову. Но мы все таки доберемся и до этого звена… Чорт побери! Если мы, Мартон, это дело раскроем — я себе попрошу орден Ленина и самую хорошенькую секретаршу…
Латыш усмехнулся.
— Да у тебя губа не дура, как я погляжу! Но это верно — если откроешь это дело, тебе сам Сталин орден прицепит. Найти завещание императора — не жук начихал и не корова накапала… А только…
— Что только? спросил возбужденно еврей.
— А только, медленно повторил Мартон, холодно роняя слова. А только, если ты про-во-ро-нишь это дело, пожалуй, придется и второго чекиста за не-рас-по-ря-ди-тель-ность ликвиднуть… Так что смотри, Садовский — не прокакай!..
Зубы чекиста сжались, и желваки выступили на худых щеках.
— Не дрефь, Мартон, глухо ответил он. Дорвусь я до этой тайны, хоть пришлось бы не только ихними, но и моими костями дорогу проложить… Чтобы какая то антисоветская молодежь нам нос утерла? Да никогда!..
30. Бой
Смуглого крепкого юношу со сросшимися темными бровями — чемпиона Турции, Хилме-Бей, зрители встретили тепло и сердечно. Этого бойца Москва уже видела год тому назад и высоко оценила его быстроту, точность и необыкновенную легкость уверток. Тогда он был легким победителем в весе пера. Теперь он потяжелел, и его матч с Гра-дополовым обещал дать картину напряженного боя. Но вместо Градополова против турецкого чемпиона был выпущен неизвестный никому советский беспризорник… Вся спортивная Москва уже знала историю его «боя» с Градополовым. Вот почему его появление на ринге было встречено не только апплодисментами, но и дружным смехом зрителей. И, действительно, даже на ринге Митька был фигурой необычайной. На крепком коренастом туловище с мышцами взрослого юноши торчала совершенно детская голова со смущенным курносым лицом и рыжими вихрами волос. Забинтованные к бою руки Митька не знал, куда девать, растопырил их в стороны, и весь его растерянный вид заставил массу зрителей смеяться, а серьезных знатоков бокса нахмуриться.
Митька был очень смущен гулом приветствий. Он не без испуга взглянул на своего секунданта Спарре и только выслушав от него несколько слов, успокоился и даже усмехнулся.
— Так это, значится, ничего, что они ржут надо мной?
Сухое тонкое лицо Спарре, знаменитого тренера, оставалось спокойным.
— Ну, конечно, ничего, Митя. Это значит, что они тебя любят. Постарайся…
— Ладно. Знамо дело! Только, ежели я туда бить буду или что там не по всем правилам — ты уж подсвисни.
— Хорошо. А видишь там вот: в первом ряду — твой «крестник» Градополов сидит.
— Где? оживился Митя.
— А вот… Видишь: забинтованный… Митька внезапно сорвался с табуретки на ринге и подбежал к канатам. Все замерли в предвкушении чего то необычного.
— Эй, Градополыч, звонко на весь зал крикнул паренек. Ты — того этого… Не серчай насчет зубов то своих… Я, ей пра — не живоглот какой. Ей Бо, я нечаянно так вдарил. Не по злобе.
Зал грохнул от смеха. Градополов с подвязанной челюстью приподнялся, но громко сказать еще ничего не мог. Его сосед услышал шопот и передал:
— Ладно, Митя. Он не сердится. Только, если ты не выиграешь, то он тебе все вспомнит… Не подгадь, милок!..
Голос арбитра прервал душевные разговоры. Началось представление бойцов друг другу и публике. Митька вгляделся в надменное уверенное откормленное лицо турка, и невольно злобная мысль пришла ему в голову.
— Вот тоже, чорт заграничный… Кофеи турецкие, небось, жрал, а теперь нас бить приехал?.. Куриное молоко, да коровьи яйца трескал, буржуй недорезанный!.. А где ты был, когда я с голоду пух?..
Митька был откровенно зол, и ему казалось, что он разгромит Хилме-Бея в несколько секунд. Но напрасно он бросался вперед. Быстрый турок легко уклонялся от его наскоков и отвечал быстрыми, хотя и не сильными ударами. А когда Митя загонял своего противника в угол — тот мгновенно сгибался и закрывался руками. Митя бешено колотил по рукам и голове, но толку от этого не было. Митька был озадачен: турок был неуловим для сильного удара.
В перерыве беспризорник жаловался Спарре.
— Что ж он, сукин сын, не дерется? Все бегает, да морду прячет. За что ему, трусу, деньги платят?
Старый тренер не отвечал. Он присматривался к бою, а впереди было еще 5 раундов. Выносливость Митьки он знал хорошо, и весь вопрос был в тактике боя.
Второй раунд по очкам опять выиграл турок. По прежнему Митька с азартом бросался вперед, но его удары не попадали по назначению, или глушились плотной защитой «турченка» (как про себя уже называл его Митька). Только один раз советский паренек резко ударил турка в лицо, но тот сейчас же повис на Митьке в «клинче»[44] и успел оправиться. Зато в азарте другой атаки Митька неловко рванулся вперед, потерял равновесие и коснулся коленом пола. «Нок-даун»[45] отметили судьи, и зрители зашумели. Становилось все очевиднее, что Митька вчистую проигрывает бой по очкам.
Многие стали хмуриться. В далекой, скрытой от зрителей ложе Манцев, сидя рядом с Берия, угрюмо молчал.
Четвертый раунд не изменил картины. «Турченок», чувствуя набранное преимущество по очкам, не торопился и предоставлял Митьке нападать. Но недостаток и техники и тактики нельзя было компенсировать только азартом и напором. Митька просто не знал, что ему делать с противником. Достать до «хорошего» места кулаком он никак не мог, а ему изредка отвечали неопасными, но эффектными ударами. Бой по прежнему шел в очень быстром темпе, но уже было ясно, что своей осторожной тактикой турок выиграет.
Среди сдержанного волнения зрителей один только Спарре был холоден и спокоен. Он за месяц напряженной тренировки хорошо изучил своего воспитанника, и тактика последних раундов уже стала оформляться в его мозгу. В перерыве между четвертым и пятым раундами он, обмахивая советского бойца полотенцем, наклонился близко к его лицу и стал что то властно шептать. Никто не заметил слабого ответного кивка беспризорника и усмешки, изогнувшей уголки распухших от ударов губ.
В пятом раунде Митька стал явно выдыхаться. Бессистемные и беспорядочные атаки, очевидно, сказались. Он уже не так яростно и горячо бросался вперед, как раньше; защита стала менее четкой, и кулаки турка стали все чаще пробиваться к лицу и голове беспризорника. Скоро брызнула первая кровь.
Москвичи со стесненными сердцами наблюдали этот матч и эмоционально переживали его мучительнее, чем другие. Им казалось, что этот бой олицетворяет собою встречу двух миров: русского таланта — самородка и европейской подготовки и техники. И всем было больно за русского бойца.
В перерыве перед последним раундом зал глухо и возбужденно шумел. Берия и Манцев не смотрели друг на друга. Лапин яростно жевал янтарный мундштук. Градополов мучительно морщил брови, сжимал и разжимал кулаки. И только один Спарре был спокоен, и его холодные ясные глаза уверенно и ободряюще смотрели в лицо Митьки.
Когда раздался гонг начала последнего раунда, Спарре неожиданно повернулся к ложе Манцева и посмотрел ему прямо в лицо. Тот взволнованно подался вперед через барьер. Тогда Спаррё уверенным движением поднял кулак с поднятым кверху большим пальцем. На советском немом жаргоне Это обозначало: «Все в порядке. Прекрасно».
Манцев вопросительно показал на Митьку. Спарре утвердительно кивнул головой и в ответ на недоумевающее пожатие плеч Манцева выразительно потер руки в знак полного довольства.
Манцев понял и, обернувшись к Берия, шепнул ему:
— Ничего, товарищ Берия. Наш еще справится! Грузин пренебрежительно выпятил нижнюю губу.
— Ва… Тоже выставили бойца… Стыдно смотреть!..
— А вот ты теперь смотри внимательнее — тут только и начинается…
Но раунд, казалось, начался для Митьки очень плохо. Турок, осмелевший от промахов и ошибок советского бойца, насел на него горячо и зло.
Уже дважды Митька был брошен на пол ринга, но сейчас же вскакивал. Но несмотря на все мужество беспризорника, бой был уже явно проигран по очкам. Тактическое преимущество турка было очевидным, и теперь он вел атаки в полную силу, стремясь добиться победы нок-аутом над измученным и шатающимся противником.
Лицо беспризорника было все в крови. Зрителям казалось, что он уже почти падает, и чувство неизбежного бесславного поражения омрачило все лица.
Мало кто видел ясно, что произошло на последних минутах матча: зрителям как то даже не хотелось смотреть на ринг, где, шатаясь под ударами, «кончался» советский боец. И никто не замечал, что Митька дышит без особого напряжения, что его глаза не отрываются от лица «турченка», как бы взвешивая все его движения, и окровавленные и опухшие губы кривятся в усмешке.
В средине раунда шатающийся Митька под напором турка отскочил в сторону прямо на средину веревок ринга. Те поддались под его тяжестью, спружинили, и в этот момент Митька вдруг стремительно рванулся вперед. Беспечно открывшийся в «последней атаке» на нок-аут турок отскочил назад, но было уже поздно. Зал вздрогнул от сухого, ясного звука удара. Оглушенное тело турка качнулось, он согнулся и закрыл лицо руками. Митькины удары теперь падали, как град. Сам он, с растрепанными рыжими волосами, весь в крови, казался разъяренным тигренком, напавшим на своего обидчика. Его усталость куда то мгновенно исчезла, и он бешено налетал на потрясенного ударом противника, не давая ему ни секунды, чтобы придти в себя. Наконец, после серии ударов по голове, турок опять качнулся и мягко скользнул на пол. Зрители затаили дыхание и не верили своим глазам.
— Раз… Два… Три… Четыре… послышался ясный голос арбитра.
Среди мертвой тишины зала турок стал медленно подниматься. Но как только он оторвал руки от пола, Митька вновь рванулся к нему и привычным движением легко и точно ударил его в угол челюсти. На этот раз турок упал пластом. Митька, будучи вполне уверенным в своем ударе, подмигнул Спарре и стал ребром перчатки вытирать кровь под носом.
— Девять… Десять… Аут! прозвучали в тишине слова арбитра, и зал заревел. По детски восторженный Манцев ударил Берия по плечу.
— Ну, что? Видал — миндал? Говорил тебе я? Золото, а не парень!.. Как турка срезал? Не хуже, чем Градополова!..
Смуглое лицо Берия под крючковатым носом тоже довольно усмехалось.
— Ну, ну… Здорово вышло. Прямо хоть в кино — такой финал. Как это: «happy end», что ли, зовется? Герой!..
Радостные зрители несли Митьку в раздевалку. Кругом виднелись восторженные лица. Отовсюду протягивались руки, чтобы пожать его еще одетую в перчатку руку. Счастливый победитель качался над головами своих поклонников, как на волнах, и сиял, как именинник. Внезапно кто то дернул его за ногу.
— Митя! раздался знакомый голос. Победитель обернулся и увидел смеющееся лицо.
Сережи. Сердце его дрогнуло.
— Ты?.. Боже мой… Ты?
Руки в перчатках потянулись к родному человеку, и разбитые губы крепко прижались к губам Друга.
— Сережа!.. Милок!.. шептал взволнованный голос. Неужто ты?.. А я тебя так искал, так искал…
— Ну, теперь нашли друг друга… Теперь уже не потеряемся… А ты, герой, моей просьбы, там на Малаховом, не забыл?
Митька усмехнулся.
— Мое слово верное!
— Значит, сохранил?
— А то как же!.. Приходь завтра в 12 к стадиону «Динамо»…
Толпа увлекла Митьку дальше к раздевалке, и из кучи улыбающихся зрителей Сереже кивнула на прощанье рыжая взлохмаченная голова со счастливым разбитым лицом.
31. Неужели?
Садовский проснулся от телефонного звонка над ухом.
— Это вы, товарищ уполномоченный? донеслось в трубку. Говорит дежурный СО. Тут на ваше имя прибыл только что рапорт наблюдателя № 890 с пометкой — «Литер С. С.». Как тут быть?
— Оставьте у меня в кабинете и немедленно вышлите мне дежурную машину. Я сейчас приеду в управление.
Садовский помнил, что наблюдатель № 890 был одним из его лучших сыщиков, специально командированным на слежку за Сережей. Было очевидно, что у него появились какие то важные новые наблюдения.
Через полчаса, сидя в своем кабинете, Садовский читал:
…«Во время матча турка с Митькой-Рыжим Шибанов вел себя очень возбужденно и несколько раз хотел спуститься к рингу. Потом, после конца матча, он подбежал к Митьке-Рыжему, которого несли в раздевалку, схватил его за ногу, и они расцеловались. О чем они говорили — узнать было невозможно: я с биноклем находился в секретной ложе ОГПУ, а наблюдатель № 1076, сидевший рядом с Шибановым, не поспел за ним в толпе»…
— Что за чорт? подумал Садовский, прочтя внимательно эти строчки. Неужели Митька — Рыжий и есть тот беспризорник с Малахова кургана? Арестовать его сейчас? Сразу же после победоносного боя? Ну, а если ничего не найдется, и он ни в чем не сознается? Ведь скандал выйдет. Митька теперь после победы — под высоким покровительством «Динамо»… Гм, гм…
Садовский подумал с минуту и потом написал распоряжение Оперативному отделу усилить слежку за Сергеем Шибановым и установить особо секретный пост слежки за боксером-чемпионом Дмитрием-Рыжим, проживающим на стадионе «Динамо».
— Ну, посмотрим, задумчиво сказал сам себе Садовский. Ближайшие дни многое выяснят… Но неужели, чорт побери, Митька-боксер и есть тот беспризорник?..
Отдав приказание, молодой чекист опять принялся курить папиросу за папиросой и нервно шагать по своему кабинету. Неужели случится, что Митька действительно окажется тем беспризорником, или опять произойдет ошибка, и такое яркое дело, на котором можно было сделать неплохую карьеру, пройдет мимо его рук? Неужели только из за одного звена — потерянный в человеческом море бездомный мальчик — вся цепь останется незамкнутой, и разом рассыплются все его построения, все его ухищрения, все его ловушки и старания?..
Опять молодой чекист заметался по своему кабинету, в тысячный раз обдумывая детали дела «Тайна Адмирала». Потом новая мысль мелькнула в его голове. Он сел за стол, вырезал из спортивного журнала и газет фотографии Митьки — Рыжего и послал запрос:
Начальнику Соловецких лагерей НКВД.
Прошу срочно опросить присланных в ваше распоряжение на основании приказа НКВД № 1724 с. г. т.т. Пруденко, Лукина и, особенно Груздя, узнают ли они на этой фотографии беспризорника, арестованного ими в облаве на Малаховом кургане 31 июля с. г., и потом сбежавшего при его препровождении в детдом, или, может быть, его товарища, не пойманного тогда при облаве. Ответ молнируйте. СО.
Авио-почта через сутки доставила фотографию и запрос на заброшенный в Белом море островок — знаменитый конц-лагерь. Но Митьку на Малаховом кургане заметил только Лукин. Но видал его в лохмотьях беспризорника с всклокоченной рыжей шевелюрой, да и то издалека. А в спортивных журналах был изображен юноша в спорт-костюме и боксерских перчатках. Цвета волос на фотографии узнать было нельзя, а показание было ответственным. А что, если ошибешься второй раз?.. Другой же беспризорник, худой и тонкий, совсем не был похож на присланные портреты.
Садовского ждало разочарование. Телеграмма-молния в ответ гласила:
«Перечисленные товарищи не опознали. НачСлон Мартинелли».
Таинственный беспризорник, чуть было не воплотившийся в Митьку, опять стал расплываться в тумане. Но. подозрения Садовского все таки не разсеялись, и Митька-Рыжий, победитель турецкого чемпиона, чье мужество и кровь помогли команде СССР выиграть матч против Турции, тоже попал в сети слежки ОГПУ. Оперативный отдел приставил к нему лучших сыщиков, и за беззаботным парнишкой уже как тени следовали люди с «шершавыми» глазами…
32. Наконец-то!
Прежде чем отправиться на решающее свидание с Митькой, Сережа предусмотрительно заглянул в будку телефона-автомата.
— Это ты, Колька? спрашивал он через минуту.
— Я самый. Что тебе, Сережа?
— А вот что… И важное. Слыхал про боксера, который вчера у турка бой выиграл? Беспризорник Митька…
— Как же. Уже читал… Сам не смог быть — чортово заседание было. А здорово вышло. Эффектно!
— Да… Хороший он паренок. Я, знаешь, с таким необычайным ин-те-ре-сом смотрел на матч!..
Николай почувствовал в словах своего друга какой то намек.
— Хороший паренек, говоришь? Тебе он понравился?
— И даже очень. Он здорово напомнил мне одного босоногого футболистика… Того самого… Помнишь, про которого я на набережной рассказывал… Кстати, если мне сегодня не повезет, и меня на футболе по-до-бьют… Так ты не забудь.
Николай понял о каком именно босоногом футболисте идет речь и почему Сережа по телефону опасается сказать прямо.
— Ладно. Будь спокоен, Сережа. Я понял… А… а рука у него… в порядке?
— То то и чудеса, что да!.. Несмотря на такой… матч…
— Это вот здорово. Ну, катись, дружище. Ни пера, ни пуха!
* * *
Радостно и быстро шагал юноша к Петровскому парку. Он был возбужден и весел. Неожиданная встреча, сообщение о спасении таинственного предмета, который, казалось, был потерян навсегда, и, наконец, разговор с Николаем, — все это наполнило его уверенностью и ощущением близости каких то решающих событий.
За Сережей следом шел пожилой рабочий с сумкой, видимо, спешивший на работу. Потом на углу одной из улиц рабочий пристально поглядел на какую то женщину и свернул в сторону. Та на миг закрыла глаза в знак понимания и последовала за юношей. Потом ее сменил веселый паренек, с лихо заломленной на затылок кепкой, насвистывавший «Интернационал». Дальше сбоку выехала грузовая машина, провожавшая Сережу несколько кварталов. Потом его обогнал велосипедист, остановившийся впереди подкачать шину…
Люди Садовскаго не дремали…
У ворот громадного стадиона «Динамо» Митька ждал Сережу с таким же нетерпением. Друзья еще раз поцеловались, и неразлучный Шарик, узнавший приятеля, помахал своим «бубликом», но на всякий случай опасливо отошел в сторону. Очевидно, старое воспоминание о тяжелой ноге, придавившей его лапку у Малахова кургана, еще не испарилось из его собачьей памяти.
— Вот что, Митя, сразу же сказал юноша тихонько. Прежде всего — может быть, за мной следят. Поэтому давай договоримся: ты в Севастополе никогда не был. Насчет того, что ты хранишь — не сознавайся ни в какую… Если будут спрашивать — мы с тобой познакомились в Мелитополе, когда ты на вокзале у меня хотел кошелек стырить, а я к тебе хорошо отнесся, покормил, до Москвы довез, о спорте потолковали. Понятно?
— Чего ж тут не понять? Почему ж и не приврать? А чего это тебе покоя не дают?
— Чорт их знает! Может, узнали, что брат офицером был, и из за границы мне писал. Это ведь уже — контр-революция…
— Вот, сучьи дети! Делать им нечего, так хороших парней тревожат… Но ты не дрефь, браток — я не выдам.
— Да и, кроме того — если там что: мы теперь с тобой о вчерашнем матче говорили. Распухшие губы Митьки скривились.
— А тебя, Сережа, видать, здорово напугали, что ты так бережешься!
— А на что ж зря сволочам этим в ловушку лезть? Посадят ни за что, ни про что — а потом доказывай, что ты не верблюд. Так ты сохранил эту штучку для меня?
— Ну, а как же… Она завсегда при мне!
— Как это «завсегда», испугался Сережа. Ведь мало что может случиться?
Митька пренебрежительно махнул рукой.
— Чего там… Ежели до сих пор ничего не случилось — так чего ж дальше то бояться? Я ведь теперь, небось, вроде как герой, чемпион… Кто меня теперь тронет? Штуку эту тебе сейчас передать?
— Она разве тут при тебе?
— Почти что.
— Так подожди… Тут в парке слишком видно.
— Ну, как хошь… Мне не к спеху… Но до чего я, браток, рад, что тебя встретил! Сколько я про тебя думал!.. Потому и в Москву приехал, что хотел тебя встретить. Ты знаешь мою историю с Градополовым?
— Ну как же! Вся Москва ржала!
— Так ведь это я за тобой тогда гнался на поле. Узнал тебя в команде. Кричал, кричал!
— Неужели? А я и не слышал. Какая жаль… А теперь, давай, Митя, потопаем в город. Там среди народа как то безопаснее…
Приятели сели в трамвай и двинулись к Кремлю в Китай-город, торговую часть Москвы, полную старинных мелких запутанных переулочков, где легче всего было хоть на несколько минут скрыться от вездесущего «недреманного ока».
Митя был теперь совсем иной, чем в Севастополе. Его одели в «европейский костюм», купили шляпу, блестящие ботинки, часы, и только внимательному взору было заметно, как тяготят его все эти «грузы цивилизации». Он явно предпочел бы быть в своем старом рванье, удобном и свободном. Но ничего нельзя было поделать: он был теперь знаменитостью, чей выигрыш принес СССР победу над Турцией.
Его веснусчатую курносую рожицу и космы рыжих волос (шляпу он носил не на голове, а в руке — «и прилично и не мешает», как говорил он) знала уже вся спортивная Москва, и на улице ему дружелюбно кивали и мальчуганы и старики:
— Ну как, Митя? Набил турку зубы?
— Чего ж тут удивительного? Будешь голову морочить — я и тебе тоже набить могу, важно отвечал Мнтя, степенно изображая из себя взрослого героя.
И только верный Шарик, которого Митьке с помощью Спарре удалось найти на стадионе, остался прежним, хотя теперь на шее его был богатый ошейник с надписью «Динамо». Но это не мешало ему нести так же задорно колечко своего желтого закрученного хвостика, так же любознательно тыкаться во все уличные тумбы и с тем же обожанием глядеть на своего хозяина в непривычном для собачьего глаза и носа платьи.
Сережа повел Митьку в самую кашу мелких переулков, постарался сделать несколько зигзагов в толпе и только тогда неожиданно шопотом спросил:
— Скажи, Митя. «Эта» штука и сейчас при тебе?
— Ara. Дать тебе ее?
Сережа оглянулся. Они шли по небольшому переулочку среди торопливо снующих людей. Момент был как будто благоприятный.
— Давай, Митя! Только незаметно.
— Понимаю, важно отозвался мальчик. Сами не без соображения! Он подозвал к себе Шарика и протянул ему ладонь, как ступеньку.
— Ну, Шарик. Але!
Собачка легко и весело вспрыгнула хозяину на руки. Митя стал что то развязывать у ее ошейника. У Сережи занялось дыхание.
— Как? Ты тут, на Шарике, эту штуку и хранил?
Митька лукаво ухмыльнулся.
— А что ж? Тут ведь самое безопасное. Кому в голову придет тут искать? А мой Шарик никому не стукнет и не ссучится[46]. Могила! На, Сережа, держи!
В протянутой к шее собаки словно для ласки руке Сережи очутился небольшой продолговатый предмет. С сильно бьющимся сердцем юноша опять оглянулся. Кругом шевелилось пестрое людское море, но ему казалось, что в любой момент к его плечу может прикоснуться рука и раздадутся слова:
— А ну ка, товарищ! Дайте ка сюда эту штуку!..
Предмет в руке жег ему пальцы. Темная пасть ворот дома бросилась ему в глаза.
— Слушай, Митя, дорогуша!.. Подожди меня тут немного. А я сейчас!
Митька кивнул головой, и юноша исчез в. подворотне.
Но уже через несколько минут против нашего чемпиона остановилась машина, и из него выскочили двое людей в штатском.
— Здорово, Митя, быстро сказал один из них. Что ты тут делаешь?
— А вот за Москвой смотрю, чтобы никуда не сбежала.
— А твой приятель где?
— Какой приятель? Шарик? Эй, Шарик, фью… Тут с тобой люди познакомиться хотят…
Штатский нетерпеливо мотнул головой.
— Не ломай дурачка, Митя. Отвечай, когда спрашивают! Где твой приятель, с которым ты только что гулял? И о чем вы тут говорили?
Митя неторопливо повел плечами, стараясь выиграть время.
— Да идите вы, дорогой товарищок, к дьяволу. У меня губы болят после вчерашней победы, а я тут перед вами еще разоряться буду! Ясно о чем говорили — о боксе.
— А куда делся твой приятель?
— А я его за хвост ловить не обязан. Был, да весь вышел.
— Брось в самом деле, Митя, ломаться! рассердился штатский. Говори прямо, когда у тебя спрашивают!
— Это почему такое я должен говорить? Кто вы такие? Может, фашисты какие нибудь, которые меня украсть хотят? Скудова я знаю?
Штатский со сдерживаемой яростью показал свою карточку сотрудника ОГПУ. Митя долго и сосредоточенно рассматривал ее.
— Ara, наконец, произнес он. Похоже как будто, что не липа. И усики и все остальное. Вы бы так сразу и сказали…
— Ну, так где же твой приятель?
— Да сейчас придет. Подождите пару минут.
— Да где же он, чорт побери? Куда он пошел?
— Чего вы ко мне цепляетесь? Не я за ним слежу, а вы. Пошел и пошел. Верно, туда, куда царь пешком ходил. Чорта вы взбеленились? Мой Шарик и тот у каждой тумбы останавливается по своей нужде. Видать, и Сережа завернул, куда нужно было…
В эту минуту в воротах показался Сережа. Увидев около Митьки двух в штатском и автомобиль, он сразу понял, в чем дело. Но лицо его было спокойно и весело, когда он, подчиняясь распоряжению, молча садился с Митькой в машину.
— Что это, Сережа, в тебя Гепея так влюбилась? Может, ты и взаправду бандит? смеясь, спросил его Митька.
— Прошу не разговаривать, оборвал чекист, но Сережа весело улыбнулся и подмигнул:
— Так понравился… Что даже оправиться толком не дадут…
— Вам сказано, товарищ — не разговаривать!
Машина быстро мчалась на Лубянку. Лицо юноши были светлым и задумчивым, словно какая то волна подняла его силы и бодрость. Митька наблюдал за лицом своего друга и с трудом удерживал смех: они опять провели ОГПУ — Сережа, конечно, успел спрятать свои «документы»…
Через полчаса Митька и Сережа были подвергнуты тщательному обыску в комендантуре ОГПУ, но при них ничего подозрительного не нашли. Потом Садовский долго бился, чтобы выпытать что либо у приятелей, но советская молодежь — народ стреляный. Митька ругался с ним и угрожал сбежать из «Динамо».
— Я, товарищ, уж сколько лет по тюрьмам околачиваюсь, но то всегда за дело было. Бывало, засыпешься по глупому… Но так, чтобы ни за что ни про что среди бела дня меня арестовывали — никогда еще не было. Что я — стадион «Динамо» своровал? Или плохо вчерась морду тому турку набил? Чего вы ко мне цепляетесь?..
Садовский внимательно смотрел на курносое веснусчатое лицо рыжеголового «победителя», и одна мысль сверлила его мозг:
«Неужели этот паренек и есть тот беспризорник, который случайно оказался хранителем важнейшей политической тайны»?
Но внешне следователь был благодушен и шутлив.
— Ты, Митя, того — не сердись, что мы тебя зацапали. Это мы тебя теперь так здорово охраняем. Ты ведь теперь наша советская боксерская звезда и, может быть, иностранные фашисты захотят тебя искалечить или убить. Да и бандитов тут в Москве — сколько хочешь. Пришьют среди бела дня ни за что.
— Ну, так то — бандиты, а то Сережа, футболист знаменитый! возмущенно возразил Митька. И чего вы это взъелись? Экая невидаль — приятели встретились!
— А ты его сразу и узнал?
— Чего ж не узнать? У него приметы видные: вся спина сзади, ноги до полу, пятки назад глядят, две дырки в носе и в плечах рыжеватый…
Еврей подавил в себе вскипевшую ярость..
— Брось, Митя, трепаться. А ты давно знаешь этрго своего приятеля?
— Давно — не давно, а хорошо. Мы с ним в Мелитополе повстречались — я у него кошелек хотел спулить, а он оказался — свой парень в доску, брюки в полоску… Он мне шибко понравился.
— Так это, вероятно, ты его хотел увидеть на футбольном матче?
— Угу… Его самого.
Садовский перевел разговор на вчерашний матч и велел принести чаю с пирожными. Осторожно расспрашивая Митьку о его прошлом, он мимоходом задал вопрос, не был ли тот в Севастополе.
— В Севастополе? не моргнув глазом, ответил Митька. Не… Не приходилось. Собирался было на виноградный сезон, но так и не довелось…
Садовский опять переменил разговор и только после похвал Митьке за вчерашний бой, неожиданно спросил, не нужно ли было Мнте чего либо передать Шибанову.
— Кому, кому? переспросил Митя.
— Шибанову.
— А кто он такой? Взгляд паренька был светел и невинен.
— Да приятель то твой.
— Ах, Сережка… А я его и фамилии то не знаю… А чего ж передавать? Просто — я его шибко люблю — сердечный он парняга и футбол здорово лягает. Вы его выпустисте?
— Если он в бандитизме не замешан конечно, выпустим.
— Вы уж, пожалуйста, не томите его, товарищ. Ни в чем он не виноват… Хоть я знаю — ручательство мое невеликое, но я за него голову проэакладаю. А то, ей Богу, если с ним что худое сделаете — меня ни в жисть на ринге больше не увидите…
— Ладно, ладно, Митя, не беспокойся! А ты со своей стороны порасспроси твоего приятеля, как он там в Севастополе в футбол играл. У него там интересные приключения были. А потом как нибудь мне расскажешь. Он — хороший парень, твой Сережа. И в футбол играет — замечательно… Я очень рад, что ты именно с ним подружился… Вряд ли он в чем бандитском замешан. Но мы, ГПУ, знаешь сам — на всякий случай всех должны проверять — для порядку… На, вот тебе пропуск. Можешь идти.
— Ишь ты: пропуск, словно я арестованный был!
— Такие у нас на Лубянке правила, Митенька.
Мы никому не верим.
— А жаль… А моему Шарику пропуска не надо? Нет? Стало быть, ему вы верите? И у него вам нечего спрашивать? Ну, и то слава Богу… До свиданья, товарищок. Шарик! Фью, фью. Идем, миляга, пока нам верят!
Так никогда и не узнал Садовский, что «Тайна Императора», за которой он с такой страстью охотился, много месяцев пробыла на шее небольшого песика, который теперь, весело махнув желтым хвостиком, скрылся за дверью.
* * *
Через час после тщательного обыска к еврею привели и Сережу. Он тоже категорически отрицал свою встречу с Митькой в Севастополе и существование какой либо связи. На вопрос чекиста, где же теперь, тот беспризорник с Малахова кургана, студент молча пожал плечами. По первым же словам допроса он понял, что движения руки Митьки, передавшей ему таинственный предмет, никто не видал. При обыске у него ничего не нашли, и на сердце у студента было радостно. За себя лично он не боялся, а тайна, за которой они все так долго гонялись, была уже в безопасности. Это ощущение придало ему душевных сил, и он только улыбался в ответ на все ухищрения Садовского.
Раздраженный неудачами и выдержкой юноши тот, наконец, вспылил:
— А лучше бы вам, Шибанов, дурака не валять, а выложить все не чистоту!
— Да что такое «все», товарищ следователь? спокойно переспросил юноша.
— Да об этом деле… «Тайна адмирала»…
У Сережа на миг остановилось сердце. Неужели ОГПУ знало так много? Но он сдержался и так же ответил:
— Какого адмирала?
Чекист и спортсмен долго смотрели в глаза друг другу. Наконец, Садовский с досадой бросил на стол свой карандаш.
— Ох, товарищ Шибанов. Как бы не пришлось вам попутешествовать куда нибудь подальше от Москвы. Уж очень вы для нас смелы…
Сережа спокойно пожал плечами.
— Ну что ж. Придется и поедем. Экая невидаль! Сколько уже наших студентов вы отправили по-пу-те-ше-ство-вать… Ничего, и на Сибири и на Соловках светит русское солнышко. А мы — ребята неунывающие… Может быть, и там футбольный мячик найдем!..
— Гм… Вы уверены? зловеще спросил Садовский. Но потом он вспомнил, что Шибанов пока остается важной приманкой и ссориться с ним нет смысла. Выражение его лица изменилось.
— Впрочем, не в этом дело. На вас тут донос глупый имеется, что вы с матросами иностранных пароходов возитесь, переписку тайную затеяли с заграницей с адмиралом каким то. Мы обязаны проверять… Так, на всякий случай… Но вы, Шибанов, можете быть спокойным — этот донос мы выбросим в сорный ящик. А с вами я хотел по другому делу поговорить. Вы, кажется, сирота?
Сережа насторожился.
— Да, сирота… Вероятно, в моем деле и эти сведения есть…
— Ну конечно, почти ласково ответил следователь. Мы знаем, как трудно вам было выбиться в жизнь и поступить в Институт. Вы стипендию получаете? Сколько?
— Да немного — 75 рублей.
— И живете в общежитии?
— Да…
— А как бы вы отнеслись к такому предложению. Я говорю с вами от имени «Динамо». Мы все с интересом следили за вашим прогрессом в футболе и наметили вас кандидатом в сборную команду СССР. Но, конечно, при студенческом питании вам трудно, как следует, тренироваться. Что если бы вас поместили бы в общежитие «Динамо», обеспечили бы лучшей стипендией, и вы, продолжая учиться, отдали бы свои досуги более напряженной футбольной тренировке. Мы уверены в вашем согласии.
— Разрешите уйти, товарищ следователь? после короткого молчания спросил Сережа.
Садовский поглядел на напряженное серьезное лицо спортсмена и не стал дальше ни о чем спрашивать. Он понял, что и этот подход не удался.
Когда Сережа взял пропуск и подошел к двери, он неожиданно обернулся.
— Вот что, товарищ следователь. Вам надо бы изредка вспоминать хорошую русскую поговорку…
— Какую именно?
— «Не все то продается, что покупается»!..
33. Долг перед Россией
Очередная встреча наших друзей была решающей. Николай и Ирма уже знали по намекам, сделанным Сережей по телефону, что тот получил в свои руки тайну матроса, пробывшую почти 20 лет на руке памятника адмиралу Корнилову. Теперь нужно было разобраться в этой тайне и решить, что делать дальше.
Встречу «заговорщиков» удалось устроить на стадионе пищевиков, где Ирма два раза в год производила врачебный осмотр спортсменов.
Пока она работала в своем кабинете, Николай и Сережа выбрали место на зеленой травке стадиона подальше от людей, разлеглись под последним осенним солнышком и молча ждали Ирму. Видно было, что студента била лихорадка нетерпения: он то вставал, то ложился опять, не находя спокойного места и все пытался сбегать, поторопить Ирму. Моряк был сдержанней, и только набежавшие на лоб морщины показывали его нервное напряжение.
Когда девушка освободилась и пришла к друзьям, Сережа подробно и обстоятельно рассказал свои приключения за последние дни.
— Патрон был хорошо закупорен, а сверху обмотан изоляционной лентой, описывал Сережа таинственный предмет, несколько месяцев бывший на сохранении у Шарика на шее. Внутри его была стеклянная пробирка и в ней небольшая записка.
— Ты сохранил ее? не отрывая напряженного взгляда от лица друга, спросил Николай.
— Как бы не так! Дураков в СССР по штату нету. Всех перестреляли… За нами такая слежка, что хранить такие бумажки — чистое самоубийство. Я уничтожил ее тут же и правильно сделал — уже мииут через 5 меня зацапали лапки ОГПУ.
— Но запомнил ее хорошо? Сережа насмешливо фыркнул.
— Что за еврейский вопрос? В память «так себе вбил, как… ну, как „Отче наш“».
— Как «Отче наш»? с сомнением переспросила Ирма. Не думаю я, чтобы ты «Отче наш» без запинки произнес. Ты когда в последний раз в церкви был?
Сережа удивился вопросу.
— В церкви? В последний раз? Да, вероятно, на свое крещение… А следующий раз буду на своей панихиде… Мне, советскому студенту, получающему стипендию — пойти в церковь — это сплошное самоубийство. Если из Института не вышибут, то со стипендии снимут уж во всяком случае… Но ты все таки зря придралась, Ирма. Ей же Богу, я «Отче наш» еще помню… Но не прерывай меня теперь. Дай вспомнить нашу тайну…
Сережа лег на спину, закрыл глаза, нахмурил лоб, видимо, собирая все силы своей памяти, и потом медленно и отчетливо произнес, как бы читая:
«Заклинаю Богом Живым того, кто найдет это письмо, исполнить последнюю волю Императора. Ожидая своей гибели от рук жидовской власти, он доверил мне свое завещание и реликвии Царствующего Дома и поручил передать все своему законному наследнику. Бог помог мне бежать, но не довелось мне застать в живых брата Императора, Великого Князя Михаила Александровича. Он тоже уже был расстрелян. Боясь, что при мне ценности эти могут погибнуть во время гражданской войны, я схоронил их. Пусть тот, кто в случае моей смерти узнает о местонахождении клада, потом отдаст все будущей России и расскажет, как верный русский матрос спас от сатанинских рук завещание и святые вещи замученного Императора.
Клад зарыл я под Москвой на Поклонной горе под дубом, где сидел Наполеон. На южной ветке дуба есть старое воронье гнездо. Для верности я его привязал проволокой. Если оттуда вниз спустить веревку — она укажет место, где все зарыто. Сверху там лежат камни. Под ними — черная шкатулка. Только там не клад, а ловушка. Не раскрывать! В ней для отвода глаз — пустяковые письма и гранаты… А еще на поларшина под этой шкатулкой — настоящий клад. Он в банке и завернут в кормовой флаг яхты „Штандарт“.
Да благословит Господь Бог того русского человека, который честно примет из моих рук тайну эту. Пусть будет проклят тот, кто захочет предать завещание Царя — Мученика. Аминь.
Деревенько. Дядька Наследника Цесаревича.
Севастополь, 2 июня 1919 года».
Долго молчали молодые люди после того, как замолк тихий и торжественный голос Сережи, словно почувствовали, что судьба столкнула их с необычайной задачей, тяжесть которой придавила их плечи. Юноша поглядел на озабоченные лица своих друзей и невесело усмехнулся.
— Что, братва, задумались? В голове аж гудит?.. Так вот и я. Прямо ошеломлен был. Целую ночь не спал после этой записки. А чтобы я, я не спал — для этого много нужно!..
— Да, мы словно в тупике сидим.
— Вот, вот и я так думаю, подхватил Сережа. Ну, узнали мы тайну. Ладно. Не маленькая она. Прямо, можно сказать — государственная… Ну, а дальше что? На что она нам сдалась? Мы свое дело сделали: разгадку отыскали. И даже почти бескровно это вышло — прямо чудеса в решете! Колька только вот лапу себе поломал, да мы парой арестов отделались. Ну, а что дальше?
Опять замолчали друзья, напряженно думая над поставленной перед ними погибшим матросом задачей. Ведь теперь не существовало ни России, ни Императора. Что было делать с попавшей им в руки тайной?
Ирма первая нарушила молчание.
— Пока, по моему, и предпринимать то ничего нельзя. Поскольку я знаю — никого из членов Императорской Семьи в живых не осталось: ведь расстреляли даже малых детей. Теперь царит Сталин и Чека. Передавать тайну практически некому. Надо только сохранить ее до того времени, когда Россия опять восстановится.
— А ты думаешь — это будет?
— Ну, конечно. Что же, история остановится на советской власти? Так всегда и будет: голод, террор, Чека, да Сталин? Ничего! Россия — страна молодая, сильная и живучая. Выкрутится и она. Вот тогда то мы Ей и передадим тайну.
— Будущему Императору? переспросил Сережа. Я хоть в политике не разбираюсь и как будто не монархист, но тоже думаю: если Россия почти тысячу лет с Царями жила — и неплохо жила — то, вероятно, опять туда же придет. Куда же ей деться?.. Это только наши комсомольцы треплются о «свирепости» царей… А как почитаешь Толстого, да Чехова, да Тургенева — эх, и жили же ребята!.. Чорта наших батьков потянуло революции устраивать!.. Уж верно — с жиру бесились… Заварили кашу, а мы — расхлебывай… Ну, да не в этом дело. Ирма права — когда будет Русский Царь — мы ему и презентуем нашу тайну. А до тех пор некому…
Опять все замолчали, словно маленькие дети, растерявшиеся перед необычайно сложной задачей, поставленной им судьбой.
— А ты что ж молчишь, Николка?
Моряк лежал на траве вниз животом и сосредоточенно жевал какой то стебелек. Лицо его было угрюмым и озабоченным.
— Я то? переспросил он не сразу.
— Ну да, ты то. Согласен с нами? Моряк долго молчал.
— Нет ребята, наконец, ответил он. Дело не так просто…
Друзья знали Николая, его медлительный характер и обстоятельность его решений. Он был, по выражению Сережи, «тяжкодум» и напорист. Вот почему Ирма и Сережа с нетерпением и беспокойством смотрели на нахмуренное лицо моряка.
Николай, казалось, не замечал нетерпения своих друзей. Его зубы сжали стебелек травы, и на щеке изредка вздрагивал мускул.
— Ну, Ника, подтолкнула его, наконец, Ирма. Так что же по твоему?
— «По моему»? переспросил Николай. По моему — увы, ребята — тут дело значительно сложней. И «ничего не делать» нам попросту никак нельзя. Если, конечно, к просьбе погибшего Императора не отнестись по саботажному. — Так что же мы можем сделать? — Ты говоришь, что в СССР теперь нет членов Императорской Династии, кому нужно было бы обо всем этом передать?
— Конечно, нет.
Николай поднял голову и пристально посмотрел на свою невесту.
Ну… а… а за границей?
Ирма и Сережа переглянулись и поняли, что действительно вопрос не так прост, и отмахнуться от него «ничегонеделаньем» было невозможно.
— За границей? переспросил студент. Чорт их знает, может, и есть. Откуда нам это знать?
— То-то: «откуда нам знать»? А я вот, брат, случайно знаю. Мне среди командиров флота много приходится крутиться, а из них многие и за границей побывали недавно. Иногда с ними и выпивать приходилось. Я хоть непьющий, а выпить могу подходяще, и вообще парень компанейский.
Так вот один такой заграничный парень в сильном подпитии рассказал мне, что недавно в Германии свадьба была: германский крон-принц женился на русской Великой Княжне…
— Так ведь же в Германии фашист Гитлер управляет! При чем тут «крон-принц»?
— Это по твоей студенческой полит-грамоте все просто выходит, а в жизни, видно, иначе. В Италии и король есть и рядом с ним диктатор Муссолини существует… А в Германии сыновья Императора Вильгельма на общих основаниях стране служат… И по старому «принцами» зовутся… Там, брат все иначе, чем у нас, в Совдепии! Но не в этом дело. Если принцы и принцессы женятся, об этом в газетах пишут, значит, наши русские Великие Князья и Княжны существуют и теперь… И если уж выполнять волю Императора, как следует — так нужно туда, за границу, обо всем и сообщить.
Друзья опять замолчали. Спортивный азарт, которым раньше была окружена тайна матроса, теперь превращался в иное чувство — суровое чувство русского долга. Спортивное состязание с ГПУ, полное захватывающего интереса и приключений, теперь отходило на задний план. Воля последнего Императора теперь не упиралась в тупик невозможности что либо сделать. Информация моряка ставила перед молодежью новые и еще более опасные задачи. Сережа озабоченно потер лоб.
— М… да… промычал он. У… гм… Мне такие соображения, признаться, в голову не приходили… Ну, и перепутаница. Но все таки…
— Что «все таки»? глухо переспросил Николай.
— Все таки, надо же что то предпринять… Вот, чорт побери, ситуация!.. Терпеть я не могу ломать головы. Я — человек действия. Раз — и ваших нет!.. Так что ж тут делать?
— Тут есть, по моему, только одно решение, после нового молчания сказала Ирма. Передать или переслать все эти вещи и завещание Великой Княжне в Германию, мы, ясно, не можем. Тут такая слежка кругом, что рисковать такими вещами мы не имеем права. Да и как передать? Мы ведь словно на луне живем, отрезанными от всего мира. А вот сообщить Княжне, как просит Деревенько, и одновременно сохранить вещи до лучших русских времен — это мы и можем и обязаны.
— Да — «сообщить». А как? Ирма поглядела на моряка.
— Может быть, с военными кораблями, которые в заграничные порты ходят?
Николай покачал головой.
— За это я не возьмусь. Команды на такие корабли подбираются из партийцев и комсомольцев и с заложниками в СССР. Да и потом, спускают их на берег группами с политруками во главе, чтобы те буржуазной заразой не заразились. Нет, это никак не выйдет. Никто письма не возьмет.
Друзья опять помолчали.
— А может быть, несмело начала девушка. Может быть, как нибудь через иностранное посольство?
Николай одобрительно кивнул головой.
— Это легче. Правильно, Ирмочка. Это — идея…. Но дело то ведь не только в том, что передать, а главное о чем передать? Какое такое завещание? Какие такие реликвии? Надо же узнать, что именно Деревенько спрятал? Есть ли там что нибудь и сейчас? Ведь почти 20 лет прошло.
— Значит, нужно сперва посмотреть тайник?
— Без этого никак не обойтись, мрачно буркнул моряк. А при той слежке, которая крутится окола иас, ты понимаешь, Офсайд Иваныч, какой это риск?
Но Сережа, для которого действовать было куда легче, чем взвешивать и решать, упрямо тряхнул головой.
— Э, ладно! Чего там со своей совестью торговаться? Раз для России нужно — то какой может быть разговор? Севастопольцы в свое время свое дело делали, не вздыхая об опасностях. Риск, говоришь? А что у нас в Сесесере делается без риску? И кто не жульничает, чтобы кусок хлеба достать? Уж такая эпоха, чорт бы ее побрал!
— Но как все таки ВАП чуял, что тут дело серьезнее, чем только простое советское приключение, задумчиво сказала Ирма. Хорошо, что мы его сюда не впутали… И повезло же нам, действительно, на такую страшную тайну! Ты, Сережа, прав — пожалуй, лучше бы потом читать об этой эпохе, чем в ней жить…
— Еще бы! Ей Богу, не будь я сиротой, я тут же пошел бы к папе и маме и вчинил бы им иск за убытки: зачем они меня родили именно теперь, а не 50 лет позже или раньше?.. А подумать, как за границей живет молодежь — небось, у каждого дома всегда хоть кусок хлеба есть. А тут — часто вечером вернешься — и ничего пожрать нет… А там — жрут до сыта и ГПУ над ними не сидит… А мы — как это говорится:
«Попался на качели: Качайся, чорт с тобой!»Хотя впрочем, признаться, я люблю такую жизнь с риском и напряжением. Интересно подраться! Как здорово сказал Сельвинский[47]:
«Я не знаю, зачем я родился, Но раз уж родился — я должен вцепиться»!..— Ох, Сереженька, с досадой прервал его моряк. Мало, видно, тебя в детстве били… Я бы тоже вчинил по этому поводу иск твоим родителям… Никак ты всерьез не можешь!
Румяное смеющееся лицо юноши сделалось виноватым.
— Ну, ну, ты не ругайся, Николка. Характер у меня такой… трепливый. Но ведь ты знаешь сам — когда доходит до настоящего дела — я всегда впереди…
— Вот тут то, брат, собака и зарыта. «Настоящего дела»! А какое оно такое «настоящее дело» в нашем положении?
Сережа беззаботно пожал плечами.
— И вечно ты, Колька, осерьезнишь, усложнишь дело. А оно просто, как самовар или там апельсин — выбирай, что хочешь.
Моряк молча скептически усмехнулся.
— Ну, конечно же, простое. Надо: первое — поглядеть, что там спрятано. Второе — дать знать об этом Великой Княжне или…
Внезапно юноша осекся. В его голове мелькнула смелая мысль.
Или… Я как нибудь сам проберусь в Германию и сообщу ей…
— И как это у тебя, Сережа, все легко выходит!
— Легко и есть, когда с улыбкой взяться за дело. Конечно, если мрачнеть, как Ннколка — никакая судьба не поможет… А так? Чего ж пугаться то? Наплевать! Ничего!
— А ГПУ тебе — шутка, что ли?
Ну и чорт с ним! Подумаешь — страх какой!.. Ты знаешь, Ирмочка, что самое худшее в жизни мужчины?
— А что? усмехнулась девушка. Несчастная любовь?
— Ну вот еще… Нет, самое наихудшее… Студент понизил голос до таинственного шопота. Самое худшее — это когда в обществе где то там пуговица, подлая, отскочит, и «невыразимые» начинают медленно, но неуклонно, сползать вниз!..
Все расхохотались. Сережа, сам сгибаясь от веселого смеха, тряхнул своим белокурым чубом. Теперь, когда опять наступила пора действовать, а не решать, прежнее веселое настроение вернулось к нему.
— Ничего, ребятня! Нам ли унывать? Если уж нужно поближе заглянуть в тайну нашего матросика — ну, и заглянем. Надо рискнуть: все равно ведь ГПУ от нас не отцепится. И как только первый хороший удобный денек — ну, и провернем все. Обходили зубы ГПУ до сих пор — обойдем и дальше.
— А не попадемся? сумрачно и тихо спросила Ирма.
— Ну, а если и попадемся, так что? Прежде всего, как вы, черти влюбленные, почти что муж и жена, а я — яко благ, яко наг, яко нет ни хрена — все это дело я на себя возьму. Ничего! В футболе ведь тоже риска полно. Так там из за мяча, а тут: «тайна погибшего Императора»… Звучит то как красиво!
— Вот чорт неунывающий!
— А чего унывать? Помнишь, как Маяковский сказанул:
«Лет до ста расти Нам без старости. Год от году расти Нашей бодрости»…Чего же дрефить? Тюрьмы? А разве такая уж большая разница между советской волей и тюрьмой? Конц-лагерь? Так, ей Богу, я не поверю, чтобы и там веселые ребята не выжили. Сибирь? Так разве там не русское солнышко и нет завалящего футбольного мяча? А если шлепнут — ну так что: Помнишь статистику: у нас в СССР в каждую минуту рождается 10, а умирает 4 человека. Ну, так в одну непрекрасную минуту умрет не 4, а 5 человек. Только и разницы… А зато мне когда нибудь поставят памятник:
«Русскому центр-форварду, зацепившемуся за зубы ГПУ»…
Он звонко хлопнул моряка по широкой спине, я все засмеялись.
— Вот забубённая головушка! с завистью сказал Николай. Ему все нипочем… Да я, кстати, все собирался тебя спросить: что ты сделал с патроном то тем?
— В уборную бросил.
— С запиской?
— Нет, брат, шалишь. А вдруг Гепея ее оттуда выудила бы? Чорт ведь ее знает. С нее станется в… дерьме рыться.
— Так ты ее порвал?
— Ну, опять ты свое тугоумие проявляешь. Никакой изобретательности в тебе нет. Я уничтожил ее так, что даже Ирма не отыщет.
— Почему «даже» Ирма?
— Потому что она учится животы взрезывать.
— Так ты ее, значит, съел?
Сережа торжествующе кивнул головой, и друзья расхохотались.
— Ничего, ребятня!
Над страной весенний ветер веет, Всюду стало радостнее жить! И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить!— «Смеяться» — это, конечно, верно. А вот насчет «любить» — как? лукаво спросила Ирма, и в ответ на этот вопрос Сережа шутливо толкнул ее на траву.
— И любить тоже… Тамарочка призналась, что и она меня тоже н-е-е-е-множечко любит!.. Понимаешь ты — Та-ма-роч-ка, огненная заноза моего любвеобильного сердца!.. Нежный цветочек моей распускающейся розовой любви. Симпатяга моей одинокой жизни. Черноокая мечта моих голодных ночей… Тамарочка — о та, которую я люблю даже больше футбольного мяча!..
34. Кто-кого?
На этот раз народу в лодке было больше: кроме трех наших старых знакомцев, там были и Тамара и Митька и его неразлучный Шарик.
Последнему прогулка, казалось, нравилось больше всего. Он влез на нос, оперся передними лапами о борт лодки и с веселой яростью лаял на все: на мосты, под которыми они проезжали, на встречные лодки, на пропыхтевший рядом маленький пароходик. Порой Шарик оглядывался на своего хозяина, и тогда его желтый бублик бурно крутился в виде приветствия и выражения своего обожания.
Впрочем, весел был не один Шарик. Радостно смеялись и Николай с Ирмой, собиравшиеся скоро зажить настоящей «женатой жизнью». Веселы были Тамара с Сережей, словно нечаянно встречаясь взглядами и смущенно отворачиваясь. Радостен, наконец, был и Митька, впервые после долгих волчьих лет наслаждавшийся атмосферой дружеской сердечности. Его рыжие волосы, как и хвостик его четвероногого приятеля, трепались на свежем речном ветре.
— Вот бы когда, ребята, сосчитать, сколько у нас зубов? весело предложил Сережа.
— Почему это? усмехнулся гребший моряк.
— Да просто потому, что мы пастей своих ни на минуту не закрываем: ржем, так, что все данное от Господа Бога количество зубов видно. Посмотрите, Шарик то, Шарик как старается!.. Откуда, кстати, он, Митька, у тебя взялся?
— Шарик то? Он у меня уже года с три. Я его в Одессе с помойки выудил. Сунулся я как то раз в помойку — думал, что найду пожрать. А голод был подходящий, деваться было некуда. Ну, гляжу, а там что то пищит. Я рукой — щеночек. И как его не съели — ума не приложу.
— А ты сам то почему его потом не съел? спросил Сережа.
— Это я то Шарика то? обиделся Митька. Да он у меня вроде младшего братца… А тогда — что то меня за сердце взяло: был он такой же беспризорный и малый, как и я… Может, если бы так жалостно не пищал — каюк ему был бы: в те поры я все ел. Могу теперь целое сочинение написать, как кошек, собак, крыс, да ворон ловить на закуску. Эх, человек ведь не свинья — он все съест…
Друзья опять рассмеялись. Солнце сияло, все были молоды и о печальных темах никто не хотел ни думать, ни говорить. Смех — дар богов — не переставал звучать на лодке, быстро шедшей под мощными ударами весел Николая. Последний снял свою рубашку, и Сережа заметил, с каким вниманием и интересом смотрит Ирма на массивные мышцы своего «морячка».
— Что, Ирмочка, любуешься своей собственной машиной?
Девушка чуть смутилась.
— Да нет… Просто я думаю, как это верно сказано, что женское тело красиво в покое, а мужское — в движении, в борьбе…
— Ну вот — философию завела! А я думал, что ты просто мечтаешь, как бы такого бугая да на анатомический стол!
— Фи, Сережа! Как тебе не стыдно?
— Чего же? Николка — машина в одну лошадиную силу, что надо… На нем мускулы изучать — лучше натуры не нужно.
— Как будто нельзя изучать — не разрезая? Тамочка — воздействуй хоть ты на этого непутевого студента! Возьми его в оборот, а то он как неприкаянный живет. Он настоящей жизни еще и не видел и, вероятно, даже сыт ни разу не был.
— Нет был, категорически заявил студент.
— Ого, а когда?
— А когда мамочка своим молочком кормила… Все засмеялись.
— Ей Богу!.. Но с тех пор, правда, ни разу. Так — набить живот — это случалось, но чтобы сытым всерьез и надолго быть — что то не упомню. И ничего — все таки живой. Машина у меня живу-у-у-учая…
— Но даже если машина у вас, Сережа, хорошая — то все таки надо ее беречь, заботливо заметила Тамара. Тем более, что вы — спортсмен. Нужно перестать быть богемой и так зря растрачивать свое здоровье.
Но студент тут же шутливо высмеял ее заботливость.
— Тамочка… Ради Бога… Не заставляйте меня краснеть от избытка моей застенчивости… До сих пор обо мне только одна прекрасная дама заботилась, да и то — ГЕПЕЯ… Я привык, что жизнь мне щелчки дает, а не поцелуи.
— А теперь отвыкай, Сережа, лукаво сказала Ирма. Вовсе даже не нужно бурбоном быть. Благодари Бога, что женская душа, да еще такая, как Тамочки, о тебе заботится. Не стоишь ты этого, оболтус!
— Во, во… Я ведь сам говорю, что не стою! Нашлась тоже ценность, подумаешь?
Сережа поднял со дна лодки гитару и взял несколько мягких аккордов.
Умрешь — похоронят, как не жил на свете… Уж больше не встанешь к веселью друзей. Налей, налей, товарищ, Заздравную чашу. Бог знает, что с нами Случится впереди… Эх… По рюмочке, по махонькой, Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом… По рюмочке, по махонькой, Чем поят лошадей…Несмотря на все ухарство и беззаботность, в голосе веселого студента проскользнули нотки грусти.
Тамара удивленно взглянула на Сережу и только вздохнула. Ирма бросила значительный взгляд на Николая и мягко усмехнулась.
— Знаешь что, Серж? Ты просто на просто — большой мальчик, неприкаянный и нелепый. Ты в женщинах даже, собственно, не любовь возбуждаешь, а материнское чувство: тебя, как щеночка, облизать хочется. Оберегать от жнзни!
Футболист притворно обиделся.
— Эй, товарищ доктор! Нельзя ли посимпатичнее сравнения выбирать? Легче на поворотах! А то этак и в воду загреметь можно.
— Нет, в самом деле, Сережа! Вот и Тамочка тебя немножко любит только за твою беспечность и беззаботность. Скорее жалеет, чем любит!
Сережа украдкой поглядел на девушку и весело усмехнулся.
— Это верно. Сказал же какой то умный парень: «женщины любят нас за наши недостатки». А у меня их мильон сто тысяч. Ну, а за что мы то женщин любим? Да за их уютность и ласковость. Но ежели женщины вздумали бы на мне насчет дисциплины тренироваться — я бы мигом взвыл бы и сбежал… Помнишь, как кто то сказал: «Что такое жена? Это — гвоздь в стуле. Она никогда не дает тебе спокойно сидеть»… Ха, ха, ха… Словом — долой женщин! Да здравствует футбольный мяч… Ничего!
«Гром победы раздавайся, Серж Иванович держись»!..В этот момент Николай извернулся и ударом весла окатил студента холодной водой. Он вскрикнул от неожиданности.
— Это тебе для охлаждения чувств. А то такие влюбленные разговоры завел, что весне впору. А теперь ведь сентябрь… Ну вас! Ты лучше скажи, Митя, как это ты в беспризорники попал. Я уже давно хотел тебя об этом спросить.
— В беспризорники? А очень даже это просто вышло. Я — «парикмахер».
Николай даже грести перестал, так был удивлен таким коротким объяснением.
— Как это «парикмахер»? Волосы резал, что ли? Митька в свою очередь с удивлением посмотрел на него.
— Тю… Какой же ты необразованный! А я думал — ты с понятием… Парикмахеры, это, браток, — никакая не специальность. Это так колхозников на деревне зовут, которые по ночам с ножницами на бывшее свое поле прутся, чтобы там колосков настричь, жрать что сварить. Ну, а их за это в конц-лагерь и пхают. Лет на десять… Так вот я из этих самых парикмахеров. Наше село под Воронежем было. Мы вот ночью раз с батькой и пошли на бывшее на свое на поле. А тут пионеры подследили… Не зря ведь про них поют:
Пионеры — лодыри, Царя и Бога продали!..Что ж им продать простого человека? Нас, рабов Божих, конечно, за зад и в конверт. Батьку куда то в лагерь законопатили, а меня подержали и выпустили.
— Чего ж ты не вернулся в деревню?
— А что я тама делать стал бы? Мамка старая уже была… Двое сестер малых… Что с ними за полгода сталось? Вряд ли кто и выжил…
Митя опустил голову. Все замолчали. И странное ощущение охватило всех — словно на небо нашла серая туча, и краски яркого мира вокруг них поблекли.
Но потом радость жизни опять вернулась — молодость брала свое. Опять все шутили и смеялись беззаботно и шумно, словно счастье не хотело уместиться внутри, и все время выплескивалось наружу, как брызги кипящей воды.
Сережа залихватски закрутил свой белокурый чуб, весело забренчал на гитаре и звонко запел:
Пока хмелем кудри вьются, Будем девушек любить, Пока денежки ведутся, Будем весело мы жить…Не очень музыкальный, но веселый и дружный хор подхватил песню. Никто из молодых людей не обратил внимания, что мимо них уже несколько раз пронеслась какая то моторка с важной дамой, рассматривавшей их в бинокль. Сзади их лодочки тащился, не отставая, грузовой пароходик, а по набережной вдоль реки полз закрытый грузовик. Если бы наши друзья могли заглянуть внутрь машины, они с удивлением увидали бы там скрытно направленный на них объектив большого телескопа и небольшую радио — станцию. Охота на людей шла во всю. Садовский крепко заплетал своими сетями компанию молодежи, звонко хохочущую на реке…
Когда лодка выплыла за город и стала приближаться к берегу, едва слышно затрещала радио — станция в грузовике. Несколько моторных лодок самого разнообразного типа потянулись вверх по реке. Зайдя за излучину, каждая из них быстро выгрузила людей со странным снаряжением — подзорной трубой, револьвером и круглым спинным ранцем. Люди эти немедленно рассыпались в кустах, окружив молодую компанию сетью слежки.
Из одной из лодок вынесли какой то странный аппарат, похожий на ряд параллельно установленных граммофонных труб. Этот аппарат был быстро установлен метрах в 100 от наших друзей и прикрыт рваной «рыбачьей» брезентовой палаткой. Трубы эти, словно чуткие уши, направились в сторону «дичи».
Между тем друзья весело возились на песке под еще горячим осенним солнышком и, казалось, не думали никуда двигаться. Митька мигом развел костер, девушки достали из сумок провизию и, забравшись в прибрежные кусты, компания расположилась настоящим бивуаком, словно намерена бы и пробыть здесь до ночи.
По прежнему весело и беззаботно раздавался смех, но чем ниже садилось солнце, тем чаще проскальзывали нотки нервности у Ирмы, Николая и Сережи. Тамаре изредка казалось, что в оживлении ее друзей было что то лихорадочное. Потом это внезапно прорвалось.
Когда солнце коснулось своим краем дальнего леса, Сережа пристально поглядел вдаль на холмы, окружавшие Москву, и, повернувшись к Николаю, просто сказал:
— Ну, брат, кажется, пора!
Моряк сжал зубы так, что на щеках его вздулись желваки. Лоб его прорезался глубокой складкой.
— Да, пора, ответил он так же коротко, и тяжело вздохнул. Лицо Ирмы тоже изменилось. Из возбужденно-веселого, оно сделалось напряженным и сосредоточенным, словно она должна была приступить к какой то серьезной и опасной операции. Чуткая Тамара заметила эту перемену и эти следы волнения.
— Что это вы, милые, с равновесия сбились? Неужели устали так быстро?
— Нет, не устали, медленно ответил Сережа, пристально глядя ей в лицо. Просто мне нужно будет на некоторое время покинуть вас — тут невдалеке… у меня… дело одно… маленькое есть. Так: пустячок…
— Так почему же это вас волнует?
— Разве видно?.. Нет, это так… А просто от вас уходить не хочется… ни на минуту…
— А может быть, словно выдавил из себя Николай. Может быть… отложим или… пойдем вместе? Боюсь я за тебя.
— Не надо, так же глухо и тихо ответил юноша. Так лучше, как мы раньше решили. Все равно, как ни крути — риска не избежишь. А жить под постоянным оком ГПУ и знать, что впереди все равно неизбежно что то нужно сделать — ну его к чорту! Лучше уж сразу, как головой в холодную воду… Да и дело не в цене, а в выполнении. Все равно когда нибудь рискнуть да придется… Ничего!.. Я знаю, дорогой мой, что у тебя на сердце. Но ведь, если мне не удастся — ты останешься и наш русский долг выполнишь. Не мучь себя теперь. Ничего!..
Моряк словно не заметил с какой дружеской лаской Сережа положил ему руки на плечи. Его мужественное лицо было почти искажено, словно от боли. Было очевидно, что какая то мучительная борьба идет в его душе. Потом он тряхнул головой.
— Вот, чорт… Никогда не думал я, что долг может быть таким тяжелым!
Тихий разговор друзей не был слышен. Потом Сережа заставил себя весело улыбнуться и резко повернулся к Мите.
— Пойдем, Митя, вместе. Ладно?
— А куда?
— А тебе разве не все равно? Митька осклабился.
«Не хотится ль вам пройтиться Там, где мельница вертится? Не хотится — как хотится. Мы одни могем пройтиться»…Катим, миляга, куда хошь! Я ведь с тобой, дядя Cepera, хоть на тот свет! (Ирма невольно вздрогнула). Все едино — хужее, чем на этом, верно, не будет… Пойдем. Эй, Шарик!
Собаченка, дремавшая под кустом, вспрыгнула и поглядела умными глазками на хозяина.
— Пойдем погулять с Сережей, Шарик? А?
Желтый хвостик радостно завилял.
— Ну, еще медленнее сказал Сережа, и протянул руку Ирме. Та крепко ее пожала, но потом, повинуясь непреодолимому женскому инстинкту прощания с мужчиной, идущим в бой, обняла его и крепко поцеловала в губы. Потом Николай с какой то неуклюжей торжественностью сдавил руку юноши своими мощными лапами и молча прижал друга к своей груди. Тамара с встревоженным удивлением смотрела на эту сцену.
— Чего это вы?
Ирма не сразу нашлась.
— А просто так… Нежность к Сережику нахлынула…
Тамара перевела свои внимательные глаза на Сережу. Он со смущенным лицом протягивал ей руку и улыбался. Что то неестественное показалось девушке в этой привычной улыбке, и она внезапно инстинктом любящей женщины почувствовала опасность. И когда в ответ на вспыхнувшую в ее глазах тревогу, лицо юноши чуть дрогнуло, она безотчетно протянула руки, обняла и крепко поцеловала своего «футболистика».
— Эва вы? Словно на войну идем, пошутил Митька. Нализаться никак не можете. Видать, вкуууусно!
Еще не успел он закончить своей шутки, как руки Ирмы обвились вокруг его шеи, и он вздрогнул от прикосновения нежных женских губ.
— Вот и тебе тоже! воскликнула Ирма, но в ее голосе словно что то надломилось. Моряк с дружеской лаской подхватил Митьку на руки и высоко поднял вверх.
— Вот тебе, насмешник! Думаешь — чемпионом сделался — так на тебя тут и управы нет? Потом он опустил паренька и тоже сердечно его поцеловал.
— Ишь ты? Меня в жисть столько не целовали, как тут за одну минуту! Теперя вы, Тамара, что ль? Чего уж обходить? Тут, я вижу, работа оптовая.
Все засмеялись, и Тамара в свою очередь обняла беспризорника.
— Ну, теперь, кажись, вся программа закончена. Шарик, фью!
Сережа еще раз обвел глазами своих друзей, и лицо его сделалось суровым.
— Ну, чего там, Митя. Идем! Он сделал несколько шагов к кустам, но потом внезапно повернулся. Его глаза прямо взглянули в глаза друга, словно ему нужно было там найти какой то новый дополнительный запас сил. Тот понял это желание. Он широко шагнул навстречу юноше, и они протянули руки друг другу.
Это молчаливое рукопожатие было для них полным слов. Эта встреча глаз, это прикосновение рук передало из души в душу то многое, чего нельзя было выразить словами. Глаза сказали о бодрости и о том мужском долге, когда из души мужчины уходит даже память о женщине и семье, и внутри звучит только одна нота, напрягается одна основная пружина жизни — сделать то, что диктует совесть и без чего нет покоя душе…
А руки передали иное. Они словно сказали:
«Не бойся, друг. Не отступай. Ты — не один. Что бы ни случилось — я стою за тобой. Иди смело»!..
Несколько секунд длилось рукопожатие, и это время напряженно молчали женщины, понимая инстинктом, что эти секунды — какое то священнодействие в душах мужчин.
Потом Сережа сказал глухо и коротко:
— Ну! Он тряхнул еще раз руку Николая и, не оглядываясь, пошел за уже скрывшимся в кустах Митей.
— С Богом! тихо сказала Ирма и перекрестила их вслед.
Лицо Тамары сделалось бледным. Она подбежала к своей подруге, схватила ее за руки и дрогнувшим голосом спросила:
— Ирма… Там, там… опасность?
Ирма чувством женщины поняла тревогу Тамары о Сереже и корни этой тревоги. Против своей воли девушка без слов призналась, что ее чувство к Сереже глубже, чем веселое молодое влюбление. И перед лицом этого чувства, прорвавшегося в тоне мучительно — тревожного вопроса, Ирма не могла солгать.
— Да, Тамочка, тихо ответила она, обнимая девушку за плечи. Он… Он пошел на подвиг!..
* * *
«Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной С ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою! Не праздник, не прощальный дар— Она готовила пожар Нетерпеливому герою! Отсюда, в думу погружен, Глядел на грозный пламень он…»Так описывает великий русский поэт Пушкин сцену на Поклонной Горе в сентябре 1812 года, когда Наполеон с нетерпением ждал под старым дубом «депутации бояр». Но никто не пришел к нему с изъявлением покорности. Жители Москвы ушли, и город пылал.
С большой горы, на которой рос этот исторический дуб, открывался дивный вид на Москву. Но не эта картина, все более затуманивавшаяся сумерками, интересовала двух людей, крадучись подошедших к дереву. Один из них, почти мальчик, живо залез на большую ветку дуба, добрался до старого вороньего гнезда и опустил оттуда веревку с привязанным к ней камнем. Оставшийся внизу стал небольшой лопаткой лихорадочно рыть землю в этом месте.
Уже на глубине полметра он обнаружил слой аккуратно сложенных камней. За вынутыми камнями шел новый слой земли и потом лопата стукнулась во что то твердое. Еще несколько минут работы, и Сережа вытащил наверх небольшой черный ящик, очень тяжелый и плотный. Бережно отставив его в сторону, юноша продолжал торопливо рыть землю глубже. Наконец, на глубине около метра он обнаружил что то завернутое в полуистлевшую белую материю с обрывками синего. Это было морской Андреевский флаг. В материю была завернута большая медицинская банка с широким горлышком.
Стеклянная притертая пробка была тщательно завязана куском потрескавшейся резины.
— Вот она, тайна Императора, пролежавшая в земле двадцать лет! Наконец то!
Руки Сережи дрожали, когда он взялся за пробку банки, и не сразу он справился со своим волнением. Но надо было спешить и узнать, что именно спрятано внутри. С трудом открыв пробку, Сережа вытащил оттуда небольшой пакет, тщательно завернутый в клеенку. На запечатанном пакете было написано:
«Передать Наследнику Российского Престола».
Сережа бережно положил пакет обратно и вынул из банки небольшую коробочку. На ней было написано:
«Реликвии Российской Династии.»
Юноша не очень точно знал, что такое «реликвии». Но, открыв коробочку, он понял: там лежало странной формы кольцо, сделанное из грубого проеденного временем железа, и небольшая потемневшая икона, видимо, очень старинная. Юноша с удивлением и любопытством рассматривал эти таинственные предметы, когда голос сверху вывел его из задумчивости.
— Эй, Сережа! Там наши ребята что то уж очень большой костер развели!..
Он вздрогнул и пришел в себя. Внезапно и сильно разведенный костер обозначал тревогу и опасность. Очевидно, друзья что то заметили и дают сигнал. Поэтому Сережа торопливо спрятал в коробочку таинственные вещи, положил ее в банку, старательно закрыл, завязал резиной и завернул в старый флаг. Потом, уложив банку на дно, он торопливо забросал ее полуметром земли.
Едва успел он вылезти из ямы, чтобы положить на место и шкатулку, как Шарик, лежавший под. деревом, вскочил е громким лаем. Шел кто то чужой.
Сережа бросился к черному ящику, но было уже поздно. Невдалеке послышался рокот мотора и внезапно прямо через кусты к подножию дуба, вырвался большой военный мотоцикл с коляской. Из него выскочили двое людей с револьверами и бросились к дереву. В одном из этих людей Сережа сразу же узнал Садовского.
— Стой! Руки вверх!
Уйти было некуда. Сережа беспомощно оглянулся. Отовсюду — и снизу и с боков — раздавались шаги людей и треск моторов… Круг замкнулся.
Со сжавшимся от тревоги сердцем юноша поднял руки. Горечь неудачи заставила его до боли сжать зубы… Столько усилий, столько риска — только затем, чтобы своими руками отдать клад, тайну Императора в руки чекистов… Боже мой!..
Мысли кипели в голове, как в водовороте, но предпринять было нечего — игра была проиграна. Садовский уже обыскивал его карманы умелыми руками, а из кустов появлялось все больше людей, окружавших старый дуб… Да, ГПУ выиграло решительный матч у трех русских спортсменов!..
Садовский бросил своему помощнику спинной мешок Сережи и с торжествующей усмешкой повернулся к лежавшей в нескольких шагах от полузасыпанной ямы шкатулке.
— Вот она!.. Ха, ха, ха… Последний смех лучше первого!.. Спасибо, Шибаиов, что помогли отыскать «тайну адмирала»… Без вас — мы бы так и не добрались бы до нее… Эй, Перовский!
Один из чекистов побежал.
— Держи ка его под прицелом, показал он на Сережу. А ты, Морозов, пойди ка сюда, помоги.
Спрятав револьвер в кобуру, Садовский подошел к черной шкатулке. Оглушенный всем происшедшим, Сережа не сразу понял, что хочет делать чекист. Но когда тот взялся за ее крышку с явным намерением открыть, в голове юноши молнией мелькнула мысль предупредить:
— Стой!.. Не трогай, она взорвется!
Но потом — еще более жгучая мысль остановила, словно судорогой, готовый сорваться с его губ крик. Сердце остановилось в груди, и дыхание прервалось. Широко раскрытыми глазами смотрел юноша на движения Садовского, и они казались ему страшно медленными…
Вот он пытается поднять шкатулку… Она тяжелая… Он становится около нее на колени, отодвигает какую то задвижку, берется правой рукой за крышку и…
Юноша мгновенно ничком бросился на землю. Через секунду грохнул страшный взрыв.
35. Не нашли!
НачСО Рапорт.
Доношу о происшедшем 19 сентября. Согласно директив, поехавшая на лодке группа в составе Сумец, Прегер, Шибанов, Савич и Митька Рыжий, была окружена нарядами лучших сил оперотдела. По мнению т. Садовского, между группой молодежи, состоявшей под ударным наблюдением, и боксером Митькой — Рыжим, существовали какие то невыясненные отношения. Очевидно, т. Садовский ждал от всей этой группы в отчетный день каких то действий важного значения, и поэтому им были использованы лучшие аппараты наблюдения, подслушивания и радио.
В виду того, что компания устроилась лагерем в кустах, заметить факт ухода Шибанова и Рыжего удалось не сразу, так как т. Садовским была дана строжайшая директива не обнаруживать слежки ни в коем случае под угрозой срыва всей операции. Но как только оператор с грузовика с телескопом заметил далеко в кустах принадлежащую Рыжему небольшую собаченку, все посты сразу же по радио были извещены о слежке за ушедшими, причем следы их были отысканы ищейкой «Чекист». Погоне скоро удалось увидеть преследуемых на вершине Поклонной Горы. В виду уже спускавшейся темноты телескопы не могли обнаружить, чем именно занимались Шибанов и Рыжий на горе, но отряды — молнии, вызванные заранее т. Садовским, сразу же были брошены на гору.
Очевидно, т. Садовский счел необходимым действовать в открытую, так как он на мотоцикле вместе со своим помощником первым влетел на гору к местунахождения обоих спортсменов. Шибанов находился около ямы, откуда он вырыл большую черную шкатулку. Арестовав его, Садовский подошел к шкатулке и стал открывать ее. В этот момент раздался взрыв громадной силы, которым на месте убиты тт. Садовский, Морозов, тяжело ранен т. Перовский и несколько других сотрудников оперотдела. Осколками ранены также Шибанов, сброшенный в яму силой взрыва. В кустах найден упавший с дерева Митька — Рыжий, бывший без сознания. Остальные отделались царапинами.
Произведенное экспертами Оперотдела расследование выяснило, что в шкатулке были заложены ручные транаты военного образца, взрывавшиеся при открытии крышки. Среди остатков шкатулки найдены обрывки каких то бумаг, переданные в лабораторию отдела.
Раненый Шибанов и Рыжий впредь до вашего распоряжения помещены в Бутырскую больницу НКВД.
Уполномоченный Оперотдела Боровков.
17-IX- 1938 г.
* * *
Лаборатория Оперотдела. Анализ № 6017.
НачСО.
Предмет исследования: несколько обрывков бумаги, обнаруженных на месте взрыва 17 сентября на Поклонной Горе.
Характеристика материала: бумага весьма хорошего качества. Обрывки бумаги обожжены и представляют собою, очевидно, остатки какой то рукописи или письма. Отдельные слова прочесть можно, но составить какой либо связной фразы не представляется возможным. Слова написаны от руки крупным ясным почерком, хорошим чернилом.
Объяснения: судя по данным, сообщенным оперсотрудниками, взрыв гранат произошел во время открывания шкатулки. По мнению лаборатории рукопись неизвестного лица и неизвестного содержания находилась на дне шкатулке и при взрыве почти совершенно уничтожена.
Выводы: Согласно полученным указаниям, почерк лица, писавшего на обрывках, доставленных в графологический отдел, сверен с имеющимся в архиве Комиссариата письмами бывшего императора. В почерках обнаружено полное сходство. Таким образом, по мнению лаборатории, обрывки найденной после взрыва рукописи являются остатками какого то письма, или обращения расстрелянного императора.
Профессор графологии Шмидт. Профессор криминологии Горфинкелъ. Начальник лаборатории Крутых.
17-XI-1938.
* * *
Мартон долго сидел над поданными ему рапортами и потом приказал принести ему дело «Тайна адмирала».
Всю ночь напролет читал он документы, относящиеся к этому делу, и рано утром позвонил в Бутырскую больницу.
— Алло? Дежурный врач? Говорит Мартон, Каково состояние привезенного вчера к вам Шибанова?
— Операция закончилась благополучно. Осколки вынуты.
— Он в сознании?
— Да.
— И можно с ним говорить?
— Поскольку нет ранений головы и высокой температуры, не очень длительный разговор возможен.
— Ладно. Я сейчас приеду.
* * *
Голос Сережи был еще очень слаб, когда он давал свои объяснения Мартону.
— Мы узнали о кладе случайно, почти шептал он. А какой он был и где — неизвестно. Матрос… Мы думали, что он что то награбил в эпоху гражданской войны…
— А как вы узнали точно о местонахождении клада?
— На памятнике адмиралу Корнилову было указание.
— Почему же вы не сказали об этом Садовскому?
Раненый виновато вздохнул.
— Да что ж, товарищ начальник. «Кажная, как это говорится, птичка пить, есть хотит». Мы думали — там какие нибудь драгоценности. Нам бы они и самим пригодились.
Латыш презрительно усмехнулся.
— Эх вы… А там ведь ничего, кроме бумаг, да бомб и не оказалось. Стоило огород городить, да так рисковать?
Сердце юноши на миг остановилось и потом бурно застучало. Значит, больше там ничего не нашли! Значит, до настоящего клада никто не докопался!.. Слава Богу!
На минуту им овладела слабость. Мартой заметил это и, не подозревая об настоящей причине этого волнения, заботливо подал раненому стакан воды.
Сережа поблагодарил кивком, головы и слабым голосом ответил:
— Да ведь никто же не знал, что там, кроме бомб, да бумаги, ничего и не было… Я шкатулку только — только вырыл, да на свое счастье не успел и открыть… А тут товарищ Садовский на свое несчастье на мотоциклетке нагрянул…
— А чьи там письма были в шкатулке, вы не знаете?
— Откуда же мне это знать?
Латыш долго молчал. Объяснения юноши совпадали с данными дела. Действительно, политического значения клада юноша мог и не знать. Да теперь это уже и не было так важно. То, что было написано Императором, спасено ценою жизни матросом Деревенько и зарыто в земле — теперь это все равно было уничтожено взрывом. Вместе с гибелью двух чекистов и шкатулки погибла, очевидно, и сама тайна.
— А кто кроме вас знал обо всем этом?
— О том, что клад есть вообще — Сумец и Прегер знали. Только я им много не рассказывал. На что им? Они люди сытые, почти женатые. На что им ценности? А мне, сироте, студенту голодному, и самому все пригодилось бы… Так, что об этом по существу, кроме меня, почти никто точно и не знал…
Чекисту, воспитанному на морали ГПУ, на методах подкупа, соблазна, запугивания, обмана — этот рассказ юноши показался вполне правдоподобным. Зачем отдавать другим, когда можно попользоваться самому?.. Он и сам бы так сделал на месте бездомного полуголодного советского студента.
Все дело стало казаться законченным. Что то было спрятано в шкатулке под охраной секрета гранат. Садовский, как, очевидно, и этот юноша — не знали об этом секрете. Ловушка погубила двух чекистов. Ну, что ж — издержки революции. Юноша спасся случайно, но тоже не без урона. Но письмо или воззвание Императора было уничтожено. Побуждения этого молодого футболиста казались просты и ясны. Им руководило любопытство и жажда заработать. Что ж… Разве это все так уж преступно?
Мартон поглядел на бледное лицо юноши, и губы его искривились в сочувственной усмешке.
— Не удалось, значит, разбогатеть, товарищ Шибанов?.. А лучше бы было честно доложить т. Садовскому заранее. И никто бы в ловушку не попал, а если бы что нибудь там в шкатулке было ценное — вам премию дали бы. А теперь вот, может быть, и с футболом вам придется расстаться.
— Неужели? испуганно воскликнул Сережа. Господи!
— Господи тут не при чем. А шесть гранат — штука сурьезная. Наших двоих — в клочки разорвало. И боксер наш — с дуба прямо на тот свет чуть не полетел…
— Но он жив?
— Да не знаю. Ранен тяжело, да и лететь с неба высоко пришлось… Счастье его еще, что в сумерках, да в дыме после взрыва его увидали. Собаченка его желтая — сама подбитая, пищала около него, лицо лизала… Если б не она — так бы паренька и не нашли в кустах. Так бы, верно, и умер там…
Лицо Сережи побледнело. Курносая веснусчатая рожица Митьки словно промелькнула перед его глазами, и сердце дрогнуло жалостью и лаской. Верный маленький друг!
— А вы вот тоже — такой футболист, а может быть…
— Что — хромым останусь? как то сонно спросил Сережа словно чужим голосом.
— Не знаю — врачи, кажется, еще и сами не определили.
— Но вы меня, товарищ начальник, в конц-лагерь не упакуете? Ведь не за что?
В голосе юноши слышалась мольба. После таких переживаний, после встречи с Тамарой… Неужели придется уехать на долгие годы?..
Латыш внимательно поглядел на юношу и пожал плечами.
— Поглядим… Вы пока — подследственный, и ваше дело прежде всего срочно выздороветь.
— Товарищ начальник, умоляюще проговорил Сережа. Пожалуйста, не откажите мне в просьбе — невесту повидать.
— Ara, у вас и невеста есть?
— Ну, как же!.. Что я — футболист или человек? Пожалуйста, разрешите, товарищ начальник. Хоть разик, на минутку… А то, может, и помереть сдуру придется, из за этой проклятущей тайны…
— А кто она такая, невеста ваша?
— Студентка московская… Наша футбольная болельщица.
В мертвой усталой душе чекиста внезапно шевельнулось что то человечное, теплое. Перед ним лежал молодой жизнерадостный юноша, блестящий спортсмен, беззаботный студент, перед которым расстилалась безбрежная розовая даль жизни. Собственно, как мало радости дала до сих пор ему судьба! Сирота. Советская холодная юность. Студенческое общежитие. Вечно полуголодное существование. И только впереди светлые перспективы будущего, окрашенные оптимизмом молодости. И как, вероятно, больно и обидно было ему теперь ждать решения вопроса: выживет ли он вообще и не останется ли инвалидом. И это — ни за что! Из за глупой юношеской жадности и любопытства… А ведь жизнь клокочет в жилах, сердце живет и цветет… И где то там, в городе, бледная и осунувшаяся девушка не знает ничего о судьбе своего любимого…
Мартон вспомнил своего сына, убитого в расцвете лет во время проклятой гражданской войны. Какая горькая участь досталась современникам кровавой революции!
Латыш тяжелым угрюмым словно мертвым взором поглядел на юношу, заметил его умоляющий взгляд, и его твердо сжатые губы дрогнули.
— Ладно, тихо сказал он. Так и быть… Одно свидание разрешаю…
* * *
«Известия», 22 сентября 1938 г.
Происшествия.
Взрыв с человеческими жертвами.
17 сентября в 18 часов на вершине Поклонной Горы произошел по неизвестной причине взрыв громадной силы, которым были ранены известный спортивной Москве молодой боксер Митя Рыжий и центр-форвард сборной команды Москвы — Сергей Шибанов, студент Строительного Института. Положение раненых тяжелое хотя и не внушает опасений за жизнь. Возможность продолжения спортивной карьеры остается под вопросом в виду серьезных ранений.
Следственные власти предполагают, что спортсмены случайно отыскали неразорвавшийся снаряд, оставшийся там со времени подавления юнкерского восстания 1918 года, и пытались его развинтить. Ведется дальнейшее следствие.
* * *
Мартон сдержал свое обещание. Через несколько дней Тамаре дали свидание с Сережей, но у кровати раненого неотлучно стоял дежурный сотрудник ГПУ.
Упреком и счастьем сияли глаза девушки. Она уже не скрывала своего чувства, да и раненый юноша не выпускал ее руки из своих, словно боясь, что опять без нее что нибудь плохое ворвется в его жизнь…
Друзья болтали о пустяках, и их мысли прыгали, как воробьи у весенней лужи. Да и дело было не в смысле слов, а в тоне голоса. И этот тон был настолько нежен, что старый видавший виды чекист невольно мягко усмехался и деликатно отворачивался в сторону. Он тоже знал Сережу, как чемпиона футболиста, и искренно желал ему выздоровления. А что могло больше помочь больному юноше, как не присутствие и ласка любимой девушки?..
И неохотно сошли с его языка служебные слова:
— Свиданье, гражданка, кончено.
Тамара приподнялась, но Сережа потянул ее к себе. Они крепко и нежно поцеловались, и внезапно юноша услышал тихий вопрос шопотом:
— Ника спрашивает — спасено или «нет»?
— Шептать, гражданка, запрещается, рванулся к ним чекист. Что вы тут нарушаете правила?.. О чем шептали?
— Да она, товарищ, сказала, что по прежнему меня любит, объяснил Сережа, улыбаясь. Что ж она: кричать такие слова будет? Сами то, небось, были молодыми, да влюбленным… Что ж тут подозрительного?
— Все равно — никаких секретов не разрешается. Ну, идите, гражданка… Тамара оглянулась на Сережу. Тот медленно закрыл глаза и утвердительно кивнул головой.
36. Свеча в окне
Медленно и тяжело, опираясь на плечо девушки и помогая себе костылем, шел по улице высокий юноша. По его бледному лицу можно было догадаться, что он был тяжело болен и недавно вышел из больницы.
Это была первая прогулка Сережи по городу. Он шел, напряженно вглядываясь в неясный в сумерках силуэт Николая и Ирмы, и даже, казалось, не обращал внимания на бережную помощь Тамары. Рядом с ними с видом привычной беззаботности шагал Митька с рукой на косынке. Его неразлучный Шарик, не унывая, ковылял на трех ногах — одну он потерял при взрыве. Но так же, как и раньше, задорно был закручен вверх его пушистый хвостик и также умильно помахивал он им, когда Митька обращался к своему приятелю-инвалиду с шутливыми словами.
У большого дома стоял высокий плечистый милиционер в полной форме и белых перчатках. Он неодобрительно поглядел на наших раненых, словно хотел сказать:
«Нашли тоже место, калеки, где разгуливать — перед окнами иностранных посольств»!..
Но видя в их компании командира флота, он только покосился на группу молодежи и промолчал.
— Я жду этого сигнала уже давно, тихо говорил Николай Ирме. Мне кажется, что мы не ошиблись: эти не выдадут… Я все сам сделал: написал записку с просьбой сообщить, что нужно, Великой Княжне, обмотал ее на ключ и, дождавшись маневров Осоавиахима, когда на улице свет потух, все одели газовые маски и вообще была путаница — бросил ключ в открытое окно… А в записке попросил: когда все будет передано — выставлять в окне над входом по субботам вечером зажженную свечу… Не выдадут!.. Да ведь если бы посольство передало мою записку в ГПУ — мы все уже давно были бы арестованы!
— Бр-р-р… Это было бы ужасно, вздрогнула Ирма и плотнее прижалась к плечу своего спутника. После таких испытаний и переживаний еще и быть преданными?.
— Что и говорить: не у всех такой счастливый характер, как у нашего Сережи. Ему все нипочем!.. А, помнишь, тогда на набережной ты права была: ему такая подруга, как Тамара, очень нужна. Он хоть немного остепенится. А то уж совсем сорви-голова был!..
Неожиданно широкие плечи моряка дрогнули. Он крепче прижал руку невесты и с радостным облегчением вздохнул. Ирма взглянула на дом посольства и тоже просияла. Там над парадной дверью среди ряда освещенных окон одно было темным. Но на его подоконнике стояла зажженная свеча. Это был сигнал: «поручение передано»…
Николай радостно обернулся и кивнул головой Сереже. Лицо того тоже вспыхнуло, и он воскликнул:
— Есть, Тамочка, есть!
— Что — «есть»?
— Есть! Выполнено! Ура!.. Наша взяла, хотя и морда в крови!
Юноша хотел рвануться вперед к друзьям, но застонал и чуть не упал.
— Ну, вот, опять ты!. мягко упрекнула Тамара. Никак ты спокойно не можешь. Прогулку выдумал зачем то именно в субботу и в центре города, а тут еще скакать начал.
— Да ты не ворчи, родненькая. Ей Богу же, это я от счастья!
— А это откуда счастье такое внезапное? Спокойное лицо девушки осветилось ласковой усмешкой, словно она говорила с маленьким мальчиком.
— От счастья… Ей Богу!.. А ты, Тамчик, ни черта не понимаешь, вот и ворчишь…
— Так ты мне раскажи, Сережик. А то во всех ваших делах столько таинственности…
— Ничего не могу сказать, дорогушенька!
— Почему это? Со времен Севастополя — все тянется цепь каких то секретов. Неужели мне, твоей невесте, нельзя знать их?
— Не сердись, голубок. Никак нельзя… Тайна эта не наша. Видишь, какая она роковая — меня и Митьку покалечила… Но теперь все кончено… А сказать — честное слово мужчины — не могу…
— Ну, и Бог с тобой. Только почему ты так счастлив?
— Да потому, что на душе птички поют, и совесть спокойна… Наш русский долг выполнен, хотя и кровью своей полили мы тайну эту… И на сердце хорошо, словно я только что хо-о-о-рошнй гол вбил! Потому что я тебя страх как люблю, Тамчик мой золотой!.. И еще, Бог даст, копыта подлечим и в футбол игранем. Не бойся, ей Богу, осторожненько: без костоломки… Вот и все… Ведь что для полного счастья простому русскому парню нужно: неунывающую Родину, симпатягу-невесту, вот вроде тебя, да весело прыгающий мяч… И все это есть у бедного футболиста!.. А ты, чудачечка, еще спрашиваешь: почему я счастлив?..
* * *
Митька обернулся назад, увидел целующуюся парочку, ухмыльнулся, привычным жестом вытер нос ладонью нераненой руки и лукаво подмигнул Шарику. Трехногий приятель навострил свое единственное острое ушко и весело замахал желтым хвостиком.
Конец.
Оглавление:
Глава I. Звенья таинственной цепи…
1. «Историческое решение № 1».
2. То, что произошло 20 лет тому назад.
3. Москва, 1938 г.
4. Еще одно решение.
5. Военный совет.
6. «Всевидящее красное око».
Глава II. Состязание началось
7. Рука первого адмирала.
8. Под стеклышком.
9. Поздно!
10. На оборотной стороне жизни.
11. Философия волчат.
12. Встреча двух миров.
13. Малахов курган.
14. Неумирающее прошлое.
15. Засада.
Глава III. Живая пылинка, остановившая машину ОГПУ
16. Рука второго адмирала.—.
17. Чего они ищут в памятниках?—
18. Рука третьего адмирала.—
19. За бортом жизни. —
20. Три часа опоздания.—
21. «Ищи ветра в поле»!
22. В путь.—
23. Концерт.—
24. На крыше.
25. Пустая душа.
Глава IV. Несгибающаяся молодежь.
26. Неизвестность.
27. Митька — Рыжий.
28. «Чудеса в решете»!
29. Дело государственной важности.
30. Бой.
31. Неужели?
32. Наконец-то!
33. Долг перед Россией.
34. Кто — кого?
35. Не нашли!
36. Свеча в окне.
Рука адмирала.
Авантюрный роман из жизни советской молодежи.
Второе издание.
Руское национальное издательство Берлин.
Все права сохранены за автором.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservée.
Copyright, by the author:
Boris Solonev1tch,
63, rue Croix de Pierre, Bruxelles (Belgique).
Обложка работы художника.
Р. Петрова.
Imprimerie Е. Celezniakoff
51, rue Van Campenhout Bruxelles (Belgique).
Der Titel des Buchet in deutsch:
Die Hand des Admirals
Русское Национальное Издательство и Книготорговля
Russischer National — Verlag u. Versandbuchhandlun.
BERLIN W 30, GEISBERGSTRASSE 14.
FERNSPRECHER: Nr. 24 29 07 — POSTSCHECKKONTO: BERLIN Nr. 361.
BANKKONTO: DEUTSCHE BANK, BERLIN W 30, Victoria-Luise-Platz
На складе:
Беляев. Барышни Шнейдер………… 2,—
Бензин. Сельское хозяйство и кооперация в Америке. 1,—
Берг. Движущие силы современной мировой политики. 1,50.
Волконский С, кн. Воспоминания. Родина….. 5,—
его-же Воспоминания. Лавры-Странствия. 5,—
Головин, ген., проф. История Российской Контр-Революции. В 12 томах………, 35.—
Головин, ген., проф. Дни перелома Галицийской битвы (1–3 сентября 1914 г.)……….10,—
Деникин, ген. Очерки Русской Смуты. Вооруженные силы Юга России……………12,—
Достоевский. Село Степанчиково……… 3,—
Иванов. Это и есть большевизм………. 1,75
Краснов, ген. Опавшие листья……….. 7,—
Краснов, ген. С нами Бог. В 2-х томах…… 8,—
Краснов, ген. Единая — Неделимая……… 6,—
Крыжановская. Гнев Божий………… 5,—
Куприн. Гранатовый браслет. Рассказы…… 4,50
Мережковский Александр I и декабристы….. 6,—
Медведев. Настольная книга по молочному хозяйству. 5,—
Навиль. Жертва. Роман…….. 3,50
Немирович-Данченко Г. . В Крыму при Врангеле. 1,50
Олькот. Маленькие мужчины………… 7,—
Острогорский. Живое Слово. Хрестоматия по новой орфографии с иллюстрациями……… 4,—
Приключения барона Мюнхгаузена. В переплете, с иллюстрациями…………… 3,—
Сахаров, ген. Белая Сибирь. История противосоветской борьбы в Сибири…………. 5,—
Соловьев Вл. Три разговора………… 3,—
Солоневич Б. Тайна Соловков. Роман…….. 3,50 его-же Рука адмирала. Роман (второе издан.) 4,—
Там, где еще бьются. Дневники повстанческих атаманов (Дергач, Кречет, Шагун, Мороз и др.) 4,—
Толстой А. Князь Серебряный………. 4,50
Тургенев. Записки охотника………… 3,—
Фабрицкий. Из прошлого. Воспоминания флигель-адъютанта Государя Императора Николая II. 3,50
Филарет, Митр. Православный катехизис….. 1,50
Форд. Международное еврейство………. 6,—
Хвольсон. Полный курс физики. В 5 томах…. 40,—
его-же Сокращенный курс физики. В 5 томах. 20,—
Черкес. Жемчуг слез……………. 5,—
Чириков. Семья………………. 5,—
Репродукции в красках (Третьяковская Галлерея и др.). Размер 18X30 см………..по 2,50
Златоцвет. Журнал художественный и литературный. (Особый номер). Со многими художественными репродукциями в красках…….. 12,—
Призыв к борьбе. Речи Адольфа Гитлера и Альфреда Розенберга…………. 0,40
Демократия и большевизм. Речи Адольфа Гитлера, Альфреда Розенберга и Германа Геринга. 0,40
Разоблачённый коммунизм. Речи Адольфа Гитлера и Альфреда Розенберга………… 0,40
Культура под коммунистическим гнетом……. 0,40
Организация молодежи в Германии……… 0,40
Сельское хозяйство и земельная политика Германии. 0,40
Житие и страдания Святого Великомученика Пантелеймона…………… 1,75
Житие Святого Николая Чудотворца…….. 1,75
Свято-Троицкая Сергиева Лавра………. 1,75
Словари и учебники
Александров. Полный англо-русский словарь, в переплете……………… 15,—
Antonoff. Russisch für die Waldarbeit……. 0,50
Antonoff. Deutsch — Russisches Fachwörterbuch für
Forst — und Holzwirte…………. 4,20
Ассманн. Полный технический словарь русско-немецкий и немецко-русский……… 8,80
Ассмаии. Автомобильный словарь русско — немецкий и немецко-русский…………… 3,80
Ассмаии. Erdölworterbuch. Deutsch — russisch und russisch — deutsch (обе части с указанием произношения)……………… 24,—
Бадер. Русские (советские) сокращения (2-е изд.). . 5,40
Bah der. Russische Sprachlehre……….. 2,80
Brehme. Kleines russisches Vokabelbuch…… 1,65
Bergmännisches Fachwörterbuch deutsch — russisch und russisch-deutsch (с указанием произношения)………………… 1,—
Берлиц Русский учебник………….. 5,—
Берлиц. Практическая немецкая грамматика….. 5,—
Buchholz. Russisch-deutsch Forstwörterbuch. 1,50
Buchholz. Deutsch-russisch Forstwörterbuch. 2,50
Daschkewitsch'Gorbatsky. Kurze russische
Grammatik………………. 0,80
Dunin. Deutsch-Russische Gespräche…….. 1,20
Glodkowsky. Luftwaffenwörterbuch deutsch-russisch und russisch-deutsch……… 13,80
Klee und Gerken. Gesprochenes Deutsch….. 3,—
Koch. Russisch-deutsch Technisches Wörterbuch. 1,50
Koch. Deutsch-russisch Technisches Wörterbuch. 1,50
Малин. Краткий сборник технической терминологии для металлообрабатывающей промышленности и автомобилестроения — русско — немецкий . 1,40
Малин. Тоже — немецко-русский (плюс авщнонное строительство)……………. 2,60
Marnitz. Russisches Elementarbuch……… 2,50
Русско-немецкий словарь с картинками, с указанием произношения (новое издание)……… 0,85
Soldaten — Wörterbuch — deutsch russisch….. 0,40
Sprachhelfer für die Verständigung mit russischen Arbeitern……………. 0,70
Sprachhelfer für die Verständigung mit ukrainischen
Arbeitern……………. 0,70
Sprachhelfer für die Verständigund mit weissruthenischen Arbeitern………… 0,70
Thies. Deutsche Sprachlehre für Ausländer…. 3,50
Unsere Soldaten sprechen sofort etwas russisch. 0,40
Wehrmacht Sprachführer. Deutsch-russisch…. 0,30
Отрывные православные стенные календари на 1944 г. (Издание Союза Инвалидов)……… 3,—
Роман Бориса Солоневича «Тайна Соловков» на немецком языке находится в печати.
Превосходный перевод романа выполнен группой русской молодежи в Берлине.
Он же (также, как и «Рука Адмирала») переведен и принят к изданию на голландском языке в издательстве «Volk en Staat», Антверпен.
Готов к печати и при первой же возможности выйдет в свет новый большой роман того же автора «Стакан воды»
Это роман — не о необычайных приключениях и не о «сверхчеловеках». Это простой живой рассказ об обыкновенной жизни рабочей провинциальной молодежи — той, про которую поет одна из современных красноармейских песенок:
«А мы — простые русские ребята, И любим Родину свою»…В романе обрисовывается быт, работа, моральные установки, военно-спортивная подготовка и учеба нескольких типичных единиц из тех миллионов, которые составляют Новую Молодую Россию.
Основной стержень романа — крушение знаменитой «теории стакана воды», комсомольской «любви без черемухи» — такой же упрощенной, как «биологическая потребность выпить стакан воды»… Роман рисует жизнь русской молодежи в ее критический переломный период изменения моральных установок в сексуальной и семейной жизни.
Как все книги Бориса Солоневича, новый роман полон характерными картинками из жизни, написан своеобразным языком и читается с неослабевающим интересом.
Готовится к печати
Большой политический роман того же автора «Заговор красного бонапарта»
История заговора и расстрела маршала Тухачевского.
В романе приводятся ранее опубликованные официальные данные и, кроме того, широко использованы новейшие документальные показания пленных советских офицеров и генералов.
Роман рисует жизнь Кремля, ГПУ и Армии в самый напряженный переломный момент 1936 — 37 г. г., когда Сталину с помощью Армии удалось раздавить растущую мощь ГПУ, а потом, с помощью приведенного к покорности ГПУ, сломать крепнувшую независимость и поворот в сторону к национализму в Красной Армии.
В романе — падение и гибель Ягоды, возвышение Ежова, Мехлиса и Кагановича, гибель «Максима Горького», покушения на Сталина в Московском Художественном Театре и на Красной Площади, борьба Тухачевского и его товарищей за переход Красной в Русскую Армию, «работа» ГПУ, провокации, арест и гибель маршала Тухачевского вместе с лучшими силами Армии.
На фоне трагических событий этого самого критического в истории России периода — обрисована жизнь новой русской молодежи, особенно московского студенчества, на которую хотел поставить свою ставку безвременно погибший маршал.
«Заговор Красного Бонапарта» — это не бытовой и не сентиментальный роман — это насыщенная динамикой и необычайным напряжением картина тех страшных лет России, кэгда страна, едва не освободившись от гнета большевизма, была опять закована в цепи «дрянным человечишкой с желтыми глазами» (прозвище Сталина среди старых партийцев).
Кто не только ищет увлекательного чтения, но хочет получить ясное понятие о трагических событиях предвоенных лет в СССР — найдет в романе необычайную насыщенность и яркость темы и изложения.
Труды того же автора о русской молодежи в СССР: на русском языке:
«День врача в конц-лагере». «Голос России». Sofia, 1937.
«Молодежь и ГПУ». Sofia, 1938.
«На Советской Низовке». Sofia, 1939.
«Тайна Старого Монастыря». Bruxelles, 1941.
«Рука Адмирала». Bruxelles, 1942. 2-е изд. 1943.
«Тайна Соловков». Bruxelles, 1942. на немецком:
«Lebendiger Staub». Essen. «EVA», 1939.
«Als Arzt in Zwangsarbeitslager».
Berlin, «Nibelungen — Verlag». «UdSSR» 1938.
«Geheimnis von Solowky», Köln, «Westdeutscher Beobachter». 1937.
Zweite Ausgabe. Brüssel, 1943.
«Lebendiger Staub». Serie «Abenteur aus aller Welt».
Fischer — Verlag. Berlin, 1942. на французском:
«Dans la tempête bolchevique». Paris. «Spes». 1939.
«Les zéros humains». Paris. «Civilisation et Bolchevisme». 1939.
«Choses vues comme médecin dans camps de concentration soviétiques».
Bruxelles. «La Revue Belge» № 3. 1940.
«Le Mystère de Solovky». Bruxelles, 1942.
«La Main de Г Amiral». Bruxelles, 1942. 2-e, 1943. на фламандском:
«Het Geheim van het oude Klooster».
«Volk en Staat», Antwerpen, 1942. на шведском:
«Scoutliv i Sovjetryssland». Helsinki. «Söderström». 1938. на болгарском:
«Тайната на Соловецкия Монастиръ». Sofia, 1937.
«Лъкарьтъ рассказва». Sofia, 1938.
«Срещитъ ми съ товарищъ Ягода». Sofia, 193 8.
Готов к печати роман «Стакан воды».
Готовится к печати «Заговор красного бонапарта» (Маршал Тухачевский).
Примечания
1
Обводит игроков.
(обратно)2
Сбил с ног (жаргон беспризорников).
(обратно)3
Сочувствующая зрительница.
(обратно)4
Украдем.
(обратно)5
«Офсайд» — «вне игры» — одно из правил футбола.
(обратно)6
Сверхметкий стрелок, особо тренированный и по возможности снабженный специальной винтовкой.
(обратно)7
Известная поэма Маяковского.
(обратно)8
Школьное прозвище старика учителя.
(обратно)9
Аврал — работа всей командой корабля, синоним шума, суеты и беспорядка.
(обратно)10
Профессиональный Союз Работников Пищевой Промышленности.
(обратно)11
Горы около Москвы.
(обратно)12
«Диалектический материализм» — идеологическая основа коммунизма. Предмет, изучаемый во всех советских ВУЗ-ах.
(обратно)13
На похвалу командира краснофлотец должен отвечать — «Служу народу». Шуточно переиначивают: «служу за робу» — то есть, за обмундирование.
(обратно)14
Московский Строительный Институт.
(обратно)15
Мореходное училище в Одессе.
(обратно)16
Угрозыск — криминальная советская полиция. Подчинена ГПУ.
(обратно)17
На страже.
(обратно)18
Как приманка, обманный трюк.
(обратно)19
Для видимости.
(обратно)20
Удрал.
(обратно)21
Исторический бульвар в Севастополе на месте знаменитого 4-го бастиона.
(обратно)22
Запись Актов Гражданского состояния — отдел Исполкома, регистрирующий браки, разводы, смерти, рождения и пр.
(обратно)23
Вычеты из заработной платы разведенного мужа для поддержки детей, оставшихся при матери.
(обратно)24
Воспитатель.
(обратно)25
Поспим.
(обратно)26
Поглядеть.
(обратно)27
Прекрасно.
(обратно)28
Хавтайм — перерыв в игре.
(обратно)29
Ленинградский Военный Округ.
(обратно)30
Телеграмма — молния — вне всякой очереди.
(обратно)31
Поспим.
(обратно)32
Часть города Севастополя.
(обратно)33
Милиция.
(обратно)34
Нож.
(обратно)35
Сотрудник ГПУ или милиции.
(обратно)36
Тюрьму.
(обратно)37
Особая — порода голубей, кувыркающихся в воздухе.
(обратно)38
Начальник ОГПУ, расстрелянный в 1936 году.
(обратно)39
Повезло.
(обратно)40
11-метровый удар — самое сильное наказание в футболе. И бить этот штрафной удар. — громадная ответственность.
(обратно)41
«Нок-аут» — удар, сбивающий в боксе противника на срок не менее 10 секунд.
(обратно)42
Пролетарское Спортивное Общество «Динамо» — особо привилегированное богатое общество сотрудников и войск ОГПУ.
(обратно)43
Совет Народных Комиссаров.
(обратно)44
Положение, когда боксер обхватывает своего противника, мешая ему наносить удары.
(обратно)45
Падение.
(обратно)46
Ссучиться — изменить, передаться врагам, стать сексотом, чекистом.
(обратно)47
Знаменитый советский поэт, в последнее время впавший в немилость.
(обратно)



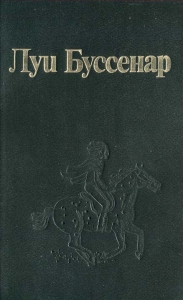

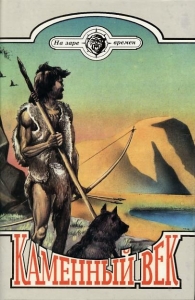
Комментарии к книге «Рука адмирала», Борис Лукьянович Солоневич
Всего 0 комментариев