Борис МЕДОВОЙ ТАЙНА
*
© Издательство «Молодая гвардия», 1989 г.
ТАЙНА
1. ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ С ОСТРОВА
— Странный мне сон приснился, — негромко сказал Каштан. — Будто птицы улетают с острова…
Соседи по палате удивленно взглянули на него. Каштан лежал на спине, натянув одеяло до подбородка, и смотрел в потолок. Бледное его лицо со впавшими глазами было похоже на алебастровую маску.
Игорь спросил у Каштана:
— А что это был за остров, Юра?
— Не знаю. Наяву я такого сроду не видел. Голый, каменистый остров. И птиц на нем — тьма-тьмущая. По их как будто что-то напугало, и они удирают… целыми тучами.
Юрий настолько ослаб за последние недели, что даже говорить ему было трудно. И тихий голос его напоминал шелест.
Сопалатники относились к Каштану с чувством острой жалости. Они знали, что Юрий обречен, испытывали перед ним что-то вроде вины. Хотя никто не объяснит, почему скорбный жребий падает на одного и минует другого. Почему троих обитателей палаты судьба пощадила, а от четвертого — Каштана — болезнь так и не захотела отступить. Она вгрызалась в него все упорней и злей. И теперь Юрий угасает. Жить ему осталось совсем недолго.
Больничному быту присущи свои горестные ритуалы. И сопалатники Каштана — Иван Михайлович, Игорь и Вениамин — уже могли предсказать, что произойдет через неделю-другую. Наступит день, когда Каштана отгородят ширмой. А через сутки-двое после этого, вероятней всего в предрассветный час, случится неизбежное.
Уже сейчас можно уловить смятение в глазах лечащего врача Ии Львовны, стоит ей появиться в палате. И в голосе заведующей отделением Поповой во время разговора с Каштаном чувствуется душевное напряжение.
В туберкулезной больнице все четверо оказались почти одновременно — в самом начале зимы.
Старший среди них по возрасту Иван Михайлович к недугу относился с философским спокойствием, воспринимал его как временную помеху, подлежащую устранению. Он был востоковедом и даже здесь не прекращал научной работы, вычитывал гранки, вел переписку. Иван Михайлович занимался исследованием роли ислама в новейшей истории. Он мог часами охотно и со вкусом рассказывать Игорю, Юрию и Вениамину о народах Востока, о мусульманских обычаях, о Коране и пророке Мухаммеде, открывая им совершенно неведомый, причудливый мир.
Первые месяцы и Каштан принимал участие в общих беседах, спорах, воспоминаниях. Но болезнь постепенно стала отнимать у него все больше сил — и физических и душевных. Он стал реже говорить, улыбаться, меньше двигаться. Им овладела апатия. Часами лежал в задумчивости или полузабытьи, вяло отвечал на вопросы врачей и сопалатников. Хворь изнуряла его. Свою немощь он стал особенно ощущать в последнее время, с наступлением весны.
Иногда он поднимался с постели, одолевая дрожь в расслабленных ногах, подходил к окну. Молча смотрел через стекла на безотрадный мартовский пейзаж: сырое серое небо, сырой серый снег, на больничный двор, застроенный одинаковыми кирпичными корпусами, на голые черные ветки деревьев.
Ныло в груди.
Он понимал, что умирает. И уже не отгонял мыслей об этом. Если бы его спросили о теперешних ощущениях, он, вероятно, сказал бы, что ему зябко. Не то чтобы он мерз или его лихорадило, нет. Наверно, думал он, организм устал бороться с болезнью, жизненная энергия испарилась из всех клеточек тела, и теперь каждая из этих клеточек чувствует зябкость.
Черт его знает, как ему не повезло!
До тошноты опостылела эта изнурительная, теперь уже бессмысленная маета с уколами, ингаляциями, орошениями, таблетками, холодными прикосновениями металла в рентгеновском кабинете. Мутило от устоявшегося больничного духа — смешанных запахов хлорки, испарений стрептомицина и щей.
Эта проклятая хворь почему-то болезненно обострила обоняние, неприятные запахи раздражали и угнетали.
Но он убедился также и в другом. Оказалось, в памяти хранятся отчетливые воспоминания и об ароматах, дарящих радость. Из давнего прошлого, из забытья явственно донеслись до Каштана благодатные запахи свежескошенного сена, срезанного гриба, дуновения горьковатого дыма от тлеющих осенних листьев.
Из детства докатились два самых прекрасных запаха, которые принесли ему ощущение счастья. Первый из них — воздух столярной мастерской, в которой работал его отец, настоянный на смолистых ароматах распиленных досок, опилок, стружек.
И другой — звонкий, ликующий запах внесенного в дом с холода замороженного белья. Заиндевелые и затвердевшие на морозе до крепости дерева простыни источали и холод, и веселый бодрящий запах… Это единственная вспышка — воспоминание о матери, запечатлевшееся в памяти ребенка.
Каштан чувствовал, что соседи по палате, глядя на него, испытывают сострадание. От этого было не по себе. И большую часть Бремени он теперь старался лежать с прикрытыми глазами, как бы отделяя себя от них. А чтобы заглушить тоску, отдавался воспоминаниям.
Медленно перебирая годы детства, юности, зрелости, он хотел извлечь из них и ощутить все светлое, что выпало на его долю…
Словно серебристые пузырьки, всплывали из глубины эти воспоминания о счастливых часах, о моментах радости.
Что он любил в уходящей жизни?
В детстве, когда жил у тетки в Загорске, его всегда завораживала панорама звездного неба. Как назвать это удивительное ощущение сверкающей, мигающей, дышащей, загадочной бездны? Его радостно захватывала, приводила в оцепенение бескрайность и торжественность мироздания.
Но в последующие годы эта давняя страсть — в вечерний час побыть наедине со Вселенной — постепенно заглохла. В большом городе звездного неба нет. Горожанин отчужден от него. В нем отмирают какие-то живые волокна, связующие его со Вселенной.
…А еще он способен был в детстве часами смотреть на облака. Плывущие в небесной выси облачные материки возбуждали мальчишечью фантазию. Он мысленно уносился с облаками за горизонт, парил над горами и океанами… Но постепенно утратил и эту тягу. Городской житель не замечает небосвода. Над улицей — крохотный участок мглистого неба. В квартире, в конторе, в метро, в троллейбусе вообще забываешь о его существовании.
Когда-то любил грести на лодке. Так славно отталкиваться веслами от упругой сияющей воды и чувствовать пение мускулов и пение души.
Но давным-давно уж не греб по-настоящему. В городе — маленькие искусственные пруды в парках. В них зарегулированно кружатся десятки лодок. Разве такое катанье принесет радость?
В студенческие годы увлекался баскетболом. Игра дотла ощущение силы и ловкости, то, что принято называть мышечной радостью. Но все прекратилось после окончания института. Все время было не до этого.
Что же еще приносило ему удовольствие?
Музыка. Любил органные фуги Баха, сопаты Бетховена. Но не меньше и простые вещи — старинный вальс «Ожидание» или «Песнь петушка» Флореса. Эти две мелодии посещали его особенно часто. И он мог заставить звучать их от начала до конца и наслаждаться ими так же, как и во время концерта.
Ну а самое светлое, самое солнечное, самое теплое и мажорное в его жизни?
Самая большая радость, выпавшая на его долю, — что, конечно, Маринка, семилетняя дочка. Ее и любил больше всего на свете. И знал, что любовь эта взаимна. Нежность Маринки была истинной, трогательной, обезоруживающей.
Вот кого оглушит весть о его уходе из жизни. И нет возможности уберечь ее от этого удара. Это мучило его сильнее всего.
…Голый каменистый остров. И нет на нем ни единой человеческой души. Только тысячи птиц в тишине взмывают в воздух и, шурша крыльями, в тревоге уносятся куда-то вдаль. Что их напугало?
В то утро, когда Каштан рассказал соседям по палате о необычном сне, он вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким. Это чувство властно охватило и уже не отпускало его.
Во время врачебного обхода он безучастно и односложно отвечал на дежурные вопросы Ии Львовны. Когда докторша ушла, тихо спросил у Игоря, какое сегодня число. Оказалось, пятое марта. Стало быть, через три дня ему должно исполниться тридцать три года. Дата его рождения, совпадающая с женским праздником, еще со школьных лет неизменно вызывала у окружающих насмешки. Даже в этом он был неудачлив.
Но вот дней рождения больше уже не будет. Туземцы с островов Полинезии не говорят слова «умереть», они заменяют его понятием «лишиться возраста». Вот и он скоро лишится возраста. Или, по выражению Марка Твена, присоединится к большинству.
В памяти Каштана, помимо его воли, возникали фразы из какой-то старинной книги, слова, связанные с кончиной героя и с печальными обрядами: «почил в бозе», «приобщился святых тайн», «тайна сия велика есть».
Фраза «тайна сия велика есть» засела в голове, и он долго-долго не мог от нее избавиться. Но вот она исчезла, но зато всплыла в памяти совсем уж нелепая прибаутка-загадка, пришедшая из детства: «А и Б сидели на трубе. А — упало, Б — пропало. Кто остался на трубе?»
Почему вдруг именно это лукавое присловье стало тревожить его память в момент безысходной тоски? Непонятно. Глупо.
А и Б сидели на трубе…
Господи, до чего же ноет в груди.
Тридцать три года. Много это или мало? Если считать только годы взрослой жизни, конечно, мало. Но и достаточно много, чтобы понять, что ты — неудачник.
Но, прокручивая, словно киноленту, дни и годы жизни, он отчетливо видел, что грешно винить в своей неудачливости судьбу.
Года три назад тетка Зина писала из Загорска:
«Вот и слава богу, Юрочка, все у вас с Аней как у людей, все наладилось: и дочка, и квартира в Москве, и работа у обоих чистая. Теперь я спокойна за тебя».
И действительно, вроде бы все обстояло вполне благополучно. Что еще людям надо? Не к этому ли все стремятся?
Но почему же тогда тоска точила и точила его, и доточила в конце концов до чахотки? Каштан никогда не предъявлял чрезмерных требований к жизни. И судьба его складывалась нелегко. Он рано остался без родителей. Жили они в поселке торфяников в Подмосковье. От этих первых лет жизни у Юры осталось лишь несколько смутных отрывочных воспоминаний. Почему-то запомнилась швейная машина на столе, связки лука на стене. Подполье, которое страшило его чернотой и жутью. И еще он помнил тягучую мглу, гарь, затянувшую все вокруг, когда горел торф. Эта горечь от дыма жгла горло. И Каштан ощущал ее даже много лет спустя.
Рос он у двоюродной тетки в Загорске, учился там в школе-интернате.
Давно когда-то Каштан прочитал книгу известного полярника и особенно запомнил размышления автора о человеческом счастье. Мужчина с полным основанием может считать, что судьба состоялась, жизнь удалась, если будут выполнены два непременных условия. Во-первых, он должен заниматься любимым делом. А во-вторых, необходимо, чтобы ему повезло со спутницей жизни, с женой.
Поступая в институт, Каштан был убежден, что архитектура — его призвание. Учился он с удовольствием. На третьем курсе его проект автовокзала для районного города был высоко оценен на кафедре. Как и другие студенты, он мечтал, что будет проектировать новые города, проспекты, стадионы, дворцы. А иначе зачем идти в зодчие? Но вот уже десять лет он числится в учреждении, которое называется архитектурно-проектная мастерская № 4 треста Гражданстрой. Десять лучших лет проторчал в громадном, заставленном кульманами зале, в котором духота сменяется сквозняками. Постылая череда рабочих дней, похожих один на другой… Чертежник с высшим образованием, вот он кто. Выполняет малоинтересные задания, обрабатывает нескончаемую вереницу безликих деталей. Серые лица коллег. Наигранная бодрость начальника. В первые годы Каштан делал попытки творческого подхода к заданиям. Это вызвало раздражение бодрого начальника. Прекратил.
Тощая зарплата, скромная должность и никакой надежды на перемены. Но самым скверным было, пожалуй, то, что и дома-то он перестал заполнять альбомы эскизами, набросками, забросил рисование и живопись… И теперь Каштан не знал, как бы ответил на вопрос, занимался ли он в жизни любимым делом.
Впрочем, и на второй вопрос, о спутнице жизни, он также затруднился бы дать внятный ответ. Женился ненароком, почти по инерции. Познакомились они с Аней в подмосковном совхозе, где студенты копали картошку. Аня была худенькой, бесцветной, тихой девушкой. Каштана подкупило, что она начисто лишена кокетства. В ней не было ничего показного, нарочитого. Скромность ее оказалась естественной.
Чтобы быстрее получить жилье, Аня после окончания института пошла работать в строительную организацию. Квартиру им дали в пятиэтажном блочном доме, построенном еще в пятидесятые годы. Но и это было благом. Как-никак, а свое гнездо. Потом родилась дочурка. Жизнь текла по привычному руслу, и с годами все отчетливей приходило ощущение, что брак неудачен. Вроде бы и не было причин для ссор, но размолвки учащались, возрастало раздражение, усиливался холодок в отношениях.
Одно время Каштану казалось, что беда кроется в душевной глухоте Ани. Потом понял, что все гораздо проще. В их браке не хватало сущего пустяка — любви. Тут уже ничего нельзя было поделать.
Возникло чувство вины перед Аней. Когда-то он думал по формуле: стерпится — слюбится. Придет привычка. Но получилось — хуже некуда. Произошло омертвление их супружеских связей.
Поэтому, когда в его легких обнаружили туберкулезный процесс, он не очень-то и удивился. Жизнь мстила за грехи и за ошибки.
И вот теперь ему зябко.
…А и Б сидели на трубе. А — упало, Б — пропало. Кто остался на трубе?
2 …И УВИДЕЛ ПАСТУШОК, ЧТО ОКНА — НЕ ЗОЛОТЫЕ
В кабинете заведующей отделением жена Каштана Аня увидела трех врачей — двух женщин и мужчину.
Почему-то горела одна лишь настольная лампа, и комната была погружена в полутьму.
Аню встревожил неожиданный вызов в больницу. Но лица врачей были спокойны, приветливы. И голос доктора Гусева звучал ровно и мягко, когда он обратился к ней с просьбой — забрать из больницы мужа домой. Аня растерянно переспросила:
— Забрать домой? А разве он выздоровел?
Доктор стал терпеливо объяснять, что персонал больницы сделал все возможное для излечения Каштана. Но процесс в легких оказался настолько агрессивным и скоротечным, что остановить его, к сожалению, не удалось…
— И что же? — перебила Гусева Аня. — Вы считаете, это удастся сделать мне дома?
Возникла неловкая пауза. Наконец заведующая отделением Попова сухо сказала:
— Прошу вас, Анна Сергеевна, выслушать меня внимательно и по возможности не перебивать… У вашего мужа был обнаружен четыре месяца назад диссиминированный гематогенный туберкулезный процесс. Он протекал в острой форме. В старину это называли скоротечной чахоткой. Современная медицина умеет бороться с этой болезнью. Атака антибиотиков и других препаратов останавливает развитие процесса, подавляет активность палочек. Так вот, в ходе лечения Юрия Петровича испытали все препараты, какие есть на вооружении фтизиатров. Повторяю, все. Однако специфическая особенность организма вашего мужа такова, что он отторгает действие препаратов, и его штамм остается неуязвимым. Редчайший случай. Вот взгляните, Анна Сергеевна, на этот снимок. Видите, правое легкое поражено почти полностью. Верхняя доля левого — тоже. Новые каверны продолжают возникать в очень быстром темпе. Но мы бы не прекращали наших усилий бороться за жизнь вашего мужа, если бы не депрессия, в которой находится Юрий Петрович. Он разуверился в методе лечения, он разуверился и в нас, врачах. Его тяготит пребывание здесь. Он примирился с неизбежностью летального исхода,
Аня не выдержала:
— Но как же так! Что вы такое говорите?! Он же совсем молодой! Как можно?! Везде пишут, что туберкулез излечим! От него уже не умирают! Я сама читала!
Попова терпеливо переждала, пока Аня выскажется, и продолжала:
— Именно поэтому мы пришли к выводу, что ему необходимо изменить обстановку. Надо поместить его в ЦТИ. А вдруг это вселит в него надежду? Мы уже сделали заявку. Но его смогут там принять не раньше чем через две-три недели. Здесь, в больнице, эти три недели могут стать для него роковыми. Понимаете? А пребывание в домашних условиях способно уберечь на какое-то время от летального исхода. А потом в ЦТИ предпримут попытку что-то сделать…
Аня оцепенело молчала.
Снова заговорил доктор Гусев:
— Пусть ваша дочка поживет пока в другом месте. А потом у вас будет сделана дезинфекция.
— Когда — потом? — глухо спросила Аня.
В воскресенье Аня отвезла Маринку к своим родителям в Подольск. В среду вечером вымыла, выскребла всю квартиру. Приготовила для Юры на кушетке постель. В четверг отпросилась на два часа с работы, взяла такси и приехала за мужем в больницу.
Сердце у нее сжималось от жалости, когда Юра снимал с себя больничную пижаму и надевал привезенную ею одежду — натягивал свитер, тренировочный шерстяной костюм, носки.
Исхудавшие руки и ноги плохо подчинялись и дрожали от слабости. Каштан смущался этой своей немощи, словно сам был повинен в ней.
Вениамин помог надеть Каштану теплые ботинки и полупальто. Даже пояс ему застегнул. Вязаную спортивную шапочку Юра нахлобучил сам, но руки при этом мгновенно устали.
Иван Михайлович, Игорь и Вениамин легонько по очереди обняли сопалатника. Подходящие случаю слова на ум не приходили, поэтому распрощались молча. Оно было и к лучшему.
Пока ехали в такси, молчали. Лишь время от времени Аня негромко подсказывала водителю маршрут. Юру слегка поташнивало, и он прикрыл глаза.
Когда ему объявили о предстоящем возвращении домой и последующем лечении в институте, он лишь усмехнулся. Каштан знал все о своем состоянии и был уверен, что институт — это миф, придуманный для наивной Ани. Тот же арсенал средств, те же методы, такие же врачи. Да и не верил он, что ЦТИ примет больного, у которого не осталось ни единого шанса на приостановление болезни, не говоря уже о выздоровлении.
Нет, все произойдет, к великому сожалению, дома. И теперь ему вдвойне тяжко — очень стыдно перед Аней…
Его мнения почему-то никто не спросил. Протестовать счел неудобным. И вот везут домой. В последний раз. Потому что ни в какой институт он не поедет, если даже и впрямь его туда пригласят и если он проживет еще три недели.
Вылезли из автомобиля у подъезда, и Аня с тревогой взглянула на мужа: предстояло взобраться на верхний этаж, а лестницы в блочных пятиэтажках крутые и узкие.
Аня придерживала мужа за спину и даже через пальто чувствовала слабую дрожь. Очень боялась, что Юра упадет и покатится по лестнице вниз. Однако, ступенька за ступенькой, ежеминутно отдыхая, он одолел нее пять этажей. И пока тащился вверх, его неотступно преследовала одна идиотская мысль: до чего же трудно будет сослуживцам тащить его в ящике по этой узенькой лестнице вниз. На крохотных лестничных площадках даже развернуться и то сложно.
И вновь его пронзило чувство вины перед Аней. Оно все возрастало, пока поднимались, зашли в квартиру и разделись. Каково ей, бедняжке, сейчас! За что на нее обрушилась эта беда? Аня не заслужила ее. И он не в силах помочь ей, уберечь от того, что неотвратимо и грозно надвигалось.
Оказавшись вдвоем, оба испытывали неловкость. От той неловкости у Ани появилась излишняя суетливость и взвинченность. Предстояло еще найти верный тон в отношениях, отыскивать единственно правильные слона. И это было нелегко.
Он сидел, одетый в тренировочный костюм. Аня приготовила постель, взбила подушку и сказала:
— Ты разденься и ложись.
— Я посижу немного. Приду в себя. Потом лягу. А ты иди.
— Да, мне пора уже бежать, а то Карпов заест. Он меня всего на два часа отпустил.
— Беги, беги.
— Там на кухне — салат со сметаной. И кисель. Поешь.
— Ладно. Попозже.
Когда Аня уходила, Каштан вновь уловил в се глазах страх. Хлопнула дверь. Затих торопливый перестук каблуков на лестнице.
И снова Каштан с болью подумал: каково же ей теперь мучиться в ожидании, знать, что это может произойти в любой день?! Ну за что ей такое наказание? Хотелось выть от бессилия, от неспособности изменить что-либо в этой жуткой ситуации…
Пара голубей за окном, свистя крыльями, опустилась на карниз. Птицы заглядывали через стекло в комнату, словно ожидая от него чего-то. Наверно, Маринка подкармливает их, вот они и требуют еды.
Голуби взлетели с карниза. Вид у них был явно обиженный. Он вздохнул, провожая их взглядом. Вот так бы вспорхнуть и улететь к чертям подальше отсюда, не терзать своим дохлым присутствием ни в чем не повинных жену и дочку.
Он видел в окне привычную панораму жилого квартала, бетонные громады домов, здания школы и детского сада. Окна смотрели на запад. Наверно, поэтому у них в квартире в летнее время царил какой-то печальный отсвет. Солнце закатывалось за дома, небо окрашивалось в багряный цвет. На этом фоне четко выступали строгие контуры двенадцатиэтажных домов-башен.
Несколько раз Каштану удавалось уловить этот эффектный момент и сделать акварельные наброски заката. Глядя на него, и Маринка принималась рисовать цветными карандашами ту же картину.
Заходящее солнце навевало грусть. Солнце уползало, небо из багряного становилось сиреневым, потом серым и, наконец, темным. В домах вспыхивало электричество, начинали светиться десятки, потом сотни, а затем и тысячи окон.
Каштан всегда смотрел на это сверкание бесчисленных огнен с необъяснимой печалью. Быть может, в нем крепко сидела врожденная деревенская закваска? В селе ведь знаешь, кто стоит за каждым огоньком. А здесь? Грусть возникает, наверно, от осознания жесткой истины, что никогда, никогда ты не узнаешь людей, живущих за этими окнами.
Впрочем, о том же как-то сказала даже Маринка. Она любила наблюдать вместе с отцом, как на город опускаются сумерки. Свой остренький локоть она ставила на подоконник, кулачком подпирала подбородок и задумчиво смотрела на вспыхивающие созвездия московских огней. И однажды тихо проронила:
— А может, там тоже девочки у окон стоят? А, папуля? И хотят со мной познакомиться?
И столько грусти прозвучало в голосе, что он обнял ее и приласкал.
И еще один случай вспомнился Каштану. Они рисовали с дочкой закат. Ему вздумалось рассказать ей известную притчу о бедном пастушке. Этого пастушка волновало и притягивало какое-то неведомое селение, расположенное далеко за полями у самого горизонта. Когда пастушок на закате гнал свое стадо обратно в деревню, он всегда отчетливо видел, что в домах далекого загадочного селения окна сделаны из золота. Они торжественно сияли золотым блеском. И пастушку представлялось, каким же дивным был этот чудо-городок. Там золотые и окна, и крыши, и посуда. Там играет волшебная музыка, дети смеются и танцуют. Пастушок страстно мечтал попасть в чудесное селение. И однажды решился. Бросил свое стадо и побежал через поля туда, к горизонту, к городку с золотыми окнами… Но когда он добрался до него, то в растерянности остановился: золотое сияние окон исчезло, потому что закатилось солнце. Перед мальчиком оказалась самая обыкновенная деревушка с черными избами, окна которых по вечерам лишь отражали закатное солнце. Пастушок опустился на траву и зарыдал: до того ему было больно и обидно…
Каштан не успел еще закончить свой рассказ, как дочка горько заплакала, и он долго не мог ее утешить.
Аня очень рассердилась на мужа за то, что он довел ребенка до слез, увела дочку в ванную. А его, помнится, послала в овощной магазин за картошкой.
Чего греха таить, Аня крепко ревновала. Маринка простодушна, она и не пытается скрывать, как любит отца. Аню это мучило, она нередко срывала свою досаду то на муже, то на дочери. Что было, то было.
Каштан тяжко вздохнул и подумал: неужели невозможно найти какой-то выход? Затея с переводом в институт — это легенда, и он должен избавить Аню от тягостной обязанности, которую, неожиданно для него, больница возложила на ее плечи. Что можно сделать? Ну что можно сотворить при его-то состоянии? Сесть и электричку, уехать в Загорск? Вот будет подарочек для тети Зины — подыхающий двоюродный племянник. Нет, это несерьезно. Сесть в электричку и— куда глаза глядят, к черту на кулички! Лишь бы подальше от дома… А что, если двинуть на родные торфяники? Приползти туда, где появился на свет? И там in кончить свой путь? А? В этом что-то есть. Ей-богу, это — неплохая идея!
Каштан глянул на сервант. Его паспорт и больничный лист Аня положила на полку. А вот выписку из истории болезни унесла с собой. Чудачка, думает, он не знает содержания этой выписки. Лучше, чем кто-либо, он представляет, что стоит за лаконичным диагнозом.
А паспорт надо взять с собой, если решиться на бегство.
Взгляд его скользнул по книжному шкафу. И вдруг Каштан замер. Он смотрел на корешок одной из книг, стоявших в шкафу: «Архитектурные ансамбли Ленинграда». Вспомнил: между страницами этого тома спрятан конверт с «подкожными деньгами». Иногда Каштану удавалось немного подработать на дипломных работах, на левых заказах. Часть заработанных денег он три года назад стал утаивать, хотя не смог бы объяснить даже самому себе, зачем он это делает. Никаких планов на этот счет у него не было. Ни о каких покупках он не мечтал. Но все же откладывал.
Каштан поднялся, распахнул дверцу шкафа, вынул томик и раскрыл его. Конверт лежал на месте, а в нем — двести семьдесят восемь рублей.
Найдут после него эти деньги — что подумают? Стыдно. Ужасно стыдно. Оставить? Спрятать? Выбросить? Истратить? Кругом — стыдно.
Надо было что-то решать.
Убраться отсюда, из дома, необходимо — это ясно. Поехать в родные места? А впрочем, какие они, к шуту, родные?! С тех пор как его, трехлетнего, увезла тетка, он никогда не бывал там. Нет, не годится для последнего прибежища. Тем более что находится поселок в Подмосковье, неподалеку. Возьмут доброхоты да еще и привезут обратно сюда. Нет уж, если отправляться, то как можно дальше. Коли окочурюсь в пути, все равно это будет далеко от дома.
Он снова поднялся, прошел в прихожую и положил во внутренний карман пальто паспорт и деньги. Сел на табурет и медленно стал надевать башмаки. Они казались чересчур тяжелыми, но таки одолел их. Он делал передышки, когда вновь надевал полупальто и вязаную лыжную шапочку. Голова слегка кружилась, и его поташнивало. Ничего, говорил он себе, терпи. Так надо!
Каштан, одетый, вернулся в комнату. На столе лежала бумажная салфетка. Он наклонился и красным карандашом крупно написал на ней: «Аня, я ухожу. Не хочу, чтобы это произошло здесь. Ты уж прости. Жаль, что все так получилось. Просьба — не искать меня. Не надо. Верю, что еще повезет в жизни и тебе и Маринке. Еще раз — прости. Юрий».
Потом он сделал приписку, чтобы она получила за него по больничному листу за два месяца.
Он задумался — не чересчур ли жестоко поступает? Что сильнее травмирует ее?.. Нет, такой выход — единственно правильный.
Он захлопнул дверь за собой. И, держась за перила, стал медленно спускаться по лестнице. Когда добрался до нижних ступенек, то понял, что путь назад отрезан. Ему просто не хватит сил вновь подняться на пятый этаж. Ноги дрожали как у дряхлого старика.
Каштан неспешно побрел по слякотному тротуару. Он отвык от ходьбы, отвык от уличного движения, шума и воздуха. Немного кружилась голова.
Справа тянулись одинаковые бетонные здания, на первых этажах которых располагались сберкасса, продовольственный магазин, обувная мастерская, парикмахерская.
В витрине сберкассы притягивали взор два красивых зазывных плаката: улыбающаяся девушка на фоне сочинских пальм и обаятельный молодой человек за рулем автомобиля. А в соседнем доме через стеклянную стену конторы «Бюро по трудоустройству и информации населения» было видно укрепленное в холле красочное панно. На нем — изображения морских судов, плывущих в ярко-синих океанских волнах. Над ними парили неестественно крупные чайки.
Что-то толкнуло Каштана открыть дверь конторы и зайти в холл. Он приблизился к панно и прочитал на нем надпись, призывающую молодежь идти работать на рыболовные суда. Рядом над дверью висела табличка, извещавшая, что здесь находится отдел оргнабора рабочих на суда и предприятия рыбной промышленности Дальнего Востока. У кабинета, вдоль стены, в ожидании приема сидели посетители. По холлу прохаживался розовощекий высоченный парень в распахнутом полушубке и в берете морского пехотинца. Он взглянул на Каштана и с задорной улыбкой спросил:
— Ну что, дядя? Рванем с нами на Тихий океан, а? На ветерок! А то, я смотрю, больно ты бледноват!
Каштан не успел ответить: из кабинета вышел человек в морской форме. Он держал пачку каких-то бумаг. Ожидавшие в холле сразу обступили его.
— Ну вот, парни, — зычно произнес моряк, — ваши паспорта, вот — билеты до Петропавловска и остальные документы. Я понимаю, что каждый из вас завербовался сам по себе. Но поскольку вы, семеро, будете работать на Курилах, советую вам в пути держаться вместе, выбрать старшего. Как только прибудете в Петропавловск, сразу же дуйте в Дальрыбу. Там каждый получит направление на свое судно.
Моряк подал парню пачку билетов и паспортов:
— Держи. Раздашь ребятам. А это — удостоверения… Ты ведь Поляков Владислав? Демобилизованный десантник?
— Так точно! Он самый!
— Ну вот, Слава, тебе, как говорится, и карты в руки. Командуй. Самолет вылетает ночью. Из Домодедова… Счастливого пути, ребята!
Каштан тихо пошел к двери. Как мучительно завидовал он этим, улетавшим на восток, парням!
На улице он почувствовал усталость и остановился на краю тротуара, у гряды грязного пористого снега.
Неожиданно около него притормозил автомобиль. Каштан даже вздрогнул. Это было такси. Шофер открыл дверцу и, наклонившись, спросил:
— Поедете?
Каштан кивнул и влез на переднее сиденье. Водитель захлопнул дверцы, вопросительно посмотрел на него.
— Аэропорт Домодедово, — проронил Каштан.
3. ЧЕРЕЗ МОСТ, ВИСЯЩИЙ НАД АДОМ
В Домодедовском аэропорту было так многолюдно, суматошно, душно, что Каштана стало мутить. И он, неожиданно для самого себя, пожалел вдруг, что затеял всю эту волынку с бегством на край земли.
Откинувшись на спинку скамьи, он долго сидел в каком-то ленивом и бездумном оцепенении. На противоположной стене вспыхивали светопланы с обозначением рейсов и городов. То и дело раскатисто гремел голос дикторши, объявлявшей вылет самолетов и регистрацию рейсов.
В какой-то момент Каштан случайно обратил внимание, как вспыхнула на табло надпись, извещавшая о наличии одного места на рейс Москва — Петропавловск-Камчатский. Тотчас же и голос из динамика подтвердил, что билет на этот рейс можно приобрести во второй кассе.
Это заставило встряхнуться. «Ну что ж, может, это — судьба? — подумал Каштан. — И грех не воспользоваться случаем. Если билет достанется мне, то улетаю. Если нет — возвращаюсь с повинной головой к Ане. Решено».
Когда кассирша протянула ему билет и сдачу, он от волнения никак не мог взять их: пальцы не слушались. Какая-то женщина помогла ему уложить в карман паспорт, билет и деньги.
— Температурите? — участливо спросила она.
Он кивнул.
До вылета самолета оставалось несколько часов. Их предстояло провести в этой духоте и суете. Ничего не поделаешь. Надо искать удобное место.
Аэропорт жил своей обычной хлопотливой жизнью. Озабоченные пассажиры сновали с чемоданами и рюкзаками, нетерпеливо переминались в многочисленных очередях, выстроившихся к регистрационным стойкам, выходам на посадку, кассам, буфетам, телефонам, туалетам, к справочному бюро, секции выдачи багажа, телеграфному окошку…
Но были здесь и группы успокоенных пассажиров. Одни дремали в креслах, другие умиротворенно смотрели на экраны телевизоров, подвешенных чуть ли не к самому потолку.
Каштан сидел в кресле, склонив голову. На душе скребли кошки. Охватили сомнения: не допустил ли он какой-то трагической ошибки, не наносит ли слишком болезненный удар Ане своим уходом?
Он размышлял об этом, когда женский голос над головой спросил, свободны ли соседние кресла. Он поднял голову. И вдруг неподалеку увидел тех самых семерых парней, с которыми столкнулся в бюро по трудоустройству. Они, наверно, тоже узнали его. Их вожак Слава Поляков удивленно протянул:
— Ну ты даешь, дядя! Неужто и в самом деле решил проветриться?
— Лечу на Камчатку, — кивнул Каштан, — с вами за компанию. Тем же рейсом.
Слава покрутил головой:
— Чудеса, да и только! Ну, компания есть компания. Раз такое дело, идем с нами в ресторан. Присядем перед дорогой.
— Куда мне в ресторан в этом виде! — Каштан распахнул пальто, чтобы показать тренировочный костюм, и который он был одет.
— А что? — сказал Слава. — Вполне сойдешь за генерала.
— Почему за генерала?
— А лампасы вон какие шикарные. Идем, идем, браток! Не тушуйся!
Он легко приподнял Каштана с кресла, поставил его, взял за локоть:
— С нами ничего не бойся!
В ресторане они просидели больше часа. Каштану понравились его спутники — Слава, Валера, Дима, Яша, Олег и два Саши. Вели они себя просто, раскованно. Не скрывали, что завербовались на Курилы, чтобы хорошо заработать. Слава даже высказал по этому поводу сентенцию:
— В наше время, братцы, финансовый фундамент крайне необходим. Хочешь ли ты жениться или учиться, фундамент дает крепкую уверенность в жизни. Так что давайте выпьем за это полезное мероприятие!
Он разлил всем коньяк. Каштан пить отказался:
— Я очень ослаб, ребята. Если выпью, меня так шибанет, что я идти не смогу.
— А мы тебя пронесем через контроль как ручную кладь, — предложил Валера.
Но Слава распорядился по-иному:
— Ладно, дядя Юра, выпьешь потом, в самолете.
Он вынул из кармана плоскую фляжку из толстого стекла и налил в нее коньяка. Завинтил пробку, снова засунул в карман.
В Славе все было привлекательно. Молодая сила била через край. Белозубая улыбка, румяное лицо, светлые усики делали его похожим на юного киногероя, на знакомый плакатный персонаж.
Он охотно взялся опекать Каштана. Когда объявили рейс, Слава с шутками и прибаутками быстренько провел Каштана через процедуры регистрации и контроля. А затем вместе с Валерой, помог ему подняться по трапу в самолет. Тахт стремительно обменял с некой гражданкой место Каштана и усадил его в кресло между собой и молчаливым бородатым Яшей.
Специфический запах самолетного салона плохо действовал на Каштана, однако надо было терпеть.
Самолет взлетел, Каштана вдавило в кресло, заложило уши. Он увидел, как качнулась в иллюминаторе россыпь огней огромного города. И сжалось сердце — от тоски ли, от тяжкого ли подъема.
Все, подумал Каштан, с прошлым кончено. Рвутся, лопаются все связи. Он совершает последнее в жизни путешествие в один конец.
Слава между тем раздобыл у стюардессы бумажный стакан, до краев налил в него коньяк и, подавая Кашину, сказал:
— Давай-ка, дядя Юра, хлебни за тех, кто в пути!
Каштан не был уверен, что останется жив после тайн! дозы алкоголя. Но покорно выпил все: будь что будет! Внутри разом всколыхнулось, оборвалось, упруги стиснуло сердце, волной накатила и разлилась слабость. Охватило состояние оцепенения, зыбкости…
«Если долечу до Камчатки живой, — возникла вдруг мысль, — то еще успею увидеть океан. Хорошо бы!»
Каштан всего лишь один раз был на море, когда еще учился на третьем курсе. Начались каникулы, и несколько студентов решили махнуть на Черное море. Приехали впятером в маленький прибрежный поселок. Денег им хватило всего лишь на десять дней. Подрядились было на работу в рыбколхоз, но из этого ничего не вышло. Едва удалось наскрести на обратную дорогу… И псе же из этой поездки он вынес ощущение необыкновенного. Ему доводилось, конечно, и раньше купаться в речке и в пруду. Но оказалось, что морено совсем иная стихия. Тут смыкались в единое пространство сияющая прозрачная голубизна моря, неба, воздуха, пронизанного солнцем.
По утрам он погружался в это пространство и невесомо парил в центре голубой Вселенной, испытывая блаженство от слияния с ней. Он помнит ощущение ограды, ликующей радости бытия, просветленности души и тела, певучести, которую издавала, казалось, каждая клеточка…
Монотонно гудели двигатели самолета. Каштан стремительно погружался в хмельной сон, и последнее, что неожиданно всплыло в его памяти перед забытьем, была цитата из Корана, которую однажды пересказывал своим сопалатникам востоковед Иван Михайлович: Мост Сират перекинут над адом — тоньше женского волоса, острее лезвия меча и горячее пламени. Его пройдет лишь тот, кто истинно праведен, кто несет добро другим, кто избежит суетности и тщеславия…»
Попробуй-ка пройти через такой мост.
Самолет, в котором летел Каштан, миновал Урал, Сибирь и приближался к Охотскому морю, а он все спал, откинув голову и тяжело дыша ртом. Стюардесса хотела разбудить его, чтобы накормить, но Слава не разрешил.
«Ему сон нужней, чем еда, — объяснил он, — не надо его трогать до конца полета».
Но за полчаса до посадки в Петропавловске Слава сам разбудил Каштана. Тот открыл глаза, и было видно, что он не может сообразить, где находится.
— Эй, генерал, очнись! — говорил, улыбаясь, Слава, — Камчатка под нами.
— Камчатка? — удивленно пробормотал Каштан.
— Она самая. Давай-ка я тебе кресло сделаю нормально.
Слава поставил спинку его кресла в вертикальное положение и застегнул ремни.
— Порядок. Как самочувствие, дядя Юра?
— Вроде живой еще, — вяло откликнулся Каштан.
— Вполне достаточно для посадки, — бросил Слава.
Однако, когда сошли с трапа на заснеженный, залитый ослепительным весенний солнцем аэродром и затем садились в автобус, Слава заметил, что Каштана покачивает.
— Ты что, совсем раскис?
Каштан кивнул.
— А какие у тебя дальнейшие планы? — поинтересовался Слава.
Каштан пожал плечами. Не мог же он признаться, что прилетел сюда, на край земли, с единственной целью — помереть. Он и сам понятия не имел, что делать дальше.
За окном автобуса бежала заснеженная долина, окаймленная остроконечными вулканическими сопками. Из кратера одной из сопок мирно поднимался в синее небо дымок. Совсем как из печной трубы.
Когда ехали по улицам Петропавловска, Слава повернулся к Каштану и сказал:
— Ты уж с нами побудь, пока мы в Петропавловске. А там разберемся. Лады?
Каштан обрадованно кивнул. Ему нравилось подчиняться этому решительному и веселому парню. Он готов был пойти за ним куда угодно. Эх, если бы не проклятая чахотка, отмерившая ему всего лишь несколько недель жизни…
Первые часы пребывания в Петропавловске прошли для него в каком-то тумане. Сначала он долго сидел в вестибюле конторы Дальрыба, пока его спутники оформляли свои документы в отделе кадров.
Потом пошли в пельменную — перекусить, и там Каштан узнал, что все семеро получили направление на остров Аракутан, в поселок Благодатный, где базируются сейнеры и траулеры рыбокомбината.
Затем отправились в порт, на морской вокзал. Каштан со Славой и Валерой ехали в такси. В зале Юру посадили на скамью, а сами пошли узнавать о рейсах на Курильские острова.
Каштан задремал. Его разбудил Слава:
— Слышь, генерал! На Аракутан с нами поплывешь?
— Конечно! Если возьмете.
— Возьмем. Но теплоход «Аскольд» отправится в рейс только через трое суток. Брать тебе билет?
Каштан торопливо полез в карман за деньгами. Протянул Славе несколько оставшихся бумажек. Но тот, забрав двадцатипятирублевую ассигнацию, остальные деньги вернул.
И снова Каштан томился в зале ожидания, пока ребята бегали по гостиницам города. К концу дня все семеро вновь собрались в помещении морского вокзала. Их попытки раздобыть места в гостиницах оказались тщетными. А ведь надо было где-то провести три ночи.
Слава предложил самый неожиданный вариант: купить в спортмагазине альпинистскую палатку и в ней ночевать. В тесноте, да не в обиде. Эта идея понравилась всем своей оригинальностью. Деньги собирал Валера. Когда Каштан дал ему сорок рублей, он спросил:
— Зачем даешь так много, дядя Юра?
Каштан тихо сказал:
— Купи мне, пожалуйста, спальный мешок.
Слава удивленно произнес:
— Ты что же, боишься спать с нами в палатке?
— Боюсь. Но не за себя, а за вас.
— Как это понять?
Каштан вздохнул. Помолчав, проронил:
— Не хочу делиться с вами бациллами, ребята. Что мое, то мое. Я рядом с вами в мешке буду спать.
Слава сказал:
— Нас вообще-то, чтоб ты знал, никакая бактерия не прошибет. На этот счет ты, Юра, можешь быть спокоен. Но чтобы тебе не психовать понапрасну, устраивайся как удобнее.
Валера спросил:
— У тебя на обратную-то дорогу деньги остались?
Каштан тихо проговорил:
— Обратной дороги не будет, Валерик.
Больше его никто ни о чем не спрашивал.
Над Петропавловском возвышается сопка. Уже стало смеркаться, когда парни добрались на такси до «Туристической поляны», расположенной на склоне этой сопки. Отсюда открывалась панорама города и бухты. Ребята быстро установили палатку. Помогли Каштану влезть в мешок. И он, на удивление, почувствовал себя уютно и умиротворенно. И почти сразу уснул.
За три дня, проведенных на «Туристической поляне», Каштан успел привязаться к семерым парням, которых судьба определила ему в спутники.
Слава был, конечно, прирожденным лидером, смекалистым, неунывающим, компанейским. В нем клокотала юная энергия, и он не способен был ни минуты оставаться без дела.
Валера, напротив, отличался немногословностью, сдержанностью. Но ощущалась в нем надежность. Он владел профессиями столяра, слесаря, шофера, моториста. Студент Дима задумал отделиться от родителей. Для этого нужны деньги. Взял академический отпуск и вот рванул на Тихий океан. Оба Саши, один — киномеханик, а другой — мастер с часового завода, давние приятели, мечтали приобрести автомобили. Чтобы приблизить день желанной покупки, и подрядились поработать на рыболовецком судне. Олег раньше учился в мединституте, но бросил его, поскольку понял, что это вовсе не его призвание. Так и не разобрался, чего же он хочет. Решил пока потрудиться на морском поприще. Будет время подумать о том, как строить свою судьбу дальше.
Яша был старшим в компании. Молчаливый, погруженный в свои думы бородач несколько выделялся среди остальных. Что-то у Яши разладилось в семье. Он понял, что требуется резкая перемена в жизни, и не побоялся отправиться на край земли.
Все семеро неназойливо, дружелюбно опекали Каштана. Иногда, правда, немного подтрунивали над ним, называя доходягой. Ему было хорошо с ними. И трое суток, проведенных в Петропавловске, пробежали быстро.
Снова, как когда-то в детстве, он мог ночами смотреть в необъятное, усыпанное звездами небо. И это принесло тихую радость, удивительное душевное успокоение, Каштан так приспособился и привык к спальному мешку, что, когда вся компания перекочевала на теплоход, он отказался от места в каюте. Ему удалось удобно пристроить свой мешок на спардеке, около шлюпки. Здесь, на деревянной палубе, его не мучили тошнотворные запахи нагретого масла, железа и краски.
Как только за кормой растаяла в синеве Авачинская бухта и островерхие сопки с заснеженными вершинами, Каштан залез в свой мешок. Он с удовольствием вдыхал покалывающий ледяными иголочками йодистый воздух и слушал глухой раскатистый говор океана.
«Аскольд» отправился в рейс по островам Курильской гряды в полдень. До Аракутана предстояло плыть чуть более суток.
4. «…И ТАМ СЛЫШИТ ШУМ ВЕЛИКИЙ И ГРОМ…»
Проснулся Каштан рано. В темном еще небе мчались похожие на огненные ракеты облака.
Над самой водой колыхался живой туман, и в нем играли отблески красного сияния.
Но вот туман стал улетучиваться, и открылось море — плоское, тяжелое, оловянное.
Каштан вглядывался в морские дали с чувством, похожим на радостный подъем. И это его удивило. Скорее всего такое настроение было вызвано ощущением пространства. Необъятная ширь неба и моря. Пространство. Он уже забыл о нем. Валяешься на больничной койке в тесной палате, годами торчишь в малогабаритной квартире, на работе — в заставленном помещении, в вагоне метро, в троллейбусе. Привыкаешь к стенам и потолку. И кроме них — ничего. А пространство вечное, величественное существует само по себе, и к нему надо прикасаться, чтобы ощущать связь с миром.
По правому борту стали видны обрывистые берега какого-то острова, пятна снега, шлака и пепла на мертвой скалистой земле, застывшие потоки лавы с бурыми, фиолетовыми и черными слоями. Над островом возвышалась сопка с острой, скошенной набок вершиной.
Каштану вспомнился увиденный во сне голый каменный островок. Он, правда, не походил на этот, реальный. И все же было странно — почему вдруг явился к нему такой сон?
Каштан не верил в вещие сны, считал всякие предвидения чепухой. Но как истолковать такое вот совпадение недавнего сновидения и яви, он не знал.
Между тем впереди показались новые острова. Они медленно надвигались, показывали свои каменные бока и также медленно уплывали назад.
Каштан сложил вчетверо спальный мешок, положил его на кнехт и сел, словно на мягкий пуфик.
В середине дня он увидел висящий над горизонтом конус дымящегося вулкана. Казалось, что он подвешен к огромной туче, застывшей над одним местом.
Кто-то сказал за спиной у Каштана:
— Это знаменитый вулкан Боброва на острове Анива. Но чаще его называют Дядей.
Каштан оглянулся. Бородатый Яша мрачно всматривался в горизонт. Юра спросил его:
— Дядя — на том острове, куда мы плывем?
— Нет. Мы плывем на Аракутан. Он находится рядом с Анивой.
— А вулкан-то действует!
— Да. Резвится время от времени.
Яша помолчал и вдруг нараспев стал говорить:
— Гора эта велика и высока гораздо… Из нее днем идет дым, а ночью искры и зарево. А сказывают, буде человек взойдет до половины той горы и там слышит шум великий и гром, что человеку терпеть невозможно. А выше половины той горы, которые люди всходили, назад не вышли, а что там людям учинилось — неведомо…
Юра удивленно посмотрел на Яшу и спросил:
— Что это?
— Это слова Атласова. Был такой путешественник.
— Яша, а кто вы по профессии?
Бородач помолчал. Потом сказал:
— У меня семейный крах, Юра. И я подался сюда, чтобы быть как можно дальше от тех руин. А профессия… Теперь это не имеет значения.
Каштан, кивнув, проговорил:
— А я еду сюда помирать.
— Я давно это понял, Юра, — спокойно проронил Яша. И после паузы добавил: — У каждого свой зов.
На палубу вышли все спутники Каштана. Они всматривались в очертания двух островов, отделенных друг от друга проливом.
— Какой из них наш-то? — спросил Слава Яшу.
— Тот, что без вулкана. На Аниве жителей нет.
Острова приближались.
Взоры невольно приковывала дымящаяся сопка: мало кому приходилось видеть действующий вулкан в натуре. Чем ближе подходили к острову Анива, тем более грозным выглядел Дядя. Из кратера его доносился вибрирующий гул, оттуда вырывались клубы серого дыма, подсвеченные снизу оранжевым отблеском огня.
— Он что, всегда так пыхтит? — спросил Слава у пробегавшего матроса и показал на Дядю.
— Да нет, — остановился моряк, — это он сегодня что-то осерчал. А обычно курится себе помаленьку, потихоньку…
Пока теплоход шел на траверзе Анивы, Каштан неотрывно смотрел на вершину, изрыгающую дым, и не мог оторваться от этого зрелища. Оно словно гипнотизировало его. И когда «Аскольд» развернулся курсом к соседнему острову, а тот и был конечной целью их путешествия, Каштан все продолжал смотреть на вулкан.
Между тем судно шло уже вдоль берегов Аракутана.
Могучей громадой базальта, хмурыми исполинскими утесами остров круто обрушивался в море. Но вот за мысом неожиданно открылся залив. Он наискось врезался в береговую кромку.
«Аскольд» вошел в залив, и пассажиры увидели в глубине бухты, в самом центре берегового полукружья, пирс и поселок, рассыпанный по крутому склону каменной сопки.
Капитан объявил по радио о том, что «Аскольд» швартуется к пристани поселка Благодатного.
Каштан и сам не ожидал, что будет так волноваться, спускаясь по трапу на берег. Сердце его учащенно колотилось, и, если бы не поддержка Славы, он, наверно, не устоял бы на ногах.
День был на исходе, солнце сползало к морю. Дул ледяной ветерок.
Со своими спутниками Юрий зашагал по пирсу на берег.
Там у входа на пирс стояли встречающие. Каштан забрал у Валеры свой мешок и отошел в сторону, чтобы не быть помехой своим спутникам в их разговоре с шустрым востроносым представителем администрации, крепким мужчиной с лицом морского волка, и тощим комендантом общежития. Востроносый стремительно выпалил:
— Хлопчики, с прибытием! Распорядок такой: медосмотр, баня, столовая, общежитие… Знакомьтесь: это капитан Платонов, наш командующий флотом, а это — Никитич, комендант общежития.
— Никто раньше не работал на флоте? — спросил капитан Платонов.
— Все впервые, — ответил Слава.
— Вопрос ясен! Двинули! — воскликнул администратор.
Слава обернулся и взглянул на Каштана. Тот поднял с земли свой спальный мешок и медленно побрел но берегу.
Администратор посмотрел на Каштана и спросил:
— А этот меланхолик тоже из Москвы?
— Москвич. Летел вместе с нами.
— Турист, что ли?
— Да вроде того.
— К нам сюда всякие чудики приезжают. Кто за икрой, кто на вулкан поглазеть. Но этот — вовсе какой-то блажной. Квелый заморыш. Паспорт-то у него есть?
Слава сердито сказал:
— А по-вашему, сюда можно добраться без документа?
— Ну, все-таки… Здесь же, как ни крути, погранзона.
Администратор повернулся к моряку и с усмешкой спросил:
— Может, ты, Иван Данилович, возьмешь его к себе на флот, а? Впередсмотрящим? А? Шучу, шучу! Ладно, ребята, за мной!
Слава подбежал к Каштану и сказал:
— Ты, Юра, далеко не уходи, понял? Мы придем через часок. Договорились?
Каштан кивнул. Слава догнал своих парней, и они вслед за востроносым стали подниматься вверх по ступенькам, выбитым в каменистом грунте.
Каштан прикинул, что лучше всего вулкан наблюдать с правого края бухты, где возвышается над морем гигантская отвесная скала. Между базальтовой стеной и водой — узенькая береговая полоска, усыпанная галькой. Там безлюдно, и никто не будет мешать ему смотреть на вулкан. Он не спеша направился в ту сторону. Мешок оказался не таким уж и тяжелым.
Навстречу ему летящей походкой шла девушка в штормовке и юбке. Она явно спешила, но, поравнявшись с Каштаном, вдруг приостановилась и внимательно всмотрелась в него. В больших серых глазах ее он уловил безмерное удивление. Однако, ничего не сказав, девушка быстро пошла дальше.
Каштан оглянулся. Оглянулась и она. Что ее так удивило? Наверно, мертвенная его физиономия. Лишний раз убедился: чтобы не пугать своим дохлым видом честных граждан, надо находиться подальше от них.
Он снова обернулся. Девушка в штормовке поднималась по ступенькам на верхний ярус поселка.
Он брел по краешку береговой кромки, подыскивая удобное место. Справа в двух шагах вздымалась ввысь пена базальтового монолита, слева широкой дугой разворачивалась бухта. Впереди, в воротах залива, синел океан. И там же, всего лишь километрах в семи, прямо перед Каштаном высился над морем конус дымящегося вулкана.
Почему его так притягивало и завораживало это зрелище, он понять не мог.
Каштан сложил спальный мешок и сел на него. Веяло стынью от окоченелой базальтовой стены. На мокрых черных камнях в воде поблескивал багровый отсвет заходящего солнца. Легкий ветерок гнал по бухте зеленые льдины. Шуршала о гальку волна, цокали камешки, падая в воду.
Было бы тихо, если бы не рокотанье вулкана. Оно раздавалось все громче. И больше становилось оранжевого дыма.
Его окликнули знакомые голоса. Это пришли Слава с Валерой. Они принесли ему еду. Миска, которую подал Слава, была наполнена красной икрой. Валера вручил кусок хлеба и ложку.
— Порубай, Юра, курильскую кашу! — весело сказал Слава. — Привыкай к местным условиям.
Каштану никогда не доводилось есть икру ложкой. Но ребята заставили его крепко потрудиться над «курильской кашей». Потом он с наслаждением запил икру горячим чаем, который парни принесли в термосе.
Он узнал, что Слава договорился с администрацией об устройстве его в общежитие. Однако Каштан и слышать об этом не хотел:
— Спасибо, ребята, но не пойду я в общежитие. Это исключено. Устроюсь вот здесь, в мешке. Чем плохо? Мне нужен свежий воздух.
— Ну, смотри, — бросил Слава. — И все-таки имей и виду, что место для тебя всегда есть.
— Тут местная докторша очень тобой интересовалась, — заметил Валера. — Кто ты, да что, да почему?
— Докторша? — удивился Каштан, — А-а, это, наверно, та девица в клетчатой юбке. Ей-то что за дело?
— Профессиональный интерес, — предположил Слава. — При виде твоих мощей возникает сильное желание — кормить и лечить.
Начало смеркаться, и парни ушли в поселок. Каштан вновь стал смотреть на Анину. А вулкан с каждой минутой становился беспокойней. Теперь его вершина казалась раскаленной докрасна, а гул напоминал артиллерийскую канонаду. Вверх стали взлетать огненные бомбы. Они падали на склоны и скакали вниз словно мячи.
— Что-то разворчался наш Дядя! — неожиданно произнес за спиной женский голос.
Каштан обернулся. Около него стояла сероглазая девушка в штормовке, повстречавшаяся давеча на дороге. Из-под капюшона выбились русые волосы. На смуглом чистом лице — румянец.
Юрия поразили необыкновенно живые глаза. В них трепетно переливался отсвет какой-то душевной напряженности. Однако голос женщины был спокоен. Она сказала:
— Вообще-то мы здесь привыкли к его выкрутасам и спим спокойно, когда Дядя бушует.
Каштан проронил:
— Вашему поселку он не угрожает?
— Дядя нас не тронет, если даже взорвется… Но, знаете, у меня сегодня странное ощущение тревоги. Предчувствие беды, что ли. Сама не понимаю, отчего это…
Она помолчала. Затем вздохнула и мягко сказала:
— Вы чем-то больны. Я вижу. Вам нельзя оставаться здесь. Ночи у нас студеные. Вас тут ледяным панцирем покроет.
— У меня теплый спальный мешок.
— Этого недостаточно. Идемте, переночуете хотя бы в амбулатории.
— Меня тошнит от одного вида и запаха медпункта.
— Серьезно же вам говорю — застудите почки. Схватите плеврит.
— Не все ли равно? — вяло отозвался он.
Она стояла, чуть склонив голову, и рассматривала его. Спросила:
— Вы кто?
Он полез в карман за паспортом. Она сердито сказала:
— Перестаньте! Я врач, а не милиционер. Зовут меня Полина Александровна.
— Меня звали Юрием Петровичем. Был архитектором.
— Хоть вы и числите себя в прошедшем времени, Юрий Петрович, но я не могу позволить вам окоченеть здесь!
— Позволить или не позволить что-то в отношении меня может только один человек — я сам, — тихо, но довольно зло произнес Каштан.
Он почувствовал, что она обиделась. Ее губы дрогнули и напряглись, а в глазах мелькнул холодок.
В это время из-за поворота на береговой кромке показался крепкий мужчина в морской фуражке и куртке. Он держал за руку девочку лет пяти. Увидев докторшу, моряк посадил девочку на плечо и стал ей громко и весело говорить:
— А ну-ка, дочурка, глянь-ка в бинокль с маяка, не видать ли где-нибудь мамули!
Девочка согнула пальцы в колечки, приставила их к глазам и воскликнула:
— Вижу на горизонте красивую женщину!
— Но ведь наша мамуля — самая, самая красивая из всех красивых! Она ли это?
— Вижу самую-самую красивую из всех красивых!
— Значит, это она! — торжественно провозгласил моряк.
Полина Александровна с ласковой улыбкой уже шла нм навстречу. Она обняла мужа и дочь, и все трое, тесно прижавшись друг к другу, пошли по береговой кромке к поселку.
Вот счастливая семья, с какой-то непонятной горечью решил Каштан. А муж, наверное, спрашивает сейчас докторшу: что это за субъект, с которым она разговаривала?
Каштан почти угадал. Виктор Ковалев, едва они отошли, поинтересовался у жены:
— Откуда взялся этот странный тип?
— На «Аскольде» сегодня приплыл. Совсем больной. Но ни в какую не соглашается идти в амбулаторию.
— Ну, это его личное дело.
— Не могу же я, Витя, допустить, чтобы человек загибался тут, хотя бы и по своей волне. Не имею права.
Ковалев пожал плечами. Он был капитаном траулера и, как все моряки, отдавал предпочтение здравому смыслу. Нелепое поведение больного чудака находилось за пределами логики и поэтому вызывало у него неодобрение.
— Что же ты намерена предпринять, Полиночка?! Принудительные меры?
— Попробую поговорить с его спутниками. Ребята хорошие. Может, помогут. Правда, один из них, бородатый, такой мрачный, сказал мне: «Дайте человеку умереть спокойно». Представляешь?
— Бред какой-то.
Каштан разложил свой мешок, сел в него, застегнулся. подтянул горловину до подбородка, надел колпак и всунул руки внутрь. Он сидел в мешке словно в коконе. Прислонился спиной к коряге, выброшенной на берег морем, и удовлетворенно вздохнул. Не страшен ему холод.
Темень накрыла остров, но в воде Каштан видел какое-то свечение, гребешки волн фосфоресцировали.
Он не думал сейчас ни о болезни, ни о доме, ни о сроке, который ему отмерен, настолько захватила его картина извержения.
Клубы сизого дыма заволокли вершину сопки. И вулкан, словно задыхаясь, начал выплевывать пламя. Казалось, из кратера стреляют «катюши» — огненные пунктиры снарядов прочерчивали небо.
Снова кратер накрывало косматой тучей дыма, и только глухой прерывистый клекот напоминал об адской кухне, работающей в его глубинах. Но вот доносился грохот, и вновь взлетали вверх фонтаны бомб. Из жерла вулкана вырывался столб пламени и раскаленных газов. Летели ввысь рои сверкающих камней и падали на склонах.
Так продолжалось всю ночь.
Каштана поражало это неутомимое клокотание бушующего вещества в недрах Земли.
Как возникают эти бешеные температуры и неистовая энергия, рвущаяся через ствол кратера на поверхность? Непонятно, почему до сих пор на Земле пульсируют огнедышащие скважины и впустую затрачивают свою могучую и яростную силу.
Погруженный в темноту поселок Благодатный мирно спал. Очевидно, люди свыклись с гулом вулкана.
На рассвете из кратера выплеснулись огненные языки и поползли вниз в тучах горячего газа. Потоки лавы застывали на склонах.
Па какое-то время, словно утомившись, Дядя затих. Дым и пепел уносило в океан, на восток.
Каштан забылся. Он проспал часа два. Разбудили его громовые раскаты. Это снова заговорил Дядя. Каштан взглянул туда. Перед ним предстало фантастическое зрелище. В кратере образовалась исполинская трещина. В эту трещину устремилась лава. Раскаленным потоком она стекала по склону, а затем обрушивалась и море. Тучи пара и дыма взметнулись над водой там, где вылилась пылающая масса, и застлали небо. Тягучая мгла накрыла и остров Аракутан. Смрадный запах серы донесся сюда, и Каштан мучительно закашлялся.
5. НАВАЖДЕНИЕ
Мгла рассеялась. Вулкан затих. Студеный ветерок угонял на океанский простор остатки дыма и пепла. Часам к девяти утра небо над Благодатным очистилось.
В поселке начался трудовой день. Работали конвейеры в цехах рыбокомбината, в школе шли занятия, из детского сада слышалось хоровое пение. Из динамиков, укрепленных на столбах на территории комбината, выплеснулись веселые мелодии. Директор предприятия Белых любил по утрам попотчевать рабочих мажорной музыкой, которая, по его мнению, благотворно влияла на производительность труда.
Когда до Каштана, сидящего в своем мешке на правом берегу бухты, донеслись отраженные водой звуки «Чунга-Чанги», он даже улыбнулся. Так необычно было услышать здесь, на краю земли, эту забавную песенку:
…Чунга-Чанга — весело живем, Чунга-Чанга — песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, Жить на нем легко и просто, Жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Чунга-Чанга — места лучше нет, Чунга-Чанга — мы не знаем бед. Чунга-Чанга — кто здесь прожил час, Чунга-Чанга — не покинет нас…Перед Каштаном открывалась отсюда панорама берега — полукружье бухты, здания комбината, разместившиеся у самой воды, склады, бараки, штабеля бочек и ящиков, цепочка домиков.
В глубине береговой дуги, как раз в ее середине, словно рапира, торчал пирс. К нему притулились три рыболовных судна. Сверху над пирсом тремя ярусами громоздились дома. Отсюда хорошо было видно, как причудливым серпантином вьется по склону сопки меж домами улица-дорога, как она подходит к самому верхнему зданию — Дому культуры. Слева от пирса — голый незастроенный склон сопки.
Дорога, ведущая сюда, к правому берегу, была безлюдна.
Парни, приехавшие вместе с Каштаном на Аракутан, не смогли навестить его с утра, потому что их вызвал для беседы начальник флотилии. Разговор был долгий, обстоятельный, очень важный для ребят: решался вопрос, кому на каком судне работать. Однако Слава извелся за время этой беседы, потому что его беспокоил Каштан.
О Каштане тревожилась и врач Полина Ковалева. Направляясь утром на работу, она захватила с собой бинокль. В здании амбулатории часть окон была обращена окнами на бухту. Полина навела бинокль на береговую полосу под базальтовой стеной и обнаружила этого чудака. Он сидел в мешке и смотрел в сторону поселка. Слава богу, хоть жив. Кто их поймет, этих приезжих хлюпиков, чего они хотят, чего ищут?
Полина все же не оставила намерения добиться водворения бледного и тощего архитектора в свою амбулаторию с помощью его спутников. В стационаре у нее было четыре койки, и она могла бы полечить его здесь.
Полина упомянула вечером в разговоре с Каштаном о каком-то нехорошем предчувствии. У нее до сих пор было необъяснимо тяжело на сердце. Сегодня утром она сказала об этом Виктору, и он вдруг признался, что и у него беспокойно и тревожно на душе. Что бы это значило?
Как ни странно, но в это утро было не по себе и директору комбината Степану Кузьмичу Белых. На могучего, темпераментного мужчину вдруг накатило гнетущее чувство тоски.
Выйдя из ворот комбината, он решил подняться наверх в амбулаторию. Хотя Белых никогда раньше не пользовался лекарствами, на этот раз он вознамерился попросить у Полины какую-нибудь успокоительную микстуру.
Белых поднимался по ступенькам, выбитым в конторе, когда его вдруг поразило странное состояние воздуха. Он был плотным и упругим.
Белых повернулся лицом к бухте: ни ветерка, ни плеска волны, ни звука. Мертвая пустая тишина. Жуткое безмолвие.
Степан Кузьмич оторопел. Он решил, что неожиданно оглох.
Так продолжалось несколько минут. Внезапно тишину разорвал многоголосый собачий вой. Надрывно заскулили псы во всех концах поселка. А затем Белых увидел, что из дворов и дверей соседних домов начали выскакивать собаки и кошки. Не обращая внимания друг на друга, они устремлялись куда-то вверх, к вершине сопки.
И вовсе уж остолбенел Белых, когда к этому шествию собак и кошек стали присоединяться и крысы. Они даже обгоняли собак и кошек в этом немыслимом зверином марше.
Несколько жителей, оказавшихся на улице, ошарашенно смотрели на исход животных из поселка.
Тридцать лет провел Белых на Курилах, пережил тут много всякого лиха, но такого чуда нигде не наблюдал. Однако он сообразил наконец, что означала эта зловещая тишина и исход животных.
Директор опрометью бросился обратно вниз на комбинат.
Пробегая мимо здания детского сада, приостановился, распахнул дверь и что есть силы гаркнул:
— Ольга Андреевна! Срочно выводите детей!
Из коридора выбежала женщина в белом халате и недоумением уставилась на директора. Он крикнул:
— Сейчас же! Немедля! Уводите детей наверх, в Дом культуры! Поняли?
— А что стряслось?
— Идет цунами! Не мешкайте!
Перепрыгивая через несколько ступенек, Белых помчался вниз к комбинату.
Он вбежал в свой кабинет, вызвал по селектору напильника флотилии. Затем по громкой радиосвязи распорядился остановить работу конвейеров, потушить котлы, отключить энергию, всем до единого оставить территорию предприятия и отходить наверх, на третий ярус.
Вошедшему начальнику флотилии приказал, чтобы два сейнера и траулер, стоявшие у причала, немедленно покинули бухту и уходили в море.
— Цунами? — спросил Платонов.
— Цунами.
В следующие минуты начальник флотилии уже вызывал по тревоге судовых капитанов с командами.
Директор вызвал командиров спасательных семерок и приказал им взять под контроль эвакуацию людей с предприятия.
Захватив мегафон, Белых вышел во двор комбината, вскочил в кузов грузового кара и велел водителю ехать вдоль протянувшейся по берегу цепочки домов.
Он останавливался около каждого дома и зычно орал в мегафон:
— Внимание! Все до единого уходим наверх! Всем — наверх!
И кар ехал дальше.
Рыбокомбинат опустел. Обезлюдела береговая часть поселку. Жители, словно муравьи, цепочками тянулись по склонам сопки вверх. Воспитательницы провели колонну детей на третий ярус — в Дом культуры. Семеро спутников Каштана во главе с начальником флотилии тащили туда же аварийную радиостанцию. Другая группа несла сейф. Два грузовика везли по серпантину ящики с готовой продукцией комбината.
До Каштана долетали отраженные водой звуки тревоги. Поняв, что происходят какие-то чрезвычайные со-, бытия, он поднялся и медленно зашагал по берегу к поселку.
Над бухтой, над поселком застыла оцепенелая тишина.
С каждой минутой становилось холодней. С неба и с моря наваливалась загустевшая, вязкая стынь.
На окраине поселка Каштану повстречался кар с людьми. Они помогли ему взобраться в кузов. Белых приказал шоферу повернуть к дороге, ведущей на второй ярус.
Единственными людьми, которые не поднимались на сопку, а сбегали вниз по лестнице к пирсу, были моряки, возглавляемые своими капитанами.
С грохотом протопав по настилу пирса, они прыгали на палубы сейнеров. Через некоторое время два сейнера отошли от причала и с рокотом устремились в открытое море. Третье осталось у пирса.
Капитан траулера Виктор Ковалев вместе со своим экипажем тоже спешил на судно.
По по дороге их перехватила заведующая детсадом и слезно попросила моряков помочь: надо было перенести наверх в Дом культуры кроватки и матрасы, а также баки с едой.
Скрипнув зубами, Ковалев распорядился, чтобы его люди помогли эвакуировать детсадовское имущество.
Увидев Виктора в окно амбулатории, Полина сразу поняла, что он — в смятении. Она набросила штормовку и выбежала на улицу. Взяла мужа за руку и мягко сказала:
— Ты не волнуйся, милый. Мы с Леночкой будем отсиживаться в Доме культуры. Она уже там. Ты только не волнуйся. Ладно?
Ковалев кивнул и нервно оглянулся. Его матросы тащили наверх детские кроватки. Капитан подошел к краю обрыва, висящего над пирсом, и с тоской посмотрел на море. Два сейнера были уже далеко.
По серпантину дороги сюда наверх катился с берега кар, в кузове которого стояли люди. Среди них выделялся седоголовый, похожий на полководца, объезжающего войска, Белых.
Махнув директору, Ковалев остановил кар.
Каштан, увидев докторшу, вылез из кузова, подошел к ней, поздоровался и проговорил:
— Я виноват перед вами. Прошу извинить за вчерашнее.
Полина махнула рукой. Ей сейчас было не до Каштана.
Ковалев взволнованно сказал директору:
— Прошу тебя, Степан Кузьмич, поскорей сними моих ребят с эвакуации детсада! Можем не успеть!
Белых удивленно воскликнул:
— Зачем же ты, дурень, дал их? Совсем ошалел! Конечно, сейчас же отпущу! Поехали, Сергей!
Прежде чем кар отъехал, директор мельком глянул на море и вдруг замер. В глазах его вспыхнуло изумление. Он даже слегка приоткрыл рот. Потом проронил:
— Поздно, Виктор… Глянь, что делается!
Все обернулись.
Морс в бухте отступало от берега невероятным отливом, и так стремительно, будто где-то за горизонтом внезапно образовалась гигантская дыра и вода выливается в нее. На десятки метров вдаль уже открылось дно с поникшими лугами водорослей, замшелыми валунами и скоплениями разноцветных ракушек.
Потрясенный этой фантасмагорией, Каштан почувствовал, как у него зашевелились волосы на голове и озноб прошел по спине.
Люди огорошенно. смотрели на уходящее море и молчали. Наконец Белых опомнился и рявкнул:
— Всё, братцы! Скоро шибанет!.. А ну, поехали. Надо всех поднять на третий ярус.
— Ну уж сюда-то никакое цунами не доберется!
— Береженого бог бережет! Поехали!
Директор обернулся к Ковалевым и Каштану:
— Поднимайтесь к Дому культуры! Живо!
Кар умчался на другой конец поселка. У обрыва над лестницей, ведущей к пирсу, остались лишь Ковалевы и Каштан. У капитана от ярости желваки ходили ходуном. Полина цепко держала мужа за руку и с болью смотрела на него.
Море отхлынуло из бухты не меньше чем на километр.
Ковалев не отрывал взгляда от своего судна, пришвартованного к самому дальнему концу пустого пирса. Траулер повис на канатах и царапал килем обнаженное каменистое дно.
Внезапно капитан рванулся к лестнице. Рука жены так и осталась висеть в воздухе.
— Подожди здесь! — бросил на ходу Ковалев.
Полина крикнула вслед:
— Куда ты, Витя? Зачем?
Сбегая по ступенькам вниз, он что-то ответил ей. Она разобрала только слова «надо успеть».
Полина испуганно следила за тем, как Виктор бежит сначала по берегу, потом по пирсу к дальней его оконечности. Вот он уже у своего траулера, прыгает на его палубу, куда-то исчезает.
И в этот момент Полина и Каштан увидели, что море возвращается обратно. Оно вспухло громадным пенным валом, который стремительно и грозно несся к берегу.
Гигантский гребень, в облаке водяной пыли, надвигался с бешеной скоростью на поселок. Слева у комбината он стукнул по штабелям бочек и ящиков, сокрушил их, нанес удар по стене засольного цеха, и здание мгновенно кувыркнулось.
Огромный бурун, несущий обломки домов и льдин, с ревом и грохотом мчался к причалу.
Полина замерла. Обхватив ладонью горло, впилась взглядом в траулер мужа. Ковалев вновь появился на палубе недалеко от борта. Но стена кипящей воды могуче шибанула по траулеру. Судно подскочило вверх, тросы лопнули, один из них с силой ударил Виктора в спину и сбросил в волну. В какой-то миг мелькнули в воздухе его ноги в сапогах и исчезли в пенном водовороте.
Каштан обомлел. Все случилось с непостижимой и страшной быстротой, и он не сразу осознал, что на его глазах произошла трагедия.
Глаза у Полины стали безумными. Крикнув «Витя!», она рванулась к лестнице. Но Каштан успел схватить ее за капюшон штормовки.
— Пусти! — отчаянно крикнула она.
Но Каштан, напрягаясь изо всех сил, продолжал ее удерживать.
На берег с неистовым гулом надвигался новый вал. От его удара содрогнулся пирс. Подбросив траулер, упругая волна понесла его на гребне к правому берегу бухты и там что есть мочи долбанула о базальтовую стену. Судно рассыпалось.
Юрий чувствовал, как Полину колотит дрожь. Однако лицо ее словно окаменело.
Каштан увидел, что новая волна грохнула по баракам, смяла их в гармошку и понесла к откосу, сорвала несколько домов и потом мощно ударила по склону сопки, почти достигнув яруса, на котором стояли они с Полиной. Их обдало холодными брызгами.
Затем так же стремительно вал, урча, откатился назад, словно готовясь для нового разбега.
Когда волна отхлынула, стало видно, что пирс как-то нелепо вывихнуло. Его средняя часть вздыбилась веером. Балки, рельсы и доски торчали будто перья изогнутого птичьего крыла. Примыкающая к берегу секция скособочилась и все еще вздрагивала.
Внезапно Полина рванулась к лестнице, и Каштан не смог ее удержать. Она сбежала по ступенькам, а он растерянно смотрел ей вслед. Увидел, что Полине каким-то чудом удалось пробежать по изуродованному пирсу в самый его конец, туда, где возвышался настил причальной площадки для траулера.
— Сошла с ума, — с тоской сказал Каштан, — какого черта ей там понадобилось?!
Полина поднялась на площадку и, упав на колени у края настила, наклонилась и стала всматриваться в воду.
Столько отчаянья и безысходности было в позе женщины, что сердце у Каштана сжало болью.
А в бухту ворвался новый вал и тараном обрушился на каменную отвесную стену правого берега. Скала отразила удар, волна откатилась и, мощно стеганув по пирсу, окончательно развалила и увлекла за собой его обломки.
По счастливой случайности осталась невредимой только причальная площадка на оконечности пирса, где все еще видна была согнувшаяся женская фигурка.
Полина, видимо, не заметила, что участок пирса, на котором она находилась, превратился в островок, окруженный водой. Она не обращала внимания на волны, перехлестывающие через площадку.
Каштан оглянулся: вокруг не было ни души. Все ушли на третий ярус. Его охватило отчаяние, жалость и злость. Юрий понял: еще одна атака океана — и молодая женщина погибнет. Этого нельзя допустить! Надо что-то сделать! Немедленно!
Он с яростью думал о своей мерзкой слабости и беспомощности. Если он бросится сейчас в ледяную воду, то не проплывет и трех метров. Это не большая беда — он все равно загнется не сегодня, так завтра. Но ведь надо спасти Полину! Вот-вот нагрянет новый вал.
Каштан даже застонал от ощущения безнадежности. Снова оглянулся — никого.
Юрий снял и положил на землю пальто. Сел на него и принялся стаскивать ботинки. Стащил. Поднялся, Сбросил тренировочную куртку. Остался в свитере, спортивных брюках и носках. Спустился к воде. Будь что будет — днем раньше, днем позже.
Он зашел в воду и поплыл. В то же мгновенье ледяными тисками сжало грудь, перехватило дыхание. В голове замельтешили сумбурные обрывки мыслей, диких, бредовых, вспышками замелькали какие-то образы, нездешние, странные… Задыхался, хрипел, но все же плыл. Немыслимо! Не тонул, не захлебывался…
Конечно, это безумие, что он бросился в воду… Ну и черт с ним, пусть безумие!.. Доплыть бы до Полины!
Холод жалил тело, но Каштан продолжал плыть. Снова и снова суматошная мельтешня в голове, словно бегут кинокадры: он с Маринкой в парке на чертовом колесе. А вот он диплом защищает… Тетка из Загорска оладьями кормит. Хор девочек пост «Чунгу-Чангу»… Чушь собачья!..
А он все еще плыл, и островок с Полиной хоть и медленно, но приближался.
Тела своего Каштан не чувствовал. Оно онемело от обжигающего холода. Однако руки и ноги почему-то двигались.
Площадка едва выступала над водой. Каштан подплыл к ней и услышал, как вскрикнула Полина. Глазами, полными ужаса, она смотрела на него.
Каштан ухватился за край островка. Накатившая волна помогла ему выбраться на площадку. Задыхаясь и дрожа, он вполз на настил. С трудом отдышавшись, проговорил:
— Раздевайтесь!
Полина молча смотрела на него. Тогда он со злостью стал стаскивать с нее штормовку. Снял и отшвырнул. Потом стянул сапоги и приказал:
— Юбку снимите!
Она не сводила с него оцепенелого взгляда. Юрий хрипло выкрикнул:
— Плыть надо! На берег! Здесь утонете! Скорей, пока нет волны!
Каштан стал подталкивать ее к воде. Но она была почти невменяема:
— Никуда не пойду! Останусь здесь! С ним! Оставь меня! Уходи прочь!
Хлестануло небольшой волной, окатило обоих. Он с ожесточенностью сказал:
— Идиотка!.. А дочка?!
И, ухватив Полину левой рукой за кофту, стащил ее в воду. Она покорилась, и он поплыл, загребая правой рукой.
Каштан взглянул на берег, казавшийся бесконечно далеким. Он ничуть не приближался. Непонятно. Может, их сносит назад?
Юрий чувствовал, как окоченели спина и ноги, и все же продолжал упрямо плыть и тянуть за собой безвольно обмякшую женщину.
На них накатила волна и подбросила. Волосы Полины разметало в воде, а кофточка, за которую тянул Каштан, лопнула. Пришлось схватить Полину за волосы. Он крикнул ей в самое ухо:
— Возьмись покрепче!
— Что?
— Обхвати меня! — заорал он, моментально хлебнул жгуче-горькую воду и судорожно закашлялся.
Но Полина вдруг послушалась, крепко обхватила его и даже стала грести свободной рукой. Он отпустил ее волосы.
Позади послышался глухой звук, похожий на рев разгневанного быка. Вот оно! Краем глаза Каштан увидел высоченную водяную стену, блестевшую, как бутылочное стекло. Она надвигалась с устрашающей скоростью. Прежде чем стена настигла их, Каштан успел обнять Полину.
Их взметнуло ввысь на кипящем гребне могучего вала, закрутило, ударило. Однако они не разжали рук даже в те отчаянные секунды, когда на вершине водяной стены обоих стремительно несло к берегу, а затем швырнуло на пологий склон сопки, голый и каменистый.
Оглушенные, они потеряли сознание.
Глядя с крыши Дома культуры на эту самую свирепую и мощную из всех волн, ворвавшихся в залив Аракутана, Белых только и смог ошарашенно выдохнуть:
— Елочки зеленые! Вот это чудище!
Степан Кузьмич наблюдал с душевной болью за разгулом стихии. Комбинат был наполовину разрушен. Волны продолжали, хоть и с меньшей силой, упрямо бить по берегу. Набегающие валы с остервенением колотили по косогору и базальтовой стене, размалывая в щепки сорванные и унесенные дома.
Белых увидел в бинокль на незастроенном склоне сопки, среди выброшенных морем льдин, бочек, обломков пирса, две неподвижные человеческие фигуры. И он немедленно послал туда спасательную группу.
6. ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА ЕСТЬ
Голый каменистый остров, безлюдный и безмолвный.
Над ним белесое небо, а в небе — тусклое солнце с неровными краями.
…Было невыразимо тяжко карабкаться на каменистый берег. Каштан сорвался вниз, в какой-то омут, заросший ряской. Но вновь упрямо полез по острым выступам камней, вскрикивая от боли и задыхаясь от напряжения. Вылез.
Он был один, совсем один на этом острове. Какая же это мука — быть одному!
Ощущение одиночества тисками сжимало сердце. Оно не оставляло Юрия и в первые минуты после того, как вернулось сознание. Это случилось на третьи сутки после бедствия. Очнувшись на койке судового медпункта, Каштан с трудом освобождался от вязкого кошмара и беспамятства. Не мог понять, где он, отчего болит все тело.
Уже позлее узнал от судового врача, лечившего его и Полину, что цунами натворило много бед не только на Аракутане, но и на других островах Курильской гряды. Морские суда, находившиеся в районе бедствия, меняли курс и спешили к островам, чтобы вывезти на материк раненых, больных и потерявших кров.
Юрия Каштана и Полину Ковалеву доставили на борт теплохода «Брянск», который совершал регулярные рейсы к побережью Приморского края.
Доктору с «Брянска» достались тяжелые пациенты. У Полины начался жестокий плеврит. У Каштана, как ни удивительно, не было и намека на простуду, он не схватил даже насморка. Однако сотрясение мозга, временная глухота от контузии, трещины в ребрах и ключице составили набор, способный озадачить любого врача.
Тело Юрия было пестрым от кровоподтеков и ссадин. По выражению доктора, его пациент представлял один сплошной синяк. К тому же врач был обескуражен худобой Каштана, его изможденным видом и бледностью.
Из-за того, что у Юрия мучительно ныли спина и грудь, ломило голову, ему давали болеутоляющие и успокоительные препараты. Большую часть пути он проспал и не запомнил морского путешествия.
Пунктом назначения сухогруза «Брянск» была бухта и портовый поселок Светлана. Когда-то давно, еще в школе, на уроках географии Каштану запомнилось название этой бухты, соседствующей с другими приморскими заливами и поселками — Ольгой, Владимиром и Валентином. Думал ли он, что его забросит когда-нибудь в эти места!
К небольшому чистенькому поселку Светлана подступала с трех сторон тайга. Больница, куда поместили пострадавших от цунами, тоже оказалась чистой и даже уютной.
В травматологической палате Каштан лежал один. Здесь стояла другая койка, но она пока пустовала.
Полину поместили в кабинет врача, а дочь ее Лену определили в дом к сестре-хозяйке.
Слух вернулся к Каштану довольно быстро.
Как ни досадовал Каштан, что злой рок вновь загнал его в больницу, приходилось пока мириться с этим. К тому же после нескольких недель пребывания здесь он почувствовал потребность поразмышлять в тиши и покое над некоторыми странностями его нынешнего бытия. Часами лежал он и думал о причудах судьбы.
Прежде всего он не мог уразуметь, каким образом ему удалось выйти живым из этой немыслимой передряги? Почему его не скрутило в ледяной воде? Откуда вдруг взялись силы для безнадежного заплыва? Непонятно. Загадочно.
Но этого мало. Уже здесь, в Светлановской больнице, по прошествии месяца, он почувствовал, что исчезло ставшее привычным, мерзкое ощущение немощи, которое так изнуряло его раньше.
Появился аппетит. Когда поднимался и бродил по палате, ноги уже не дрожали по-стариковски. И он не задыхался, как прежде, от напряжения. К тому же Каштан пополнел.
Он удивлялся — куда смотрят бациллы, превратившие его легкие в решето? Уж слишком неожиданно столкнула его жизнь с этой непостижимой загадкой.
А другой загадкой была Полина.
Почти месяц ее мучили жестокий кашель и высокая температура. Но едва лишь состояние Полины улучшилось, как она стала наведываться в палату к Каштану.
Его смущало трогательное и робкое внимание этой подавленной горем женщины. Полина приходила, садилась на постель и подолгу молча смотрела на него.
Странен был этот взгляд. В нем угадывалась не только тоска и горечь, но и нежность.
Каштан понимал, что Полина испытывает естественное чувство благодарности к человеку, ее спасшему. Но его натура отчаянно сопротивлялась любому проявлению такой признательности. И когда Полипа, упрекая за го, что небрит, ласково проводила пальцами по его щеке, Каштану становилось не по себе.
Болезнь вымотала Полину. Однако на осунувшемся лице еще огромнее казались ее серые глаза. И даже в мешковатом больничном халате, с распущенными по плечам шелковистыми волосами, была Полина привлекательна и женственна. Каштану не доводилось, пожалуй, встречать женщину, которую бы природа так же щедро одарила и обаянием и красотой. Но это отпугивало его и стесняло.
Каштану все более становилось ясно, что развитие его болезни приостановлено. Хотя он не мог взять в толк, каким образом это произошло. В памяти вновь всплыло старинное выражение «Тайна сия велика есть». Только на этот раз оно приобретало совсем иной смысл.
Глянув как-то на Каштана, Полина удивленно сказала:
— А ты, оказывается, видный мужчина, Юра. А ведь похож был на старика. Сейчас выпрямился и стал вдруг статным, пригожим парнем.
Полина раздобыла ножницы и довольно сносно подстригла его. Она подарила Каштану бритвенный прибор и мягко, но настойчиво попросила ежедневно бриться.
Через несколько дней, удовлетворенно разглядывая его. она сказала:
— А ведь тебе, Юра, пошло на пользу это купание.
Это был единственный случай, когда Полина упомянула о происшедшем. Раньше она ни слова не говорила ни о гибели мужа, ни о своем спасении.
Впрочем, как-то произошел нелепый разговор, даже ре разговор, а обмен репликами. Полина заметила, что Каштан украдкой любуется ее волосами, и тихо спросила:
— Удивляешься, что не выдрал их, когда тащил меня за волосы к берегу?
Он смутился и буркнул:
— Простите.
— За что? — удивилась Полина.
— За то, что поступил тогда варварски.
— Ты это серьезно?
В глазах ее словно вспыхнул свет. Полина смотрела на Юрия так, что его взяла оторопь, и он отвел взгляд.
Непонятные складывались отношения. Непонятные.
Полина называла его на «ты», а он ее на «вы». Она продолжала неназойливо, но упорно опекать Каштана. А его чем дальше, тем сильнее мучила такая опека, потому что с каждым днем сильнее захватывало обаяние этой женщины.
Но если бы даже Каштан был здоровым, крепким мужчиной, свободным в своих поступках, то и в этом случае напрочь исключался для него любой намек на какое-то сближение. Тут сама жизнь поставила неодолимую преграду.
На глазах у Каштана произошла трагедия. Видение погибающего мужа Полины до сих пор преследовало его.
Он пытался избегать Полину. Но как это сделаешь в больнице? Она приходила к нему, пленительно женственная, излучающая теплоту и добросердечность. Рука не поднималась оттолкнуть ее, язык не поворачивался нагрубить ей.
Однажды, соблазненный ясной весенней погодой, Каштан вышел на больничную веранду. Он зажмурился от ослепительного солнечного света, вдохнул с наслаждением таежный воздух. И долго стоял, задумчиво глядя на лесные дали и видимый отсюда кусочек синего морского пространства.
Подошла Полина, положила руку ему на плечо. Молча стояла совсем близко. От легкого, едва ощутимого прикосновения женщины чаще заколотилось сердце. Стараясь унять дрожь в голосе, Каштан спросил Полину о Леночке.
Она негромко проговорила:
— Дочка тоскует по дому. А я не в силах, Юра, объяснить ей, что того курильского дома больше не существует…
— У меня ведь тоже дочка, — проронил Каштан. — Ей скоро семь лет.
Полина помолчала, потом тихо спросила:
— Родные знают о твоих похождениях?
Он отрицательно помотал головой. После долгой паузы она вновь негромко спросила:
— И когда же ты вернешься к дочке?
— Это невозможно. И дочка, и ее мама — совсем в другой жизни. На другой планете. Меня нет в живых, Полина.
Она медленно провела пальцами по его шее, вздохнула и ласково сказала:
— Эх ты, непутящий.
— Непутевый?
— Нет, именно непутящий. Так говорила бабушка.
Его волновал и голос Полины, и аромат ее волос.
Каштан злился на себя за. то, что замирает от присутствия этой женщины. И он твердо сказал себе, что с этим надо решительно кончать. Больницу придется покинуть.
И на этот раз судьба благосклонно пошла ему навстречу.
В палату, где лежал Каштан, поместили второго пациента, Кондрата Игнатьевича, бывалого таежника лет шестидесяти. В больнице он оказался, по его словам, «по чистой дурости». Во время перехода через горный кряж Кондрат Игнатьевич попал под камнепад, и его крепко побило. Он на себя был зол, поскольку считал, что истинный дальневосточник не имеет права на промашку, обязан вовремя угадать осыпь.
Кондрата Игнатьевича часто навещал шестнадцатилетний племянник Кеша. Оба они нравились Каштану своей доброжелательностью, каким-то врожденным естественным дружелюбием.
Каштан часами беседовал с умудренным жизнью человеком.
Только однажды он рассердился на таежника, когда тот сказал о Полине:
— Крепко она тебя любит, парень.
Каштан оторопел, помолчал, потом пробормотал:
— Грех вам такое говорить, Кондрат Игнатьевич. У женщины горе. Муж погиб на ее глазах. Она до сих пор — в шоке. А вы про нее…
— Чего ты вскинулся? Я же вовсе не в упрек ей, что она тебя полюбила. Жизнь, брат, всякие извороты преподносит. И никакой тут вины ни у нее, ни у тебя нету.
— Прошу вас, Кондрат Игнатьевич, не будем на эту тему…
— Эк тебя заело! Ладно, успокойся. Понял я, Петрович, что тебя надо срочно уводить в тайгу.
— Поскорей бы! — воскликнул Каштан.
Была у Кондрата Игнатьевича с собой фляга с настойкой женьшеня. Он заставлял Каштана дважды в день выпивать по рюмочке целебной жидкости. Кондрат Игнатьевич всю свою жизнь ходил в тайгу. Был он тигроловом, сборщиком женьшеня. В последние годы возглавлял сезонные бригады заготовителей коры бархатного дерева. Вот Каштан и должен был подрядиться на летний сезон в такую бригаду корозаготовителей.
До сих пор он не признавался ни врачам, ни Полине, что болей туберкулезом. На его удачу, больничный рентгеновский аппарат сломался, и целых два месяца Каштан был избавлен от просвечиваний, которые вызывали у него физическое отвращение. Но вот в самом конце мая аппарат отремонтировали.
Хочешь не хочешь, а надо было идти сдаваться.
Хозяином рентгеновского кабинета был почтенного возраста врач-фтизиатр Аркадий Антонович, которого все звали просто Антонычем.
Каштан пришел к Антонычу и, стараясь унять лихорадочное биение сердца, выложил ему всю правду о своей болезни. Антоныч, расспросив Каштана о ходе лечения, о медикаментах, которые применялись врачами во время его пребывания в туберкулезной больнице, проговорил:
— Насколько я понял, вас лечили всеми ныне известными лекарствами, но безрезультатно?
— Да.
— Ну что ж. Давайте глянем на ваши заслуги и достижения. Раздевайтесь.
Антоныч, посапывая и похмыкивая, всматривался в экран. Стиснув Каштана старческими шершавыми ладонями, крутил и вертел его, поворачивал то боком, то спиной, требовал делать вдохи и выдохи. Наконец спросил:
— Вы не запомнили, часом, когда делали последний снимок ваших легких?
— Запомнил. В первой декаде марта. Перед консилиумом.
— Ага. А не в курсе вы, что именно определил консилиум?
— В курсе. Определили активный распад с обильным выделением палочек. Гематогенная диссиминация всего правого легкого. На снимке оно выглядело как дуршлаг. Слева — верхняя доля тоже покрыта свежими инфильтратами…
— Одна-ако, — протянул рентгенолог, — отовариться вам удалось по высшему разряду.
— А чего мелочиться, Аркадий Антонович.
Антонии усмехнулся. Выключил аппарат и сказал:
— Одевайтесь.
Он сидел ссутулившись, похожий на старого воробья. Задумчиво бормотал:
— Любопытно, очень любопытно. Второй в моей практике случай… И снова — экстремальная ситуация.
Когда Каштан оделся, Антоныч встал, взял его под руку и повел из кабинета в коридор.
— Ну так вот, — сказал он, — ваши легкие уже не похожи на дуршлаг, дорогой мой. Ибо дырок больше не существует.
— То есть как? — растерянно спросил Каштан. — Куда ж они могли подеваться?
— Понимаю, Юрий Петрович, вам они дороги. Но что ж делать, если процесс самоликвидировался. Мы, разумеется, проведем многократные и тщательные исследования мокроты. Но я почему-то убежден, что палочек не обнаружим.
Каштан был огорошен.
— Но разве так бывает? — спросил он.
— В редчайших случаях. На моей памяти только одна такая история. В Газли во время землетрясения засыпало некоего Рыкунова, бациллярного туберкулезного больного. Двое суток пролежал, понимаете, засыпанный под обломками дома, со сломанными ребрами, ключицами и рукой. Откопали. Ожил. Через два месяца исследуем и видим — процесс прекратился. Человек выздоровел.
— Чудеса! — помотал головой Каштан. Он не мог прийти в себя от изумления.
— Ну какие же чудеса. Мне Полина Александровна рассказывала немного о вашей эпопее. Экстремальная ситуация. Чудовищная встряска. Пошли в ход неведомые резервы организма. Вы оказались, голубчик, у той самой красной черты, когда — либо-либо… Лотерея… Вы — везучий?
— В том-то и дело, что — нет. Невезучий я.
— Ну, стало быть, назовем это по-старомодному, перстом или даром судьбы. Вам выпал редкий жребий. Не упускайте его. Набирайтесь сил. Набирайтесь мощи. У вас впереди — вторая жизнь.
Каштан пришел в палату взбудораженный. Кондрат Игнатьевич спросил его:
— Чего раскраснелся, парень?
Услышав новость, обрадовался:
— Выходит, это студеной купелью, не иначе, перешибло твои микробы. Не выдюжили они — сдохли. Это правильно. Теперь надо в тайгу податься, чтобы ты соками налился. Понял? Чтобы больше тебя никакие хворобы не брали. Как только выйду отсюда, тебя забираю — и на все лето. Пойдешь?
— Ну, конечно, пойду! Непременно. Спасибо, Кондрат Игнатьевич!
— До чего вежливые вы, городские, аж в ребрах щекочет, — проворчал таежник.
Неожиданное свидетельство рентгеноскопии привело Каштана в смятение. Он провел бессонную ночь. Неужто жизнь продолжается? Если рентгеновский аппарат не врет и если анализы окажутся благополучными, это будет означать… Невероятно! Чудес не бывает. Но это похоже на чудо… Что же делать дальше? Возвращаться к семье и к работе? Но при одной только мысли об этом тоска хватает за сердце. Чахотка вспыхнет с новой силой. И уж тогда никакого чуда не произойдет. Оно случается, наверно, раз в сто лет.
Надо воспользоваться этим уникальным исцелением, если только оно и в самом деле произошло, и удержать его. Удержать во что бы то ни стало. Закрепить. Думать только об этом и заниматься только этим. Набираться мощи, как сказал Антоныч. Оздоровить, промыть каждую клеточку и молекулу организма. А уж потом решать, что делать дальше.
Он верил и не верил. И все-таки больше верил, потому что и впрямь чувствовал себя с каждым днем бодрее.
После всего испытанного, после того, как он побывал на самом краю бездны и заглянул в нее, одна только мысль о возвращении к прежнему бытию казалась ему нелепой и ужасной. Если жизнь продолжается, то она должна стать иной. Он еще не знает, какой именно, но совсем другой. Подаренные ему годы будут наполнены подлинной жизнью, а не постылым, никчемным существованием.
Он лежал без сна, но это не изнуряло его.
И снова, как в давние годы, звучала в нем мелодия старинного вальса «Ожидание», который он всегда так любил. Он вслушивался в нежный, волнующий мотив, и в нем нарастало желание жить.
Предчувствие светлого, радостного часа заполняло и будоражило его…
Каштан покидал Светлановскую больницу со смешанным чувством радости и горечи.
Радость принесли результаты исследований, проведенных специалистами тубдиспансера. Антоныч оказался прав: туберкулеза у Каштана больше не было.
Травмы, полученные на Аракутане, залечены. Он мог отправляться на все четыре стороны и выбирать какой ему заблагорассудится образ жизни.
Чувства же печали, тревоги были связаны с думами о Полине. Он ничего не рассказывал ей о своих лечебных делах, о намерении уйти в тайгу, не делился планами дальнейшей жизни. Зачем? У нее хватает своих дум и сомнений. Она стоит на распутье, пытается определить, как им с Леночкой жить дальше.
С помощью Кондрата Игнатьевича Каштан оформился на работу в бригаду заготовителей коры бархатного дерева.
Накануне выписки он увидел в больничном саду Полину с дочерью и подошел к ним. Он малодушно умолчал о том, что покидает больницу. Однако Полина почувствовала его волнение. За все время разговора она не сводила с Каштана своих внимательных вещих глаз. Взгляд Полины был тревожен. Проницательность ее удивительна.
Каштану невольно вспомнилась самая первая их встреча на Аракутане. Вот такое же напряжение светилось в ее глазах. Полина говорила тогда о предчувствии беды. И беда пришла.
Он так и не решился сказать Полине, что прощается с ней навсегда.
И лишь самому себе он мог признаться, что убегает от женщины, с которой столь причудливо свела его судьба, что его колдовски тянет к ней и что этой напасти необходимо положить конец.
7. ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКА СООБЩАЮТ…
Непостижимый, дикий поступок умирающего мужа не укладывался в сознании Ани.
На смену растерянности, недоумению пришли и обида, и гнев, и тревога. То, что совершил Юрий, противоречило здравому смыслу, привычным понятиям, принятым нормам человеческого общения.
Первую ночь после нелепого бегства мужа Аня пропела без сна. Мысли ее путались, она не знала, как же ей поступить. В своей записке Юра просил не искать его. Но разве можно примириться с тем, что человек примет смертный час вдали от родных, от крова, от знакомых и коллег?
Аня пришла к выводу, что муж поступил непорядочно, поставив ее в странное и унизительное положение. И она как жена должна незамедлительно действовать, чтобы вернуть Юрия домой, изменить эту позорную ситуацию. Пусть тяжко, пусть трагично, но все должно быть, как принято у людей.
И Аня начала действовать. Сначала она поехала в Загорск, к Юриной тетке. Ане казалось, что мужа она найдет там. Юры в Загорске не было, но тетя Зина, выйдя из состояния шока, горячо поддержала намерение Ани разыскать мужа.
— Что же, он должен подыхать, как собака бездомная, невесть где?! Не допустим! Будем искать!.. Ему небось болезнь в голову ударила…
Съездила Аня и к своим родителям в Подольск — посоветоваться, как поступить.
Мнение матери и отца было единодушным: искать. Далеко он уйти не мог. Надо с помощью милиции опросить больницы.
Несколько дней Аня занималась поисками. Ни в больницах, ни в моргах, ни в гостиницах, ни на вокзалах Каштана не оказалось.
Капитан милиции Турчан, который занимался этим делом, спросил Аню:
— А может, ваш муженек сел в тот вечер на поезд и укатил в теплые края?
— Такого просто быть не могло! — сердито воскликнула она. — Я же объясняю вам, что он едва ходил. Ему и до вокзала-то не хватит сил добраться. Да и денег у него нет. Такое и в голову не придет.
— Эх, гражданочка, — вздохнул капитан, — много вы знаете! Людям такое в голову приходит, что диву даешься. Уж нам-то это известно…
Потом мягко проговорил:
— Вы же видите, Анна Сергеевна, в городе ваш супруг не обнаружен. Нет его — ни живого, ни мертвого…
— Надо искать.
— Хм. Легко сказать — искать.
Капитан Турчан, поразмышляв пару минут, спросил:
— Так вы говорите, что паспорт он захватил с собой?
— Да, взял.
— Ага. Это уже интересно.
— Что же тут интересного? — не поняла Аня.
— Давайте так, Анна Сергеевна. Мы розыск продолжим. А вы, если супруг ваш объявится, немедленно дайте мне знать. Договорились?
В результате проведенного розыска милиция установила, что гражданин Каштан Ю. П. числился среди пассажиров авиарейса Москва — Петропавловск-Камчатский.
Когда капитан Турчан сообщил Ане, что муж ее улетел на Камчатку, она испытала потрясение. В оцепенении, долго не могла произнести ни слова. Наконец с большим трудом выдавила:
— Зачем?
Капитан, пожав плечами, сказал:
— Я же говорю вам — граждане способны на немыслимые фокусы… А вы мне не верили… Так что будем предпринимать? Розыск продолжать?
Аня кивнула.
Она провела несколько дней в полном смятении. Ее мучили вопросы: как Юра мог найти силы для такого путешествия? Откуда у пего взялись деньги на поездку? Зачем он это сделал? Но ответа на эти вопросы она так и не нашла.
Милиция продолжала розыск. Коллеги в Петропавловске установили, что Каштан находился в числе пассажиров теплохода «Аскольд». На этом его след и обрывался. На все запросы о нахождении Каштана милиция Курильских островов при всем желании ответить не могла. Этот гражданин не числился нигде — ни живым, ни мертвым.
Капитан Турчан сказал Ане:
— Эвон куда махнул ваш благоверный. Прыткий товарищ! А вы говорили — больной, на ногах не стоит. Ничего себе — хворый!..
— Поверьте же, он умирал. Я покажу вам выписку из истории болезни.
Капитан покрутил головой:
— И история странная, и болезнь. Прямо скажем.
Помолчав, он сказал:
— Ну ладно. Вы новое заявленьице оставьте. Где-нибудь да объявится. Мы вам сообщим. На алименты будете подавать?
— О чем вы говорите?! — вспыхнула Аня, — Какие алименты?!
— Я к тому, что муж ваш — в бегах. А вот отчего в бегах, это нам пока непонятно.
Аня разрыдалась.
И капитан Турчан, следуя принятой традиции, подал ей стакан воды.
8. В ЧЕМ КОРЕНЬ ЖИЗНИ!
Хоть и в шутку говорил Кондрат Игнатьевич, что таежный воздух способен и мертвого поднять на ноги, однако ж была в его словах и доля правды.
Даже в начале похода Каштан заметил, как ощутимо нарастает в нем бодрость. Воздух, который он с наслаждением вдыхал во время странствия по лесам, и впрямь казался живительным. И был он то горьковато-смолистым, то душистым и невесомым, то густым, терпко пахнущим лимоном, то пряным, напоенным ароматами неведомых трав, цветов и деревьев.
Неспешно и неназойливо вводил Кондрат Игнатьевич своего спутника в удивительный мир тайги.
Впервые в жизни Юрий ощутил теплое дыхание леса и понял, что лес — живой, что у него бывает разное настроение, а у деревьев — неодинаковые характеры. Одни стояли в глубокой задумчивости, в них угадывалась умудренность. Другие были легкомысленны, озорны или даже кокетливы.
А вот чтобы познать жизнь, характеры и повадки обитателей тайги так, как изучил их Кондрат Игнатьевич, нужны были годы. Каштан это понимал. Шли по царству зверей, однако увидеть их было непросто. Свежие следы тигра и медведя, изюбра и кабана говорили, что животные совсем рядом. Но, словно по молчаливому соглашению, хозяева леса не показывались.
Только птицы не прятались. По утрам Юрий с наслаждением слушал звуки леса. Свистели, пищали, курлыкали, куковали, трещали, хоркали таежные пичуги.
Каштан отправился в тайгу взбудораженным, охваченным противоречивыми чувствами. Но уже в первые дни, когда бригада заготовителей коры шагала известными ей тропами к местам зарослей амурского бархата, постепенно улетучивались и назойливые мысли, и душевные сомнения. Все его существо жадно впитывало эту лесную жизнь, и она вытесняла из сознания прошлые невзгоды и переживания.
Ему запомнилось пробуждение ранним утром после первой ночевки в тайге. Он лежал на мягком мхе и смотрел, как восходящее солнце пронизывает рощу, многоцветно играет, искрится в каплях росы, покрывшей все вокруг. Медью отсвечивали кедры. Сияли гроздья оранжевых ягод лимонника, голубели на воде лотосы. Покачивались высоченные, похожие на пальмы чозении, и сплетения лиан выгнулись вычурными мостами.
Из-за дерева выглянула ушастая мордочка пятнистого олененка. Глазами, полными изумления и любопытства, юный олень смотрел на людей.
У Юрия от радостного волнения гулко колотилось сердце.
— Хуа-лу! — раздался голос Кондрата Игнатьевича.
— Что? — не понял Каштан.
— Хуа-лу — значит «олень-цветок».
Олененок вдруг подпрыгнул и, смешно взбрыкивая копытцами, убежал за деревья.
В двух шагах от Юрия появился бурундук. Зверек настороженно смотрел на людей. Черные блестящие глаза остановились на Каштане. И когда тот поднял руку, чтобы приветствовать зверька, бурундук мгновенно шмыгнул под кедровый корень.
Каштан рассмеялся. Рассмеялся впервые за много месяцев.
И снова бригада шла через тайгу. Она одолела горный кряж и быструю реку.
К концу дня Кондрат Игнатьевич подстрелил из карабина кабана. (Бригаду снабдили лицензиями на отстрел животных — для питания.)
Вечером, устроившись на ночлег, разожгли костер. Кабанью тушу жарили на вертеле. Пурпурное пламя с хрустом пожирало нарубленные сучья и чурбаки.
В темном небе над головой высились чозении. Покачиваясь, они закрывали то одну звезду, то другую.
Слышался звон ручья, прыгающего по камням.
Юрий сидел у костра рядом с товарищами по бригаде, смотрел на языки огня, слушал неторопливый говор таежников, и на душе становилось тепло.
На следующий день достигли зимовья, которое издавна служило базой для кородеров. Сюда они будут доставлять заготовленную кору амурского бархата.
Длинное бревенчатое строение, обнесенное бревенчатым же забором, стояло на берегу ручья, среди густых зарослей черемухи, чозении, папоротника. Здесь путники помылись, поели, хорошо отдохнули перед трудовым днем.
Каштан был одет так же, как и остальные члены бригады. Контора выдала спецодежду — противокомариные куртки, рубашки, рукавицы и панамы, а также высокие непромокаемые сапоги. Не будь этой одежды, сшитой из особой ткани, отпугивающей комаров и мошкару, таежникам пришлось бы туго. Над людьми, особенно по вечерам, назойливо вились остервенелые, жаждущие крови комариные армады.
Под руководством Кондрата Игнатьевича Каштан осваивал новую профессию — учился с помощью деревянной лопатки аккуратно раздевать бархатное дерево. Снятая со ствола кора действительно напоминала светло-серый бархат, была такой же мягкой и чуть шероховатой. Бархатные деревья выглядели на редкость элегантно. Изящный ствол венчала пышная крона изумрудных листьев с желтыми цветами.
Поначалу Каштану казалось надругательством обдирать стволы этих красавиц, оголять и уродовать их. Однако Кондрат Игнатьевич успокоил его. Он объяснил, что бархатное дерево за пять лет снова наращивает кору и становится даже лучше, чем прежде. Когда же Каштан поинтересовался, кому и зачем нужна эта кора, Кондрат Игнатьевич заметил:
— А это ты у Кешки должен спросить. Он все знает.
И Кешка, словно цитируя учебник, отчеканил:
— Кора бархата не проводит электричества, не пропускает холода, воды и звука. Благодаря этим своим уникальным качествам используется в особых видах промышленности.
В бригаде, кроме Каштана, Кондрата Игнатьевича и Кеши, трудились еще семеро рабочих. Пятеро мужиков из таежного села Удина носили одинаковые фамилии — Овчинниковы. Это были молчаливые работяги, опытные кородеры. Без лишних слов и суеты они делали свое дело. Работали ритмично, спокойно, добросовестно. Овчинниковы были опрятны, вежливы, нетребовательны. Они не курили, не жадничали во время еды, не сквернословили. У Каштана эта пятерка вызывала. огромное уважение.
А вот к двум другим членам бригады — Жерехову и Коруне — Каштан испытывал неприязнь. Кондрат Игнатьевич тоже досадовал, что к ним в бригаду затесались эти, как он выразился, штукари. Оба дружка пришли из поселка Чага. И в кородеры определились лишь для того, чтобы порыскать по тайге в поисках женьшеня. И Коруна и Жерехов отлынивали от работы и целыми днями шныряли по южному склону сопки, вдоль ручья и распадка, высматривая среди трав и кустарников яркую головку редкого растения. При этом они мародерствовали: находили и выкапывали чужие корни, над которыми поставлена была метка с условным знаком. Опытные корневщики оставляли растения дозревать, с тем чтобы вырыть через несколько лет полноценный, налитый целебными соками панцуй. По законам тайги такой корень никто не имел права выкапывать.
Кондрат Игнатьевич пришел в ярость, узнав о мошенничестве двух прощелыг. Он помнил еще те времена, когда закон тайги был беспощаден к нарушителям. Профессиональные поисковики устраивали над ними самосуд.
В старину бытовало среди искателей корня поверье: чужое возьмешь — своего не найдешь. Семечко не посеешь — духа гор и лесов обидишь.
Прошли времена духов, но моральные законы были незыблемы.
Однако гнев Кондрата Игнатьевича не производил на прохиндеев впечатления. Коруна, ухмыляясь, сказал:
— Ладно тебе, старшак, разоряться! Кто разберется нынче — чьи это панцуй! Этих корневщиков, может, и в живых давно нету. Чего корню гнить понапрасну?
— Да вы же, пакостники, маляток навыдирали! Чтоб мам пусто было! Им еще расти да расти!
Долго не мог успокоиться Кондрат Игнатьевич. Белино было его презрение к паршивцам, не имеющим ни стыда, ни совести. Он угрюмо молчал весь вечер, а утром, шагая на делянку, пробормотал:
— Была б моя воля, я б этим прохиндеям порку бы учинил, принародно. Жалко, нету у нас такого закона.
Юрий спросил, действительно ли женьшень обладает чудодейственными свойствами, какие ему приписывают.
— Я тебе так скажу. Превратить старика в юнца женьшеню, конечно, не под силу. Но дать кряж немощному, добавить здоровому жизни да крепости, эго он может, если только корень правильно приготовить. Та микстура, которую у вас в городе продают за жень-шень, — это мура, а не корень… Вот взять тебя. Думаешь, бегал бы так прытко по тайге, если б не пил месяца полтора моей настойки? Это панцуй крылышки тебе нарастил. Так что, коли попадется случайно корешок, я для тебя приготовлю его как надо. Никакой академик так не сработает.
Пока бригада трудилась на бархатном промысле, Кондрат Игнатьевич продолжал посвящать Каштана во многие премудрости таежной жизни, учил распознавать растения, повадки животных и птиц.
Многое узнал Юрий о тайге. И все-таки для спутников было полной неожиданностью, что именно он, новичок, нашел женьшень, мимо которого остальные прошли.
Правда, особой заслуги Каштана в том не было. Просто он оказался самым высоким в бригаде. Остальные были ниже его ростом и просто не смогли углядеть цветок женьшеня, скрытый от них поваленной лесиной.
Произошло это так. Бригада покидала делянку, чтобы вернуться на зимовье. Усталые люди брели гуськом, поднимаясь по пологому косогору. Каштан шел последним. Он отстал, чтобы осмотреть медвежью берлогу в дупле сломанного бурей дерева.
Юрий стал догонять своих товарищей. Они уже прошли мимо гигантской липы, рухнувшей когда-то во время лесного пожара. Каштан скользнул взглядом по стволу лежащего великана. И замер: с той стороны дерева на него в упор смотрел огненно-красный глаз размером с автомобильную фару. Что это? Пион? Да нет, уж больно велик. Он перелез через ствол на ту сторону и, спрыгнув на траву, оглянулся: крохотная чистенькая полянка. А посреди полянки горделиво красовалось невиданное растение, широко раскинувшее зонтообразные ветви. В этом создании природы были и таинственность, и величие, и мощь.
Неужто женьшень?
Голос Юрия, когда он позвал Кондрата Игнатьевича, дрожал от волнения. Обеспокоенный таежник и его племянник заспешили на зов Каштана. Оказавшись на полянке, оцепенели. Наконец Кондрат Игнатьевич восхищенно проговорил:
— Вот это да-а… Гляди-ко, парень, как тебе на красавиц везет! Крепко заботится твой бог или лесной дух.
Таежник сбросил с плеч свою ношу. Вынул из котомки олений рог, опустился на колени и молча принялся копать вокруг растения. Трудился он долго и за все время не проронил ни слова. По лбу его катились капли пота. Наконец корень обнажился. Осторожными, почти ласковыми движениями пальцев Кондрат Игнатьевич очистил его от земли и извлек наружу.
— Держи свою дамочку! — сказал он, подавая корень.
— Почему дамочку? — спросил Каштан, осторожно принимая женьшень из рук таежника.
— А потому что это — тантаза. Женский корень. Ты глянь на нес.
Каштана удивил теплый желтый тон корня. Благородный цвет слоновой кости.
Он бережно держал в руках изящную фигурку танцующей женщины. Ее обнаженное тело изогнулось в дразнящем движении. Соблазнительные линии бедер и ног, казалось, были выточены искусным художником.
За спиной у Юрия послышался всхлипывающий хохот Коруны. Обнажая в смехе десны, он сказал:
— Надо же! Голая баба!
Его дружок Жерехов обратился к Каштану:
— Слышь, мужик, уступи нам корешок. А? Тебе-то он на кой ляд? Дадим хорошую цену. Поладим?
Кондрат Игнатьевич прикрикнул на него:
— Мотай отсюда, покупатель! Чтоб я больше не слышал таких речей!
Кондрат Игнатьевич взрыхлил рогом землю вокруг. Затем снял с головки женьшеня красные зерна, разбросал их и слегка притоптал.
Потом он содрал пласт коры с ближайшего кедра, согнул его коробочкой, положил на дно мох, посыпал его землей.
Пока Кондрат Игнатьевич священнодействовал на женьшеневой полянке, Юрий любовался корнем. Он медленно поворачивал его, и женская фигурка словно оживала.
И вдруг вспышкой далекого и забытого видения возникло в его памяти обнаженное тело Полины…
Это было неожиданно и странно. Ведь когда они с Полиной плыли среди волн в ледяной воде, Каштан даже и не заметил ее наготы.
Значит, где-то в подсознании, независимо от его воли, отпечаталось, а теперь внезапно всплыло воспоминание.
Какое-то наваждение.
Оказалось, память запечатлела и сохранила также и эпизод, который вообще полностью выпал из его сознания. А сейчас он увидел его, словно фрагмент из немого фильма.
Это было уже на берегу, куда их выбросило море. Полина очнулась. Села. Оглянулась на оглохшего Каштана. Потом подбежали люди, посланные директором. Один из них снял и протянул Полине полушубок. Она набросила его на голые плечи, запахнулась. Опустила голову, разрыдалась…
Каштана вернул к действительности голос Кондрата Игнатьевича. Он взял корень, уложил его в коробочку, перевязал лыком. А затем пристегнул Каштану сбоку к ремню.
— В этом лубке, — объяснил он, — твой панцун сохранит свои соки. А когда вернемся в Светлану, я тебе из него паштет сделаю. Станешь от этого паштета бравым молодцем.
Они зашагали к зимовью.
А вечером, задумчиво глядя в пламя костра, Юрий впервые задал себе вопрос: что же дальше? Чем займется «бравый молодец», когда выйдет из леса?
Каштан жил в тайге бездумно, просто и легко. Не вспоминал о прошлом, не сдирал его с себя. Оно, наверно, само отпадало незаметно и естественно, как отмершая кожа. Юрий совсем не задумывался о прежней своей профессии. И куда-то в небытие уплыла его семейная жизнь с Аней. Память о ней выветрилась, испарилась, исчезла.
Плохо ли это, хорошо ли, он не знал. Наверно, так надо.
Единственное, что не забывалось, — Маринка.
Дочка появлялась в памяти как что-то особое, не зависимое ни от кого, дорогое существо, к которому он испытывал беспредельную нежность.
Долго он размышлял о будущем, однако ничего путного не надумал.
И решил так. Желания, решимость, устремленность когда-нибудь появятся, они не могут не возникнуть. Все придет. Но вероятней всего — когда он окончательно окрепнет, когда заиграют в нем жизненные силы.
Работа в промысловой бригаде приносила ему удовольствие, а это — главное.
Не надо мудрить, не надо терзаться.
С этими мыслями он и уснул.
9. УБЕГАЛА ГАЗЕЛЬ ОТ ТИГРА…
В лесу происходила привычная для этих мест драма.
Самка изюбря, длинноногая изящная красавица, бешено мчалась, не разбирая дороги, напролом через заросли папоротника. Круглые выпуклые глаза наполнены были диким страхом: ее преследовал тигр.
Зверь шел ровно и сильно. Он понимал, что добыча от него никуда не уйдет. Страх сломит глупую олениху, и она сдастся, не в силах выдержать эту изнурительную скачку.
Однако случилось непредвиденное.
Там, куда, откинув назад голову, неслась олениха, деревья вдруг расступились, а за ними сияла на солнце полянка и дальше — ручей. На полянке сидели люди.
Обессилевшая беглянка с разгону выскочила на опушку и резко затормозила передними ногами. Она испуганно озиралась — и здесь были враги.
Коруна опомнился первым. Он стремительно метнулся к оленихе, обхватил ее сильными объятиями и воскликнул:
— Стой, голубушка! Отдохни!
И тут все увидели тигра. Он стоял у дерева и исподлобья оглядывал людей.
Каштан, не шелохнувшись, смотрел на огромного полосатого хищника.
Кондрат Игнатьевич поднялся и спокойно сказал зверю:
— А ну-ка, поворачивай назад, паря!.. Иди, гуляй и другом месте!
Тигр постоял немного, затем нехотя повернул назад. Уходил он не спеша, с достоинством.
Кородеры словно очнулись от оцепенения. Они подошли к дрожащей пленнице. Жерехов принес веревку, и они с Коруной стреножили животное. Довольный Коруна сказал:
— Очень кстати пожаловала! Ужин будет знатный.
Каштан повернулся к нему и недоуменно спросил:
— А при чем тут ужин?
— При том, что будет свеженькая дичь.
— Ты с ума сошел, что ли? — воскликнул Каштан — Ее надо отпустить. Она от тигра сбежала. Сам же ее спас!
Жерехов, усмехнувшись, бросил:
— Считай, что тигр уже сожрал ее.
— Но мы-то — не тигры! — в сердцах сказал Юрий.
— Чего ты хочешь, интеллигенция? — с иронией спросил Коруна. — Чтоб мы отпустили ее обратно? Чтоб ее слопал этот зверюга? Ты о его ужине заботишься? Так надо понимать?
Каштан растерянно посмотрел на Кондрата Игнатьевича. Тот угрюмо проговорил:
— Худое это дело, парни. Негоже так поступать.
Но Коруна с Жереховым и не подумали отпускать олениху. Вечером они развели огромный костер, закололи пленницу, разделали тушу и поджарили ее на вертеле. Медные отблески пламени играли на их лицах.
А первый кусок горячей, аппетитно пахнущей оленины Жерехов принес не кому-нибудь, а Каштану:
— Рубай, земляк! — сказал он, протягивая ему мясо. — Чего уж теперь-то! Бобик сдох.
Каштан отвел его руку, поднялся и резко сказал:
— Подавитесь вы этой олениной!
Он повернулся и пошел к ручью. Сел там на берег и задумался.
К удивлению Коруны и Жерехова, есть изюбря отказались и Овчинниковы, и Кондрат Игнатьевич с Кешей.
— Надо же! Какие чистюли ходят нынче по тайге! — бросил Коруна. — Ну тот, слюнявый интеллигент — еще ладно. Он форс держит. А это мужичье чего выкобенивается?
Коруна и Жерехов тайком нацедили себе спирта из фляги, которая была выдана бригаде в качестве НЗ на случай чрезвычайного происшествия. Они долго не могли угомониться, галдели, горланили дуэтом: «На неделю до второго я поеду в Комарово», ржали, затеяли перебранку.
Юрий не спал. Не смог заснуть и после того, как гуляки затихли. Как говорила в таких случаях жена, «на Каштана опять накатило». Да, на него порой «накатывало». После размолвок с Аней. Угнетали его даже мелкие обиды, нанесенные сослуживцем или соседом. У Юрия не было иммунитета против грубости, его обескураживала и травмировала черствость. Порой это вызывало насмешки. Но переделать себя он не мог.
На этот раз, однако, дело обстояло иначе. Юрии хорошо понимал, что гнусный поступок Жерехова и Коруны — от их глубокого невежества. И Каштана оскорбляло не столько бесчинство этих диких парней, а то, что это произошло здесь, в тайге, в благодатной тишине незамутненного, лучистого и приветливого мира.
Юрий понял, что спокойствия в бригаде уже не будет. И примириться с этим будет трудно.
К утру он твердо решил покинуть бригаду и вернуться в Светлану. Об этом сказал Кондрату Игнатьевичу. Таежник долго молчал. Наконец заметил:
— Что ж, парень, коли решил, значит, решил… Если человеку невмоготу, грех его удерживать… Как бригадир, отпускаю… Когда хочешь идти-то?
— Пожалуй, завтра, на рассвете.
— Добро. Кеша проводит тебя до лесхозной дороги. По ней и выйдешь к берегу. А там на шоссе разберешься… Ну а насчет доли, заработанной здесь, не беспокойся. Осенью, как сдадим бархат, получишь. По договору.
Кондрат Игнатьевич снарядил Каштана по-походному. Тщательно проверил его обувь, одежду. Дал плащ-палатку, нож, спички, запас еды. Пристегнул коробок с корнем женьшеня. Хлопнул по плечу:
— Топай, парень! И будь мужиком!
— Постараюсь, Кондрат Игнатьевич. Спасибо за все. До встречи!
Неприметными тропами Кеша вывел Юрия к таежному взгорью. Здесь остановились, и паренек сказал:
— Ну вот, пришли. Отсюда до бухты и ребенок доберется. Видите, вон за соснами дорога?
— Вижу.
— По ней и дуйте до самой Чаги. Может, и попутка подбросит. Доброго вам пути!
— Спасибо тебе, Кеша. Мы еще увидимся.
Они расстались. Каштан направился к дороге.
Тигр внимательно следил за одиноким путником, шагающим по тропе. Зверь двигался за человеком мягко, бесшумно. И чем дальше преследовал, тем сильней нарастала в нем злоба. Тигр был здесь хозяином, и все таежное зверье с этим считалось. Да и люди всегда это понимали. Но вот они нанесли ему обиду. Отняли добычу, да еще и отогнали! И зверь возжаждал мщения.
Пока Каштан отдыхал, сидя на бревне у колючих зарослей чертова куста, тигр обошел его стороной и вновь за распадком вышел на дорогу, проложенную людьми. Увидев здесь раскидистое дерево, он запрыгнул на большой сук, пригнулся и стал ждать.
Юрий пересек распадок, поднялся по склону и зашагал по утоптанной дороге на восток. Он миновал ясень, на котором притаился хищник.
Тигр подождал, пока путник удалился шагов на двадцать, и прыгнул на него сзади. Человек ничком рухнул на землю, а тигр с остервенением рванул когтями его спину… Но в тот же миг настороженно вскинул голову и повел ушами: издали донесся звук, который вызывал у зверя отвращение.
По узкой лесной дороге ехали на мотоцикле двое — зоотехник Свиридов и оленевод Демин. Дорога нырнула в распадок, мотоцикл скатился вниз, затем, завывая, поднялся по склону, проехал мимо старого ясеня, близ которого лежал на земле окровавленный человек.
Свиридов резко остановил машину и соскочил с седла. Вылез из коляски и Демин. Они подошли к лежавшему. Одежда с него была содрана. На спине — рваные кровоточащие раны.
Свиридов и Демин переглянулись.
— Хозяина работа. Только что здесь был, — сказал Демин.
— Мы спугнули, — кивнул Свиридов, — Вот чертова кошка!
Он опустился на колени и прижал пальцы к артерии на шее Каштана.
— Вроде живой. Принеси-ка аптечку.
Демин сбегал к мотоциклу и принес сумку. Свиридов сноровисто обработал раны. Потом они осторожно подняли Каштана и перебинтовали.
— У него шок, — заметил Свиридов, — и большая потеря крови. Уж и не знаю, довезем ли.
Когда укладывали раненого в коляску, он на несколько секунд пришел в себя.
— Ну что, двинем на Чагу? В больницу? — спросил Свиридов.
Очнувшийся Каштан неожиданно пробормотал:
— Не надо в больницу… Очень прошу… очень.
И снова впал в беспамятство.
— Ишь ты! — удивленно сказал Демин. — Ожил.
— Ладно, поехали к нам.
Свиридов сел за руль, а Демин устроился на заднем сиденье. Поехали медленно, осторожно.
— Не пойму я, — произнес Демин, наклоняясь к уху Свиридова, — что за чудной прохожий. Одежда — таежная. Лубок для женьшеня и котомка — тоже. Но по обличью — посторонний, городской. Почему в одиночку по тайге бродит, непонятно.
— Чего гадать-то понапрасну, — отозвался Свиридов. — Наше дело — помочь человеку. Оклемается, расскажет — кто, что да почему.
— Будем врачевать по-нашенски?
— Само собой. Не погибать же парню.
«Врачевать по-нашенски» означало — применять для лечения оленьи панты. Свиридов был руководителем таежного оленника, подчиненного читинскому зверосовхозу «Светлый яр». На территории его хозяйства паслось три тысячи благородных пятнистых оленей. В этот оленник и привезли пострадавшего.
Здесь на отшибе стояло длинное бревенчатое строение, в котором размещалась паптоварня. Был в доме и жилой закуток, предназначенный для главного пантовара Чанышева, богатырского сложения детины.
Подобранного в тайге человека внесли в эту комнатушку, уложили на топчан. Чанышев принялся медленно и осторожно разматывать окровавленные бинты.
10. А И Б СИДЕЛИ НА ТРУБЕ.
Голый каменистый остров. И нет на нем ни единой человеческой души. Только тысячи птиц взмывают в воздух и, шурша крыльями, в тревоге уносятся куда-то вдаль. Что-то их напугало.
…Остров стал исчезать, растворяться в оранжевой дымке. Зыбкая пелена становилась прозрачней. И вот уже сквозь нее стал виден низкий бревенчатый потолок. Почудилось, будто донесся издали тоненький детский голосок, который нараспев декламировал;
А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало — Кто остался на трубе?А потом Каштан услышал стоны и тут же понял, что стонет он сам. Потом увидел склонившегося над ним краснолицего богатыря, который освобождал его от бинтов.
Посмотрев на истерзанную тигриными когтями спину Каштана, Чанышев присвистнул:
— Хороши узорчики, прямо скажем.
— Залатаешь? — спросил Свиридов.
— Сделаем, о чем разговор. Скажи Намунке, пусть принесет парочку пантов, как только срежете.
Заметив, что Каштан очнулся, пантовар сказал ему:
— Ты не сомневайся, парень, шкуру твою содранную обратно приживим. Через неделю будешь ты у меня как огурчик. А через две — как помидор. Не будь я Серега Чанышев.
Рассыпавшиеся цепью люди гнали из кустов олений табунок. Олени уходили от них перебежками. Они на несколько секунд замирали, всматривались в загонщиков, затем трепетно вздрагивали и уносились стремительно и беззвучно.
Оленям казалось, будто они уже недосягаемы. И не дано было им, простодушным, понять, что мчатся они уже по хитроумной трассе, огороженной металлическими сетками. Лабиринт из сетчатых заборов сужал и направлял их путь. И наконец, они оказались в небольшом огороженном дворе. Опомниться не успели, как захлопнулись позади ворота и звякнула тяжелая щеколда. И дорога на волю осталась одна — через узкий коридорчик панторезки.
Олень бросался в эту манящую светом и свободой щель. Но, оказавшись в узком пенале панторезки, слишком поздно понимал, что попал в беспощадную ловушку. В нем клокотало, пульсировало бешеное напряжение. В выпуклых глазах светилось безумное отчаянье.
Свиридов двумя взмахами пилы отсекал оба рога. Кровь ударяла из-под пилы. И олень кричал взахлеб, пронзительно, тоскливо.
Его отпускали, и он взлетал в воздух в диком яростном прыжке. И затем уносился прочь, запрокинув обесчещенную безрогую голову.
Когда пропустили табун, Свиридов протянул Намунке, раскосому смуглому орочу-оленеводу, два отпиленных рога:
— Отнеси Сереге. Для раненого.
Панты были теплыми, мягкими, покрытыми нежным персиковым пухом. Казалось, в них еще пульсирует гулевая кровь, живая плоть оленя. Она сочилась из корешка, и Намунка, пока нес рога на пантоварню, с удовольствием слизывал эту проступающую, словно роса, ярко-алую кровь. По вкусу она напоминала сладкие сливки.
Намунка понимал, что молодой олений рог — это сосуд с лекарством истинно волшебной силы. И он знал также о неписаном законе тайги: человека, попавшего в беду, спасают всеми средствами, какими располагает тайга.
Чанышев крепко владел своей профессией. Могучие целебные свойства пантов его давно не удивляли. Но он гордился не только высоким мастерством пантоварения, но и способностью практически применять искусство пантоврачевания.
Каштан в его руках прошел две стадии лечения. Поначалу сукровицей, из свежесрезанных рогов. А позже пошло в ход купание в чане с «бульоном», в котором до этого варилась очередная партия пантов.
Как и предсказывал Сергей, через две недели страшные раны затянулись, и только едва заметные рубцы на спине Юрия напоминали о тигриных когтях. Сбылось и другое предсказание Чанышева: Каштан заметно округлился, налился пружинистой силой. Лицо его приобрело здоровый розовый цвет.
Серега довольно похохатывал, поглядывая на румяного бодрого пациента, словно на удачно сваренный пант. И он сказал Каштану те же слова, что и Кондрат Игнатьевич:
— Выручил тебя, Юрча, твой ангел-хранитель. Везучий ты парень.
— Какой же я везучий, Серега, если меня тигр чуть было не разодрал! Хорошенькое везенье!
— Да ты, чудак-человек, этому тигру должен в ножки поклониться, благодарность ему объявить! Ты ж через него сюда угодил! Люди и мечтать не смеют, чтобы к нам попасть, к пантам прикоснуться. Ведь только тут сохранилось стадо настоящих пантачей. Больше нигде. Поэтому мы за рога эти и валюту получаем. Золотые я варю панты. Каждый — на тыщу долларов, понял? В общем, повезло тебе, браток. Ведь панты из тебя человека сотворили. Ты это еще не понял пока. Но знай, теперь живинка на всю жизнь останется. Ясно?
— Панты — это, конечно, чудо, — задумчиво пробормотал Каштан. — Я и представить не мог, на какое волшебство они способны.
— Никакого волшебства, — наставительно проговорил Чанышев, — просто сила в пантах гуляет немыслимая. Самцу по весне природа дает производительную мощь, понял? Она сосредоточена в пантах. И дед мой, и отец всю жизнь с пантами дело имели. Прожили оба до девяносто лет. Ты б посмотрел на них, какие были богатыри. А уж насчет баб — не приведи господь… Так что, Юрча, готовься: девки на тебя обижаться не будут.
— Будут, — махнул рукой Каштан.
Второй раз и при самых диковинных обстоятельствах выкарабкивался Каштан из цепких объятий смерти. Но, размышляя об этих причудливых зигзагах собственной судьбы, швырявшей его с сатанинской изобретательностью из одной беды в другую, он со светлым чувством вспоминал о братской поддержке многих людей, которые встречались в пути и помогали ему охотно, искрение и бескорыстно.
Вот и нынешние его друзья, из оленьего хозяйства, без лишних слов выходили совершенно незнакомого человека, поставили на ноги, ничего, как говорится, не требуя взамен. Даже благодарности. Удивительное проявление братства, какого он никогда и нигде прежде не встречал.
Как только Каштан крепко стал на ноги, он захотел быть полезным людям. Тело его жаждало физической работы. Он принимался за все — трудился вместе с оленеводами, с загонщиками, заготавливал на зиму корма, ходил на починку сорокакилометровой изгороди, сделанной из металлической сетки, помогал парням отделять оленей-рогачей от оленух и молодняка, ездил по поручению Свиридова на его мотоцикле в Светлый Яр и поселок Чага.
В середине июля, воспользовавшись погожими днями, работники хозяйства готовили корма для оленей. Накосили много душистой сочной травы и нарубили лозу.
Юрий с шофером Володей Малковым совершал рейсы с поля к хранилищу, которое здесь почему-то называли павильоном.
Мчался грузовик. Каштан, обнаженный до пояса, сидел в кузове на груде свежескошенного сена, вдыхал его запахи и радостно подставлял себя ветру. И при этом даже напевал «Чунга-Чангу».
Павильон загрузили почти до самой крыши. Юрий через верхний люк спрыгнул на пружинистый сенной ковер. «До чего же славно! Вот где надо ночевать-то!» — подумал он.
…Он жил в каком-то удивительно кипучем темпе. Уже с утра он принимался за самую трудную работу.
— Эка в тебе панты играют! — со своей постоянной добродушной улыбкой заметил Серега Чанышев.
Когда Юрий впервые очнулся здесь, в оленнике, ему почудился голос, декламирующий детскую считалочку: «А и Б сидели на трубе…» Это живо напомнило ему московскую больницу и чувство безысходности, завладевшее им тогда.
И Каштан подумал: неужто снова при смерти?
Но на этот раз в нем не было покорности неизбежному. Бешеное желание выжить неукротимо поднималось в нем.
Выжил.
11. ПРИЗНАНИЕ
В небе от края и до края громоздились черно-синие угрюмые тучи. Воздух загустел, напряженно шелестели деревья. Потом взорвались и яростно стеганули по земле молнии, да такие, каких Каштан сроду не видел. Ему казалось, что земля расколется от могучих огненных ударов, а у людей лопнут перепонки от обвального грохотанья грома. Дух захватывало от этого свирепого разгула стихий.
Юрий стоял на крыльце под навесом и, ощущая радостное возбуждение, вдыхал запах грозы. Еще несколько ослепляющих вспышек распороли небо, и вновь прокатилось по нему чудовищное громыханье.
А вслед за этим хлестанул ливень.
Струи воды с ровным гулом неслись к земле, шлепались, подскакивали, растекались.
Из-за плотной дождевой завесы неожиданно вынырнул грузовик Володи Малкова. Ныряя в лужи, он подкатил вплотную к крыльцу.
Открылась дверца кабины, и оттуда, согнувшись, вышел человек в просторном брезентовом плаще до пят. Лицо его было закрыто наброшенным на голову капюшоном.
Володя тоже вылез и спрыгнул прямо на крыльцо. К удивлению Каштана, на ногах шофера не было обуви. Однако разутый Малков, сделав галантный жест, сказал своему пассажиру:
— Вот сюда, пожалуйста! На крылечко.
Каштан посторонился, пропустив приезжих в сени, а затем вслед за ними и сам зашел туда.
Спутник Володи стряхнул с ног один сапог, а затем и другой. Обескураженный Каштан увидел на этих освобожденных от большущих сапог ногах — изящные дамские босоножки.
Володя истинно джентльменским жестом помог гостье освободиться от громоздкого, толстого, как фанера, плаща.
Каштан взглянул — и сердце его подпрыгнуло.
Перед ним стояла Полина.
Смущенная, словно провинившаяся девочка.
На ней был летний сарафан. Дождем вымочило волосы, шею и лицо.
В больших серых глазах Полины Юрий уловил тревогу и ожидание.
— Понимаешь, — тихо проговорила она, — в Светлане было ясное небо, вот я и оделась так легкомысленно. А в Чаге — гроза. Спасибо Володе, он выручил — дал свой плащ и сапоги.
Каштан смотрел на Полину с улыбкой и молчал, потому что говорить был не в силах. А она продолжала:
— Когда ехали, мне все время казалось, будто молнии метят прямо в нас. А Володя только посмеивался.
— Это я с перепугу смеялся, — заметил шофер, — А сам от страху дрожал. Но приходилось перед вами, Полина Александровна, форс держать.
Юрин наконец справился с волнением и сказал:
— Рад вас видеть, Полина. Я, честно говоря, растерялся. Простите, ради бога. Сейчас я быстренько чай приготовлю. Обождите минутку!
Он метнулся в свою каморку, вернулся с полотенцем, подал Полине. Снова убежал.
Володя, натягивая сапоги, врастяжечку произнес:
— Ну, стало быть, у меня опять завтра рейсик на Чагу. Так что, пожалуйста, Полина Александровна, располагайте.
— Спасибо, Володя. Непременно поеду с вами. Переночую, а завтра — обратно.
— Вот и ладно. Всего вам хорошего!
— Спасибо, Володя.
Малков ушел.
Появился в сенях Каштан и сказал:
— Идемте ко мне. Прибрал как мог. И пусть вас не смущает моя келья.
Когда они оказались в тесной каморке вдвоем с Полиной, Юрий вновь заметил выражение виноватости, смущения и грусти на ее лице.
— Я приехала, Юра, чтобы попрощаться, — тихо проговорила Полина. — Через три дня мы с Леночкой уезжаем к себе домой, во Владивосток… На Аракутан я решила не возвращаться, потому что все там будет напоминать мне о Викторе. Во Владивостоке у меня квартира. Буду работать в морской поликлинике. Я уже списалась с ними… Вот. Что еще я хотела тебе сказать, Юра? Меня огорчило, что ты сбежал не попрощавшись. Я говорю это не в упрек. Каждый человек волен поступать по-своему. Просто мне было тяжко все это время.
— Простите меня, Полина. Я действительно поступил по-свински. Мой дурацкий характер всему виной…
Но я все время вспоминал о вас с теплом и благодарностью.
— Знаю, Юра. Я это чувствовала. Иначе бы не приехала.
Ливень внезапно прекратился. Клубящиеся тучи унесло в сторону моря. И скоро даже и следа от них не осталось. Небо стало синим. Засверкало солнце. Белесый дымок поднимался от земли.
Полина заметила на тумбочке стопу ватманской бумаги. На верхнем листе — рисунок, изображавший оленя в прыжке. Полина потянулась к стопке и спросила:
— Можно взглянуть?
Каштан пожал плечами:
— Пожалуйста. Это наброски. Рука отвыкла рисовать. Задубела. Ничего не получается. Понимаете, в олене столько грации, столько музыки в каждом движении. Гармоничность. А на бумаге — бездарная школярская линия. Обидно.
Полина перебирала листы. Один из рисунков рассматривала особенно долго:
— А вот здесь, по-моему, удалось поймать движение. И поворот головы, и глаза переданы удивительно. Они живые.
Он вздохнул:
— Когда увидите оленей в натуре, то поймете, как это убого.
Они шли по оленнику, и Полина говорила:
— Ты опять поразительно изменился, Юра. Снова вижу тебя совсем другим.
— И какой же я сейчас?
— Так тебе и скажи, — улыбнулась она.
— Но все-таки?
— В тебе появилась ладная мужицкая надежность. Веет хорошим мускульным потом. Понимаешь? Ты стал бронзовым. Вон даже походка крепкая, обстоятельная… Не верится, каким я тебя видела в марте.
Каштан водил Полину по оленнику. Познакомил со своими товарищами.
Потом на свиридовском мотоцикле повез к морю.
Мотоцикл, неистово ревя мотором, вылетел из распадка на побережье. Земля здесь нависала над океаном. Через ворога залива морские воды уходили в беспредельность.
Безлюдный пляж усеян выброшенными морем корягами. Залив был пустынен.
Полипа и Юрий сели на песок. Она сняла каску, и ветерок шевелил ее волосы. Каштану хотелось погладить их, но он не решался.
Полина задумчиво вглядывалась в морскую даль. Он спросил:
— Может, искупаетесь?
Она помотала головой.
— Накупались мы с тобой, Юра. На всю жизнь.
Он погладил ее руку. Она не шелохнулась. И он стал негромко рассказывать ей о своей прошлой жизни, о болезни, о бегстве из дома, о том, с каким намерением попал на Аракутан.
Она слушала, не перебивая. Потом сказала:
— Как странно. Спасая меня, ты спас и себя. Подарив жизнь мне, вернул жизнь себе… До чего же сплелись наши судьбы!.. Но, знаешь, Юра… будь я верующей, решила бы, что спасение и исцеление тебе даровано свыше… Тут много непонятного. Какая-то тайна…
Когда вернулись в оленник, Свиридов позвал их к себе обедать. Жена его и дети с любопытством разглядывали гостью.
Полина была оживлена. Чувствовалось, что ей очень понравились Свиридовы.
— А где же вы, милая, ночевать будете? — обеспокоилась жена Свиридова. — Не на пантоварне же, у этого шалапута Сереги?! Хотите у нас?
Полина взглянула на Каштана. Он сказал:
— На ночлег хочу устроить Полину Александровну в павильон, на свежее сено.
Свиридова растерянно спросила:
— А не холодно ли будет?
Свиридов заметил:
— А мы дадим одеяло, тюфячок, простынки. Вот и не замерзнет.
— Ну и ладно, — согласилась жена. — Выспитесь на сене за милую душу. А вы, Юрий Петрович, зайдите за бельем ближе к вечеру. Я все новенькое приготовлю.
Они ушли от Свиридовых и стали бродить по дорожке. Молчали. Полина становилась все печальнее.
Когда стемнело, направились к павильону. Полина была грустна и беспокойна, и Каштан с тревогой смотрел на нее.
Они поднялись по наружной лестнице на крышу хранилища. Каштан откинул крышку люка и сбросил на сено тюфяк, одеяло и подушку.
Здесь устойчиво царил духовитый аромат разнотравья, и Юрий блаженно вдохнул этот пахучий воздух.
Полина разложила тюфяк, постелила простыни и одеяло.
Каштан собрался уходить. Он спросил:
— Люк закрыть?
— Ни в коем случае. Хочу видеть небо… Я лягу, пожалуй. Ты извини. Очень устала… Такой день.
Она попросила его на минутку отвернуться, быстро разделась и легла.
Глаза ее излучали столько грусти, что Юрий спросил:
— Что вас тревожит, Полина?
Она не ответила. Он сел рядом с ней:
— Я в чем-то провинился?
— Ну, что ты, Юра!.. У меня своя боль… Понимаешь, ну как тебе объяснить. Растревожило, когда мы были у Свиридовых. Чудесные люди, прекрасная, дружная семья. Они сроднились каждым взглядом, каждым жестом. Не два отдельных человека, а пара. Понимаешь? Пара. Счастливое совпадение в браке.
— Почему же вас это расстроило?
— Потому что мы с Виктором тоже были парой… И вдруг в одну секунду все рухнуло. Понимаешь? И вот… Тоска. Хоть дочура и со мной, а все равно — одиночество… Мне двадцать восемь лет. Тяжко, Юра. Немыслимо тяжко…
Из уголков ее глаз по скулам скатывались слезы. Губы дрожали.
— Прости, Юра, — судорожно всхлипнув, проговорила она, — прости, милый.
Он смотрел на нее. Острой жалостью кольнуло сердце. Всколыхнулось сострадание, желание утешить, успокоить, увести ее от горечи и боли. Он принялся гладить и перебирать ее волосы и нашептывать непритворные бесхитростные слова участия.
Наклонившись к ней, он бережно поцеловал горькую морщину у края рта, ямку под горлом, в которой трогательно пульсировала синеватая жилка. Слегка прикоснулся губами к ее губам. Полина так же невесомо отозвалась на его поцелуй.
Лаской своей Юрий стремился снять с нее тоску. Нежность его была искренней, и женщина, почувствовав это, благодарно обвила его руками и замерла. Она лежала, умиротворенно прикрыв глаза, и Каштану показалось, что Полина задремала.
Ночь была удивительно беззвучной.
Слышалось только четкое тиканье часиков на руке притихшей Полины. Много ли так прошло времени, Юрий угадать не мог. Он робко шевельнулся, пытаясь отстраниться от уснувшей женщины. Но она вдруг порывисто и сильно прижалась к нему. Он ощутил горячие токи ее тела.
Им овладело смятение. Сердце то неистово колотилось, то замирало. Охватил страх, что оба теряют контроль над собой. Вспыхнули в памяти и лихорадочно замелькали картинки прошлого. Память беспощадно воскресила пережитое, и он вновь увидел Полину на крохотном острове среди волн у места гибели мужа. Каштан вздрогнул. Воспоминание мгновенно отрезвило его. Юрий снова попытался осторожно освободиться от объятий, однако Полина не размыкала рук. Удерживая его, она произнесла едва слышно, будто выдохнула:
— Не уходи… Не уходи же…
Но он с мягкой настойчивостью разжал ей руки, выпрямился, сел рядом. Усмиряя дыхание, медленно приходил в себя.
Когда сердце стало биться ровней, тихо проронил:
— Пойми… Сами же потом не простим себе…
Полина не откликнулась на его слова.
Прошло не меньше получаса томительного молчания. Наконец Полина сказала:
— Сядь поближе… Не бойся.
Он придвинулся к ней. И снова стал гладить ее волосы. Полина заметила:
— Я знаю, что ты давно мечтал вот так прикоснуться к моим волосам.
— Мечтал.
— А сам убегал.
— Убегал, потому что…
— …боялся моей благодарности.
— Боялся. Но главное в другом. В том, что…
— …все было на твоих глазах: и счастье и смерть.
— Да. Да. Да, Полина. И забыть это невозможно. Я вынырнул перед тобой в том самом месте, где погиб Виктор.
— Видишь, как получилось. Судьба свела нас.
Помолчав, он сказал:
Может быть… Но судьба же и карает. За безрассудство.
— Безрассудство? Не знаю, Юра… Тебе лучше знать, поскольку сам ты великий мастер безрассудных поступков.
— Я?!
— Ты, милый, ты… Бегство твое из дома — разве не дикость? Кто так поступает? Никто. А ты — поступил. Или вот бросился спасать меня в цунами. Считаешь, нормально? Полное безрассудство! Другое дело, Юра, что это прекрасно… Чудесно, что ты способен на такое… Может, и за это я полюбила тебя. Так что вина за эту любовь на мне. И не терзайся, мой хороший!
Помолчав, сказала:
— Мне почему-то кажется, Юра, что, улетая из Москвы, ты убегал не только от смерти, но и от тоски. От постылой жизни. Ты истинной любви никогда не знал, правда?
— Ты вещунья. Тебе все открыто.
— Не все. Но кое-что. Я, например, чую сейчас смуту в твоей душе. Думаешь — а как быть со мной? Не мучайся, милый. Я уеду. Терзать тебя не буду. Тебе, Юра, надо еще прийти в себя. Вернее, привыкнуть к себе новому. Ты ведь стал новой личностью. А преображение дается не так просто. Не знаю, сколько времени на это понадобится. Но сколько бы его ни потребовалось, знаю одно: я буду ждать тебя всегда. Оставлю тебе адрес, ключи от дома… И не бойся меня, ради бога. Если когда-нибудь придешь ко мне, всю себя отдам тебе. Понял?
Затем с улыбкой добавила:
— Да будет тебе известно, русская баба привязывается к мужику, который ее за волосы таскал…
Когда они прощались у Володиного грузовика, Полина была молчалива, казалась подавленной. Каштан поцеловал ей руку. Она смотрела на него неотрывно. Серые глаза ее светились.
Машина уехала, а к Каштану подошел оленевод Анфиноген, шибко небритый, насквозь пропитанный табачной гарью мужик. Он спросил:
— Довольна жинка-то осталась? Недаром пантами баловался?
— Что за пошлости городишь, Анфиноген?
— Какие ж это пошлости? Дело житейское. Известно, что пант нашему брату лихость дает… Но, говорят, шибче всех других снадобий — рог носорожий действует. Не знаю, брешут или правду говорят, будто стоит одна штука пятьдесят тыщ долларами…
* * *
Через три недели в Светлоярское оленеводческое хозяйство нагрянул ревизор. Оп дотошно проверил документацию, провел беседы с личным составом. Был крайне удивлен присутствием в оленнике не предусмотренного штатом и фондами заработной платы работника. Ревизор не мог взять в толк и не принял объяснений Каштана, что трудится тот по своей воле без зарплаты. С точки зрения ревизора, это был явный непорядок, и он высказал мнение, что Каштану следует искать работу в тех коллективах, где есть вакантные единицы.
А когда ревизор докопался до вопиющих фактов лечения нештатного постороннего лица, возмущению его не было границ. Он грозил доложить начальству и органам правопорядка, что государственное хозяйство превращено в богадельню и частную лечебницу…
Долго бушевал ревизор. И Юрий понял, что пора уезжать. Он по-братски обнял товарищей, к которым так привык, от всего сердца поблагодарил их за тепло и человечность и покинул место, ставшее ему бесконечно дорогим.
В Чагу его вез Володя.
— Да не переживай ты, чудак, — говорил шофер. — Никто не тронет ни Свиридова, ни кого другого. Пошумит ревизор и угомонится. У нас есть свой способ утихомирить любого ревизора. В первый раз, что ли?
— Так не хотелось уезжать от вас.
— А ты на следующее лето приезжай. У нас и штаты появятся. Приедешь?
— Там видно будет. Может, и приеду. Зависит от того, куда на работу устроюсь.
— Слушай, я в Чаге объявление видел: требуются люди в аэрогеологию. И платят хорошо.
— Посмотрим, — кивнул Каштан.
12. «…И ПУСТЬ ХРАНИТ ТЕБЯ ТВОЯ ЗВЕЗДА!»
Надо было начинать новую жизнь….
И в конце августа Юрий устроился на работу в подразделение аэрогеологоразведки, которое пока что базировалось в Приморье, но потом должно было перебраться дальше на запад.
Аэрогеологическая служба требовала отменного здоровья. И перед поступлением туда пришлось пройти всестороннее медицинское обследование. Никаких аномалий в организме Каштана, в том числе и в легких, врачи не обнаружили. Утверждать, что легкие чисты, как хрусталь, было бы преувеличением. Но и следов туберкулеза в них практически не осталось. Слабые меты зарубцевавшейся легочной ткани опасения не внушали.
Сентябрь ушел на подготовку к полетам, на освоение новой специальности, на изучение приборов, с которыми приходится иметь дело оператору — а именно так называлась должность Юрия.
Гамма-спектрометрическая и тепловизорная аппаратура устанавливалась на самолетах и вертолетах и включалась во время полетов над интересующими геологов участками территории. Оператор следил за работой приборов, а геофизики анализировали их показания.
Таким образом, Каштан «легализовался» и вновь обрел гражданский статус. У него появилась трудовая книжка, и отныне он числился в штатном расписании и финансовых ведомостях. После столь долгого перерыва получил зарплату.
Когда Юрий спрашивал себя, почему он не делает попытки вернуться к своей профессии, то сам же и отвечал: если бы меня тянуло в архитектуру, то я бы, не колеблясь, занялся ею. Тем более что здесь, на Дальнем Востоке, большая нужда в нашем брате. Но даже намека на желание вновь засесть за кульман пока не возникло.
Почему произошло такое, он не знал. Однако в нем созрела твердая убежденность: отныне никогда не станет принуждать себя заниматься постылым, чуждым ему делом.
Юрий пока что не в силах был заставить себя написать Ане о выздоровлении. Пугало возможное вторжение жены в нынешнюю его жизнь. Но он был убежден, что время постепенно само расставит все на свои места.
Юрий часто вспоминал Полину. Мысли об этой женщине по-прежнему тревожили его. Порой подступало острое желание увидеть ее. Был даже момент, когда он готов был, бросив все, поехать во Владивосток и остаться с нею.
В его причудливой дальневосточной биографии особенно приметным и странным событием была, конечно, встреча с Полиной. Тут перемешалось все — горечь и радость, ласковое чувство и печаль.
Он не раз вспоминал: когда прощались в оленнике, Полина упорно молчала. Но перед тем как сесть в автомобиль, грустно сказала:
— Я только сейчас осознала, Юра, что меня гнетет: оказывается, ты ни разу не сказал мне слова «люблю».
Она открыла дверцу, поднялась в кабину, захлопнула ее. И грузовик рванул с места.
И в самом деле, Каштан никогда не говорил Полине о любви. Но что он мог сказать ей, если и сам не мог разобраться в своем чувстве?
Быть может, отношения с Полиной в будущем могли сложиться естественно и светло. Если бы не одно обстоятельство. Отдавая ключ от владивостокской квартиры, Полина не предполагала, конечно, что этим искренним для нее шагом она воздвигла неодолимую преграду на пути к совместной жизни.
Для Каштана этот жест означал, что проект его будущего составлен другим человеком. А он после того, как случай подарил ему вторую жизнь, не мог допустить, чтобы в этой новой жизни обстоятельства или люди, даже самые дорогие, оказывали влияние на его судьбу.
Судя по двум печальным письмам, Полина понимала, какие сомнения тревожат Юрия.
«Не беспокойся, милый, не переживай, — писала она. — Я никогда, слышишь, никогда и ни при каких обстоятельствах не буду навязывать себя, призывать, убеждать или тем паче принуждать тебя быть рядом со мной, хоть и люблю тебя невыразимо, преданно, всем сердцем. Хоть и убеждена, что мы с тобой созданы друг для друга… Не чувствуй себя обязанным передо мной. Любовь к тебе настолько наполняет меня и помогает мне жить, что я благодарна тебе уже за то, что ты есть… И об одном лишь тебя прошу, родной мой, непутящий мужчина: пиши мне, ради бога, хоть изредка. Пиши. Пусть хранит тебя твоя звезда. Полина».
Звезда хранила Каштана в течение шести долгих месяцев — от сентября до февраля.
Полеты над Приморьем начались, когда сентябрь щедро расцветил горную тайгу осенними красками. Это было подлинное буйство красок. Юрий глаз не мог оторвать от лесов, окрашенных в багряный, пурпурный, коричневый, желтый и зеленый цвета…
Еще в детстве, часами наблюдая за движением облаков, Каштан мечтал оказаться в небесной выси и вместе с облаками плыть над землей. В какой-то мере эта мечта сейчас осуществилась. Перед ним развертывалась грандиозная панорама хребтов и ущелий, скальных россыпей и долин, суровых каньонов и могучих рек.
На тысячи километров раскинулось это безмолвное и безлюдное пространство. От его необъятности и суровой планетарной красоты захватывало дух.
Во время полета однажды всплыла в его памяти вычитанная где-то фраза о простом русском мужике, который много лет назад в лаптях, с одним топоришком за поясом, через тысячи верст «до Тихого океана допер».
Сейчас, охватывая взглядом раскинувшийся внизу край континента, Юрий поражался неукротимости предков, сумевших сотни лет назад одолеть горные кряжи и реки, продраться сквозь таежные чащобы и болота, чтобы в немыслимой дали от родного дома основать здесь поселения, рудники, порты…
И еще он думал о том, что у горожан, закрученных и замороченных деловой суетой будней, поглощенных своими каждодневными заботами, утрачивается столь необходимое людям чувство причастности к реальному миру планеты. Картинка на телевизионном экране воспринимается умозрительно, да и журнальные иллюстрации выглядят, по существу, абстракцией.
Каштан был счастлив, что перед ним во всей своей мощи открылась эта огромность мира, неведомого для многих людей.
Приборы, которые обслуживал Юрий, прощупывали глубинные пласты земной мантии и безошибочно сообщали геофизикам о том, какие сокровища там таятся. И он был исполнен добрых чувств от причастности к большому и нужному делу.
Из Приморья подразделение аэрогеологов перебралось на север Хабаровского края. Под ними простиралась дикая горная страна. Повсюду тянулись черные гребни и белесые осыпи, полуразрушенные цирки, острые пики, зубья останцев — разбушевавшееся море камня без конца и без края. Лишь неширокие долины да речки, падающие с хребтов, оживляли пейзаж.
Когда Юрий смотрел с высоты на этот грозный лунный ландшафт, в памяти его оживали бетховенские симфонии, он слышал раскаты могучих аккордов.
По знаку геофизика Каштан включал гамма-спектрометр. Вспыхивали индикаторные лампочки, перья самописцев начинали чертить черные и красные извилистые линии.
Приступали к поиску. Вертолет, пролетая над горами, в точности повторял их рельеф. Каштан уже привык к этой акробатике и относился к ней спокойно.
Вертолет скользил, словно на колесах, над вершинами елей, вниз по склону. Впереди открывался обрыв, и машина стремительно опускалась вниз на малых оборотах двигателя. И снова взмывала вверх и опять вниз. Вновь высота и вслед за ней бездонное падение, головокружительные виражи и резкие крены…
Несмотря на большие физические нагрузки, которые приходилось переносить, Юрию нравилась эта работа. И он полюбил возвращения на полевой аэродром, когда усталые люди, объединенные каким-то особым братством, медленно шли к общежитию. Они умели работать и отдыхать. Каштан убедился, что даже такие обыденные, казалось бы, вещи, как ужин или баня, могут доставить человеку радость. Но самое главное, люди, которые окружали его, обладали чувством собственного достоинства.
Каштан предпочитал работать не на вертолете, а на легком самолете. На нем ощущение полета было острее. И когда отряд перебазировался в Амурскую область, Каштан стал летать на самолете вместе со своими приятелями — пилотом Андреем Климовым и геофизиком Сашей Пушкарем.
С высоты птичьего полета Юрий наблюдал, как постепенно, из месяца в месяц, менялись времена года.
После буйного многоцветья приморской осени — спокойный темно-зеленый разлив приамурских лесов, и наконец в январе потянулись внизу запорошенные снегами горные кряжи, увалы, котловины северного Забайкалья.
К Каштану пришло особое состояние души, которое он сам назвал — радостью пространства.
13. ДЕВУШКА ЗАПУСКАЕТ ШАР
Как ни старался Юрий, он не мог одолеть суеверного чувства. Ему казалось, будто стоит лишь сообщить Ане, что он жив и здоров, как тут же произойдет беда. Он так и не написал ей ни строчки, хотя начиная с октября бухгалтерия по его просьбе пересылала денежные переводы жене в Москву.
Но когда в феврале уезжал геофизик Серебряков, Каштан наконец решился. Он вручил Серебрякову триста рублей и письмо для Ани.
В письме Каштан сообщал, что чудом остался жив и работает в Сибири. Писал, что не видит пока возможности вернуться в семью. Скорее всего он попросит Аню дать согласие на развод. Деньги будет посылать регулярно. Адреса своего не сообщает, поскольку он меняется каждую неделю.
Серебряков улетел, а Юрий стал мучиться, понимая, сколько горя принес и еще принесет Ане. Однако и поступить иначе он тоже не мог.
Вскоре после этого Климов, Пушкарь и Каштан стали летать по новым и сложным маршрутам. Отряду предстояло обследовать участки, прилегающие к зоне БАМа, в том числе долины рек Абалан, Туя и Цыпа. Это была уже Бурятия.
И Каштана и Андрея с Сашей почему-то умиляло и смешило название реки Цыпа. Все трое шутили, что им не терпится полететь на свидание с этой ненаглядной Цыпочкой.
Шутили, шутили и дошутились…
В один из морозных дней они вылетели в район средней Цыпы.
Привычно ревел мотор, пульсировали разноцветные огоньки на приборной доске, попискивала рация.
Внизу тянулись дикие, безлюдные, насквозь промороженные таежные дебри, хаотические нагромождения диабаза, буреломы, каньоны, кряжи, заснеженные хребты, ущелья.
Где-то здесь геофизики обнаружили рудную зону. Горные породы подали сигналы, что в их недрах скопились мощные залежи олова и молибдена.
Каштан занялся приборами. Меньше всего думал он о роке, злой доле или о происках судьбы.
Между тем исполнителем воли рока, сама того не зная, стала милая и добрая девушка, сотрудница метеостанции, запустившая в небеса радиозонд. А помогал ей в этом невольно недобром деле северо-восточный ветер, который резко подхватил поднявшийся в воздух метеорологический шар и погнал его навстречу самолету.
Этот наполненный газом баллон плыл вместе с воздушным потоком на той же высоте, что и самолет.
Георазведчикн, закончив обработку маршрута, развернули машину и легли на обратный курс.
Едва пилот успел выровнять самолет, как впереди возник шар. Он стремительно приближался, и за оставшиеся секунды предотвратить столкновение оказалось невозможным.
Удар был несильным, но шар лопнул, и в то же мгновенье клочья его оболочки втянуло в мотор. Мотор захлебнулся, и самолет, несмотря на отчаянные усилия летчика, стал нырять, заваливаться, неудержимо приближаться к земле. Он со скрежетом прочесал верхушки елей и с отбитым крылом шлепнулся в снег у подножия могучей лиственницы.
Прошло минут сорок, прежде чем все трое пришли в себя и вылезли из разбитого самолета. Проваливаясь по пояс в снег, выбрались к обдутому ветром каменному уступу. Дела были плачевны. У Андрея вывихнута челюсть, у Саши сломана рука. Каштан не мог повернуть голову: малейшее движение вызывало боль.
Однако Пушкарь со вздохом заметил:
— Не будем гневить бога, ребята. Мы легко отделались. Могло быть и так, что черепков бы не собрали.
Угодили в самую глухомань. Оставаться на месте аварии, терпеливо ждать, пока их разыщут поисковые самолеты? Но шансов, что летчики заметят их в этой чащобе, очень мало. Да и вообще, лучше не сидеть, а двигаться, как бы это ни было тяжело.
— Вот так Цыпа! — засмеялся Каштан. — Ай да милашка! — И ни к селу ни к городу продекламировал:
А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, Кто остался на трубе?— Ты что, спятил? — вяло поинтересовался Пушкарь.
— Просто я окончательно понял, что у меня на роду написано попадать в аварии и больницы.
— Ну до больницы еще надо доползти, — мрачно бросил Саша и посмотрел на свою руку, висевшую плетью.
Каштан и Климов зажали шинами руку Пушкаря и прибинтовали ее к шее. Затем Юрий перевязал Андрею голову, подтянув бинтами поврежденную челюсть, а тот, в свою очередь, туго забинтовал шею Каштана.
Сверяясь с компасом и картой, двинулись в путь. Шли медленно. Каштан сказал:
— Путешественник Моруэтт советовал, отправляясь в экспедицию, особенно вдумчиво подбирать своих спутников: ведь не исключено, что придется их съесть.
Спутники, однако, не откликнулись на это замечание.
Несколько часов продирались сквозь буреломы, одолевали крутые овраги и увалы. Когда наступила темнота, разожгли костер и провели около него ночь. С рассветом снова побрели.
Надо было выбраться из таежного массива, чтобы их могли заметить с воздуха. В том, что будут искать, не сомневались. И действительно, в полдень над ними пролетели вертолеты. Однако густые кроны деревьев помешали летчикам разглядеть в лесу троих людей. И еще дважды пролетали поисковики над тайгой. Но больше уже не возвращались. Парии приуныли.
Лишь во второй половине следующего дня после еще одной бессонной ночи с высокого каменистого обрыва они увидели закованное льдом русло могучей реки, которая петляла по днищу глубокой котловины. Это и была Цыпа.
Лица ребят почернели, обросли щетиной, глаза были воспалены, дыхание стало хриплым. А все же настроение поднялось: река неизбежно должна вывести к человеческому жилью.
Прошли еще сутки. Все были измождены до предела. Юрию казалось, что если он упадет, то встать уже не сможет. Однако злополучное невезение наконец кончилось: они вышли к одинокой избе, из трубы которой тянулся симпатичный дымок.
Хозяин избы, старый бурят с коричневым, изборожденным морщинами лицом, сидел, согнувшись, у печки, на полу и курил трубку. Когда в его дом ввалились трое обросших, перебинтованных мужиков, он зорко взглянул на них своими узенькими, как щелочки, глазами, вынул трубку изо рта и сказал:
— Иэй, шибко замерзли, ребята… Долго шли… Эро-план искал вас, однако?
— Нас, — кивнул Пушкарь. — Да вот — не нашел.
— Худое дело… Но да ладно. Бадма обогреет, кушать найдет. В Чиндалей отведет… — Старик поднялся. Он внимательно посмотрел на Андрея Климова, слегка прикоснулся сморщенными темными пальцами к бинтам на лице и спросил: — Морду побил, однако?
Андрей кивнул.
Старый Бадма вынул из висевших на поясе ножен клинок и разрезал бинты. Потрогал челюсть, пробормотал:
— Иэй, парень… Терпи мало-мало…
Он взялся одной рукой за подбородок Климова, а другой нанес неуловимо быстрый удар снизу. Андрей и вскрикнуть не успел, как что-то щелкнуло и челюсть встала на место.
— Вот спасибо, старина! — улыбнулся летчик.
— Лихо! — протянул Пушкарь. — Ай да Бадма! Может, и мне руку вправишь?
Старик осмотрел Сашину руку, снова забинтовал и проговорил:
— Больница надо.
То же он сказал и Каштану, прощупав его шейные позвонки.
Затем Бадма поставил на плиту чугунный котел и объявил:
— Чай будем варить.
Бадма притащил из сеней большой кус мяса кабарги и отправил его в котел. Затем всыпал туда же кастрюлю кедровых орехов, растолченных вместе со скорлупой. Пока вода закипала, вынул брус зеленого прессованного чая, рассек его на несколько кусков и бросил в котел. Затем положил в кипящий бульон-чай круг замороженного молока, кружку топленого масла, две горсти муки…
Наконец Бадма расставил пиалы и пригласил за стол «мало-мало попить чайку».
Как бы ни называлось это необыкновенное, обжигающее варево, парни пили его с наслаждением, чувствуя, как вместе с ним вливается живая энергия. Горячо запульсировала кровь, отступили усталость и боль.
А старый Бадма подливал им еще и еще.
— Давай, давай. Чай надо много пить. Болеть не будешь.
Потом раскатал на полу войлок, и парни, повалившись на него, мгновенно заснули.
Едва рассвело, старик разбудил их:
— Иэй, парни! На Чиндалей пора ноги тащить!
Бадма шел впереди по тропе между величественными кедрами и лиственницами. Двигался он легко, быстро, каким-то особенным пружинистым шагом. За ним гуськом тянулись парни.
Заиндевевшие деревья отливали серебром. На хвойных кронах искрились ослепительно белые хлопья снега.
Тайга кончилась внезапно.
Не было постепенного перехода от густого леса к редкому. Таежная чащоба обрывалась будто отсеченная мечом.
Впереди расстилалась заснеженная долина с плоскими сопками. По долине шагали опоры линии электропередачи и вилась дорога. У покрытого льдом озера — густая россыпь домов. Должно быть, это и был Чиндалей. Бадма подтвердил:
— Иэй, Чиндалей! Наш бурятский улус. Совхоз шибко богатый. Самый лучший в нашей республике.
Директор совхоза седоволосый Цырен Галсанович Очиров крепко пожал парням руки и с улыбкой сказал:
— Слава богу, живы! А то из-за вас такая кутерьма поднялась. Я сейчас же сообщу по радио вашему начальству, что вы все на ногах. Только носы расквасили.
— Если б только носы, — уныло заметил Пушкарь.
Бадма стал быстро говорить что-то по-бурятски. Очиров нахмурился.
— У вас, оказывается, серьезные травмы? Давайте-ка, друзья, живо в больницу! У нас там превосходный персонал. Вылечат в два счета.
14. КАШТАН-АХАЙ И ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА
Голый каменистый остров. И нет на нем ни единой человеческой души. Только тысячи птиц взмывают в воздух и, шурша крыльями, в тревоге уносятся куда-то вдаль. Что их напугало? Остров медленно таял, и сквозь оранжевое марево проступали беспокойно мерцающие волны. Они издавали странную басовитую мелодию, будто кто-то вытягивал из виолончели единственную и бесконечную ноту.
Когда Юрий очнулся, к нему подошел главный врач чипдалейской больницы Санжимитуй Цэдашиев. Главный врач был молод, собран и элегантен. Под гладким выпуклым лбом поблескивали черные раскосые глаза. Доктор попросил пациента набраться терпения и проявить выдержку, поскольку предстояли неприятные, но необходимые процедуры исследований.
В рентгеновском кабинете сделали снимки шейных позвонков. И с этими пленками доктор Цэдашиев вновь появился у постели Каштана. Он помог больному раздеться до пояса.
— Что за странные шрамы на спине?
Выслушав ответ, усмехнулся:
— Сдастся мне, что вы любитель острых ощущений. А за них приходится расплачиваться. Не скрою, Юрий Петрович, с шейными позвонками дело обстоит серьезнее, чем я думал. Требуется вмешательство нейрохирургов. Но о вашей транспортировке не может быть и речи. И лечиться придется здесь, у нас. Шутить с этими вещами нельзя. Такого типа травмы, если не хотите стать инвалидом, надо лечить упорно и долго. Долго и упорно. Мы этим и займемся. В меру наших сил и возможностей.
Доктор Цэдашиев сказал также, что пригласит для консультации и здешнего народного целителя, знатока тибетской медицины, восьмидесятилетнего Чимида.
И вскоре в палате появился старец. Двигался он медленно. Была некая величавость в его облике, походке. Пальцы непрерывно двигались, перебирая черные лаковые звенья четок. Лицо было цвета темной бронзы. Старика почтительно сопровождали Цэдашиев и старшая сестра Соелма.
Чимид сел на постель Каштана и своими плоскими желтыми пальцами медленно провел по позвоночнику. Обменялся короткими репликами с доктором на бурятском языке. Подержал пальцы на запястье Юрия, притронулся к печени, к селезенке. Снова проронил несколько слов по-бурятски.
Доктор Цэдашиев спросил:
— Вы что, Юрий Петрович, перенесли туберкулез легких?
— Перенес.
— В детстве сильно расшиблись?
— Было. Бревна покатились, и меня подмяло.
— Чимид-ахай полагает, что не так давно вы употребляли какие-то мощные биостимуляторы.
— Верно. Лечился женьшенем и пантами.
Чимид кивнул и с сильным акцентом сказал по-русски:
— Немножко будем лечить тебя, паря.
— Спасибо! — искренне обрадовался Каштан.
В последующие дни, когда и Андрей и Саша уже улетели из Чиндалея и Каштан остался в палате один, врачи приступили к лечебным процедурам. Лежать Каштану пришлось на жестком покатом ложе, крутизну которого можно было регулировать специальным механизмом.
Приходил старый лекарь, разминал и потихоньку сдвигал позвонки. Каштан цепенел от дикой боли. Но Чимид вводил в тело платиновые иглы — и боль отступала.
Недели через две, во время утреннего обхода, доктор Цэдашиев сказал Каштану:
— Вам назначены дополнительные процедуры. Сюда будет приходить специалист по массажу и лечебной гимнастике. Придется вам недель пять, а то и шесть изрядно повертеть шеей. Уж потерпите.
— Потерплю, — отозвался Каштан. — Готов лечиться, пока не выгоните.
— Вот и прекрасно.
В этот день Юрий заснул после обеда и проспал почти два часа.
За окном уже угасал день.
Когда он открыл глаза, то увидел в полутьме на табурете у постели силуэт девичьей фигурки. Положив подбородок на кулачок, девушка молча смотрела на него.
Каштан неуверенно произнес:
— Добрый вечер.
— Вечер добрый, — откликнулась посетительница.
Голос у нее был свежий, певучий.
Она поднялась с табурета, подошла к выключателю. Вспыхнул свет, и Юрий увидел юную бурятку с черными, коротко стриженными волосами. Девушка была удивительно хорошо сложена.
Говорила она мелодично, словно песню пела:
— Вас не затруднит, Юрий Петрович, раздеться до пояса и лечь на живот?
Юрий не заметил ни малейшего акцента в ее речи. Он спросил:
— А это обязательно?
— Желательно. Делать массаж через рубашку трудновато.
— Ах, вот оно что! Стало быть, вы и есть тот самый специалист, о котором говорил доктор?
Она кивнула. Каштан покорно стянул рубаху, лег и пробормотал:
— Чувствую, что всю оставшуюся жизнь я обречен провести, лежа на животе. И за что такая недоля?
— За что? — переспросила девушка, втирая ароматную маслянистую жидкость в его спину. — Если свои шейные позвонки вы вывихнули, когда слишком рьяно заглядывались на женщин, то это — расплата. Законные жены в таких случаях говорят: и поделом! Но если шею вам свернул ревнивый соперник, то это просто невезение.
— Одна-ако! — удивился Каштан. — А других версий у вас не найдется?
— Найдутся и другие. Но от них вы начнете вибрировать, а мне надо, чтобы спина ваша расслабилась.
Прежде чем начать массаж, девушка прощупала верхнюю часть позвоночника. Движения ее пальцев были легкими и даже приятными. Хотя массировала она самые болезненные места, прикосновение этих умелых и ласковых рук доставляло Юрию удовольствие.
— До того хорошо, — проговорил он, — что я, кажется, замурлычу.
— По старинному поверью, — откликнулась массажистка, — мурлыкающий кот предвещает всяческие напасти.
— Вот тебе и на! Я уже и кот!
— С завтрашнего дня начнем лечебную гимнастику, и тогда, Юрий Петрович, вам придется не мурлыкать, а скулить от боли.
— То есть стану уж не котом, а барбосом? Так надо понимать?
Она закончила массаж, подошла к умывальнику, стала мыть руки.
С любопытством глядя на девушку, он спросил:
— А у специалиста по массажу и лечебной гимнастике есть имя?
— Имя — Оюна. Фамилия — Сахьянова.
— А что это имя означает?
— Хотите попутно с лечением учиться бурятскому языку?
— А почему бы нет? Непременно попрошу ваше начальство, чтобы вы давали мне уроки вперемежку с массажем.
— И не пытайтесь, если не хотите навлечь на себя гнев моего дедули.
— А при чем тут ваш дедуля?
— При том, что деда моего зовут Чимид.
Каштан был обескуражен:
— Вы внучка Чимида?
— Вот именно.
Остановившись у двери, она сказала:
— Буду вам очень признательна, Каштан-ахай, если ни в течение часа не станете подниматься с постели.
— А вы уверены, Оюна, что ко всему прочему я еще и — ахай?
— Какие же могут быть сомнения? Слово «ахай» мы, буряты, почтительно добавляем к имени, когда обращаемся к пожилому мужчине. Это уважительное обращение, Каштан-ахай.
— Ах, к пожилому?! Ну тогда добавляйте. Весьма вам благодарен.
— А вот будь вы пожилой дамой, я с той же учтивостью называла бы вас Каштан-абгай.
Лицо Оюны было серьезно, но в глазах прыгали насмешливые искорки.
— Так, пожалуйста, — бросил Каштан, — мы, пожилые люди, воспримем это с пониманием. Лично я счел бы за честь именоваться Каштан-абгай.
— Рада за вас. Такую широту взгляда не часто встретишь в наше время.
Оюна вышла.
А у Юрия от разговора с ней остался легкий звон в ушах. И что-то вроде слабого головокружения.
Надо же! Какие, однако, девицы проживают в Чиндалее! Он-то представлял экзотических дикарочек. Вот вам и дикарка с парижской прической и столичной лексикой!
Надо бы попробовать нарисовать Оюну. Она напоминает лань. Гибкая, грациозная, норовистая. А в глазах — чертики. Передать все это на бумаге, конечно, трудно. Но до чего же хочется!
Он попросил старшую сестру Соелму купить бумагу, краски и карандаш. Соелма сказала о его просьбе директору совхоза Очирову, который как раз уезжал на сессию Верховного Совета в Улан-Удэ.
Вернувшись из города, Цырен Галсанович принес Юрию набор красок, кистей, бумаги, альбомов, карандашей. У Каштана от такого богатства глаза разгорелись. Здесь были даже его любимые — темпера и гуашь.
В ответ на слова благодарности Очиров сказал:
— Я ведь это делал не совсем бескорыстно, Юрий Петрович, а с надеждой на то, что в будущем, когда поправитесь, поможете нам художественно оформить стенды и прочую наглядную агитацию…
Конечно же, Юрий готов был охотно сделать все, о чем попросят приютившие и душевно обогревшие его чиндалейцы.
15. ГОЛУБАЯ ТРАВА АЯ-ГАНГА
Лечение шло успешно.
Старый Чимид трудился над каштановским позвоночником подобно мастеру, отлаживающему и настраивающему музыкальный инструмент. Чимиду ассистировала Оюна.
Упражнения для позвоночника, которые она заставляла делать Каштана, хоть и были болезненными, но постепенно вырабатывали подвижность и гибкость. А специальный массаж оживлял кровеносную и лимфатическую системы. И с каждым днем их живое биение было все ощутимее.
Общаться с Оюной было непросто. Каштану нравились неожиданные повороты ее мысли, парадоксальные замечания и ответы, предугадать которые было невозможно.
И внешность ее была необычной. В черных глубинах загадочных восточных глаз что-то светилось — то ли лукавство, то ли настороженность, то ли неприязнь. В ее движениях не было и намека на рисовку и манерность, а проявлялась естественная грация.
Вечерами Юрий делал бесчисленные наброски углем, карандашом и шариковой ручкой, пытаясь передать черты лица Оюны, пластичность ее фигуры, характерный поворот головы. Но это никак не удавалось ему.
Гораздо легче было рисовать старого Чимида. Каштан сделал несколько акварельных портретов и однажды в присутствии Оюны подарил Чимиду. Старик долго рассматривал их. Потом проронил несколько фраз по-бурятски.
Оюна перевела:
— Дедушка говорит, что душа его скоро переселится в новое бытие и забудет краткосрочную земную юдоль. Но вот теперь останется след от пребывания Чимида на земле. И еще дедушка сказал, что вы, Каштан-ахай, ухватили отсвет души в его облике. А значит, вы не только мастер своего дела, но и обладаете чутким сердцем.
Чимид, внимательно слушая Оюну, одобрил ее перевод:
— Так, так, внучка… Верно сказала, внучка…
Потом он снова стал что-то говорить по-бурятски.
Оюна перевела:
— Дедушка Чимид сказал, что в мае разрешит вам не только ходить, но и заставит скакать на лошади, грести на лодке, пилить деревья… А пока, говорит он, вы должны весь март и апрель заниматься с Оюной упражнениями и массажами. Он же будет наблюдать за процессом выздоровления.
Чимид кивнул, поднялся и, бережно держа портреты, степенно удалился.
Раздевшись до пояса, Каштан сел на стул, лицом к спинке и положил голову на руки. Оюна принялась массировать. Негромко сказала:
— Примите мои сочувствия, Каштан-ахай.
Он удивленно приподнял голову:
— Ахай готов принять сочувствия, как только узнает, по какому поводу.
— Смотрите, как лихо вы крутите шеей! Боли при этом не ощущаете?
— Ощущаю музыку небесных сфер… А все же объясните— по какому поводу сочувствие?
— Но ведь это же сущее для вас наказание — застрять в забытом богом поселке на такой долгий срок! Городскому человеку это вынести трудно. А вам придется пробыть здесь весь апрель и май. Вот я и сострадаю.
Юрий хмыкнул, Оюна спросила:
— У вас жена есть?
— Конечно. Даже несколько.
— Значит, в скором времени надо ожидать нашествия ваших жен в Чиндалей, — вздохнула она.
Когда сеанс кончился, Каштан, натягивая свитер, сказал:
— Оюна, у меня к вам просьба.
— Уже догадалась, что за просьба: провести сеансы тибетского массажа вашим женам.
— Дались вам мои жены! Похоже, что вас ужасно волнует эта тема. А?
— Вот уж ни капельки! Просто я хорошо знаю столичных дамочек. Их хлебом не корми, только сделай тибетский массаж… Ладно, выкладывайте вашу просьбу.
— Сможете уделять мне по часику в день? В течение недели.
— Уделять вам по часику? Зачем это?
— Хотел бы рисовать вас.
— Вам же дедушка не позировал, а портреты вы сделали. Вот и меня рисуйте заочно.
— Я пробовал. Ничего не получается. Можете убедиться.
Он подал ей несколько листов с набросками. Она быстро просмотрела их и вернула.
— У меня к вам ответная просьба, Каштан-ахай. Выполните ее, соглашусь позировать.
— Слушаю вас, Оюна.
— Убедительно прошу не называть меня на вы. Мне неудобно. Да и в бурятском селении не принято, чтобы старший по возрасту, солидный, женатый мужчина обращался к девчонке на «вы».
— Главное, что — женатый…
— Я говорю совершенно серьезно. Меня дедушка даже отругал за то, что я позволяю вам называть себя на «вы». Хотите, чтоб он меня еще и выпорол?
— Боже упаси! Моя задача — уберечь вас от наказания!.. Все! Отныне называю тебя на «ты»… А теперь изложи свою просьбу.
Она улыбнулась:
— Так это и есть моя просьба, Каштан-ахай. Вопрос улажен.
— Значит, будешь позировать?
— А куда денешься? Посмотрела ваши наброски. На них я — мымра мымрой. Раскосая. И скулы как у каменной бабы в степи. Уж вы разгулялись вовсю, когда дело дошло до азиатских глаз и скул. Это, доложу я вам, типичное проявление великодержавного шовинизма — так карикатурно изображать бедную бурятскую девушку.
Каштан, откинув голову, расхохотался.
Оюна кротко заметила:
— А вот если будете так дергаться, то позвонки снова разойдутся. И я не ручаюсь, что мы сможем снова поставить их на место.
В палату вошла старшая сестра. Она строго глянула на Оюну и что-то сказала ей по-бурятски. Девушка кивнула.
— Ну что ж, — произнесла она, — благодарю за внимание. До завтра! Меня ждут.
— Если не секрет, кто же?
— Какие могут быть секреты в Чиндалее! За мной пришел один из моих самых стойких ухажеров — Баир Мункусв. На редкость серьезный человек. Он учитель истории. И постоянно рассказывает мне о разных исторических событиях. Например, о гуситских войнах… А вот был у меня в Улан-Удэ кавалер — лейтенант Уманен. Так он любил разъяснять мне положения Устава строевой службы. Он говорил про Устав с упоением… А еще есть поклонник из нашего совхоза. Зоотехник Вазароп. Так он вообще ничего не говорит. Молчит и молчит. Даже, знаете, интересно.
Каштан улыбнулся:
— Стало быть, сегодня — исторический вечер?
— Ага. Баир наверняка расскажет о Петровских реформах или про египетских фараонов. Фараоны — его конек.
— Ну что ж, счастливо тебе, девочка. До завтра!
Она как-то странно посмотрела на него и вышла.
На следующий день Оюна сказала:
— Знаете, Юрий Петрович, мне понравилось, как вы меня вчера назвали. Я была очень тронута.
Каштан недоуменно спросил:
— А как я тебя, девочка, назвал?
— Вот так и назвали.
— У меня как-то само собой получается.
— Вот это и приятно.
Оюна достала из сумки широкий термос и поставила на тумбочку.
— После гимнастики и массажа вам надо поесть горячие позы. А уж потом будете рисовать меня. У нас принято, чтобы мастер перед работой вкусно поел.
— Что это ты придумала, Оюна? Совершенно ни к чему. Мне здесь вполне хватает еды.
— Разве ж это еда для мужчины? Дедушка Чимид сказал: «Внучка, делай для художника настоящую еду. Делай баранину, позы, чтобы он стал батором…» А то, что велит дедушка, обсуждению не подлежит. В нашем улусе он самый мудрый. И вам придется есть то, что я буду готовить и приносить вам.
— И я стану батором?
— Если будете слушаться дедушку и меня.
— Чего не сделаешь ради того, чтобы стать батором, — вздохнул Каштан.
Позы оказались пельменями громадных размеров. Их надо было надкусывать, выпивать горячий мясной сок, а уж потом съедать необыкновенно вкусное содержимое. Но больше трех штук Юрий одолеть не смог.
Когда Каштан начал рисовать Оюну, она сказала:
— Если вы потребуете, чтобы я сидела истуканом, не моргала и не дышала, то сразу вам заявляю — не смогу.
— Можешь не только моргать, но и курить трубку, показывать мне язык, демонстрировать фокусы, декламировать стихи, петь. Кстати, у тебя должен быть прекрасный голос.
— Пение в больнице расценят как хулиганство. И будут правы… Кто же тогда будет готовить дедуле баранину с лапшой?
— Ну, извини, Оюна. Я просто забыл о последствиях.
— О баранине?
— С лапшой, — кивнул Юрий.
Быстрыми движениями он делал наброски. Глаза. Очень важно было уловить необычность глаз. Особенность озорного взгляда.
Пока он рисовал, Оюна негромко читала стихи:
Вы слыхали когда-нибудь О траве голубой ая-гаига? Ее имя — Как отзвук Старинного медного гонга. У нее суховатые Колкие стебли, От нее синеватые Наши бурятские степи… Посмотрите — Я вам Ая-гангу принес, На колени насыпал вам эту траву. В этом запахе — То, чем дышу и живу. Если хочешь, мои друг, Привезу я с собой Много-много пахучей травы голубой.— Оюна, — сказал Каштан, — как только растает снег и степь зазеленеет, сходим туда, и ты покажешь мне траву ая-ганга?
После долгой паузы Оюна сухо сказала:
— Каштан-ахай! Медсестре Сахьяновой поручено провести с вами в больнице курс лечебных процедур. Прогулка в степь вдвоем не входит в этот курс. Возможно, потому, что местные жители восприняли бы такую прогулку не совсем как лечебную процедуру.
— Прости, девочка, я не подумал. Пожалуйста, прости.
Юрий по-прежнему работал в быстром темпе. Сделал три листа. Принялся за четвертый. Вместо угля взял карандаш. Вновь стал набрасывать линии. Он остался доволен двумя эскизами. На одном Оюна получилась задумчивой, а на другом удалось схватить динамичный поворот головы и озорной искрящийся взгляд.
— Как сказал бы мой папа, — заметила Оюна, — помесь рыси, козы и ласточки в одной оболочке.
— Очень верно сказано! Очень. А кстати, кто они, твои родители?
— Живут в Улан-Удэ. Папа — певец, солист оперного театра. А мама — главврач больницы.
— Почему же…
— Почему я не осталась в городе? Почему сбежала из ленинградского балетного училища? Почему не прислушалась к заклинаниям матери и приехала сюда, в улус? Задайте такой вопрос другим. И любой вам объяснит.
— И что же они скажут?
— Каждый растолкует вам: Оюна — шалая, сумасбродная, ненормальная… Да вы и сами убедились, что я — с придурью. Правда ведь?
Он рассмеялся:
— Хочешь, чтобы я разубедил тебя в этом?
— Хочу.
— Ну так вот. Скажу со всей откровенностью и прямотой: ты, Оюна, — прелесть.
Она нахмурилась и покачала укоризненно головой.
— Юрий Петрович, будем считать, что вы этого слова не произносили. Хорошо?
— Но я…
— Или давайте решим, что чиндалейской бурятке это слово незнакомо. И она по наивности подумала, что «прелесть» означает по-русски: «умелый специалист по массажу». Договорились?
— Оюна, Оюна, ты меня то и дело ставишь на место. Я понял, что мне надо быть осмотрительней по отношению к тебе.
— Не только по отношению ко мне, Каштан-ахай.
Она помолчала. Взгляд ее стал задумчивым. Без всякой связи с предыдущим она сказала:
— Я вот о чем постоянно думаю, Юрий Петрович, и не нахожу ответа. Может, вы его знаете? Ведь у вас есть и опыт, и своя судьба. А я еще зеленая девчонка…
— О чем ты, Оюна?
— Скажите, в чем предназначенье человека? Каждого отдельного человека? Вот именно вы или я — зачем появились? И что человеку надо? Могли бы вы ответить?.. Вы делаете в жизни то, что вам хочется делать?.. Смотрю я на людей и мысленно спрашиваю каждого об этом: в чем твое предназначенье? Зачем живешь?
Оюна прошла по палате, глянула исподлобья на Каштана и сказала:
— Извините. Мне пора. До завтра!
«До чего же странная девчушка, — подумал Юрий, когда Оюна ушла. — Сколько в ней всего перемешано. И впрямь — и газель, и рысь, и ласточка, как сказал ее папа… Простенькие, однако, вопросы задает Оюна, ничего не скажешь: в чем предназначенье человека? Что человеку надо? Насколько помню, за три тысячи лет ни один мудрец не смог по этому поводу дать внятного ответа.
Впрочем, Оюиу это интересует вовсе не в общечеловеческом плане. Она хочет понять отдельного человека— земляка, меня, саму себя: какое у каждого предназначенье, что он хочет от жизни… Она ждет от меня ответа. А что я ей скажу? Скажу, что видел свое предназначенье в служении архитектуре, но потерпел крах? Расскажу о том, как рассыпаются мечты от столкновения с действительностью? Был убежден, что архитектура— мое призвание. Но доказать это не сумел…»
С этими мыслями Юрий лег спать. Однако сон не шел к нему. Оказалось, память сохранила обиды прошлых лет, и сейчас он невольно переживал их заново.
Он вспомнил, как однажды повезло его однокашнику Никите Смирнову. Благодаря каким-то родственным связям Никита получил великолепный заказ на проект здания советского культурного центра в одной из африканских стран. Все, что придумывал Смирнов, оказывалось не более чем унылой компиляцией, убогим стереотипом. И Каштан подарил ему свежую идею, здание многогранника на «ногах» с круглыми окнами. Никита ухватился с благодарностью за идею и создал на основе рисунка Юрия проект, который и был утвержден. Спустя несколько лет Каштан видел в телепередачах и в журналах это светлое, словно бы парящее над землей здание и испытал смешанное чувство зависти и гордости.
Позже Юрий придумал оригинальное решение комплекса речного вокзала для города на Оке. Свой проект послал на конкурс. Каштан не стал бы переживать, если б потерпел поражение в честной борьбе, в творческом соревновании. Но, как потом выяснилось, его проект, как впрочем, и десятки других, даже не рассматривался. Результаты конкурса, его победители были предопределены заранее.
И еще несколько раз Юрий работал вхолостую. Вначале он загорался, ночами сидел над ватманом, придумывал, рисовал, чертил, радовался удачным идеям и находкам. Но потом следовал один и тот же результат. Он трудился впустую. Уроки были горьки.
Правда профессор убеждал его, что творческая работа никогда не бывает напрасной и поэтому надо продолжать ею заниматься, несмотря ни на что, всю жизнь.
Юрий перестал участвовать в конкурсах. От унылой повседневности творческое воображение угасало. Он думал, что с творчеством покончено навсегда.
Однако, чем настойчивее Юрий убеждал себя этой ночью, что о возвращении в архитектуру не может быть и речи, тем сильнее воображение рисовало какие-то поначалу размытые, а потом и ясные очертания насыщенных светом легких зданий…
Странная это была ночь. Юрий так и не уснул до утра. Он зажигал свет и набрасывал в альбоме силуэты привидевшихся зданий.
«Уж не искушает ли меня дьявол? — думал он. — Что за силы взыграли и толкают меня на неверный путь бесплодных трудов? И почему именно здесь — в больнице далекого бурятского улуса?»
16. ИСКУШЕНИЕ
Апрельское тепло испарило остатки снега на сопках и в долине. Земля нежилась под солнечными лучами. В тайге еще держался снег, но и он готов был растаять.
С той ночи, когда он набросал в альбоме несколько эскизов, Юрий начал жадно работать. В нем словно прорвался мощный поток фантазии, неистовой игры воображения. Один за другим ложились на ватман силуэты зданий, эскизы, рисунки, перспективы…
Доктор Цэдашиев разрешил Юрию выходить. Сначала он прогуливался около больницы, а потом стал бродить по поселку.
Жители Чиндалея здоровались с ним как со старым знакомым. Мужчины дружески пожимали руку и, называя по имени-отчеству, осведомлялись о самочувствии. Женщины непременно одаряли доброжелательной улыбкой.
Каштану симпатичны были люди, жившие здесь, нравилась ему и местность, окружавшая поселок и озеро Кункур.
Чиндалей лежал на стыке двух резко несхожих рельефов, и это придавало необычность ландшафту. Сюда, к озерной котловине, выходили и обрывались у северного берега скалистые отроги горных хребтов и распадки, густо поросшие тайгой. А с других сторон озеро Кункур обрамляли пологие безлесные горы, затянутые синеватой дымкой.
И эти древние холмы, и сиреневые заросли багульника, и спокойная озерная гладь — все казалось задумчивым, умиротворенным.
Ветер приносил с тихих берегов запахи весенней земли.
Там вдали уходила к югу всхолмленная степь. Но где-то за горизонтом ее преграждали могучие таежные массивы и кряжи.
Юрия волновал этот необычный пейзаж. Он делал много пастельных этюдов, а затем раздавал их мальчишкам, постоянно и повсюду сопровождавшим его во время прогулок по Чиндалею.
В голове его постепенно зарождался образ поселка, каким он мог бы стать, приложи руку архитекторы.
Началось все с шутливой попытки придумать такой «дом для Оюны», который соответствовал бы ее мятежному характеру. Поначалу Юрий нарисовал забавный коттедж в форме скворечника, с тремя круглыми окнами, глядящими в разные стороны света. Потом он придумал дом, напоминающий раскрытый и изогнутый веер. Но в конце концов остановился на проекте здания, в котором озорное начало угадывалось в лихом спиральном переходе от нижнего этажа к верхнему, в задорной пластике, соединявшей объемные элементы стен с окнами.
Построить такой дом было делом вполне реальным. И поручи кто-нибудь Каштану возвести коттедж, он с наслаждением взялся бы за эту работу.
Возможно, не будь Юрий знаком с Оюной, не появились бы и другие проекты-фантазии. Для Оюны нужны были и Дом молодежи, и ателье, и стадион, и яхт-клуб, и Дом аэронавтики. И он проектировал их — радостно и увлеченно. Оюна танцевала в сверкающем зале, играла в теннис на корте, читала книги в светлой просторной библиотеке, слушала концерт и далее исполняла роль жительницы Атлантиды в самодеятельном спектакле.
Чиндалей застроен был хаотично, скучными, однообразными домами из дерева, шлакобетона, серого кирпича. Пыльные улицы, без деревьев, газонов и скверов, навевали тоску.
Юрий ходил по сбегающим к Кункуру переулкам и неторопливо расставлял на приозерном склоне «красные палаты» — так называли студенты-однокурсники импозантные здания Дворцов культуры и спорта, музеев, театров и библиотек. Красные палаты придали бы Чиндалею живописный облик. Но главное их предназначение было, конечно, в другом. «Палаты» помогли бы раскрыть молодым жителям новые грани бытия, пробудить вкус к творческой активности. Дом юного астронома научит подростков разговаривать со Вселенной. Яхт-клуб откроет радость покорения водного простора, задор и счастье состязаний. В Доме аэронавтики юноши и девушки займутся изготовлением дельтапланов, а затем будут парить на них над горами, тайгой и долиной.
Каштан отчетливо видел эти здания — и скошенный кверху шестигранник астрономического дома, и легкое, насыщенное светом здание яхт-клуба с причалами, и просторный полукруглый двухъярусный Дом аэронавтики.
Конечно же, Юрий, сам того не сознавая, воплощал и подспудно бродившие в нем давние-давние мальчишеские мечты. И парусная яхта, и телескоп, и Атлантида, и бесшумное парение в облаках — это были его, Каштана, сны и грезы.
Бывая в поселке, Юрий думал о композиции нового Чиндалея, мысленно заменял стандартные дома красивыми, оригинальными зданиями. Вместо унылого, похожего на барак клуба возвел радостный Дом молодежи, а неподалеку — Дом народных обрядов.
Наполненное светом сооружение из кедра и лиственниц станет новой больницей. Здание детского сада, похожее на птицу, раскинувшую крылья, он расцветил звонкими красками.
Каштан поставил библиотеку — строгое здание из двух параллелепипедов, Дом быта, в котором внятно проявились линии азиатской архитектуры, магазин с двумя каменными башнями по бокам, ипподром и баню.
Он пересадил из тайги на улицы Чиндалея сотни деревьев. Зеленый наряд удачно дополнил панораму современного городка, органично вписанного в природную среду.
Юрий формировал объемно-пространственную структуру нового Чиндалея, его художественный строй. Он уже хорошо представлял его образ, его ритмы, пластику, пропорции.
17. ДОМ ДЛЯ ОЮНЫ
После одной из прогулок Юрий вернулся в больницу радостно возбужденный, но и несколько пристыженный, поскольку опоздал на процедуру.
Оюна сказала, когда он вошел в палату:
— Видела я вас из окна. Мне показалось, что вы прицениваетесь к Чиндалею. И так увлеклись этим занятием, что забыли о процедуре… Приглянулся вам наш поселок?
— Да, понравился. И очень. Но таким, каким я увидел его.
Она озадаченно сдвинула брови:
— Не понимаю вас, Юрий Петрович.
— Дело в том, что я по профессии — архитектор. Вот и думаю о новом облике Чиндалея. Понимаешь? Ваш поселок может быть иным, совсем иным. Он должен естественно вырастать из вашей природы и выглядеть прекрасным цветником на берегу озера. Он должен стать солнечно ярким, живописным, светлым, радостным и удобным…
— И вы видите его таким? — удивленно спросила Оюна.
— Вижу. Очень ясно и отчетливо. Ты и сама можешь представить его таким, если посмотришь мои рисунки.
— Но ведь это фантазия, сказка.
— Да, конечно, фантазия. До той поры, пока люди не возьмутся за дело. Сказка, если чиндалейцы не решатся выстроить новый город для самих себя. Понимаешь? Для самих себя!
После массажа он показал девушке выполненные гуашью и темперой изображения необычных зданий на фоне знакомого пейзажа, перспективные панорамы нового города.
Когда она перебирала листы, на щеках ее вспыхнул румянец. Ни разу Юрий не видел Оюну такой взволнованной. Неожиданно глаза ее наполнились слезами.
— Что с тобой, девочка? — тихо спросил он.
— Простите, Юрий Петрович, это от радости… За все три месяца вы никогда не были таким счастливым… И от ваших картин тоже веет радостью… Извините меня.
— А ведь это благодаря тебе, Оюна, я стал снова заниматься архитектурой. Ты — причина, ты — виновница всего этого извержения.
Она посмотрела на него с удивлением и беспокойством:
— Что? Что вы сказали?
— Помнишь, ты задала вопрос о предназначении человека? С него все и началось. Честное слово! Ты своим вопросом растревожила меня, вызвала смятение. Понимаешь? И что-то давно назревшее внезапно прорвалось. И поэтому самое первое, что я придумал, знаешь, что было? Дом для тебя.
Она слушала Каштана с таким напряжением, что ему стало не по себе.
Он уже хотел шуткой снять это напряжение, но она вдруг неожиданно прижала руки к лицу и разрыдалась.
В палату зашла старшая сестра. Она недоуменно посмотрела на плачущую девушку и на растерянного Каштана. Затем спросила о чем-то Оюну по-бурятски. Та ничего не ответила. Всхлипывая, вытерла глаза, собрала свою сумку и пошла к двери.
А после ужина в палату к Каштану вместе с доктором Цэдашиевым пришли гости — председатель поселкового Совета Шаракшанэ, директор совхоза Очиров и парторг Доржиев. После церемонии рукопожатий Каштан с улыбкой сказал:
— У вас такой торжественный вид, будто хотите вручить вербальную ноту с ультиматумом.
— Так оно и есть, — заметил Шаракшанэ, — мы действительно к вам с ультиматумом.
— Мне собирать вещички?
— Для начала покажите-ка нам ваши проекты нового Чиндалея. А там уж решим, как с вами поступить.
— Вот оно что! Но ведь никаких проектов не существует. А есть, как верно сказала Оюна, стихийный полет фантазии.
— Мы бы и хотели взглянуть на этот полет.
— Воля ваша. Посмотрите.
Юрий разложил на топчане и на подоконнике листы с изображениями отдельных зданий, а также обшей панорамы общественного центра и набережной нового Чиндалея. В разных ракурсах были нарисованы Дом молодежи, библиотека, детсад, больница, Дом юного астронома, аэровокзал…
— Это лишь художественный образ, — сказал Каштан, — без расчетов, без разработки подробных чертежей, без смет.
— Насколько необычные здания! — заметил доктор. — Недаром говорят, что архитектура — это музыка, застывшая в камне. А уж будущую лечебницу вы придумали такой красивой, что в нее будут рваться и здоровые люди.
Руководители Чиндалея вдумчиво, подолгу рассматривали каждый лист.
Наконец, Шаракшанэ, сняв очки, торжественным тоном произнес:
— Сам бог послал вас в Чиндалей!
— Ну, это означало бы, что всевышний лично подстроил аварию самолета, — улыбнулся Каштан. — Мне в такое трудно поверить.
— Так или иначе, мы благодарны случаю, забросившему к нам столичного архитектора. И мы обращаемся к вам с просьбой — как только вылечитесь, помочь осуществить наши давние планы.
…Не думал Юрий, что этот вечер окажется переломным в его нынешней жизни.
Сперва он слушал чиндалейских руководителей с некоторым удивлением и недоверием. Слова о том, что они много лет вынашивали планы создания нового, ультрасовременного поселка городского типа, воспринял поначалу как маниловщину.
Однако по мере разговора стал осознавать, что все это всерьез. А значит, перед ним, Каштаном, неожиданно открывается уникальная и в то же время реальная возможность осуществить свои архитектурные мечты.
Каштан узнал, что богатейший в республике Чиндалейский совхоз накопил многомиллионные фонды для строительства большого масштаба. Очиров рассказал о безуспешных попытках заинтересовать этими планами архитектурно-строительные организации. Они лишь присылают типовые проекты домов и ни в какую не хотят понять, что замысел чиндалейцев, по местным меркам, грандиозен. Даже руководитель республики однажды назвал планы чиндалейцев амбициозными. Возможно, он и прав, но ведь такая амбициозность никому не во вред.
И Очиров, и Доржисв, и Шаракшанэ сошлись в единой мысли: художественный замысел Каштана — это именно то, к чему они всегда стремились. Поэтому они полны решимости воплотить фантазию в жизнь, если Каштан согласен работать.
Юрий немного растерянно сказал:
— Я и не подозревал о ваших грандиозных планах. Но, наверно, этими идеями пропитан здесь воздух. Вот и родился архитектурный образ. Но, повторяю, это всего лишь фантазия на тему «Новый Чиндалей».
— Эту фантазию мы поставим на деловую основу, — бросил Очиров.
Каштан, вздохнув, сказал:
— Вашими устами да мед бы пить, Цырен Галсанович! Вы не подозреваете, вы даже отдаленно не можете себе представить, что значит построить городской комплекс по оригинальному проекту, да еще вдали от центра. Строительство — вещь безжалостная. Жесточайший дефицит самого необходимого. Нехватка рабочей силы и материалов. Рутина и проволочки. Стройка растягивается на годы. Проекты устаревают… Так это выглядит не в сказке, а наяву. Такова реальная действительность. И чудес, к великому сожалению, тут не бывает.
— Мы и не рассчитываем на чудеса, Юрий Петрович, — суховато произнес Очиров. — Люди мы деловые, достаточно наслышаны о трудностях строек. И все же, если мы говорим, что обеспечим возведение нового Чиндалея не только в полном объеме, но и в кратчайшие сроки, то, будьте уверены, за свои слова отвечаем.
Шаракшанэ, усмехнувшись, бросил:
— Не в обиду вам будь сказано, но вы, видать, чересчур долго варились в столичных кругах, и привыкли видеть проблемы в определенном ракурсе. И ваш догматизм — не ваша вина.
— Если мы пойдем на это мероприятие, — заметил Доржиев, — то, будьте спокойны, стройка получит абсолютно все, что потребуется. Цемент, стекло, оборудование. Кирпич у нас свой. И в камне и в лесе, как вы понимаете, недостатка не будет.
— А где возьмете строителей?
— И с этим проблем не возникнет. На строительство нового города отрядим четыреста человек.
— Но ведь понадобятся искусные мастера, каменотесы, кровельщики, плотники, оформители…
— Чиндалей испокон века славился своими мастерами.
— Вон как? Вы уж простите, но, глядя на ваш поселок, этого не скажешь. Унылая, однообразная застройка. Ни одного строения, радующего глаз.
— Это верно. Тут сработал принцип — сапожник без сапог. Наши лучшие плотники и каменщики трудятся по всей республике. Как только понадобятся, отзовем.
Они смотрели на Каштана, а он задумчиво глядел в окно. Никто не нарушал молчания. Наконец Юрий сказал:
— Итак, насколько я понял, вы предлагаете разработать смету, техобоснование проектов, систем отопления, вентиляции, освещения, ну и прочее…
— Не только. Мы бы хотели, чтобы вы организовали и возглавили проектно-строительную контору и набрали себе хорошую штабную команду.
— Но я никогда не руководил строительством. Если не считать опыта работы по архитектурному надзору. Кроме того, я не специалист по сооружению водопровода, котельной, энергоузлов. Какой же из меня руководитель?
— Отвечу на это так, — сказал Шаракшанэ. — Кому же, как не вам, Юрий Петрович, возглавить коллектив, который воплотит ваши замыслы в жизнь? А насчет специалистов по теплотехнике и прочему не беспокойтесь. Пригласим на хорошие оклады инженеров.
Каштан снова задумался, глядя в окно. Потом повернулся к собеседникам:
— Давайте сделаем так. Построим экспериментальный объект. Получится — получится. Не выйдет, значит, не суждено. Проверим, кто на что способен. А?
— Ну что ж, — кивнул Очиров, — в этом, пожалуй, есть резон. И у меня вот какое предложение. Подготовьте технический проект современного двухэтажного коттеджа. В вашем стиле. Чтобы, как на ваших рисунках, сочетались и дикий камень, и дерево, и кирпич. Сколько вам на это понадобится?
— На всю документацию? За неделю управлюсь. А коттедж — для чего?
— Нижний этаж — под мастерскую со штабом. Верхний — для вашего жилья. Не вечно же вы будете в больнице.
Доржиев с пафосом произнес:
— Пусть этот дом станет символом перемен. Пусть он красотой и удобством действует на воображение. С него и начнется Новый Чиндалей.
— В наших силах, — заметил Очиров, — построить такое здание очень быстро, за пару недель.
— За пару недель?!
— Да. Но для этого вам надо завтра же подобрать площадку и составить список материалов. Мы все подготовим и привезем, пока вы сидите над проектом. Пусть это будет разминкой.
— Вы действуете так стремительно, что дух захватывает!
— А чего медлить? Столько лет ждали. Берите дело в свои руки! Станьте хозяином, распорядителем.
— Не действуйте опрометчиво, — рассмеялся Каштан. — Вы вступаете на рискованный путь.
— Риска не боимся.
— Вы просто еще не представляете характер моих возможных запросов. А узнаете и сразу дрогнете. И пойдете на попятную.
— Не дрогнем.
— И даже перед вещами нелепыми с точки зрения здравого смысла? Ну, представьте, что я вдруг потребовал телескоп!
— Для обсерватории? Да ради бога! Хоть четыре. Лишь бы на ' благо.
— Хм! А как насчет парусников?
— Для яхт-клуба? Чего же тут нелепого? Привезем и парусники, да еще вместе с тренерами.
— Действительно, вы не из пугливых… Ну хорошо, друзья, яхты яхтами, это пока мираж, а дом домом. Это уже всерьез. И решим так: если он получится, то и предложение ваше приму. Договорились?
Очиров, Шаракшанэ и Доржпев пожали Каштану руку и ушли. Доктор Цэдашпев остался. Он сказал:
— Как же вы будете работать над чертежами? И что станется с позвонками?
— Сделаем кульман. И позвонки не будут трещать. Я вас не подведу, доктор. Даю слово.
— Извините, но у вас такой, я бы сказал, вдохновенно-растерянный вид…
— У меня и душа в разлохмаченном состоянии. Еще бы! Такие события. И так внезапно.
— Звездный час всегда наступает неожиданно, — засмеялся доктор.
Юрий отправил два пакета в адрес Управления аэрогеологии. В отдел кадров он послал заявление с просьбой уволить его в связи с длительной болезнью, после получения травмы.
А в бухгалтерию переслал больничные листы для оплаты и перечисления всей суммы жене — по московскому адресу.
18. ПРЕДЧУВСТВИЕ
Оюна делала массаж Каштану и при этом ворчливо говорила:
— Никуда это не годится, Юрий Петрович! Вы мою работу лишаете смысла. То возитесь с камнями, то сутки напролет чертите. День и ночь держите позвонки в напряжении. Зачем же тогда лечиться?
— Ты не права, девочка, — оправдывался Каштан, — Отбирать камень и сидеть над чертежами — это отличный тренаж для позвонков. Смотри на это как на продолжение твоих процедур. Если б ты только знала, как я люблю твой массаж. Пальцы у тебя волшебные…
Юрий не договорил, потому что в палату в сопровождении старшей сестры вошла Полина.
Соелма сухо произнесла:
— К вам приехали, Юрий Петрович.
И вышла.
Оюна, смятенно глянув на гостью, перестала массировать.
Каштан удивленно произнес:
— Полина? Вот неожиданно…
— Хочешь сказать — некстати? — с улыбкой спросила она.
На Полине был строгий темный костюм того покроя, что называют английским. С ним гармонировала столь же строган прическа.
Полина…
Стройна, изящна, невыразимо хороша.
Каштан поднялся со стула. Он был несколько растерян.
Оюна, стрельнув глазами в сторону Полины, выбежала из палаты.
Полипа проводила се взглядом и сказала:
— Какая прелестная девочка! Просто чудо. Как зовут ее?
— Оюна, — натягивая свитер, пробормотал Юрий.
— Имя — тоже прелесть. А что оно означает?
— Чистота юности.
— Удивительно… Тебе снова не повезло, милый? Опять нарвался на беду?
— Да я уж с этим смирился, — усмехнулся он, — Знать, мне на роду написано — впутываться в разные переделки.
Она оглядела палату и заметила:
— Тебе создали хорошие условия.
Полина глянула на чертежи, заинтересовалась и стопкой рисунков на тумбочке. Стала перебирать их. Задержала взгляд на портретах Оюны.
— Ты рисуешь Оюну с такой нежностью.
Она взглянула на Каштана. В больших серых глазах он увидел тоску. Полина подошла к нему. Спросила:
— Тебе наклонять голову позволено?
Он наклонился. Полина положила руки ему на плечи, приподнялась на цыпочки и потянулась губами к его губам. Каштан поцеловал ее. Погладил щеку, ласково провел пальцами по волосам.
Она смотрела ему в глаза. Сказала:
— Ты снова совсем иной, Юра. Снова — на другой орбите. У тебя поразительная способность преображаться.
Полина сняла руки с его плеч и спросила:
— Ты, я вижу, вернулся к архитектуре? И поэтому счастлив?
— Да.
Она кивнула и с улыбкой сказала:
— Со мной здесь забавные вещи происходят. Иду по Чиндалею, а позади слышу шелест: «Жена Юрия Петровича, жена Юрия Петровича…» И смотрят с невероятным любопытством. Ты пользуешься здесь уважением. Мало того, увидев меня, местные жители перепугались, что я тебя заберу, оставлю их без дорогого Юрия Петровича. А они теперь не мыслят жизни без тебя. Когда шла к больнице, меня догнал председатель Совета. Фамилию я не запомнила…
— Шаракшанэ.
— Да-да. Отменно учтивый, интеллигентный мужчина. Так вот, он мне и говорит: «Я вас очень прошу не оказывать давления на Юрия Петровича, чтобы он покинул Чиндалей. Жены, — объяснил мне ваш мэр, — имеют обыкновение противиться длительным отлучкам мужей, а тем более их пребыванию в глухой провинции. Но мы, — сказал он, — обращаемся к вам с просьбой не увозить Юрия Петровича. Он нам очень нужен…» — А потом глава Чиндалея применил сильнодействующее средство, способное, на его взгляд, убедить любую женщину…
— Это какое же? — полюбопытствовал Каштан.
— Он растолковал мне, какую грандиозную сумму ты заработаешь, пробыв в Чиндалее хотя бы год. Мэр пояснил, что эта сумма позволит нам с тобой безбедно жить да поживать. Вот так-то, товарищ Каштан!
— Ну что ж, глас народа — глас божий… Ты выполнишь их просьбу?
— Мэру я сказала, что подумаю.
Глаза Полины стали еще печальнее. Она вздохнула и тихо проговорила:
— Вот ведь как получается в жизни, Юра. Мне, для моего счастья, надо, чтобы ты был со мной там. Тебе, для твоего счастья, необходимо быть здесь. И стало быть, обездоленной снова остаюсь я… Может, это и справедливо, но очень горько.
Каштан гладил ее шелковистые волосы и бормотал:
— Что же делать-то… Чиндалей наполняет смыслом мою жизнь. Такая радость — ощутить себя мастером. И так хочется увидеть свои замыслы в яви. Я стосковался по удаче. Ты ведь все понимаешь.
— Понимаю… У мужчины на первом месте всегда творчество, если он творец, а женщина — на втором.
Она повернулась к окну. Помолчала. Тихо сказала:
— Так уж повелось… А впрочем, иногда случается, что творчество и любовь идут рядышком… Скажи, эта девочка — твоя муза?
Он покачал головой:
— Полина, Полина! Что с тобой, милая? Она же еще ребенок.
— Этот ребенок влюблен в тебя без памяти. Да и сам ты, Юра, пока еще не осознал, насколько дорога она тебе.
— Не надо. Прошу тебя. Ну, перестань.
— Хорошо, больше не буду. Прости.
— У тебя отпуск?
— Нет. Просто взяла несколько дней за свой счет. Отчаянно хотела видеть тебя. Хотя и знала, чувствовала, что ты обо мне и вспоминать-то перестал. Но бывают моменты, когда ничего в жизни не нужно, ничто не интересует. Необходимо лишь одно — прикоснуться к человеку, дороже которого нет. Вот я и примчалась. Но ты не бойся, Юра. Я завтра же уеду. Увидела тебя, и теперь мне этого хватит на какое-то время.
Полина прошлась по комнате. Спросила:
— Тебе ведь разрешают выходить на улицу?
— Да, конечно.
— Пойдем побродим?
Они медленно шли по Чиндалею, спустились к озеру, постояли на берегу.
— Какое удивительное небо, — сказала Полина. — И как здесь много пространства! Оно все заполнено светом.
— Если б ты видела, какие тут бывают радуги!
К ним подбежала стайка мальчишек и девчонок. Они протянули Полине целую охапку цветущего, благоухающего багульника.
Дети с любопытством рассматривали русскую женщину. Один из мальчишек сказал:
— Ты красивая, абгай.
— Спасибо, милый! А как тебя зовут?
— Солбонэ.
— А вас, девочки?
— Туяна! Меня — Баирма!.. Саяна!
— А тебя, мальчик? — спросила Полина.
— Санжи… А знаешь, это Оюна придумала, чтобы мы подарили тебе цветы!
Туяна воскликнула:
— По она просила нас не говорить об этом!
Полина взглянула на Каштана, но ничего не сказала.
Он лишь пожал плечами.
Дети убежали.
И снова Полина и Юрий медленно брели по поселку.
— Ты не скучаешь по цивилизации? — спросила она. — Ведь уже больше года тебя носит по глухим окраинам.
— По цивилизации? Что ты имеешь в виду?
— Имею в виду большой город, с его культурой и научной жизнью, с высоким уровнем человеческих связей и духовного общения.
— Я как-то не думал об этом. Значит, пока не скучаю. Наверно, придет время и потянет к библиотекам, выставкам, семинарам, компаниям.
Каштан остановил Полину около площадки, на которой уже был возведен высокий фундамент из дикого камня.
— Вот здесь мы строим коттедж. В нем буду работать и жить.
— Окна твоего кабинета будут выходить на озеро?
Он кивнул.
— И каким же будет твой дом?
— Композиция — мелодическая, с окантовкой. Сочетание естественного камня, кирпича, кедра и алюминия дает цветовую насыщенность, и она художественно объединит силуэт…
— Ничегошеньки не поняла, — с улыбкой призналась Полина.
— Если хочешь взглянуть на проект, зайдем в клуб. Там выставлены рисунки.
— Конечно, хочу.
— Ну так пойдем.
В клубном фойе, где по стенам были развешаны листы с красочными изображениями будущих сооружений, Полина подолгу стояла у каждой картины. Пока не рассмотрела все двадцать восемь листов, не проронила ни слова. Но потом подошла к Каштану, обняла его и поцеловала.
— Не думала, что ты способен на такую безудержную фантазию. Настоящее архитектурное пиршество. И вместе с тем благородная строгость форм, гармоничность, целесообразность. А главное, стиль. Ты меня поразил, Юра. Не предполагала, что ты так талантлив.
Каштан улыбнулся. Полина взяла его за руку и сказала:
— Сотвори все это, Юра, раз выпала такая возможность. А уж потом станет видно, куда идти дальше, дорогой мой.
Переночевав у Соелмы, Полина, как и обещала, на следующее утро улетела. Перед ее отъездом Каштан хотел вернуть ей ключ от владивостокской квартиры, но Полина отказалась взять его.
— Ты все равно придешь ко мне, — сказала она. — Рано или поздно, но придешь. Через год, через два, через три — я не знаю. Но тебе уже не уйти от меня. Мы — пара… Конечно, мне тяжко, милый. Тяжко жить ожиданием. Тяжко осознавать как женщине, что пробудила в тебе творческий взрыв не я, а экзотическая девочка из Чиндалея. У тебя еще будет с ней роман. Я переживу и это, потому что знаю, вы с Оюной никогда не сможете стать парой.
В глазах Полины была мука и боль. Каштана охватило дикое желание упасть перед ней, прижаться к ее коленям и просить прощения. Он едва удержал себя от этого.
Сдержанно кивнув ему, она поднялась в вертолет.
Вертолет улетел, а на Юрия нахлынула тоска, ибо он понимал, что никогда уже не увидит Полину. Понимал, что с ее отъездом завершился самый удивительный период его жизни, сознавал, что оборвалась некая нить, связывающая его с необыкновенными событиями и встречами.
Он вернулся в больницу. Не прикоснулся ни к еде, ни к чертежам. Пролежал без сна до глубокой ночи.
Ему было плохо и на следующий день. Все валилось из рук. Молча, тоскливо смотрел он в окно.
Никто его не трогал, никто не беспокоил. Прошло несколько дней, прежде чем он смог вернуться к работе.
19. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
— Ну вот, — сказала Оюна, — теперь уж, когда в Чиндалей явится очередная ваша женушка, вы хоть сможете ее приютить и обогреть.
Каштан удивленно посмотрел на девушку. После отъезда Полины Оюна вела себя подчеркнуто официально. Молча делала массаж, во время лечебной гимнастики ограничивалась лишь самыми необходимыми словами.
И теперь вот к ней наконец вернулась прежняя доверительная ироничность, и это порадовало Юрия.
Насмешливые слова о женах Оюна произнесла в тот день, когда он покинул больницу и перебрался на верхний этаж только что выстроенного коттеджа.
Возведение этого дома, который местные жители назвали «Первой ласточкой», стало большим событием.
Чиндалейцам и самим как-то не верилось, что они своими руками соорудили это необычное здание. Люди обсуждали его достоинства, вели нескончаемые беседы о будущих сооружениях. Теперь каждый убедился, что Новый Чиндалей — дело вполне реальное.
У «Первой ласточки» был непривычно нарядный облик. На фоне других домов поселка коттедж выделялся и своими формами и яркостью. Но в будущем он должен был органично слиться с десятками других современных строений и войти в общий архитектурный ансамбль Нового Чиндалея.
Юрий поселился на втором этаже, внутренние стены которого были сложены из брусьев лиственницы. Этаж состоял из четырех комнат. Самая просторная из них, с широким трапециевидным окном, выходящим на озеро, должна была стать кабинетом. Комната с круглым окном на противоположной стороне подошла для спальни. В одной из «светелок» Каштан собирался установить верстак, станок и прочее оборудование, чтобы делать здесь макеты будущих сооружений.
Когда Оюна бросила свою реплику о предстоящих приездах очередных жен Каштана, он сказал ей:
— Разве ж одним этим домом обойдешься? Для всех моих жен надо срочно строить многоместную гостиницу.
— Жен — в гостиницу? — спросила Оюна и посмотрела на него исподлобья. — Вы опасный искуситель, Каштан-ахай, вот что я вам скажу!
— У каждого свои недостатки, — кротко промолвил Юрий, — и с ними приходится считаться.
Оюна настороженно смотрела на него своими загадочными восточными глазами и, казалось, ждала каких-то не только шутливых слов.
Он мог бы, конечно, рассказать ей о том, что неделю назад послал жене письмо с просьбой согласиться на развод. Но что-то удерживало его от этого рассказа.
Оюна — умная, глубоко порядочная, добрая девушка. Однако и она может истолковать его сообщение по-своему.
Нс хотел он говорить с Оюной и о Полине, хотя и чувствовал, как она интересует девушку.
Огона вздохнула и скучным голосом произнесла:
— А ведь, собственно, я к вам, Юрий Петрович, по поручению дедушки Чимида.
— Слушаю тебя, девочка.
Юрий замечал: стоило ему назвать Оюну девочкой, как в глубине ее глаз вздрагивали радостные огоньки. И почему ей так нравится это обращение?
— Вы помните, что дедушка велел вам после лечебного курса заняться активными физическими нагрузками?
— Как же, как же, помню. А что, пришла пора валить в тайге деревья?
— Это еще предстоит. А сейчас займетесь греблей. И верховой ездой. Вам выделили смирного коня. А обучать вас будет зоотехник Базарон.
— Базарон? Один из твоих поклонников? Молчун?
— Он самый. Смотрите-ка, запомнили! Надо же!
— Если тебя это огорчает, я немедленно забуду.
— Наоборот, я так растрогана, что даже растерялась и забыла, что еще хотела сказать вам.
— Насчет гребли, вероятно?
— Ах, да! У вас найдется сейчас полчасика, чтобы пройти на берег к старому Лубсану? Он смастерил для вас новую лодку. Вы ее должны принять и спустить на воду. Дедушка велел вам дважды в день плавать по озеру.
— Это действительно радость. И спасибо тебе, Оюна.
— А я-то при чем?
— Ты — добрый вестник.
Он оживился, надел куртку. Сказал:
— Идем. Хотя подожди, я возьму деньги…
— Не суетитесь, Юрий Петрович, совхоз уже оплатил работу. Это подарок вам. А если хотите угодить старику Лубсану, то как-нибудь сделайте его портрет. Он будет ужасно доволен.
— Непременно нарисую его.
Лодка оказалась замечательной. Сработанная из золотистых кедровых досок, крепенькая, легкая, она великолепно держалась на воде, шла ходко, стремительно.
Каштан ликовал, как ребенок. Он и мечтать не смел о таком чудесном суденышке.
Между тем наступили ясные летние дни. Духовитый и ласковый воздух из степи и с гор волнами окатывал Чиндалей.
Юрий поднимался в половине шестого утра и шел на озеро. Он уплывал на лодке к середине Кункура, Сквозь прозрачную толщу воды видно было зеленовато-коричневое дно. Блестели на солнце мокрые лопасти весел. От быстрого движения лодки возникал ветерок. Воздух был чист и приятен на вкус.
А когда солнце клонилось к горизонту, он вновь уходил в плавание. В воде плавились багряные блики заката. Было тихо, в воздухе разлито спокойствие.
Вскоре Юрий стал заниматься еще и верховой ездой. Это оказалось посложней, чем гребля. Не думал он, что скачка требует такой затраты сил.
Базарон как-то сказал:
— Жить среди бурят и не уметь ездить на коне — это несовместимо, Юрий Петрович. Хотите вы или не хотите, а стать конником придется.
Через некоторое время Каштан настолько освоился с верховой ездой, что смог вместе с Базароном совершить экспедицию к ущелью, где он осмотрел россыпи дикого камня, и в степь, на пастбище совхозных отар.
Когда возвращались в Чиндалей, увидели издали всадника на коне. Базарон всмотрелся в наездника:
— Оюна.
— Оюна? — удивленно переспросил Каштан. — Она ездит верхом?
— Оюна — истинная бурятка. Лучше ее нет наездницы.
Эго действительно была Оюна. Скачка явно доставляла ей удовольствие. Щеки ее пылали, глаза азартно блестели.
Она остановила коня около Базарона и Каштана и поехала рядом с ними назад, к поселку. Сидела в седле легко и свободно.
— Посмотрели чабанские юрты, Каштан-ахай? — спросила она.
Он кивнул. Оюна сказала:
— А теперь вам нужно увидеть дацан. Он давно заброшен, наполовину развалился, но все же получите представление о буддийском храме.
— А где он находится?
— На той стороне озера. Вон, видите сопку, похожую на утюг?
— Вижу.
— Это гора Алханай. На ней и стоит дацан.
— Как туда добираться? Берегом?
— Берегом трудно идти, да и долго. Лучше всего на лодке.
— Обязательно побываю там.
Жители Чиндалея с нетерпением ожидали митинга, на котором должна была решаться судьба их родного поселка. Слухи о предстоящих переменах были противоречивыми, а порой и нелепыми. Люди, до сих пор равнодушно относившиеся не только к внешнему облику своего селения, но и к бескомфортному быту, горячо обсуждали проблемы строительства.
Молва утверждала, что чиндалейские руководители вкупе с молодым и решительным москвичом затеяли масштабную операцию по сносу всех индивидуальных домов и возведению вместо них многоэтажных громад. Знатоки даже утверждали, что туда переселят всех в принудительном порядке.
В один из ясных дней жителям предложили собраться на совхозном стадионе для разговора, как было сказано в объявлении, «о планах реконструкции и развития Чиндалея на ближайшие годы».
Каштану довелось выступать первым.
Поначалу он разволновался и зачем-то принялся говорить о соподчиненности строений и пространства, об активном отношении ансамбля к природному окружению…
Он вовремя прервал себя. Понял: говорит не то, что нужно. Обвел взглядом притихших людей, увидел сотни внимательных глаз. К нему пришло спокойствие, и он стал рассказывать чиндалейцам то, что они хотели от него услышать.
После этого часа три длилось бурное обсуждение. Большинством голосов жители решили строить в первую очередь Дом молодежи.
Это здание было самым крупным из всего ансамбля и очень сложным по конструкции. Но Юрий остался доволен этим решением. Архитектура Дома молодежи ему была особенно по душе. Образ его возник вдруг, в счастливую минуту.
Юрий с наслаждением трудился и над разработкой проекта. «Поверяя гармонию алгеброй», он понял, что среди всех его замыслов этот, пожалуй, самый оригинальный и эффектный.
Каждое здание во время работы над ним Каштан обозначал условным названием. Проект Дома молодежи он наименовал «Крабом». Здание состояло из центрального корпуса, круглого в плане, с куполом и конической вершиной. От него отходили две одноэтажные «клешни» — спортивный и танцевальный залы. Второй этаж центрального корпуса опоясывала сплошная стеклянная лента. Четыре арки в нижней части фасада обозначали главный вход.
Строительство такого сложного объекта требовало немалой подготовки. Поэтому в оперативный штаб вошли и экономист, и руководители кирпичного, лесопильного заводов, и транспортники, и снабженцы.
Вместе с опытными строителями в возведении дома готовились принять участие старшеклассники и студенты, приехавшие на каникулы.
Каштану до последнего момента не верилось, что дело примет такой размах. Но руководители Чиндалея оказались не только людьми слова, но и умелыми организаторами, действующими целеустремленно и решительно.
Не прошло и двух недель после митинга, а в Чиндалей уже потянулись из Улан-Удэ грузы со стеклом, цементом, жестью, алюминием, арматурой, керамической плиткой, паркетом, краской. Из леспромхоза везли могучие лесины, с БАМа и соседних рудников — электрооборудование, обогревательные и вентиляционные системы.
Две недели под руководством Юрия студенты и старшеклассники корпели над проектными чертежами и расчетами. И наконец, пришел день, когда бригады приступили к нулевому циклу.
Для сооружения центрального корпуса Каштан отобрал камень, россыпи которого находились у подножия скалистой горы Тарба. Этот камень привлек его редким малахитовым оттенком. В дело пошел и камень из ущелья, своей фактурой и цветом напоминающий терракоту.
Чиндалейские каменщики, мастерски обрабатывая глыбы и плиты, кладку стен производили в столь стремительном темпе, что Каштан поначалу даже растерялся. Но он убедился не только в добротности работы мастеров, но и в их высоком вкусе.
Быстро росли стены круглого здания. И для Юрия настала горячая пора: он решил одновременно с возведением второго этажа оформлять стены фоне фресками и мозаикой.
Работал над фресками с подъемом и азартной увлеченностью. Задуманный им триптих занимал всю стену. Для росписи выбрал самые яркие краски и эмали.
Каштан трудился неутомимо, с раннего утра и до ночи. Отвлекался от росписи лишь в тех случаях, когда требовалось его вмешательство в ход строительства.
Триптих в условной манере изображал поколения чиндалейцев — старшее, среднее и совсем юное. Сияющий многоцветный полукруг радуги символизировал связь трех поколений. На фреске слева Юрий поместил двух мудрых стариков — Чимида и Бадму, в глубокой задумчивости сидящих у юрты. Там же слева неслись, вздымая вихри, табуны лошадей, паслись отары овец. Опытные стрелки натягивали тетивы луков. Музыканты играли на моринхурах. Над ними парили птицы.
В средней части триптиха Каштан изобразил Оюну, держащую на ладони солнце. Здесь же были и доктор Цэдашиев, юноша Цыремпилон, Базарон.
Правую часть триптиха Юрий посвятил детям. Горы, озеро, цветы и дети кружились на ней в общем хороводе.
А над мозаичным панно работал местный мастер Эрдыней, одаренный и трудолюбивый художник. Его панно было посвящено подвигам Гэсэра, героя бурятского эпоса.
Когда вечером Юрий спускался со стремянки, гасил переносные лампы в пустом помещении дома, то это означало, что глаза и руки сегодня отказываются ему служить. Он устало плелся в коттедж, раздевался и валился на топчан, чтобы подняться в пять тридцать, сделать разминку на лодке, искупаться в озере и вновь приняться за росписи.
Они с Эрдынеем завершили эту гигантскую изнурительную работу к началу августа. Десятого августа строители полностью закончили отделку и разобрали леса.
Всю следующую неделю устанавливали оборудование и кресла в зрительном зале. И восемнадцатого августа, при великом стечении народа, состоялось торжественное открытие Дома молодежи.
Приехали гости из райцентра, из Улан-Удэ прилетели корреспонденты газет и радио.
Темпераментно чествовали строителей, мастеров, бригадиров, каменщиков, кровельщиков, столяров, электриков…
Чиндалейцы сияли от гордости.
Юрий Каштан, сидевший на почетном месте, весь вечер был в состоянии некоторого остолбенения. Когда же его попросили выступить, он долго не мог сообразить, с какими словами следует обратиться к строителям. В конце концов сказал:
— Ну что же… Один объект вы сработали. И неплохо вроде сработали. Низкий поклон всем, кто трудился. По теперь, не сбавляя темпов, надо переходить на другие объекты. До середины ноября не худо бы, братцы, поставить коробки детского сада, Дома быта, библиотеки и музыкальной школы. А если к сентябрю подоспеет оборудование котельной и водопровода, то надо бы до зимы заложить фундаменты теплоцентрали и башни. Это позволило бы нам весной построить и больницу, и школу, и гостиницу, и баню… Так что, дорогие мои, музыка музыкой, торжество торжеством, а я даже сегодня говорю: за работу, друзья!
Шаракшанэ преподнес Юрию тэрлик — бурятский национальный халат, гутулы — сапоги с орнаментом и шапку. Каштан немедленно облачился в это одеяние, чем вызвал одобрительный смех у собравшихся. Он сказал, обращаясь к аудитории:
— Ну а теперь, чтобы стать истинным чипдалейцем, мне осталось изучить бурятский язык. Думаю, за этим дело не станет.
Каштан поймал вдруг взгляд Оюны. Она смотрела на него исподлобья. Не улыбалась. Не аплодировала.
Очень бы хотел понять Юрий эту девчонку: о чем она думает, какое у нее настроение, что она хочет?
20. ВОСХОЖДЕНИЕ НА АЛХАНАЙ
Был теплый лучистый августовский день.
По чисто вымытому синему небу тихо плыли многоэтажные и крупногабаритные облака.
На Оюне была голубая рубашка с погончиками и короткая джинсовая юбка. Она сидела на корме и веслом направляла лодку по известному ей курсу.
Юрий греб легко и мощно. Суденышко стремительно разрезало сверкающую на солнце водную гладь.
Каштан смотрел на Оюну и размышлял: что же заставило гордую и своенравную девушку поступиться местными правилами и отправиться с ним вдвоем в плавание?
Утром Оюна подошла к нему и спросила, когда же наконец он побывает на горе Алханай.
— А может, даже и сегодня, — ответил Юрий, — нынче у меня свободный день. Погода отличная, так что я, пожалуй, через часок и отправлюсь. Вот только чай попью.
— И у меня выходной. Хотите, буду вашим гидом? Покажу и дацан и окрестности.
— А как же…
— Теперь вы уже не мой пациент, а просто знакомый, который может стать моим спутником во время экскурсии. Если, конечно, захочет.
— Захочет.
— Вот и хорошо. А то мне показалось, что вы трусите.
— Трусить-то, конечно, трушу. Но пойду с удовольствием.
И вот они вдвоем на лодке посреди озера.
Чипдалей уплывал все дальше и дальше. И вскоре можно было только различить силуэт Дома молодежи, алюминиевый конус которого весело сверкал на солнце.
Каштану стало жарко. Он оставил весла, скинул рубашку. Оюна улыбнулась:
— Какой, однако, устойчивый рефлекс! Стоило вам взглянуть на меня, как сразу сбросили рубашку и приготовились к массажу.
— Ты недовольна? Мне одеться?
— Нет, нет, оставайтесь раздетым. У вас красивый торс.
— Ты это только сейчас заметила?
— Конечно. Смеет ли замороченная процедурами сестра обращать внимание на формы тела пациента. Да и вообще, на его достоинства. Это мешало бы работе, не говоря о том, что такие вещи предосудительны.
— В таком случае, Оюна, я ужасно рад, что мы с тобой теперь не пациент и медсестра.
— Я тоже, Юра.
До Каштана не сразу дошло, что Оюна впервые назвала его по имени, настолько естественно и просто это получилось у нее.
Он перестал грести, взглянул на нее и понял, что это не обмолвка. Она с легкой улыбкой ожидала его реплики. Каштан весело произнес:
— Наконец-то! Долго же пришлось ждать, пока начнешь так называть меня! У тебя очень славно это получается, девочка.
— Осторожно, Юра! Как только вы называете меня девочкой, мне сразу хочется броситься вам на шею… А если я это проделаю, то бултыхнемся в воду.
— Вот уж чудеса! Что особенного в слове «девочка»?
— Сама не знаю. Но стоит вам его произнести, я едва удерживаюсь от глупостей. Так что будьте осторожны, ахай!
Приближался берег. Гора Алханай напоминала утюг, острие которого обращено к озеру. Густая трава и кустарники придавали Алханаю сиренево-голубую окраску. От подножия к вершине вилась тропинка.
Но когда лодка пристала к берегу, Оюна не сразу повела Каштана на гору.
— Сначала покажу вам источник, — сказала она.
Прошли шагов триста вдоль подножия Алханая.
Здесь из-под горы бил родник. В каменной ложбинке Юрий увидел воду удивительной чистоты и прозрачности.
Оюна опустилась на колени, наклонилась к воде и приникла к ней губами. Она пила с наслаждением. Потом, словно исполняя некий ритуал, набрала воду в ладони и смочила лицо. Поднялась и вопросительно посмотрела на Каштана. Юрий последовал ее примеру. Вода была студеной, необыкновенно приятной на вкус. Он тоже смочил лицо и встал. Оюна достала белоснежный платок и молча стала вытирать ему лоб, щеки, подбородок. Столько было тепла и преданности в ее взоре, что он взял ее руку и поцеловал. В глазах девушки мелькнули искорки радости. Глухим от волнения голосом она сказала:
— Ну вот, теперь мы имеем право подняться наверх.
Нагретый солнцем, покрытый травами, цветами, кустарниками склон горы источал благоухание. Настой мятных, медовых, пряных ароматов был так густ, что слегка кружилась голова.
Верещали тысячи кузнечиков, и казалось, что этот неумолчный сверлящий звон и стрекот издает сама гора.
Оюна присела около ярко-красного цветка с загнутыми лепестками.
— Саранка, — сказала она. — В старину эти цветы называли царскими кудрями…
А затем с серьезным видом обратилась к саранке:
— Извини, дорогая, но придется принести тебя в жертву. Сама знаешь, так принято.
Оюна извлекла цветок из земли вместе с корневой луковицей. Отделила луковицу, очистила ее и разломила на две половинки. Одну дольку протянула Юрию. Он спросил:
— А что мне надлежит с ней делать?
— Съесть.
Он покорно положил в рот половинку луковицы и разжевал. Не так уж это было вкусно, но, во всяком случае, съедобно.
Оюна с серьезным видом съела свою половинку.
— И что же теперь с нами будет? — спросил Каштан.
— Боитесь?
— Теряюсь в догадках.
— Вот пусть пока и останется для вас это тайной.
Они пошли дальше и вскоре поднялись на вершину Алханая.
Юрий увидел дремавшее в безмолвии полуразрушенное, почерневшее от времени строение. Это и был дацан. Уцелела часть крыши с характерными для буддийских храмов изогнутыми вверх углами, три стены и узорчатый вход. Сейчас трудно было представить, что когда-то давно здесь совершались богослужения, обрядовые спектакли, гремели голоса и звуки труб…
Они молча стояли перед дацаном. Каштан думал о своеобразной архитектуре храма. Оюна — о своих предках, живших с давних времен в этом краю.
Они спустились по другому, более пологому склону. С наслаждением вдыхали ароматы цветущей степи.
Было здесь так хорошо, так привольно, что Юрий лег на траву, раскинул руки и, глядя на облака, пробормотал:
— Вот благодать-то! Что еще нужно человеку?
Каштан лежал на склоне горы и любовался широким и спокойным разворотом пространства, плавными и текучими ритмами озера и гор, радовался обилию воздуха и света.
Природа представала здесь в ясной гармонии и красоте. Хотелось вобрать, вдохнуть, впитать и эту благодатную тишь, и этот торжественный покой, и эту раздольную ширь, и эти чистые краски неба, озера, степи и гор, запахи трав, цветов, воды…
Подошла Оюна, села рядом с ним и положила ему на колени несколько синевато-сиреневых цветов на длинных стеблях.
— Что это? — спросил Каштан.
— Ая-ганга.
Он ласково положил свою ладонь на ее руку и тихо сказал:
— Спасибо, девочка.
В глазах ее мгновенно вспыхнула радость.
Секунду-другую Оюна сдерживала себя, но все же не смогла остановить порыв. Она наклонилась, поцеловала Юрия и залилась румянцем. И снова поцеловала несколько раз. Не удержался и он, стал отвечать на ее неумелые, торопливые поцелуи.
Оба задохнулись. Оюна оторвалась от него и выпрямилась. Долго не могла успокоить дыхание. Наконец застенчиво прошептала:
— Я ведь предупреждала… Ничего не могла с собой поделать. Не надо на меня сердиться, Юра.
Он рассмеялся. Поднялся на ноги и подал руку Оюне. Помог ей встать. Она жалобно сказала:
— Ноги не держат… ослабли…
— Это с непривычки, девочка.
Оюна прижалась щекой к его груди. Юрий ласково обнял ее. Она смущенно прошептала:
— Значит, ты понял, что я в первый раз целуюсь?
— Ну, конечно, понял, ласточка!
Юрий ощущал, как возрастает его нежность к этой своенравной, милой девочке, как радостно и томительно тянет к ней.
Когда вернулись в Чиндалей и Каштан вытаскивал лодку на берег, к Оюне подошла пожилая женщина и стала что-то горячо говорить по-бурятски. Оюна слушала ее молча. Что-то односложно ответила.
От озера Юрий и Оюна поднимались вместе, и он чувствовал, как она напряжена. Когда расставались у коттеджа, сказала:
— Грех… Ты знаешь, Юра, я вдруг поняла, какое это прекрасное слово, сколько в нем чувства и радости.
Помолчали. Он спросил:
— А когда ты откроешь мне тайну двух половинок, которые мы с тобой съели на Алханае?
— Скоро. Совсем скоро… До свиданья, сердце мое.
Не дано было Юрию уснуть в этот вечер. Прогулка с Оюной взволновала его и наполнила праздничным чувством. Только теперь он понял, как бесконечно дорога ему эта необыкновенная девушка, какое большое место заняла она в его жизни.
Полина со свойственной ей проницательностью угадала зарождение его чувства к Оюне. Да он и сам неосознанно шел навстречу любви. Всегда испытывал радость от встречи с юным существом, в котором столько света и чистоты. Не случайно же на фреске изобразил ее с солнцем на ладони.
Именно ей, Оюне, обязан он пробуждением творческого порыва. И в этом долге, как он теперь понял, не было случайности.
Каштан лежал в темноте. Видел в окне ночное небо с щедрой россыпью звезд. Тишина повисла над Чиндалеем.
И вдруг Юрию почудился шорох у двери. Это было странно. Может быть, забрался какой-то зверек?
Но вот раздался негромкий стук. Юрий поднялся и открыл дверь. От удивления он ничего не успел сказать. Оюна проскользнула мимо него в комнату. Каштан захлопнул дверь и оглянулся. Сердце колотилось так, что он не в силах был произнести ни слова.
— Оюна, послушай…
Она положила ладонь на его губы и прошептала:
— Ничего не надо говорить… Мне и так ужасно стыдно.
Она робко приникла щекой к его щеке. И снова шепнула:
— Ну, пожалуйста, Юра, не сердись. И не думай обо мне плохо. Хочу, чтобы наши дыханий смешались… Что в этом дурного?
Он обнял ее:
— Родная ты моя… смелая, бесстрашная девочка… Тебе нельзя приходить ночью к мужчине… Нельзя, сама знаешь… Земляки осудят тебя…
— Пусть осуждают. Мне скоро двадцать два года. Я сама себе хозяйка…
— Не хочу причинять тебе зла.
— Какое зло? Ты даешь мне радость. И я хочу подарить тебе радость. Кому от этого хуже? А? Ты не любишь меня, Юра?
— Люблю и поэтому хочу уберечь от беды… Как ты не хочешь понять?! Пойдем, я тебя провожу домой.
— Чимид знает, куда ты пошла?
Оюна, вздохнув, сказала:
— Дедуле всегда известно обо всем и обо всех.
Она помолчала и спросила:
— Ты прогоняешь меня?
— Вот глупенькая! Всегда считал тебя умницей, а ты, оказывается, дуреха!
— Сам же и виноват. Из-за тебя голову потеряла.
Они стояли, обнявшись, и не могли оторваться друг от друга. Наконец Юрий мягко сказал:
— Пойдем, девочка, пойдем.
Он взял ее за руку и повел словно ребенка.
Чиндалей спал. Безлюдными были улочки. Оюна и Юрий шли медленно. Прежде чем идти к дому Чимида, они спустились к озеру. Здесь у лунной дорожки снова стояли, не разжимая объятий. Юрий смотрел на ее запрокинутое лицо, и от нежности замирало сердце. Они приникали губами друг к другу с такой ласковой горячностью, словно целовались последний раз в жизни.
21. ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ
Прошло две недели. Каждый вечер, как только Чиндалей затихал, пустели его улицы, гасли огни в окнах, Каштан и Оюна встречались у озера и проводили вместе долгие часы.
За эти дни Юрий привязался к Оюне и теперь уже и представить не мог своей жизни без встреч с девушкой.
Они появлялись вместе в Доме молодежи, ходили на концерты и на фильмы. Но оба ждали ночной поры, чтобы уединиться на берегу. Они бродили, сидели в лодке, говорили или молчали. Им было удивительно хорошо вместе.
Чиндалейцы молчали, искоса поглядывая на светившуюся счастьем Оюну, на переполненного радостью Каштана. Никто ничего не говорил ни ей, ни ему. Однако какое-то предвестье грозы в воздухе ощущалось. Угрюмый взгляд учителя истории Баира Мункуева говорил о многом.
Каштан понимал, что они с Оюной нарушают некие давние традиции. Догадывался: некоторых оскорбляет, что девушка сделала своим избранником единственного приезжего чужака. Родители — полагали чиндалейцы — никогда бы не допустили столь легкомысленного поведения дочери. А патриарху поселка, высокочтимому Чимид-ахаю, уже не по силам совладать с внучкой.
А между тем на Юрия нахлынула лавина дел.
Одновременно заложили пять общественных зданий. После завершения нулевого цикла строителей распределили по объектам, и между ними началось азартное, никем не объявленное соревнование. Каждая бригада жаждала опередить соперников и первой завершить возведение своих домов.
Для Каштана пришло удивительное время.
Причудившиеся ему когда-то призрачные видения начали уверенно обретать плоть, зримо и весомо превращаться в камень, в металл, в стекло.
С каждым днем росли стены необычных «красных палат».
Привыкнуть к этой ежедневной и ежечасной радости было невозможно. И сейчас он бы смог уже ответить на давний вопрос Оюны: что человеку надо? Вот это и надо человеку: радость творчества, подлинное упоение созиданием.
И любовь.
Душу тревожило летящее ощущение счастья.
Тревожило, потому что Юрий знал: долго оно продолжаться не может. Что-то произойдет. Есть у жизни свои закономерности.
В один из теплых осенних дней из приземлившегося на бетонном пятачке рейсового вертолета вышла немолодая супружеская чета. Мельком глянув издали на Дом молодежи, супруги направились к жилищу старого Чимида.
Встречные чиндалейцы почтительно раскланивались с прибывшими, а затем оглядывались и долго смотрели им вслед.
Каштан не обратил бы внимания на эту пару, если бы бригадир каменотесов Цыдып не сказал ему:
— Смотри, Каштан-ахай, Сахьяновы прилетели.
— Что за Сахьяновы?
— Родители Оюны.
— Кто-кто?
— Мать и отец. Дарима родом из Чиндалея. Она дочь Чимида.
— Они часто здесь бывают?
— Совсем не бывают. Зачем им Чиндалей? Они большие люди, известные всей Бурятии. Жалсан — народный артист. Дарима — заслуженный врач… Думаю, они дочку заберут.
— Как это заберут! Она же взрослая, самостоятельная девушка!
— Э-э, Каштан-ахай! Что значит самостоятельная? Может быть, у вас в Москве другие понятия, а у нас здесь не принято ослушиваться родителей.
Сердце Юрия болезненно сжалось. Неужели они примчались за Оюной?.. Не увезут же ее силой! Невозможно поверить, чтобы Оюна, с ее строптивым характером, подчинилась родительской воле!
Она не появилась в этот вечер ни в Доме молодежи, ни на озере. Юрий так и не уснул до утра.
Днем он бродил по поселку. Решил дождаться рейсового вертолета и посмотреть, не улетят ли с ним родители Оюны.
Вертолет приземлился. Из него вышли пассажиры, а вместо них на посадку потянулись чиндалейцы.
И тут Юрий увидел, что вместе с родителями идет и Оюна. Баир Мункуев и двое молодых людей несли чемоданы.
Оюна шла, опустив голову.
Каштан, замерев, не отрывал от нее взгляда. Юноши внесли чемоданы в кабину. Родители разговаривали с учителем. Но вот Оюна подняла голову и посмотрела вокруг. Увидев Каштана, рванулась к нему.
Подбежала, прижалась, стала порывисто шептать:
— Я люблю тебя, Юра! Без тебя мне нет жизни! Ты знай это. Я тебя еще разыщу. Я приду к тебе, где бы ты ни был! Мой любимый! Самый лучший человек на свете…
Горло его перехватила судорога. Он не мог вымолвить ни слова. Оюна, задыхаясь прошептала:
— Сейчас мне нельзя не ехать, понимаешь? Но ты не думай, что все кончено! Помни — мы две половинки! Жди меня! Жди!
Родители не смотрели в их сторону. Когда же дочь поднялась в вертолет, они быстро вошли в кабину вслед за ней.
Все было кончено.
22. СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
Словно в каком-то тумане проходил день за днем.
Юрий бесцельно бродил, что-то кому-то говорил, машинально ел, засыпал и просыпался. Он не мог запомнить, чем было заполнено его время. Очень бы удивился, если бы узнал, что накануне обходил окруженные строительными лесами объекты и даже беседовал с людьми, которые трудились на стройке.
Думы Юрия были об Оюне, и только об Оюне.
Все вокруг напоминало ему о ней и связано было лишь с нею.
Довольно равнодушно Каштан воспринял весть о том, что строители Дома народных обрядов и Дома быта завершают работу и сдают свои объекты. Еще через неделю закончили строительство библиотеки. И наконец, двадцать шестого октября Каштан принимал здания детского сада и музыкальной школы.
Дом молодежи, коттедж Каштана и пять новых зданий были расположены таким образом, что выявлялась их четкая ритмическая связь, угадывалось единство общего архитектурного замысла общественного центра Чиндалея. Здесь в ближайший год должны были вырасти еще восемь зданий, которые вольются в ансамбль приозерной части поселка.
У Юрия появилась привычка ежедневно выходить к рейсовому вертолету. С тщетной надеждой всматривался он каждый раз в прибывших пассажиров. И ждал чуда. Но чуда не происходило. Оюна не возвращалась. А он снова и снова появлялся у вертолетной площадки.
В конце октября произошло событие, которое вновь круто изменило жизнь Каштана.
Однажды в Чиндалей прилетели для заключения новых договоров работники Бурятского участка БАМа. Сойдя с вертолета, бамовцы в недоумении остановились: им показалось, что они приземлились в каком-то другом месте. Семь сверкающих стеклами, алюминием, красками необычных зданий возвышались над поселком. Они цветисто отражались в озере, уже покрытом тонким слоем гладкого, чистого льда. И это делало картину еще более сказочной.
Этот визит бамовцев стал причиной посещения Чин-дался другой, весьма представительной делегацией. В ее составе были такие важные лица, как академик Синицын, заместитель председателя Госстроя Никулин и начальник Управления территориально-производственного комплекса по освоению зоны БАМа Багров.
После того как приехавшие осмотрели новые здания, Багров объяснил Каштану, что строительство Нового Чиндался их интересует, поскольку в обширной зоне Байкало-Амурской магистрали при железнодорожных станциях, а также на приисках, в районах рудных комбинатов, энергоузлов предстоит построить сотни городов современного типа, рассчитанных на долгую жизнь.
— Мы обращаемся к вам с просьбой, — сказал Багров, — принять участие в проектировании. Вы только представьте, какой открывается простор для самой дерзкой творческой фантазии, какая уникальная возможность проявить свой талант ярко и масштабно…
Поддержал Багрова и Никулин. Хотя руководители Чиндалея, признался он, не хотят расставаться с Каштаном, однако и они согласились с тем, что масштабы работы здесь и в зоне БАМа несопоставимы.
Академик Синицын сказал, что настойчивость, с какой они просят Каштана заняться градостроительством в зоне БАМа, объясняется просто: характер его творчества созвучен идеям и задачам, которые ставят ученые, занимающиеся перспективным планированием развития Сибири в двадцать первом веке.
Юрий негромко спросил:
— Если я правильно понял, меня хотят обеспечить работой на ближайшие пятнадцать лет?
— Как минимум! — откликнулся академик. — Работенки там хватит на всю вашу жизнь… Да не иссякнет ваша неуемная фантазия, друг мой! А я верю, что не иссякнет. У вас не только поразительное чувство времени, но и, я бы сказал, чувство ареала. Так что создание новых городов — это, безусловно, ваше дело, Юрий Петрович!
— И мое и моих коллег.
— Кстати говоря, — заметил Багров, — подбор специалистов достойного уровня тоже будет входить в компетенцию того человека, который сформирует и возглавит проектную мастерскую для строительства города Аршана, а также станет и его главным архитектором. Аршан намечено сделать столицей территориально-производственного комплекса по освоению зоны БАМа. А также научным центром. Со временем мастерская станет институтом… Итак?
Каштан долго молчал.
— Как вы понимаете, с маху дело всей дальнейшей жизни решить нелегко. Во-первых, мне необходимо время для разработки проектной документации, для расчетов восьми зданий общественного центра. Надо подготовить и план застройки жилых кварталов. Я обещал чиндалейцам, и я должен выполнить обещание… Ну а во-вторых, мне надо утрясти личные дела. Они не так просты… Короче говоря, требуется время, чтобы дать вам ответ.
— Ну что ж, это справедливо, — заметил Багров. — Но я прошу вас, Юрий Петрович, как только примете решение, немедленно дайте мне знать.
— Обещаю.
В тот же день Каштан получил заказную депешу из Москвы. В пакете лежала бумага. Народный суд Тимирязевского района извещал, что постановлением суда от 4 октября сего года брак гр-на Каштана Ю. П. с гр-кой Уфимцевой А. С. расторгнут.
Хоть и ждал Каштан этого неизбежного события, однако, когда оно произошло, на душе стало тяжко и муторно. Нахлынули воспоминания о первых годах совместной жизни с Аней, о рождении Маринки… Худо-бедно, а была семья, жизненная опора, было ощущение стабильности.
И вот на всем этом поставлен крест. Ушли из его судьбы и Аня, и дочурка… От этих дум и воспоминаний возникла боль. Ощущение стыда. Боль.
А потом от Али пришло письмо. Оно крайне обескуражило Юрия. И он несколько дней не мог освободиться от чувства растерянности.
Бывшая жена писала:
«Здравствуй, Юра. Решила написать тебе письмо, поскольку для этого появился важный повод.
Ничего не буду говорить о твоем поступке и о его последствиях. Зная твой характер, убеждена, что ты сам терзался больше всех, и в основном, конечно, из-за Маринки. Не скрою, девочка пережила трудный период из-за разлуки с тобой. Но все это позади. И поверь, я не держу на тебя зла. Тем более что твой уход из семьи отразился на моей судьбе вовсе не трагическим образом. Наоборот, неожиданно для меня в жизни произошло благотворное изменение. Мне встретился очень хороший человек, и мы с ним недавно вступили в брак. Он военнослужащий, полковник. Был в Москве на высших курсах и скоро возвращается по месту службы — в Минск. Мы уезжаем все вместе. Он очень привязался к Маринке, и она к нему тоже.
В связи с этим хочу тебя попросить не высылать нам больше денег. Я знаю, Юра, твою щедрость. Но муж, как и я, считает, что мы достаточно материально обеспечены. Это первое, что я хотела тебе сообщить.
А второе заключается в следующем. Ты ведь, Юра, до сих пор прописан в Москве и являешься законным хозяином квартиры, которую мы через месяц оставляем. Думаю, что нелепо тебе отказываться от московской квартиры, пусть и плохой. Мало ли, как сложится твоя жизнь. Все может случиться. Мы с Мариной уже сюда не вернемся. Поэтому советую тебе прислать документ, который бы наложил бронь на твою квартиру. Будешь ее оплачивать. А в будущем сможешь обменять ее на лучшую. Не тяни с этим, оформи все, пока мы не уехали. Желаю тебе здоровья и успехов в твоей работе. А.».
23. «СОГЛАСЕН. КАШТАН»
Одним из самых толковых и преданных делу помощников Каштана был совсем юный Цыремпилон, недавний десятиклассник. Он увлеченно работал над проектами, очень быстро постигая секреты зодческого мастерства, и Юрий верил, что одаренный юноша станет в будущем хорошим архитектором.
Цыремпилон с жалостью наблюдал, как мается и мечется Каштан после отъезда Оюны. Помочь чем-либо, утешить его паренек не мог. Но однажды он сказал Юрию:
— Каштан-ахай, не думайте, что Оюна вас забыла. Она не забыла. Даже письмо вам послала.
— Письмо?! А где же оно? У тебя?
— Нет, нет, Каштан-ахай! Что вы! Его нету.
— Ничего не понимаю! Есть или нет?
— Нету письма. Оно уничтожено.
Каштан недоуменно смотрел на Цыремпилона:
— То есть как это уничтожено? Кем уничтожено?
— Этого я не знаю, Каштан-ахай. Только слышал, что было письмо. Но его порвали или сожгли.
— Но кто же мог уничтожить чужое письмо?! Что за бред?!
— Этого я не знаю.
— Выходит, кому-то поручили задержать адресованное мне письмо?
— Наверно.
— Так я этим чертовым почтарям пойду сейчас и шею сверну за такие мерзости! Это же уголовное преступление!
— Не надо сворачивать шеи, Каштан-ахай. Письмо ведь не вернуть. Я рассказал, чтобы вы не мучились, чтобы знали — письмо было. А не для того, чтобы вы свернули кому-то шеи.
— Ты прав, извини. И огромное тебе спасибо за вес-точку. Ты меня порадовал. Теперь-то я знаю, что Оюна помнит обо мне.
— Помнит, Каштан-ахай.
— Как думаешь, и мои письма она не получит?
— Наверняка, Каштан-ахай. Кое-кто хочет помешать вашей переписке. А ведь это непорядочно. И я прошу у вас прощенья за чиндалийцев. Помните, у Грибоедова сказано: «Дома новы, но предрассудки стары». Вот и у нас так. Примите мои извинения…
— Спасибо тебе, Цыремпидон! Ты настоящий друг.
Каштан задумался. Потом спросил:
— Послушай, давным-давно я не видел Чимида. Как он себя чувствует?
— Плохо чувствует. Как внучка уехала, Чимид совсем худой стал.
— Давай навестим старика, Цыремпилон. Пойдешь со мной? Поможешь мне поговорить с ним?
— Помогу.
Позади дома во дворе стояла старая юрта, в которой дед Оюны проводил большую часть времени. Там в юрте он и принял Каштана.
Чимид выглядел больным и заметно одряхлевшим. Он сидел, скрестив ноги, на полу. Перед ним стояла курильница, от которой поднимался легкий дымок.
Старик достал из кожаного мешочка горсть серебряных и бронзовых фигурок и бросил их на войлок. Внимательно посмотрел на их расположение, затем на Каштана. В узких щелочках его глаз плавились загадочные огоньки. Он что-то негромко стал говорить по-бурятски. Цыремпилон переводил:
— Чимид-ахай сказал, что юрта его — песчинка в пространстве. Но и отсюда он видит твою прошлую жизнь — в суетности, в муке, в горячке и поиске смысла бытия… Редко кому удается переступить черту неведомого, — говорит Чимид-ахай. — Но Провидение не только отметило тебя, но и вывело к тайне запредельного. И ты верно распорядился открывшимся…
— Я внимательно слушаю, Чимид-ахай…
Цыремпилон продолжал переводить:
— Однако нынче Чимид-ахай с горечью видит в сердце твоем, свободном от спеси и гордыни, великую смуту. А смута эта — от любви к женщине… Вот. И еще Чимид-ахай сказал, что жребий твой благороден и проживешь ты в праведности долго… Он говорит, что у юной женщины, которую ты любишь, не просыхают слезы, она рвется к тебе, но пока не в силах соединиться с тобой… А как помочь тебе в этом, Чимид-ахай не знает.
Старик умолк. Прикрыл глаза. Казалось, он задремал.
Юрий встал, поклонился Чимиду, пожелал ему бодрости духа и тела.
Старик никак не откликнулся на его слова.
На следующий день Каштан добрался до райцентра. Там пересел на самолет, вылетающий в Улан-Удэ.
Погруженный в свои раздумья, он и не заметил, как прошел полет, а также поездка от аэропорта до города.
Аэрофлотовский автобус подъехал к мосту, перекинутому через могучую реку. То была Селенга. На противоположном берегу, в котловине, окруженный грядами гор, раскинулся Улан-Удэ.
Скоро автобус уже катил по его улицам.
Расспрашивая прохожих, Каштан направился к дому, в котором жила семья Сахьяновых. Юрий нажал кнопку звонка у двери, где висела медная табличка с фамилией народного артиста.
Каштану казалось, что он слышит стук своего сердца.
Дверь, однако, никто не открывал. На площадке появилась пожилая женщина. Она участливо сказала:
— Вы напрасно звоните, товарищ. Их же нет.
— А где они? — повернулся к женщине Юрий.
— Уехали.
— То есть, как уехали? Куда?
— Насколько я знаю, в Москву.
— В Москву? Все трое?
— Нет, почему же. Дарима Чимидовна с Оюной.
— Вот оно как? А надолго уехали? Не знаете?
— Не могу вам сказать.
— А самого-то Сахьянова когда можно застать?
— Сахьянов здесь вообще не бывает.
— Ничего не понимаю! Это же его квартира!
— Вам, наверно, лучше всего увидеться с Жалсаном Намсараевичем… Зайдите в театр, может, застанете Сахьянова.
Сидевший за столом вахтер позвонил по телефону. Объяснил что-то по-бурятски. Положив трубку, сказал:
— Обождите минут тридцать. Закончится репетиция, и Сахьянов выйдет к вам.
Через полчаса в вестибюле показался отец Оюны. Каштан пошел ему навстречу. Артист с недоумением смотрел на Юрия.
— Что вам угодно? — спросил он.
— Мне бы очень хотелось с вами поговорить, Жалсан Намсараевич. Уделите мне минут десять, не больше… Пожалуйста!
Сахьянов провел Каштана в небольшую комнату, где стоял диван:
— Прошу, — буркнул он.
Они сели на диван. Каштан сказал:
— Я насчет Оюны. Меня волнует ее судьба. Хочу знать, почему ее увезли из Чиндалея, зачем отправили в Москву?
— Как вас зовут?
— Юрий Петрович.
— Ну так вот, Юрий Петрович, я только потому готов простить вашу неучтивость, что вижу искреннюю взволнованность… Итак, об Оюне. Она уехала с матерью в Бирму, на три года.
— Куда-куда? — недоверчиво переспросил Каштан.
— Я же ясно сказал — в Бирму. Есть такое государство на юге Азии. Там открыт советский госпиталь для бедноты. И Дарима его возглавила. А Оюна работает медсестрой.
Каштан с запинкой спросил:
— И Оюна согласилась ехать в Бирму?
— Пришлось уговаривать. Вызывали в ЦК комсомола.
— А вы?
— Что — «а я»?
— Как же отдельно от семьи?
— О, господи, — вздохнул артист, — видит бог, я не обязан отвечать на ваши дурацкие вопросы! Вам непременно нужно знать, что наш брак носит чисто формальный характер?
— Почему же вы в таком случае прилетали за Оюной с женой?
Сахьянов поднялся с дивана и сухо сказал:
— Это было необходимо. Отказаться от поездки не имел права. Надеюсь, это все?
Юрий тоже поднялся с дивана. Он пробормотал:
— Вы говорите, три года?
— Да. По меньше мере.
— А как насчет переписки?
— Чего не знаю, того не знаю.
— Спасибо вам. Пожалуйста, извините.
— Ради бога, Юрий Петрович… Надеюсь, вы обратили внимание, что я вас ни о чем не расспрашиваю. А мог бы.
— Да, да. Благодарю вас. До свидания!
— Будьте здоровы! Поедете в Бирму?
— Не исключено. Прощайте.
Каштан взял такси и уехал в аэропорт. Там он переночевал, а утром вылетел в обратный путь.
Боль от разлуки с Оюной не только не утихла, но стала ощутимей. Юрий понимал, что тоска по любимой девушке не оставит и пребывание в Чиндалее будет постоянно обострять ее.
Он послал в Ургал Багрову телеграмму, текст которой был предельно краток: «Согласен. Каштан».
На следующий день за ним прилетел вертолет.
Проводить Каштана собралось почти все население поселка. Он сердечно попрощался с людьми, ставшими ему за эти месяцы близкими и дорогими.
Юрий был благодарен Чиндалею за счастье, которое он ему дал.
Когда вертолет поднялся, внизу, среди россыпи домов, Юрий увидел семь сверкающих многоцветностью красок зданий.
А еще через несколько минут Чиндалей скрылся из виду. Потянулись иные ландшафты.
И наконец Каштан увидел среди таежных массивов, горных кряжей, извилистых речек поблескивающие металлом струны железнодорожной магистрали. Вертолет пролетел и над станцией Аршан, которая, по словам руководителей, станет первым объектом его работы.
Пока что Аршан был небольшим поселком с сотней стандартных типовых домов. Но в будущем Аршану предстояло стать городом ученых, важным центром, координирующим разведку и добычу полезных ископаемых Забайкалья. Здесь, в Аршане, будет разрабатываться стратегия освоения богатств Восточной Сибири.
Аршан лежал у подножия лесистой горы, на крутом берегу таежной реки. Юрий приник к иллюминатору и смотрел на поселок, пока тот не скрылся за горами…
Письмо из Владивостока
«Юра, я не писала тебе до сих пор, родной мой, потому что решила, как врач, дать тебе время переболеть корью, неизбежным, изматывающим недугом, который, надеюсь, не сломит тебя, не опустошит, не ожесточит, не приведет к растерянности. Я, конечно же, имею в виду твое увлечение Оюной. Уверена, что по природе своей эта страсть не может продолжаться долго. Она, по всей вероятности, уже и пришла к финалу. Ну а по каким причинам, знать не хочу.
У нас впереди — целая жизнь. Мое чувство к тебе так огромно, так естественно и прочно, что твоя корь на этом фоне выглядит так, как и надлежит ей выглядеть, — мимолетным эпизодом, который уплывет в прошлое и с годами превратится в полубыль-полусказку.
Оюна не соперница мне, И ты со временем это поймешь.
Обращаюсь с просьбой к тебе, милый. Не так уж часто я это делаю, правда? Так вот, очень прошу тебя, напиши мне письмо. Я буду его ждать. Я уже его жду. Слышишь? Жду. Полина».
Письмо из Гутана (Бирма)
«Юрий Петрович! В своем обращении к Вам я не пишу слова «уважаемый», поскольку это было бы фальшиво. Не может возникнуть уважения к человеку, который, попирая нравственные нормы, воспользовался неопытностью и импульсивным характером невинной девушки, чтобы увлечь ее. Ваше появление в Бурятии мимолетно, и Ваша аморальность не дает Вам права поддерживать отношения с моей дочерью. Поэтому Ваше письмо для Оюны, направленное в адрес советского посольства в Рангуне, я не сочла нужным передавать дочери. И Ваш новый адрес сообщать ей не буду. Знакомство с вами и так тяжело отразилось на психике дочери. Как мать, требую прекратить всякие попытки связаться с Оюной.
Д. Сахьянова».
24. ВЕСТИ ИЗДАЛЕКА
…Отчаянно борясь с волнами, Каштан пытался подплыть к островку, на котором виднелась одинокая фигурка Оюны. Она сидела на каменистом берегу, обхватив руками колени и опустив голову.
Юрий напрягал все силы, но вода стала густой и вязкой, и он с ужасом понял, что не может приблизиться к островку ни на пядь.
Каштан попытался окликнуть Оюну, но не смог.
Некая дьявольская сила мешала одолеть это небольшое расстояние до островка. Он снова набрал в легкие воздух, чтобы позвать Оюну, и опять судорога сжала горло.
Но вот девушка подняла голову. И у Юрия наконец вырвался натужный хриплый крик:
— Оюна-а!!!
Он проснулся от этого крика. Учащенно билось сердце. Юрий вздохнул и сел на постели.
Ни днем, ни ночью не оставляли его думы об Оюне. Она являлась к нему в снах. Тоска по ней мучила постоянно. Он ждал от Оюны хоть какой-нибудь весточки, какого-то знака, но напрасно.
Оюна… Счастливые дни, проведенные с нею, казались сейчас такими нереально-лучистыми, волшебно-прекрасными, что уж и не верилось, были ли они.
Юрий поднялся и принялся ходить из угла в угол. Было давно за полночь. В окна струилось лунное сияние, оно заполняло комнату призрачным, тревожным мерцанием.
Вот уже много дней нарастало в душе Юрия беспокойство, не давали покоя тревожные мысли: что-то неладно, что-то не так происходит в его жизни.
До недавнего времени Каштан не сомневался, что правильно распорядился второй жизнью, дарованной ему судьбой.
Он со страстью занимался любимым делом. Его работа здесь, в Аршане, несмотря на трудности, на яростную борьбу с рутиной, на сопротивление маловеров, невежд, несмотря на коварство и злую необузданность сейсмических сил и вечной мерзлоты, в конечном счете — вереница удач и побед.
Казалось бы, работа поглощала все время и думы, не оставляя места для посторонних мыслей и чувств.
Почему же тогда гложет сомненье, отчего на сердце печаль?
Отчего завладело им пронзительное чувство одиночества?
Юрий включил настольную лампу. Вынул из берестяной коробки несколько листков — четыре письма и одну телеграмму.
С улыбкой перечитывая их, он явственно слышал живые голоса друзей.
Из поселка Благодатного, остров Аракутан
«Дорогой Юра! С большой радостью и, даже могу сказать, с гордостью узнал из газет, что ты не только жив и здоров, но и активно трудишься по своей профессии. Мало того, выдвинут на Гос. премию РСФСР за создание архитектурного ансамбля в поселке Чиндалей Бурятской АССР. Вот так, дядя Юра! Ну недаром, значит, мы тебя тогда заприметили. Ты — настоящий мужик, Юра, и я тебя глубоко уважаю. Честно.
Из наших ребят на рыболовных судах осталось работать четверо. Мы с Валерой и оба Саши. Остальные вернулись домой. Шлю тебе привет и от имени четверки горячие поздравления.
Жму руку. Поляков Слава».
Из поселка «Светлый яр»
«Здравствуй, Юра,
из передач телевидения мы узнали о твоей работе в Бурятии. Все работники оленника поздравляют тебя с этим, и независимо от того, станешь ли ты лауреатом, приглашают на июнь сюда к нам на отдых и на пробу свежего панта.
Известный тебе Анфиноген, узнав о твоих успехах, крепко задумался, а затем изрек следующее:
— У каждого — свой антик, елочки зеленые. Один пантовую силу на баб обращает, другой, вишь, на художества да изобретательства. Коли у Юрчи такой интерес, пущай фантазирует. Ему, однако, надо бы сюды приезжать на подзаправку.
Поскольку, как ты знаешь, Анфиноген слывет у нас умником, к нему надо прислушаться, приезжать к нам подзаряжаться, после чего ты сможешь создавать еще более грандиозные проекты.
Моя жена и дети шлют тебе поклоны и тоже приглашают.
А. Свиридов».
Из поселка Светлана Приморского края
«Привет тебе, Петрович!
Тут в Светлане только и разговоров, что про тебя. Как только по телевизору показали новый поселок, построенный по твоим мыслям, а также и твою фотографическую карточку, то поднялась кутерьма. Все галдят: это, мол, тот самый дохляк, который у нас лечился. Я так думаю, это тебя, парень, тайга подняла. Хоть ты и мало в ней пробыл. Так что приезжай-ка и отпуск, и пошагаем туда, где тебя тигр задрал. Его шкуру получишь в подарок. Разделались мы с ним только к осени.
С приветом к тебе, Лагутин Кондрат Игнатьевич».
Из поселка Богдарино Бурятской АССР
«Здравствуй, Юра,
недаром говорят: человек предполагает, а бог располагает. Не случайно, стало быть, нас тогда занесло в Чиндалей. В результате мы получили переломы и вывихи, а ты вышел в люди. Но можешь не сомневаться: мы искренне рады такому повороту событий. И даже хлебнули за твой успех и удачу — распили бутылочку безалкогольного напитка «Саяны». И от всей души желаем тебе получить лауреатскую медаль. Чтоб у нас был повод еще распить бутылочку.
Твои сотоварищи по аэрогеологии, а также по аварии.
Пушкарь, Климов».
Телеграмма из Минска
«ДОРОГОЙ ПАПУЛЯ, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ РАДА ЗА ТЕБЯ. ЦЕЛУЮ. МАРИНКА»
Каштан бережно уложил письма обратно в коробку. Эти теплые весточки не только принесли радость, но и вновь убедили, что он не одинок в этом огромном мире. И стало окончательно ясно: от угнетающего чувства одиночества способен избавить его один-единственный человек на земле — Оюна.
Но как сказать ей об этом?
Юрий толчком распахнул дверь и вышел из дома.
Никто пока еще, кроме Каштана, не рискнул поселиться здесь, на самой вершине сопки, господствующей над Аршанской долиной.
Жилище Юрия стояло у крутого склона, и он любил в редкие минуты отдыха смотреть отсюда на леса, на таежную реку, на горные кряжи, чередой уходящие к востоку.
…Круглая оранжевая луна излучала мощное свечение. Далеко внизу медью отсвечивала река, поблескивали рельсы и крыши, сверкали гроздья изоляторов на трансформаторе и стекла оранжереи.
Тишиной, словно льдом, сковало долину.
Поселок спал.
Юрию показалось, будто отсюда видна вся планета.
И тогда он произнес несколько слов, обращенных к Оюне.
Зов его прозвучал негромко, но Каштан поверил вдруг, что та, кому предназначены его слова, услышит их в далеком краю.
— Оюна, родная! — позвал Юрий, — Мне тяжко одному. И нет без тебя счастья!
И в далеком краю, где в это время уже занимался рассвет, проснулась Оюна.
«Каштан-ахай, сердце мое, где ты сейчас, мой самый главный человек?
Знаю, что нет никакого шанса, чтобы эта записка нашла тебя. Но я все-таки шлю ее, шлю в неизвестность.
Один наш работник из посольства летит сегодня на Родину, и он обещал опустить мое письмо в почтовый ящик в Москве. А какой адрес я напишу на конверте? Наверно, Чиндалей, хотя чувствую, что ты покинул его, как только родители увезли меня.
Не знаю, как сложатся наши судьбы. Знаю лишь то, что жизнь подарила мне счастье — встречу с тобой. И я всегда буду ей за это благодарна.
Мне худо здесь, Юра. Влажный тропический климат угнетает, действует на нервы. Мучают головные боли и бессонница. Работа каторжная.
Но главная беда — то, что между нами тысячи километров. И единственная моя радость здесь — это воспоминания о тебе. И еще один сон, который я однажды увидела. Мы стоим с тобой на берегу какой-то реки. А вместе с нами — куча наших с тобой детишек. Штук семь, не меньше. И все раскосые, как я… Представляешь? Проснулась — и смеялась и плакала.
Я люблю тебя.
Оюна».
Неисповедимы маршруты судьбы и души человеческой…
Доплывет ли Юрий Каштан до острова, на котором томится Оюна?
И будет ли счастлив, когда доберется?
Этого не знаю даже я, рассказавший вам эту историю. Она — не окончена.
А завершить повесть мне хочется поэтическими строчками. Мудрый Хафиз писал когда-то:
Я думал повесть о любви — одна и та же.
А вслушался — на сто ладов звучит ее печаль.
ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ОПАСНЫМ
От автора
Рассказ о том, как двум советским парням оказавшимся осенью 1930 года в фашистской Италии, удалось провести тамошнюю жандармерию и содействовать побегу из тюрьмы узников-коммунистов, сейчас кажется небывальщиной. Но в годы первой пятилетки эта история воспринималась как подлинная. Это и неудивительно. Таков был дух времени, времени искреннего и активного проявления революционной солидарности с пролетариями капиталистических стран. Легенда о молодых рабочих Нижегородского автозавода, членах МОПРа, которые, действуя по велению сердца, с огромным для себя риском выручили братьев по классу, не могла не вселять гордость: ведь простые советские парни оказались и сметливей и сноровистей фашистских жандармов.
Впервые мне довелось услышать эту побаску еще в детстве. А несколько лет назад в санатории один ветеран-автозаводец в ответ на мои расспросы припомнил много любопытнейших и забавных подробностей, которыми молва украсила легенду о похождениях и приключениях двух парней в Италии.
Мы говорили с ним о том далеком и славном времени с улыбкой и грустью. Эта интонация стала определяющей и в повести, которая представляет собой вольную и во многом шутливую реконструкцию предания тридцатого года.
Охотно допускаю, что могут появиться не только шутливые версии данной истории. Но мне она представилась именно такой, лубочно-озорной. Не случайно даже главных ее персонажей я решил назвать Фомой и Еремой, хотя у героев легенды были другие имена.
1. НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
Итак, попробуем перенестись в год тысяча девятьсот тридцатый и представить, как все это было…
Ох и здоров был Фома Бурлаков в ту пору, ох и силен!
И сейчас, вспоминая о давних годах, старики говорят: «Это вы про какого Бурлакова? Про богатыря из кузнечного?»
Было и вправду что-то богатырское в этом добродушном белокуром парне. Вот он — на фотографии, сдвинув белесые брови, напряженно следит за грохочущим прессом, сноровисто подставляет под него коленчатый вал. К выпуклому чистому лбу прилипла светлая прядь волос. Пухлые губы крепко сжаты, взгляд серых глаз сосредоточен на заготовке.
Комбинезон и рубашка с короткими рукавами сидят на нем ладно. Ноги крепко расставлены, мускулы упруго вздуты…
Может быть, и в тот день, когда Бурлакова сфотографировали, к нему в цех, как это уже не раз случалось, прибежала веснушчатая тараторка Нюрка из дирекции и по своему обыкновению затрещала:
— Эй, Бурлаков, черт здоровый! Тебя опять требуют! Там снова заварушка! Кончай молотить!
Поскольку кузнец продолжал невозмутимо работать, Нюрка дернула его за штанину. Бурлаков ритмично поворачивал заготовку и, казалось, не замечал назойливой девчонки. Она, чуть не плача, кричала:
— Там ведь ждут, дубина ты стоеросовая! Велели быстрей идти!
В какой-то миг Бурлаков внезапно отставил поковку, стремительно схватил поперек туловища Нюрку — тем же точно рабочим приемом, что и заготовку, и сделал вид, будто подсовывает ее под пресс.
Нюрка топко заверещала и задрыгала ногами. Нельзя сказать, однако, чтобы она так уж очень возмущалась шалостью кузнеца.
Бурлаков легко и ловко восстановил Нюркино вертикальное положение. Она, словно курочка, отряхнулась, а кузнец невозмутимо объяснил:
— Перепутал, понимаешь. Думал — заготовка. Взял. Смотрю — что-то конопатое. А это, оказывается, Нюрка! Тьфу, пропасть!
— Шуточки шутишь, а тебя ждут на площадке.
— У меня работа.
— Сказали, пусть, моя, бросит.
— А что там опять?
— Иностранцы подрались.
— Пусть себе дерутся. Первый раз, что ли?
— Не-е, Иван Кузьмич говорит — тут дело политическое.
— Вон даже как! Опять, что ли, негра обидели?
— Вроде бы.
— А переводчик где ж?
— Нету его. В городе. За тобой послали.
— Вот еще напасть! Спокойно работать не дадут!
В то время был построен не весь завод. Половина цехов только еще возводилась. На строительстве корпуса легковых автомобилей трудились в основном иностранные рабочие. Сюда и спешил Бурлаков, сопровождаемый рыжей Нюркой.
Шумящая толпа строителей окружала семерых иностранцев. Что-то горячо доказывали два молодых негра в очках.
Бурлаков, возвышаясь подобно слону над толпой, приблизился к спорящим. Он спросил негров на английском языке:
— Что у вас здесь произошло?
Один из негров с возмущением заговорил:
— Снова повторяются расистские выпады! Месяц назад двое белых американцев избили здесь негра…
— Я знаю. Их выслали из нашей страны.
— А теперь эти белые европейцы нападают на нас!
— Что они сделали?
— Мы работаем на монтаже конвейера. Они стали нас толкать и оскорблять. Не давали работать!
— На каком языке они оскорбляли вас?
— Не знаю.
Бурлаков спросил у двоих светловолосых сероглазых иностранцев по-русски:
— Вы кто?
— Немцы. Мы братья.
Бурлаков по-немецки сказал:
— Они жалуются, что вы их оскорбляли и толкали.
Оба немца рассмеялись. Один из них сказал:
— Это недоразумение, товарищ! Мы с Вальтером — электрики и сейчас монтируем энергетический узел. Работать здесь опасно, и мы это пытались объяснить вот им. Просили уйти отсюда, чтобы их током не ударило.
— А они говорят, что вы расисты.
Немцы нахмурились. Вальтер обиженно сказал:
— Мы с Отто — коммунисты. Члены КПГ. А значит, интернационалисты. Скажи им, товарищ, что они ошиблись.
Бурлаков сказал неграм:
— Они и не думали вас оскорблять. Они не расисты.
Негр, что помоложе, сказал:
— Может, эти и не расисты, а вот те трое черноволосых кричали на нас и махали руками.
Бурлаков спросил у троих черноволосых.
— А вы кто?
— Италия! — ответил за всех невысокий худенький итальянец.
Бурлаков спросил по-итальянски:
— Вы их оскорбляли?
Итальянцы, оживленно жестикулируя, одновременно заговорили:
— Мы им кричали: «Ребята, отойдите от кабеля — током зашибет!»
— Я одного за рукав взял, чтобы увести, а он на меня…
— Мы хотели немцам помочь объясниться, но у нас ничего не вышло!
Бурлаков, кивнув, сказал по-русски:
— Ясное дело.
Затем объяснил неграм по-английски:
— Это немецкие и итальянские товарищи. Они против расизма. Они любят и уважают негров. Они хотели вам дружески объяснить, что работать у кабеля опасно. Они передают вам пламенный пролетарский привет. Они хотят сердечно пожать вам руки.
Негры взволнованно заулыбались, первыми протянули руки немцам и итальянцам. Последовали улыбки, рукопожатия, объятия. Все обрадованно загомонили.
Бурлаков потихоньку стал выбираться из толпы. За ним увязался низенький лысый человек. Он был кузнецу по пояс. Бурлаков шагал твердой размашистой поступью, и человек едва поспевал за ним, быстро перебирая короткими ножками. На ходу, запыхавшись, он говорил:
— Товарищ Бурлаков, позвольте представиться. Я новый редактор многотиражки — Ступак Семен Саввич.
— Очень приятно.
— Зовут вас как?
— Фомой Игнатовичем.
— Фома Игнатович, меня поразил тот факт, что вы владеете тремя языками!
— Пятью.
— Пятью! — воскликнул редактор. — Вы где учились?
— А это само собой получилось. Без учебы.
— То есть как это?
— Ну, пока завод строили. Кругом же иностранцы. Из десяти стран. В одной бригаде работаешь. Говорить с ними ведь надо было? Надо. И сам не заметил, как выучился. Ей-богу!
— Феноменально!
— Чего?
— Я говорю — удивительно! У вас природная способность к языкам. Родители ваши тоже обладают лингвистическим талантом?
— Этого не знаю. Батя мой, и дед, и прадед были кузнецами.
— Вы из деревни пришли на стройку?
— Ага.
— Я еще к вам приду, Фома Игнатович!
— Милости просим!
— До свидания!
— Всего хорошего!
Когда в многотиражке появилась заметка под заголовком «Рабочий-полиглот», то это почему-то обозлило Бурлакова, а у товарищей по работе вызвало смех. Мудреное словечко «полиглот» было воспринято как ругательство. На партбюро редактору Ступаку было указано. За непродуманную терминологию.
В одном из номеров многотиражки, а также на щитах у заводских ворот и у красного уголка можно было увидеть такое объявление:
«Вниманию членов МОПРа!
18 сентября в помещении красного уголка состоится общее собрание заводской ячейки МОПРа. На повестке дня: выборы делегатов для шефской связи с узниками итальянского фашизма.
Начало в 7 часов вечера.
Секретарь з/я Шарко».
Рабочие собрания той поры отличались накалом страстей, были они долгими, шумными, а иногда и ералашными.
Сохранились в здешнем архиве желтые и ломкие листки протокола собрания заводской ячейки МОПРа. И даже в этом сухом, лаконичном отчете проглядывает своеобразная специфика времени, чувствуется особенная, неповторимая атмосфера собраний давно прошедших лет.
Попытаемся восстановить по протоколу живую картину этого собрания, состоявшегося в красном уголке в сентябре 1930 года.
Секретарь заводского МОПРа Степан Шарко, курносый, лохматый парень, стуча в такт своим словам кулаком по столу, будто гвозди забивал, говорил:
— Два года наша ячейка не может добиться связи с нашими подшефными узниками итальянского фашизма! Два года наши письма в тюрьму Регина, а также наши посылки и деньги фашистские гниды возвращают обратно!
Аудитория гневно зашумела. А Шарко продолжал:
— Наши итальянские братья в фашистских застенках отрезаны от всего мира! Может быть, они больны?! Может быть, они погибают от муки и голода?! Может быть, они умерли!
Многолюдное собрание зашумело еще больше.
— Мы, товарищи, клеймим презрением и гневом фашистских правителей Италии!
Аудитория дружно поддержала эти слова Шарко. Но он остановил аплодисменты:
— Но этого мало, товарищи! От одних проклятий нашим пролетарским братьям лучше не станет! Поэтому бюро нашей ячейки МОПРа выносит на это собрание предложение. О нем скажет вам товарищ Андронов, старый большевик и всеми уважаемый нижегородский пролетарий!
Андронова встретили овацией.
Он медленно стал говорить:
— По всему миру капиталисты зверствуют, бросают в тюрьмы и казнят нашего брата, коммуниста. Вот и этих четырех товарищей — Бруно Рудини, Амадео Каррето, Джакомо Бертоне, Антонио Орландо — хотят прикончить. Их засадили пожизненно. Но факт, что хотят совсем уничтожить. Мы с вами, конечно, понимаем, что сидеть всю жизнь им не придется: революция в Италии не за горами. Революция освободит всех!
Зал взорвался аплодисментами.
— Но ждать революции, когда четверо коммунистов терпят муки в фашистской тюрьме, мы не имеем права! Вот мы и решили послать в Италию двух наших идейных рабочих, членов МОПРа, чтоб они там выяснили обстановку, чтоб попытались встретиться с узниками или передать им собранные нами деньги, лекарства, одежду и, конечно, наши письма!
Все восторженно захлопали в ладоши. Кто-то выкрикнул:
— А справятся ли простые рабочие с таким поручением? Может, отрядить специалистов? Попросить съездить людей образованных?
Старик Андронов весело сказал:
— Ничего! Справятся! Не боги горшки обжигают!
Все одобрительно зашумели.
Вновь поднялся Степан Шарко и сказал:
— Прошу выдвинуть кандидатуры от цеховых ячеек.
Поднялся рабочий:
— Наш кузнечный цех меня поддержит. Товарищ Бурлаков должен поехать. Кто ж еще!
— Больно уж молод! — крикнул кто-то.
— Это-то не беда! Как у него с образованием?
— Он на рабфаке учится.
— Не боги горшки обжигают!
— Как с трудовыми показателями?
— Да ударник же он! На красной доске, что ль, не видел?
Шарко поднял руку:
— Давай-ка, Чурин, обоснуй своего кандидата.
— Пожалуйста! — Чурин стал загибать пальцы: — Бурлаков — активист МОПРа. Так? Так. Владеет пятью иностранными языками. Так? Так. Он пока холостяк. Так? Так. Я к тому, что ежели что случится, не дай бог, все-таки легче…
Шарко сказал:
— Ну-ка подымись, Бурлаков!
Кузнец, сидевший в заднем ряду, смущенно поднялся. Все обернулись на него и зашумели: «До чего же здоров детина!» Чурин сказал:
— Бурлаков — парень крепкий. Возьмет фашиста за ногу, раскрутит и швырнет!
Все рассмеялись. Шарко спросил:
Снова поднялся старый большевик Андронов. Он сказал:
— Хочу, чтоб вы правильно оба поняли, что от вас требуется, ребята! Вам придется и прыть свою, и силушку попридержать! И там, за рубежом, любезными быть. Иначе не за понюх табаку пропадете. А кому от того польза? Нет, Седых, если ты там буйствовать намерен, то охать тебе резона нет. Каким должен быть наш представитель? Достоинство, уверенность, спокойствие. Понял, Седых? Чтобы выполнить свою задачу, вам с Бурлаковым придется чувства зажать в кулак. Понял?
— Понятно. Чего уж!
— Вот то-то!.. Когда поедете, то в Москве зайдете в исполком МОПРа. Там найдете Лукину. Старая большевичка. Мы с ней каторгу вместе отбывали. Привет ей передадите. Она поможет вам.
В холостяцком общежитии, где обитал Бурлаков, его койку можно было угадать сразу: задняя ее стойка была спилена, и для ног дополнительно установлена специальная скамейка. Постель Бурлакова была самой аккуратной и чистой в комнате.
Соседи по комнате наблюдали за сборами Бурлакова, подавая ему всяческие советы. Фома Игнатович укладывал свой деревянный, перехваченный металлическими полосками сундучок. На внутренней его крышке были наклеены цветные картинки — обе изображали кузнецов. Над одной из них вязью шла надпись: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи». На другой мускулистый кузнец разбивал молотом цепи, опоясавшие земной шар. Надпись гласила: «Владыкой мира будет труд!»
Соседи обсуждали, стоит ли брать с собой в Италию запасные портянки.
— Бери, бери, Фома! Лишними не будут! Сам знаешь, после любой передряги, как переменишь портянки, так с тела тяжесть сходит. И на душе тоже легчает!
— Ладно. Уговорил.
Бурлаков покрутил в руке желтый брусок.
— Мыло хозяйственное.
— Бери! Пригодится! Кто их там знает, есть у них мыло или нет!
— Ладно. Беру.
— Махорки возьми пару пачек.
— Да я ж некурящий!
— Возьми! Может, кого там угостить понадобится. Разговор за куревом складней. Слово за слово, смотришь— польза. На, бери!
— Ну давай. Положу на всякий случай.
— У тебя ведь часов нету, Бурлаков?
— Нет.
— Мои возьмешь!
— Да ты что! Ценная же вещь!
— Вернешься — отдашь. А там они пригодятся. Па. С крышкой. Серебряные. Дедовы. Закрепи их на ремень.
Парни придирчиво оглядели Бурлакова; все вроде ладно. Черная сатиновая косоворотка, с ремешком, суконные брюки, заправленные в хромовые сапоги. Чистенько, аккуратно, солидно.
— Ногти постриг?
— Порядок.
— Теперь уложи эти вот продукты в отдельный сидор.
— Да вы что, ребята!
— Ты помалкивай, парень! Соображаешь, куда едешь? Не хватало еще на буржуйскую еду деньги тратить! Мало ли в какой переплет попадешь? А тут харчишки всегда с собой. Ни от кого не зависишь!
— Это-то верно.
— Ну! Мужик ты дюжий, тебе настоящая еда требуется. А там, говорят, деликатная пища — помаленечку сладенькое на блюдечке. Ноги с нее протянешь!
— Спасибо, братцы! Откуда вы такой богатый харч добыли?
— Умеючи долго ли! Мы собрали все наши месячные рабочие карточки — первой категории. Алеха пошел в распределитель: так, мол, и так, люди в загранку едут, спецзадание. Ну нам сам директор и выдал взамен карточек. Вот клади себе. Консервы. Колбаса. Масло. Печенье. Сахар.
— А как же вы сами? Чего жрать-то будете?
— Перебьемся! Мы ж у себя дома.
На вокзале собралась большая толпа провожающих автозаводцев. Все были взволнованы. Седых заметно нервничал. Он был одет в красноармейскую, полинявшую, но чистейшую гимнастерку, диагоналевые бриджи и сапоги. На голове кожаная фуражка. В руке он держал фанерный баул и вещмешок.
Когда подошел поезд, несметные массы пассажиров бросились к вагонам. В этой суматохе как-то не удалось толком и попрощаться, и сказать напутственные слова. Бурлаков прошел как слон через толпу, Седых за ним.
Вагон оказался уже битком набитым.
Загудел паровоз, лязгнули буфера. Поплыла за окошком толпа. Заводские что-то кричали, а что — не разобрать в общем гаме.
— Прощай, Нижний!
В Москве, в здании исполкома МОПРа, двух нижегородцев приняла пожилая худощавая женщина в пенсне. Это была старая большевичка Лукина. У нее в кабинете находился невысокий черноглазый улыбчивый человек. Говорил человек с сильным акцентом. Он оказался итальянским коммунистом Джерманетто. Лукина сказала автозаводским делегатам:
— Это бессмысленная поездка, ребята! Вас развернут на итальянской границе на 180 градусов и поддадут коленкой под одно место. Мы рекомендуем вам вернуться в Нижний. Я сама позвоню в вашу ячейку и все им растолкую.
Седых упрямо помотал головой:
— Нет, товарищ Лукина! Хоть на брюхе, хоть на карачках, но мы приползем куда надо. Нам коллектив поручил это дело, мы сдохнем, но выполним!
Лукина улыбнулась.
— Мне не верите — послушайте товарища Джерманетто.
Итальянец кивнул и сказал:
— Это правда, друзья! Фашисты не пустят двух советских рабочих… А если пустят, вам никто не даст… как это сказать… свидания с тюрьмой. И это опасно.
— Беда в том, — вновь вступила в разговор Лукина, — что мы не сможем вам ничем помочь, если с вами что случится… Ваша затея может окончиться плачевно.
Бурлаков сказал:
— Это не наша затея. Коллектив завода хочет помочь итальянским товарищам. И мы им поможем. Чего бы это ни стоило!
Лукина горестно вздохнула. Джерманетто лукаво улыбнулся. Лукина подняла телефонную трубку и сказала кому-то:
— Гена, зайди.
В кабинет тотчас же зашел сутулый молодой челочек с залысинами. Лукина сказала парням:
— Это товарищ, Черепок из нашей канцелярии. Он поможет вам с визой…
— Швейцарской визой! — предупредил Черепок.
— Швейцарской визой! — кивнула Лукина, — А также и достанет вам билеты на поезд…
— Только до Женевы! — быстро сказал Черепок.
— Да. А дальше, братцы, будете действовать самостоятельно.
— Ваши деньги, — сказал Черепок, — переведем тоже в Женевский банк… Идемте ко мне, товарищи!
— Это, к сожалению, все, что мы можем для вас сделать, — сказала Лукина, — И могу сказать одно: мы здесь не меньше вас жаждем помочь итальянским товарищам. Но мы — противники дилетантских, самодеятельных и бесплодных действий, таких, как ваша поездка. И я буду ставить вопрос на исполкоме, чтобы мы, наконец, получили право запрещать их. Чересчур уж их стало много!
Лукина пожала руки обоим парням. Потрепала их по шее. Проводила до дверей и сказала вслед:
— Джерманетто проведет с вами беседу об обычаях. Гена напишет письмо в швейцарскую секцию МОПРа… До свидания! Ни пуха ни пера!
— Вот что, ребята, — сказал Гена Черепок. — В таких нарядах за границей ходить нельзя.
— А чем они плохи? — удивился Бурлаков.
Седых твердо сказал Гене:
— Я поеду в этом. И баста. Не хватало еще перед буржуями выкобениваться!
— И баста! — спокойно повторил Черепок. — Значит, вообще не поедешь. И кончен разговор!
Помолчали. Обескураженный Седых зло сплюнул. Язвительно произнес:
— Хороши же у вас порядочки!
— Да уж какие есть!
— А где это, интересно, нам денег взять на новую одежку?
— Эго уж наша забота!
В магазине «Мосодежда» примеряли костюмы. С Бурлаковым пришлось много повозиться. На его богатырскую фигуру не налезал ни один костюм. Он надел казавшийся просторным пиджак. Согнул в локте руку. И мощный бицепс прорвал рукав от плеча до локтя. Согнул другую руку — затрещал и лопнул другой рукав. Гена со вздохом заплатил.
Наконец, Бурлакову подошел черный суконный двубортный костюм. Воротник белой рубашки он выпустил поверх пиджачного воротника. Получилось неплохо.
Седых облачился в синий полосатый костюм. Ему сильно досаждали ботинки — он их надел впервые в жизни. Еремей Павлович ворчал, крутился перед зеркалом. Вместо рубашки он надел черный бумажный свитер.
Гена удовлетворенно сказал:
— А вы ребята что надо! Таких не стыдно на Запад пустить. Честное слово!
— Не в одежде счастье, — ворчливо сказал Седых.
— Ну, кто же спорит! — примирительно заметил Гена.
Он купил им вдобавок два стандартных дерматиновых чемодана и велел переложить в них свои пожитки.
Теперь парней можно было отправлять.
Гена давал последние инструкции перед отъездом:
— Главное, четко действовать на пересадках! Здесь уж тебе, Фома Игнатович, и карты в руки, поскольку ты языки знаешь. Я посажу вас в варшавский экспресс. В Варшаве вы сядете на поезд до Вены. И уж от Вены доедете до Женевы. На станциях никуда не ходите — от греха подальше. Они нас любят провоцировать.
— Ясно.
— Учтем.
— В Женеве вас встретят работники тамошнего МОПРа. Они по возможности вам помогут.
— Понятно.
— Помните, что у вас только швейцарская виза. Если просрочите, ее, будут неприятности.
— Учли.
— Ну а теперь — на вокзал!
Мчался экспресс Вена — Женева.
Парни сидели в двухместном купе, и лица их выдавали и напряженность, и некоторое смятение. Угнетающе действовала и роскошь купе — весь этот никелево-бархатный, лакированно-кожаный мирок, и надутые важные пассажиры, и проводники с манерами аристократов.
Седых недовольно крутил головой, трогал всякие блестящие предметы и тихо злился.
— Я все думаю, — сказал он Бурлакову, — как они роскошно живут, собаки! Видел в Вене, какие дворцы! Кругом — хрусталь, фонтаны, цветочки. Эксплуататоры, черт их дери! Скорей бы отобрать и отдать все это рабочему люду. Детсады в дворцах устроить.
— Угу! — задумчиво отозвался Бурлаков. — Как-то мне не по себе тут, Еремушка! С души воротит. Как-то мутно!..
— Еще бы! Империализм. Действует на мозги.
— Да нет. Не в том дело.
— А в чем же еще? Если у тебя живот болит, так сам виноват. Зачем воду из умывальника пил? Я вон всю дорогу всухомятку ем — и хоть бы хны! У них, поди, и вода-то заразная.
— Будет тебе!
На столике перед парнями разложена была своя снедь: сало, горбушка черного хлеба, головки лука.
— Ты не заметил, вода с привкусом? — спросил Седых.
— Попробуй сам и разберись.
— Нет уж! Потерплю.
— Дело твое.
— Кваску бы хлебнуть сейчас.
2. ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ
На вокзале в Женеве парней встретили трое молодых швейцарцев — Шарль, Жорж и Жан. Они были ошарашены богатырской статью Бурлакова.
— О-о! Вы — Томас Бурлакофф? Да?.. А вы — Эре-мей Седих?
— Так точно!
— Поедем к нам в секцию, — сказал Шарль. — Возражений нет?
— Поехали! — кивнул Фома.
Поглядывая на атлета-кузнеца, швейцарцы уважительно качали головами. Трамвай, в который они сели, сразу показался миниатюрным.
В помещении секции МОПРа после улыбок и похлопываний по плечу перешли к делу. Шарль Гобар, прочитав письмо Лукиной, присвистнул:
— Вы хотите пробраться в Регину, к четверке антифашистов?
— К ним, — подтвердил Бурлаков.
— Абсолютно нереальное предприятие, друзья мои!
— Отчего же?
— Наивные люди! Кто позволит оказать помощь уз-никам-коммунистам? Муссолини? Разве вы лично знакомы с дуче?
— Нам не до шуток.
— И нам тоже, товарищи! Но вы должны знать то, что знаем мы: эта четверка изолирована по особому распоряжению министра внутренних дел. Ни права переписки, ни врачебной помощи — ничего! Им все запрещено. Уже пытались итальянские товарищи пробиться туда — безуспешно. Рассчитывать, что это удастся двум рабочим-мопровцам из Советской России — значит строить иллюзии!
— А с итальянскими визами вы нам поможете?
Шарль помотал головой:
— Ничего не выйдет, парни вы мои дорогие!
Парни мрачнели все больше. Седых шепнул Фоме:
— Перейдем границу тайком.
— Что? — спросил один из швейцарских друзей.
— Он говорит, что придется переходить границу нелегально, — пояснил Бурлаков.
Швейцары возмущенно замахали руками. Жорж воскликнул:
— И не помышляйте! Вас подстрелят как куропаток! Или засадят в тюрьму.
— Это еще бабушка надвое сказала! — сказал Седых.
— Не имеете права так делать! — твердо сказал Шарль. — Вас поймают и оповестят весь мир, что советские рабочие — диверсанты. Нет, нет, мы вас не пустим!
Все приумолкли.
— Как же быть? — растерянно спросил Фома. — Не возвращаться же нам несолоно хлебавши!
Седых яростно сжал челюсти. Он сказал Бурлакову:
— С ними мы останемся на бобах! Это уж как пить дать! Просюсюкаем здесь, а ребята в крепости зачахнут. Больно тут все осторожные! Их послушаешь — и уши вянут.
— Что? — спросил опять Гобар.
— Он говорит, что осторожность — не главная черта революционера.
Шарль нахмурился. Он сказал:
— Авантюризм — тоже не главная черта революционера. Ленин говорил, что революционер обязан быть умным и гибким тактиком, трезвым, расчетливым политиком.
— Не сердись ты, товарищ! — сказал Фома. — Мы просто растерянны. И мы не можем отступить.
Жорж задумчиво сказал:
— Не будем горячиться, друзья. Давайте рассуждать логично. Попытаться проникнуть в крепость необходимо., Так?
— Так, — кивнул Бурлаков.
— Кому обычно легче всего это сделать?
— Советским рабочим-мопровцам, — сказал Гобар.
Все расхохотались, даже Седых улыбнулся. Жорж продолжал:
— Врачам и, пожалуй, еще журналистам.
— Верно, — кивнули швейцарцы.
— Вот и будем исходить из этого. Если б наши советские друзья были врачами или журналистами…
— Советскими?
— Нет, швейцарскими. Тогда уже разговор иной. Это серьезная попытка контакта.
— Бреднями-то нам вроде не с руки заниматься, — сказал Бурлаков. — Пустопорожний это разговор.
— В этих стенах, Томас, вздором заниматься не привыкли! — сухо заметил Гобар.
— Прошу извинить. Но что серьезного в таких рассуждениях, я не пойму?
— Сейчас поймешь. Жорж прав, когда говорит, что швейцарскому врачу легче проникнуть в крепость.
— Допустим. Но откуда ему взяться, врачу?
— Ты и будешь этим врачом.
— Я?! Ты что, Шарль, рехнулся?
Молчавший до поры Жан сказал:
— В наших силах, Томас, достать вам обоим швейцарские документы. Ты вполне сойдешь за врача.
— Да вы что?! Очумели? Какой из меня врач? Я даже не знаю, как люди лечатся — ни разу в жизни не болел. А тут еще — швейцарец. Не-ет, даже и не заикайтесь!
Швейцарцы молча и пристально смотрели на распетушившегося Бурлакова. Он под этими взглядами сник, увял и тихо стал бормотать:
— Нашли тоже врача! Это моя маманя ухитрялась всю деревню от разных болезней лечить. Своими средствами. Так то ж деревня, да еще до революции! А тут — Европа…
— Вот и хорошо. Выходит, ты потомственный врач!
— Тебе ведь лечить и не придется.
— Поедешь с документами врача Красного Креста. Для них это уважаемая организация.
— А если засыплюсь? — опросил Фома.
— Вы же собирались через границу ползти. А где больше риска? Но ты не засыпешься. Мы организуем отсюда звонок президента Красного Креста министру внутренних дел Италии.
— С чего это вдруг буржуйский президент станет за меня просить?
Швейцарцы рассмеялись. Гобар сказал:
— Значит, решили? Быть тебе врачом, а другу твоему — журналистом.
— Что значит решили? И почему не наоборот?
Жорж сказал, загибая палец за пальцем:
— Потому что: ты знаешь языки, а Эремей не знает. Раз. У тебя внушительная, убедительная фигура. Два. У тебя — доброе лицо эскулапа. Оно внушает доверие. Три. Ты выдержаннее и рассудительней своего друга. Четыре. И наконец, огромный лекарский опыт твоей мамы — русской народной целительницы. Пять.
— Черт! — пробормотал Бурлаков. — И крыть нечем!
Он посмотрел на своего спутника. Седых сидел хмурый, крепко сжав челюсти.
— Как, Еремей? — спросил его Бурлаков, — Возьмем грех на душу? Где наша не пропадала. А?
Седых угрюмо молчал. Наконец сказал:
— Хочешь знать мое мнение, так скажу: не гоже это, не по-пролетарски устраивать хитрости, маскарады всякие, поддельные документы, фальшивые звонки… Ну, поймают нас в своем обличье — велика важность! Пусть судят фашисты! Все будет чин чином: шли двое рабочих на выручку своих пролетарских братьев. Солидарность. Не стыдно. Понимаешь? Даже почетно. Я б с гордостью принял обвинение… А попадись мы в чужой шкуре?
Представляешь? Это ж мошенничество! Подлог! Не к лицу нам терять рабочую честь. Да я от стыда загнусь, если что. Не-ет, нам, большевикам, не пристало интрижками заниматься. Мы народ прямой. Скажи им.
Бурлаков поскреб затылок.
— Какие ж тут интрижки? — озадаченно спросил он. — Товарищи выход предлагают.
— Эремей чем-то недоволен? — спросил Шарль Гобар.
— Да, он против подделки документов. Это, говорит, уголовное преступление.
Гобар пожал плечами:
— Но ведь твой друг сам со страстью уверял здесь, что пойдет на все во имя помощи умирающим узникам. Значит, не на все, если его останавливают этические соображения.
Помолчали. Бурлаков сказал Еремею:
— Ты уж больно чувствительный, Ерема. Когда Ильич скрывался с документами на имя Иванова, бритый и в гриме, так он, наверное, рассуждал иначе. Ничего стыдного в этом он не видел. А ты, ровно барышня, с гонором — «ах, ах, как я буду стоять перед фашистами!».
— У тебя тут в Европе какие-то буржуйские замашки появились! — сказал Седых. — Не знаю, как дальше пойдет, но чековую книжку я буду при себе держать на всякий случай. Понял?
— Валяй. Тем более что из меня казначей никудышный… Ну так что мы решаем?
— А чего решать, ежели тут за глотку берут? Пусть готовят липу. Только если меня там схватят, я выброшу эту филькину грамоту к чертям собачьим! Понял?
Жорж сказал:
— Если вы согласны, то не будем терять времени. Вы оба пойдете сейчас со мной — вам надо сменить костюмы.
— Опять двадцать пять! А чем мой плох? — мрачно спросил Седых. — Новенький, только из магазина «Москвошвей». Московский.
Гобар мягко проговорил:
— В том-то и дело, что московский. И это наводит на размышления… Мало того, вам нужны и другие чемоданы, и даже другие носовые платки…
В сопровождении Жоржа парни вышли из сверкающего витринами магазина «Этуаль». Оба были облачены в элегантные костюмы, шляпы, туфли. Но если Бурлаков чувствовал себя в новом одеянии совершенно свободно и естественно, словно не замечая его, то Еремея Павловича оно как-то стесняло и корежило. Он шел несвойственной ему одеревенелой походкой, то и дело почесываясь и зло сплевывая набок. Очень смущала его шляпа.
Когда их стригли в парикмахерской на европейский манер, то Седых сильно мешал мастеру. Он пытался давать какие-то указания парикмахеру, дергался и выражал недовольство. В результате постригли его скверно. Посмотрев на Бурлакова, на его безукоризненный пробор, гладко прилизанные волосы, Седых сплюнул и сказал:
— Буржуй недорезанный!
И вот они снова в помещении женевской секции МОПРа. На этот раз здесь было лишь двое швейцарцев — Шарль Гобар и Жорж. Шарль их встретил улыбкой, усадил, достал документы и сказал:
— Итак, друзья, вот ваши бумаги. Ты теперь не Томас, а Альберт Зайдель, швейцарец, врач из персонала Красного Креста. Закончил Лозаннский университет. Вот вам бумага на бланке Красного Креста. Это ходатайство на имя министра о посещении крепости. Пошлите его в конверте отеля «Карлтон», где будете жить.
— Понятно, — сказал Бурлаков.
— Ну а ты, Эремей, теперь — журналист, корреспондент еженедельника «Курьер». И зовут тебя — Поль Эккерт. Вот ходатайство министру.
— Ясное дело.
— Мы дарим вам обоим по кожаному бумажнику. Возьмите.
— Спасибо.
— Кроме того, доктор получает этот медицинский саквояж и халат. А ты, Эккерт, возьми зонт и вечные перья.
— Благодарствуем, — сказал Эккерт.
Теперь слушайте внимательно, друзья. Вот телефоны товарищей из итальянского МОПРа. Эти люди в подполье. Будьте предельно осторожны, чтоб не провалить ни их, ни себя!
И, наконец, запомните: в лучшем случае имеется всего лишь один шанс из тысячи, что вам повезет. Понимаете? Один — из тысячи!
— Один шанс из тысячи, — повторил Бурлаков. Шарль и Жорж встали и дружески обняли советских друзей.
— Мы сделали все, что могли. Желаем вам удачи! Экспресс Женева — Рим мчался в ночной мгле через горы и долины альпийской гряды. Мелькали тоннели, мосты над пропастями, маленькие, будто игрушечные, станции.
И вот уже Италия.
В вестибюле фешенебельного римского отеля «Карлтон» Бурлаков и Седых подошли к портье. Фома Игнатович назвал себя, и портье подобострастно воскликнул:
— О, один момент, синьор профессоре! Ваш апартамент готов!
— «Профессоре»! — раздраженно передразнил его Еремей Павлович, — Такой же профессоре, как ты кузнец, подкулачник чертов!
Почему угодливый служащий отеля показался Еремею похожим на подкулачника, было непонятно. Этот лощеный господин с элегантными усиками даже отдаленно не напоминал подкулачника Кузьму Коноплева, которому Еремей в свое время выбил зубы за пресмыкательство перед сельским богатеем Подьячих.
Тем временем юноша в униформе взял саквояж Бурлакова и потянул чемодан из рук Еремея. Но тот отпихнул служителя, и между ними завязалась какая-то странная потасовка.
Доктор Зайдель прошипел сквозь зубы:
— Отдай ему чемодан, дубина! Слышишь?! На тебя уже обращают внимание! Дура!
Но Поль Эккерт с остервенением выдохнул:
— Я что, барин, что ли? Чего я буду пацана эксплуатировать?! Чемодан-то легкий!
Но доктор с такой силой сжал журналисту запястье, что тот, охнув, мигом выпустил чемодан. Служитель подхватил его и проворно направился к лифту. Бурлаков, желая, по-видимому, утвердиться в своей новой роли, крикнул вслед юноше:
— Ты уж изволь, любезный, порасторопней, поживей!
Фоме, вероятно, казалось, что именно так должен разговаривать с прислугой настоящий заграничный барин, времен же, хмыкнув, ядовито сказал:
— Давай, давай, господин Задсль!
Он не сразу осознал, что весьма удачно исказил новую фамилию друга, но поняв, как ловко звучит это на русский манер, с видимым удовольствием повторил:
— Задель! Хм! Вот уж и впрямь Задель!
И в этом нашел некоторое утешение.
Двойной номер, предоставленный швейцарцам, свидетельствовал скорее о пошлых вкусах хозяев, чем об их богатстве. Апартамент состоял из двух огромных смежных комнат, отделанных с фальшивой и слащавой красивостью. Тем не менее это показное великолепие произвело впечатление на приезжих швейцарцев. Один из них, обозревая свою комнату, даже произнес слова, которые можно было расценить и как одобрение:
— Вот гады!
Стена напротив алькова представляла собою сплошное зеркало. Гигантские кровати из красного дерева были покрыты кружевным покрывалом. Подушки и те под кокетливой кружевной накидкой.
Корреспондент «Курьера» открыл дверь в ванную и обомлел: она была облицована цветной глазурованной плиткой, блестела никелем, медью, зеркалами, фаянсом.
— Пахнет-то как сладко, будто облепиховым вареньем! — пробормотал швейцарец.
Он сплюнул и сказал:
— Вот так и засасывает буржуйский быт! Сядешь на такое сиденье, и силушки нет встать — до того браво! Они, гады, знают людскую слабость…
Доктор между тем обнаружил на резном столике пачку конвертов «Карлтона».
— Перво-наперво — дело! — сказал он.
Бурлаков достал из саквояжа заготовленные для них женевскими друзьями документы — отпечатанные на форменных бланках письма в правительственные органы Италии.
Фоме оставалось лишь вложить эти бумаги в конверты «Карлтона» и переписать адрес с заранее подготовленной шпаргалки.
Доктор Альберт Зайдель, ведомство международного общества Красный Крест, Берн, направлял в личную канцелярию министра внутренних дел синьора Умберто Стабилини ходатайство о разрешении посетить с целью медицинского осмотра лиц, отбывающих в крепости Регина пожизненное заключение за политические преступления.
В бумаге Поля Эккерта тоже содержалась просьба еженедельника «Курьер» допустить ее корреспондента имеете с уполномоченным Красного Креста в крепость Регина. «Курьер» обосновал свою просьбу тем, что в коммунистической прессе публикуется много инсинуаций по поводу состояния здоровья политзаключенных этой тюрьмы.
Доктор Зайдель, нажав кнопку звонка, вызвал коридорного и вручил ему конверты для немедленной отправки министру. Затем доктор поднял трубку телефона и назвал номер, который дали ему швейцарские друзья.
— Алло! Тут мы из Женевы приехали. Шарль привет передавал. Хорошо бы встретиться!
Встреча состоялась на набережной. Два итальянца представились:
— Артуро Ладзари.
— Клавдио Буоцци.
Пожимая руку Клавдио, Еремей сообщил:
— У меня маму тоже Клавдией зовут.
Все четверо сели на скамеечку у самой воды.
Ладзари, худощавый чернобровый мужчина лет сорока, сказал:
— Сократим нашу встречу, товарищи, до минимума!
— Понятно! — откликнулся Бурлаков.
— Дело обстоит так. Ни легальным путем, ни тайным мы пробиться к товарищам не смогли. Поверьте, были брошены все наши силы. Эта четверка — замечательные люди, настоящие революционеры. Но Регина — слишком твердый орешек.
— Но хоть что-нибудь да удалось? — спросил Фома.
— Очень немногое. Но на всякий случай запомните: надзиратель четвертого блока Репосси — наш человек.
— В четвертом блоке и находятся наши, — пояснил Буоцци.
— Ну и еще, — продолжал Ладзари, — есть там старший по смене в этом блоке, Бордига.
— Тоже наш?
— Да нет! Он хищник. Но любит деньги. За них готов на многое. Вот и все. Но мы даже и этих людей никак не можем использовать. Фашисты твердо решили сгноить наших парней. Они это умеют, бандиты!
— Мы с вами больше встречаться не должны, — сказал Буоцци, — Это опасно и для вас. Звоните нам из автоматов с вокзала.
Итальянцы сердечно пожали приезжим руки и ушли.
Седых сказал:
— Не терпится эту тюрягу посмотреть. Может, съездить мне туда, а, Фома? Погляжу вокруг, как и чего. А?
— Я те съезжу! Так съезжу, что маму Клавдю забудешь!
— Ты чего? — опешил Седых.
— А то, что ты со своим бзиком все дело можешь загубить! Не забудь, какая ставка: жизнь четверых людей. И каких людей! Прыть-то свою поубавь!
Еремей Павлович продолжал обескураженно смотреть на приятеля.
— Совсем сдурел тут в Европе! — пробормотал он. — В амбицию ударился! А дома тихоней прикидывался.
В ресторанчике «Паскуале» Бурлаков заказал для себя и для Еремея два непонятных кушанья. Седых пожевал и сморщился:
— Какие-то корешки склизкие! Тьфу, гадость!
Он попробовал другое — что-то тягучее, как резина. Отставил. Сидел голодный и злой.
Фома спокойно съел все, что было в тарелках. Принесли счет — триста лир.
— Что?! — воскликнул Седых. — Да они что, обалдели! За кусочек жеваной травки с тестом такую уйму денег!
— Не скупердяйничай! — сказал ему Фома. — Мы же взяли самое дешевое.
— Ничего себе дешевка! Нет уж, теперь ни шагу в эти рестораны!
— А чем питаться будем?
— Во-первых, у нас там сало осталось. А во-вторых, купим хлеба. Перебьемся, не сдохнем!
Еремей хмуро полез за бумажником.
Ночь опустилась над Римом. С балкона гостиничного номера видны были сверкающие фонтаны на площадям, разноцветные рекламы, потоки блестящих автомобилей на улице, уходящей вдаль.
Утром служитель в форме ведомства внутренних дел вручил швейцарцам под расписку два пакета с печатями. Первым вскрыли пакет, адресованный синьору Полю Эккерту, специальному корреспонденту издания «Курьер», отель «Карлтон», Рим. Королевство Италия.
Бурлаков прочитал Еремею вслух:
— «КАНЦЕЛЯРИЯ ПРИ МИНИСТРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОРОЛЕВСТВА ИТАЛИЯ. СИНЬОРУ П. ЭККЕРТУ. Согласно циркуляру Генеральной прокуратуры и соответственно Распоряжению Министра доступ в Особый тюремный комплекс Регина (округ Марио) представителям прессы, как государственной, так и частной, ЗАПРЕЩЕН. Просьбы редакций аннулируются. Начальник канцелярии при Министре, комиссар общественного порядка Нитти».
— Та-ак! — медленно сказал Седых. — Вежливые, паскуды, язви их душу!
Он яростно сплюнул и вдруг взорвался:
— А ты верил, что дадут разрешение?! Держи карман шире! С фашистами, будь они неладны, разговор нужен особый! Хватит канителиться! Тут надежа только на себя. Поигрались и все! Баста!
Бурлаков промолчал. Он медленно вскрыл другой пакет. Вынул глянцевую толстую бумагу, развернул ее.
«КОРОЛЕВСТВО ИТАЛИЯ. МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. В соответствии с просьбой Президента международного общества Красный Крест санкционирована выдача пропуска на одно посещение Спецблока № 4 т/к Регина для медицинского осмотра камер пожизненно заключенных — уполномоченному Красного Креста д-ру Альберту Зайделю.
Министр внутренних дел генерал жандармерии У. Стабилини».
Седых оторопело смотрел на товарища:
— Это как же понимать, Фома? А? Неужто клюнули?
Крепость Регина стояла на возвышенности, господствующей над пустынной приморской территорией. Ее окружала двойная стена со сторожевыми башнями и рвами, заполненными водой.
Вся местность вокруг крепости хорошо просматривалась. С башен была видна на юге притулившаяся к обрыву рыбацкая деревушка, на востоке у самого горизонта — летное поле частного планерного авиаклуба «Ломбардия», на западе змеилась безлюдная глинистая береговая полоса. На севере за вересковыми зарослями находилась ближайшая железнодорожная станция.
Сама крепость состояла из огромного центрального корпуса с плоской ровной крышей (это и был блок № 4), а также трех приземистых зданий. В одном из этих блоков помещалась канцелярия и комендатура, тут же находилась квартира коменданта.
Комендант крепости полковник Гвиано — тощий человечек с удивительно гнусной физиономией — лежал под пледом у себя на квартире и тоненько по-собачьи скулил.
Вошедший офицер с фашистским значком на груди доложил:
— Синьор комендант, сегодня должен приехать тот врач из Красного Креста. Как с ним быть?
Гвиано еще поскулил, потом тоном страдальца сказал:
— Видишь, какая ситуация. Наш доктор Доницети в отпуске. Отец Витторио — в Ватикане. Я болен. Придется тебе, Бартоломео, поводить его по четвертому блоку.
— Что ему показывать, синьор комендант?
— Ну, что мне, учить, что ли, тебя! Сам знаешь… У-у-у! — завыл полковник.
— Больно, синьор комендант? — участливо спросил офицер.
— У-у-е!
А в это время в номере «Карлтона» шел горячий спор.
— Поедешь на поезде — ничего с тобой не случится! — сказал Седых.
— Да пойми же, чудило ты гороховое, если я притопаю туда со станции пешком, то они заподозрят неладное! Как вбить в твою башку, что доктор Красного Креста иначе как на машине прибыть туда не может!
— От самого Рима?
— А откуда же еще? От Пензы?
— Тебя, как доктором заделался, так сразу и потянуло к роскоши. А деньги народные. И я шиковать на них не позволю.
— Опять двадцать пять! — рассердился Бурлаков. — Ты что, сорвать мне хочешь все дело? Давай деньги, жмот чертов! Или я тебя тресну! Послушали бы сейчас эти ребята в крепости, как ты скупердяйничаешь за их счет!
Неизвестно, что подействовало сильнее на Седых — угроза докторской затрещины или упоминание об узниках. Но он, крякнув, достал из-за пазухи бумажник.
Бурлаков разложил на столе все то, что нужно было взять с собой для передачи заключенным: письма, деньги, медикаменты, шарики для передачи сведений.
Фома подкатил к воротам Регины на большом синем лимузине. Его встретил офицер с фашистским значком, представился:
— Лейтенант Бартоломео Бисолатти! К вашим услугам, синьор профессоре!
— Привет, лейтенант!
— Полковник Гвиано приносит вам свои извинения, синьор доктор. Сам он не сможет вас сопровождать. Он болен.
— Ничего не попишешь. Обойдемся и без него. А?
— Так точно, синьор доктор!
Они прошли в комендатуру. Доктор Зайдель вынул бумагу и сказал:
— Меня уполномочили дать медицинское заключение о состоянии здоровья четырех ваших арестантов.
— А именно?
— Вот их фамилии.
Доктор подал список. Лейтенант зачитал его вслух!
— «Джакомо Бертоне, Амадео Коррето, Антонио Орландо, Бруно Рудини». Хм… Позволю задать синьору доктору вопрос.
— Да?
— А почему Красный Крест интересуется именно этими четырьмя коммунистами?
Доктор пожал плечами:
— Понятия не имею! Мне ведь только поручено осмотреть их. Но я слышал краем уха, что об этих заключенных был поднят большой шум в газетах. Будто появились сведения, что они умирают.
— И Красный Крест, простите, печется о здоровье шайки коммунистов? Это что-то новое!
— Не одобряете?
— Я удивлен, синьор профессоре.
— Между нами говоря, я — тоже!
Доктор рассмеялся, взял офицера под локоть и сказал:
— Думаете, мне это хочется делать? Но у каждого своя служба. Я обязан осмотреть этих преступников. А вы — показать.
Лейтенант откозырял и сделал приглашающий жест.
Фома злился, но ничего не мог поделать с этим чертовым вертлявым лейтенантом Бартоломео. Тот не отходил от него ни на шаг, вслушивался в каждое слово.
Решено было осмотр провести не в камерах, а в дежурке начальника смены. Первым ввели сюда Бруно Рудини, смуглого морщинистого невысокого человека. Он держался спокойно. Впавшие глаза его тускло поблескивали. Он безучастно смотрел на огромного белокурого человека со стетоскопом, спокойно разделся. Бруно был истощен до крайности. Фома прикоснулся пальцами к выпирающим ключицам и покачал головой. Спросил:
— Сколько тебе лет, старина?
— Сорок, — тихо сказал Рудини.
— Ты болен?
Бруно молчал. Лейтенант презрительно сказал:
— Этот бандюга болен одной болезнью. У него мания свергать правительство и уничтожать церковь.
— Ты болен? — повторил Фома.
Рудини оделся и медленным шагом вышел прочь из дежурки. Бартоломео сказал с ненавистью:
— Я же говорю — бандит! И разговаривать, подлец, не хочет.
В дежурку вошел сутулый бледный заключенный с впалыми щеками, большими черными навыкате глазами. Он глухо проговорил:
— Амадео Коррето.
— Ты чем болен, Амадео? — спросил Бурлаков.
— Тем же, чем Рудини! — усмехнулся лейтенант. — Такая же у него сволочная болезнь.
Коррето глянул на фашиста, сжал челюсти. Сказал доктору:
— Если вы — врач, то у меня к вам секретный разговор. Без свидетелей.
— Вон чего захотел! — рассмеялся лейтенант. — Какой умный! На заключенных не распространяется закон о врачебной тайне.
Фома сказал заключенному:
— Я послан Красным Крестом, чтобы узнать правду о вашем здоровье.
— При этой фашистской гадине я вам ни слова не скажу. Он за правду сунет в карцер, а это значит — смерть.
И Коррето вышел.
— Что будем делать? — накаляясь, спросил Бурлаков офицера.
— А что? Все идет нормально. Сейчас придут еще Авбе, и ваша миссия закончена. Вы успеете в Рим к открытию дансинга. Завидую вам. Мы здесь в кои веки вырываемся в город порезвиться.
Фома лихорадочно искал выход из положения. Что делать? Он явно проваливал все дело. Но как поступить? С этим выродком каши не сваришь… Вот влип, черт побери!
Тем временем в дежурке появился третий узник — молодой остроносый паренек. Представился:
— Джакомо Бертоне.
— Ты тоже боишься угодить в карцер за правду? — быстро спросил его Фома.
Джакомо усмехнулся:
— Я брошен сюда за правду. И к карцеру привык. Синьор лейтенант меня лечит карцером.
Офицер кивнул:
— Верно. Прекрасное средство для таких стервецов, как ты.
Фома уже с трудом выдерживал эту пытку. Он побледнел. Лицо его скривилось как от зубной боли. Он тихо сказал:
— Иди, Джакомо.
Бертоне пошел к двери потом, обернувшись, спросил у Фомы:
— У вас странный выговор, синьор доктор. Вы кто?
— Я — швейцарец.
Джакомо пожал плечами, сказал «непохоже» и вышел.
Бурлаков встал. Он уже не хотел беседовать с четвертым. Бессмысленно. Экая дикость: суметь попасть сюда и не извлечь никакой пользы!
Зазвонил телефон. Начальник смены взял трубку.
— Да, синьор комендант! Слушаюсь, синьор комендант.
Он положил трубку и сказал лейтенанту:
— Вас срочно требует полковник.
Лейтенант встал, обеспокоенно спросил:
— Доктор, вы со мной?
— Я еще посмотрю камеры, лейтенант.
— Подождите моего возвращения, доктор.
— Хорошо, лейтенант.
Фашист быстро вышел. В дежурку привели четвертого заключенного. Он был не стар, но во рту его осталось лишь три зуба. Он кивнул и отрекомендовался:
— Антонио Орландо. Тридцать два года. Рабочий, Коммунист.
Фома сказал ему:
— Разденься, Антонио, до пояса. Я осмотрю тебя.
— Синьор профессоре! — сказал начальник смены. — Мне нужно выйти к пульту. Если понадоблюсь — крикните.
Фома, с трудом сдерживая радость, кивнул. Едва тюремщик вышел, как доктор стремительно шагнул вплотную к узнику и прошептал:
— Тебе и остальным привет от Клавдио и Артуро!
Орландо молчал, насторожено глядя на доктора.
— Кто ты такой? — наконец спросил он.
— Я — советский рабочий. МОПР.
— Советский? — недоверчиво спросил Орландо.
— Да. Быстрее спрячь вот это и это! Скорей же! Теперь запомни — коридорный надзиратель Репосси — свой.
— Понятно.
— Он постарается подкупить Бордига.
— Понятно.
— Все ваши семьи обеспечены.
— Спасибо, друг!
— Связь будете держать через этих двоих. Шарики для писем у тебя.
— Да.
— Мы за всех вас еще поборемся, товарищ! Не унывайте! Мы все время помним о вас. И гордимся!
— Тебе не опасно здесь? — обеспокоился Орландо.
— Нет, все в порядке, друг!
Крепкое рукопожатие. У Антонио навернулись слезы. Едва они отошли друг от друга, как в дежурке вновь появился лейтенант, он бодро сказал заключенному:
— Ну катись отсюда, Орландо! Хорошего помаленьку…
Потом повернулся к доктору:
— Синьор профессоре! Комендант полковник Гвиано очень просит вас посетить его.
— Он хочет познакомиться?
— Синьор комендант занемог. А наш тюремный врач в отпуске. Синьор и его жена хотят, чтобы вы осмотрели его.
— Я?! — изумился Фома.
Лейтенант не понял удивления доктора. А Фома как-то позабыл, что он врач, а врач лечит всех — и друзей и врагов.
3. СВЕТИЛО ШВЕЙЦАРСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Фома никак не думал, что грозный полковник Гвиано окажется на вид таким жеманным слизняком с писклявым голосишкой. Плюгавый комендант жалобно сказал:
— Синьор профессоре, уповаю на вас!
— А что такое? — спросил Фома.
— Измучили боли в пояснице и в коленях. Две ночи не сплю.
— Так-так, — глубокомысленно проронил доктор Зайдель. — Так что же вы хотите?
За полковника ответила его супруга, которая в этот момент стремительно ворвалась в спальню. Комендантша была гибкой зрелой брюнеткой с бюстом невиданных размеров.
— Моя жена! — пропищал комендант.
— О, синьор профессоре! — затараторила супруга. — Я примчалась из Рима, потому что почувствовала что-то неладное! Сердце меня не обмануло! Его терзает болезнь! Синьор доктор, умоляю, помогите полковнику! Всему миру известны швейцарские врачи! Они буквально творят чудеса! Вы светило швейцарской медицины! Ведь не откажетесь же вы оказать помощь моему мужу! О, синьор профессоре, вы такой гигант, буквально излучаете здоровье, энергию и мужскую мощь! Исцелите же полковника, и вам обеспечена благодарность Италии и моя…
— Кх-м! — произнес доктор Зайдель.
— Что? — в один голос спросили супруги.
— Я говорю, штука-то серьезная…
— О да! Да!
— Где болит-то, говорите?
— Вот здесь и здесь.
— Поясница, значит? — глубокомысленно пробормотал Фома. — Чем же это маманя такую хворь выгоняла, дай бог памяти.
Фоме противно было прикасаться к липкому телу этого сморчка, этой фашистской падали. Он так и не смог одолеть свою брезгливость. Поэтому доктор Зайдель сказал:
— Я и так все вижу, закройтесь.
Доктор погрузился в раздумье. Наконец он промолвил:
— Вот, значит, какое дело… У нас в… Швейцарии свои способы лечения, понятно? Если вам оно покажется чудным, тогда не возьмусь.
— Что вы, что вы! — воскликнули супруги. — Ради бога! Применяйте самые новейшие методы, профессоре! Самые экстравагантные! Напишите нам свои рекомендации…
— В том-то и дело, что такое лечение я должен проводить сам, лично.
— О, мы будем только счастливы, синьор профессоре!
— Но ведь для этого мне надо приезжать из Рима сюда много раз!
— О, не беспокойтесь, доктор, гонорар соответственно возрастет!
— Да я ж об этом! Министр же мне дал только разовый пропуск!
— Ах, вы об этом! — удивленно сказала супруга. — Зачем вам беспокоиться о подобной мелочи. Вам будет обеспечен беспрепятственный въезд сюда. Мы будем посылать за вами свой автомобиль. Где вы остановились?
— В «Карлтоне».
— Прекрасно! Итак, вы дали согласие?
— Ладно, так и быть, подлечу вашего супруга!
Фома с трудом отвел взгляд от упруго вздрагивающего бюста мадам. Он сказал:
— Придется для лечения кое-что тут оборудовать.
— Распоряжайтесь.
— У вас найдется небольшое пустое помещение?
— Камера подойдет?
— Сгодится. Значит, так: я привезу завтра чертеж особой лечебной печи. Заключенные смогут ее сложить под моим руководством?
— Разумеется!
— Тогда договорились. Завтра с утра я приеду!
— Наш автомобиль ровно в десять будет у подъезда «Карлтона», синьор профессоре!
— Ладно. До завтра.
Личный автомобиль коменданта мчал по автостраде в Рим синьора Альберта Зайделя, доктора медицины из Берна.
У «Карлтона» машина лихо затормозила. Согнувшись почти пополам, здоровяк-швейцарец вылез из лимузина. Он с трудом привыкал к автомобилям.
В номере к нему бросился Седых:
— Наконец-то! Я измаялся тут, пока ждал! Ну?! Обошлось?! Видел?!!!
Фома с омерзением сбросил лаковые туфли, протопал к дивану в носках и грузно повалился на него.
— Я тебя спрашиваю! — крикнул Еремей.
— Погоди! Дай очухаться. Мочи нет. Думал, сдохну от натуги…
— Язви тебя в душу! Чего томишь?
— Походил бы денек в докторской шкуре, тогда узнал бы, почем фунт лиха!
— Пень ты дубовый!
— Слушай, Еремчик! Как ты думаешь, у них тут крапива растет? Или только в России?
В одной из свободных камер первого блока заключенные под руководством доктора Зайделя заканчивали кладку печи русской парной бани. Дымоход вывели прямо в окно. Положили на колосники камни, затопили. Вкатили бочку, наполнили ее водой.
Суетились тюремщики, деловито трудились заключенные, сновали офицеры.
Доктор Зайдель лично приготовил банный веник о колючками. Он распорядился:
— Топить до самого вечера так, чтобы стало горячо дышать! Понятно? Камни чтоб были красными!
— Будет сделано, синьор профессоре!
— А я поеду в Рим — надо приготовить особую микстуру.
Ерсмей Павлович подал Бурлакову стеклянную банку с крышкой:
— Вот тебе крапивный отвар. Я и сам хлебнул для бодрости. Добрая вещь.
— А где крапиву достал?
Седых махнул рукой:
— Не спрашивай! И смех и грех… Слушай, Фома, а этот твой вонючка комендант не окочурится от русской бани? Итальянцы — народ хлипкий. Тогда пиши пропало!
— Риск, конечно, есть. Либо он выздоровеет, либо загнется.
— А тебе не совестно лечить фашистскую сволочь?
— Ты опять за свое?
— Да ладно уж!.. Поговорить удалось с кем?
— Ага. С Джакомо перекинулся парой слов.
— Это — пацан?
— Ну да. И с Репосси говорил.
— Порядок, значит.
— Нормально. Ну, я поехал.
— Бывай!
Полуголый Фома плеснул воду на раскаленные камни. С шипеньем и свистом бешено вырвался пар, Фома взялся за веник и что есть силы стал хлестать извивающегося коменданта. Гвиано при этом как-то странно выл:
— У-ы-ы! И-у-у! Ы-ы-й!
Потом он стал молить о пощаде:
— О, доктор, хватит! A-а, больно!! Достаточно! Не надо!
Но Фома вошел в азарт. Он сек колючим веником с оттяжкой. При этом приговаривал по-русски:
— Ничего! Ничего! Терпи, сука! Это новейший швейцарский способ! Еще тебе! Еще, падла!
Высеченный, но умиротворенный полковник был водворен в постель. Здесь он хлебнул зеленого крапивного настоя и совсем угомонился.
Доктор Зайдель попрощался с больным и отправился в Рим.
Утром в гостинице Фома был необычно мрачен и молчалив. Седых спросил:
— Чего ты надулся, как мышь на крупу?
Бурлаков задумчиво сказал:
— Осточертело мне тут, Еремушка! Не по мне эта работа. Сил моих больше нет. Домой хочу. В кузню.
Раздался телефонный звонок. Фома взял трубку:
— Доктор Зайдель слушает!
Супруга коменданта возбужденно затараторила:
— Ах, профессоре, вы кудесник! Это феноменально! Какой дивный метод! Мы с мужем в восторге! Подлинное волшебство!..
— Он выздоровел?
— Абсолютно! Он готов танцевать!.. Он все-все может! Я же говорила, что вы — светило медицины!.. Чек вам выслан…
— Я рад, — буркнул Фома.
— Ах, синьор профессоре! Вы будете сердиться, но у меня снова к вам просьба.
— Что такое?
— Теперь нездоровится мне.
— Вон даже как! Тоже поясница?
— Нет, желудок.
— Болит?
— Болит.
— Ах ты, беда-то!
— Ваши методы, профессоре, творят чудеса. Мы ждем вас сегодня. Гонорар, конечно, особый… Доктор, дорогой! Я верю в ваше согласие!.. Машина будет к двенадцати. Я не прощаюсь!
Бурлаков положил трубку. Угрюмо посмотрел на друга. Зло сказал:
— Теперь вот эту стерву надо лечить.
— Что с ней стряслось?
— Живот болит.
— Мама твоя как народу животы-то лечила? Небось чугунок на пузо ставила?
— Ага.
— Ну вот и поставь ей.
— Это где ты в Италии чугуны видел?.. И потом не в этом дело. Обрыдли мне эти сволочи во как!
В дверь постучали. Вошел чиновник из канцелярии Регины. Он козырнул и вручил доктору Зайделю конверт. Еще раз козырнув, удалился. Фома вынул чек. Брови его изумленно полезли вверх:
— Ерема! Глянь-ка, сколько они мне отвалили за баню!
— Не тебе, а МОПРу. Вся сумма пойдет в пользу этих ребят.
— Я что, ее захапать хотел, по-твоему?!
— А ты не заговаривайся — «мне», «я», «меня». Научился у буржуев!
— Отстань! И без тебя тошно!
Он уселся поглубже в мягкое кресло и задумался. Еремей разглядывал чек, удивленно крутил головой.
— Им для своего подлого здоровья ничего не жалко, — сказал он. — Слушай, Фома…
— Отстань!
— Да я дело тебе хочу предложить.
— Иди к черту!
— Ну, чего ты рычишь? Шлея под хвост попала?
Фома встал. Глаза у него были какие-то смятенные, тоскливые. Он глухо заговорил:
— Я уж неделю не могу заснуть! Не могу!! Глаза закрою, и сразу камеры чудятся и эти ребята. Сердце же трескается, глядя на это изуверство… Какие парни, Ерема, если б ты видел! Джакомо, это ж вылитый Васька Чухонцев, наш бетонщик…. Как подумаю, что им гнить там всю жизнь, — выть хочется! Мы-то уедем с тобой, а они там, в камерах… Мне Гвиано сказал, что они обречены… Над ними издеваются… Есть там тварь такая, лейтенант. Я б его задушил собственными руками. Подлюги… Фашисты поганые…
— Душить-то нельзя, — проговорил, тяжело вздохнув, Ерема. — Уголовщина! Нарушать ихние законы не можем… Вот если б придумать что-нибудь деликатное… А? По-хорошему так, чистенько, аккуратно. И чтоб гадин этих не трогать. И чтоб ребят спасти. А, Фома?
— Ты о чем?
— Сам знаешь о чем.
— Считаешь, стоит попробовать?
— А чего?
— Взгреют нас дома по первое число?
— Как пить дать!
— Денег у нас теперь вроде хватит?
— С гаком!
— Что решаем?
— Начерти-ка для начала план крепости и окрестностей… А что не запомнил, посмотришь, когда будешь лечить мадаму, Она, поди, потребует, чтобы ты ее лично сам в баньке попарил? Гы-ы!
— Чтоб ей сдохнуть!
— Чудак, она ж нам редкую возможность дает! Лечи ее подольше. И приударь за ней.
— Еще чего не хватало! Н. и за какие коврижки!
— Для пользы же дела, дурень!
— Бабы, это по твоей части. Думаешь, я не знаю про Зинку из итээровской столовки?
— Ха! Вспомнил!
— Тоже грудастая — будь здоров!
В дверь постучали. Это был шофер супругов Гвиано.
— Э-эх! — тяжко вздохнул Фома, — Будь она проклята, докторская житуха!
4. БЛАГОДАТЬ НИСХОДИТ С НЕБА
В правление планерного авиаклуба «Ломбардия» пришел молодой человек. Он представился:
— Пол Эккерт. Корреспондент. Швейцария.
— Чем можем вам служить, синьор Эккерт?
— Летать. Планер.
— Вы хотите заняться тренировочными полетами?
— Да. Полеты. Много.
— С инструктором? Или один?
— Один. Да.
— Прошу заполнить карточку, а затем внести сумму за весь сезон — чеком или наличными.
Седых вынул шпаргалку, составленную для него Фомой, и заполнил карточку. Затем уплатил деньги в кассу.
— Когда синьор Эккерт начнет полеты?
Эккерт глянул в какую-то бумажку и сказал:
— Сейчас.
Команда натянула резиновые тросы. Техник поднял руку. Седых тоже. Техник резко опустил руку. Стопор отключен, и планер взмыл в небо. Он сразу же стал нырять по невидимым ухабам.
Ерема приговаривал:
— Ни фига, разберемся, что к чему! Рычагов всего два. Где наша не пропадала!
По на первый раз разобраться было трудно. И планер крепко стукнулся носом о землю. Швейцарский журналист расквасил нос и разбил губы. Но на вопрос, не доплатит ли все же синьор за инструктора, помотал головой:
— Нет! Один!
Доктор Зайдель встретил в коридоре тюремной канцелярии надзирателя Репосси. Он передал ему пачку денег и шепнул:
— Скажи этому гаду, что получит еще столько же. И пусть запомнит: ваше совместное дежурство до полуночи в воскресенье.
— Хорошо, синьор профессоре.
Двухместный планер «Савиола» с Эккертом на борту был отбуксирован к облакам самолетом. Трос сбросили, и швейцарец стал совершать плавные круги над морем, где сильны восходящие потоки воздуха.
Стоявший на аэродроме инструктор сказал:
— Поразительные успехи у этого швейцарца! Так быстро освоить пилотирование редко кому удается.
— Да, талантливый малый! Но чудаковатый. Молчит все, только глазами сверкает.
— Ну, журналисты вообще ведь народ эксцентричный!
Синьора Гвиано возлежала на кушетке. На ней был прозрачный пеньюар. Гордо вздымался обтянутый тонким шелком бюст.
Доктор Альберт Зайдель, светило швейцарской медицины, тоскливо слушал излияния болящей супруги полковника:
— Я не устану повторять, милый мой профессоре, если б вы жили в Риме, стали бы миллионером! Вы затмили бы своим искусством всю эту ораву дилетантов, которые по недоразумению считаются медиками, но разбираются только в одном — в подсчете лир… Решайтесь, доктор! Я помогу вам найти виллу в окрестностях Рима, я создам вам клиентуру.
— Тут надо крепко обмозговать! — сказал Зайдель.
В комнату, постучав, вошел полковник Гвиано. Он бодро спросил:
— Ну и каковы успехи Джанины?
— Она молодцом, — сказал доктор, — в пятницу уже сможет ходить на прогулки. А в воскресенье я разрешу синьоре даже выпить вина и поесть мяса.
— Великолепно! — пропищал полковник. — И эту бутылочку доброго старого вина мы разопьем втроем! Й не вздумайте отказываться, дорогой мой! Я приглашаю вас в воскресенье вечером. Вы теперь лучший друг дома. Так жаль, что вы живете в другой стране!
— Я уж советовала доктору перебираться в Рим.
— Прекрасная идея! Я помогу вам устроиться. Министр мой друг давних лет. Наши жены — подруги с детства.
— Спасибо на добром слове! Я подумаю.
— И думать нечего! — сказал полковник.
В номере отеля «Карлтон» Поль Эккерт возился с двумя хитроумными механизмами, размером с чемодан каждый. Аппараты состояли из стальных мощных пружин, пневматических узлов с баллонами и крепежных приспособлений. Журналист был перепачкан до ушей маслом, в комнате царил беспорядок. Но лицо у Эккерта было довольное. Когда заецала какая-то деталь, то швейцарец тихо со вкусом матерился. К тому моменту, когда появился доктор Зайдель, Поль собрал один из механизмов. Он осторожно поставил устройство на ковер. Потянул за стальной тросик. В этот момент вошел доктор, в то же мгновенье пружины, щелкнув, мощно ударили в пол, и аппарат, стремительно взлетев ввысь, крепко стукнулся о потолок и, сокрушив люстру, осколки которой обрушились на Эккерта, грохнулся на ковер.
— Видал! — воскликнул Ерема, стряхивая осколки, — Работает штучка что надо! Пусть знают, что и мы не лыком шиты!
В дверь тревожно забарабанили. Показалось взволнованное лицо коридорного.
Заключенные сидели попарно. В одной камере Бруно и Амадео, в другой — Джакомо и Антонио.
Антонио раскрыл шарик, вынул оттуда узкую бумажную ленточку, прочитал, что на ней написано. Взволнованно прошептал:
— В воскресенье! Если все обойдется!
Джакомо вдруг затрясло. Он никак не мог унять этой нервной дрожи.
— Ты что, Джако? — удивился Орландо.
— Трясет, ничего не могу поделать!
— Перед жандармами не трясся, когда били, а тут задрожал!
— Не верится мне что-то, Антонио! Уж очень все невероятно!
— Выйдет — так выйдет. Не выйдет — ну что ж! Еще что-нибудь потом друзья на воле придумают. Главное — не унывать.
— Они ничего не пишут — как и куда?
— Нет. Нельзя. Мало ли что!
— Понятно.
— Надо нашим передать на прогулке.
— Я сделаю.
— Хорошо.
Другая камера.
Амадео взволнованно ходил из угла в угол. Бруно сердито сказал ему:
— Сядь, Амадео! Возьми себя в руки.
Амадео покорился. Он прошептал:
— Неужели он самый настоящий советский парень — этот великан? Как ему удалось пробраться из России сюда? Вот смелый, дьявол! Идет на такой риск ради нас!
В рыцарской деревушке, что притулилась у обрывистого морского берега к югу от Регины, появился посторонний — худощавый скуластый кряжистый парень. Он прошел по узкой песчаной полоске к тому месту, где. возились со своими шлюпками рыбаки. Женщины видели с обрыва, как чужак объяснял что-то рыбакам, после чего началось оживленное и дружелюбное взаимное похлопывание по плечу. Женщины сгорали от любопытства, им не было слышно, о чем говорили мужчины с пришедшим парнем.
А там шел обмен улыбок и восклицаний:
— Советский парень! Хорошо! (Удар по плечу.)
— Итальянские рыбаки — хорошо! (Ответный удар.)
— Советский рабочий — это хорошо! (Новый радостный удар по плечу!)
В таком духе и шла беседа некоторое время. А потом Ерема сказал:
— Разговор. Очень важно. Секрет!
— Давай секрет. Секрет — хорошо!
— Очень хорошо! — подтвердил Ерема.
Они сели в одну из лодок. Вокруг сгрудились остальные.
— Секрет? — спросил пожилой рыбак.
— Секрет, — ответил Ерема.
— Давай! — предложил рыбак.
В воскресный вечер на шестичасовое дежурство по верхнему этажу заступили начальник смены Бордига и надзиратель Репосси.
Четверка заключенных с напряжением вслушивалась в тюремные звуки. Но пока все было спокойно.
К воротам крепости в восемь часов вечера подъехала комендантский лимузин, Из него вышел доктор Зайдель с букетом тюльпанов.
Доктора встретил с любезной улыбкой лейтенант Бартоломео Бисолатти:
— Однако надолго же вы задержались в Италии, синьор профессоре! Это для нас всех было сюрпризом.
— Да и для меня тоже.
— Затянулось излечение синьоры Гвиано? — язвительно улыбнулся лейтенант.
Они шли рядом. Доктор покосился на офицера. Неожиданно спросил:
— А правда, грудь у нее бесподобна? А, Бартоломео?
Лейтенант растерялся. А тут еще доктор игриво-заговорщически поддал плечом его так, что лейтенант чуть не грохнулся наземь. Доктор громоподобно расхохотался, погрозил офицеру пальцем и сказал:
— Ах, проказник! Ах, плутишка!
В этот же вечер в авиаклуб «Ломбардия» явился Эккерт и, коверкая слова, сказал дежурному диспетчеру аэродрома в своей обычной манере:
— Был заказ. Ночной полет. Большой планер. Так?
— Совершенно верно, синьор Эккерт! Двухместная «Савиола» к буксированию готова. Вы будете с пассажиром или погрузить балласт?
— Балласт. Вот. Груз.
— Сейчас вам его уложат.
— Сам.
— Сегодня летать над морем исключительно приятно, синьор Эккерт! От воды идет мощный ток воздуха.
— Буду летать долго.
— Счастливого полета, синьор Эккерт!
Ерема погрузил на второе сиденье пружинные механизмы, с которыми он колдовал в номере гостиницы. Дал знак пилоту самолета.
Самолет взревел и понесся по полю, увлекая за собой «Савиолу».
Они взлетели. Ерема отцепился, и самолет сразу же пошел на посадку.
Тихо-тихо было в вечернем небе Италии. Ерема набрал над морем высоту и стал делать широкие бесшумные круги над долиной, в центре которой находилась крепость Регина.
За комендантским столом была уже выпита не одна бутылка вина. У синьоры пылали щеки и блестели глаза. Она заливисто смеялась, томно поглядывая на мужчин, но особенно призывно — на могучего швейцарского доктора.
Тщедушный комендант впал от избытка чувств и вина в полуистерическое состояние. Он пытался пить на брудершафт с доктором, с лейтенантом и даже с собственной женой. Доктора он называл спасителем, лейтенанта — верным помощником, жену — другом жизни. Потом все перепутал, и оказалось, что друг его жизни — это как раз Зайдель.
В разгар веселья доктор взглянул на часы и сказал:
— Ого! Уже десять! Скоро пора отчаливать!
Все загалдели, что, дескать, еще рано.
— Душно-то как! — сказал доктор.
Тотчас вскочили полковник и лейтенант и, распахнув окно, отдернули шторы.
С высоты, на которой парил планерист, было отчетливо видно, как в погруженном во тьму здании блока № 1 вспыхнул светлый квадрат окна.
Ерема глянул на часы: десять. Он наклонил рычаг. Нос планера опустился, и большая птица стала бесшумно и плавно снижаться, приближаясь к крепости.
В центре крепости возвышался центральный корпус с плоской просторной крышей. Сюда, на крышу блока № 4, и направил свой планер Еремей Павлович. Он посадил его на брюхо. Планер с ходу проскользил несколько метров и остановился.
В коридоре верхнего этажа начальник смены и надзиратель посматривали на часы. Наконец, Бордига кивнул. Репосси поднялся по железной вертикальной лесенке, ведущей к люку в потолке. Отомкнул замок люка, приподнял крышку.
В квадрате люка стало видно темно-синее звездное небо. Репосси выглянул наружу: на крыше стоял планер. Надзиратель кивнул и быстро спустился обратно по лесенке в коридор. Он взял у Бордига ключи и бесшумно открыл одну из камер.
Тем временем на крыше Ерема, чертыхаясь, прилаживал под брюхо планера собственноручно изготовленный механизм.
Из люка на крышу вылезли Бруно Рудини и Амадео Коррето. Седых жестом попросил их помочь подтащить планер к самому краю крыши. Беглецы сели в заднюю кабину. Ерема дернул за стальной тросик. Пусковое устройство сработало — столкнуло планер с крыши, и он бесшумной тенью поплыл от крепости в сторону моря.
Башни фортовых стен были метров на двадцать пять ниже центрального корпуса. Там на башнях сидели опытные часовые. Они бдительно и преданно охраняли тюрьму. Стража зорко всматривалась во тьму, готовая уничтожить любого злоумышленника.
С тех пор как существовала крепость, все было предусмотрено: возможность подкопов, тоннелей, проломов в стене, атак из кустарника, применение веревочных лестниц и хлороформа. Но ни один страж Регины не предусмотрел небесного варианта побега заключенных.
Между тем человек, которому эта идея пришла в голову, вел «Савиолу» с двумя пассажирами на борту прямо к рыбацкой деревушке, у обрывистого морского берега. Он посадил планер у самой береговой кромки, едва не свалившись при этом с обрыва в море.
Прибытия планера ожидали. Беглецам заботливо помогли вылезти и повели к одной из хижин. Здесь была приготовлена рыбацкая одежда. На топчане стоял термос. Разлили по кружкам горячий кофе.
Все делалось молча, бесшумно. Объяснялись жестами.
Планерист меж тем вновь забрался в кабину, потянул тросик, механизм взлета сработал безотказно — он столкнул планер с обрыва. Ерема над морем набрал высоту и, развернувшись, вновь взял курс на крепость.
В квартире коменданта все еще продолжалось веселье. Синьора то и дело случайно прикасалась своей ножкой к ноге белокурого гиганта. Швейцарец этого не замечал. Он был в странно возбужденном состоянии и невольно поглядывал на часы.
Опьяневший лейтенант, заметив это, стал грозить ему пальцем:
— Ух, профессоре! Ух!
— Что ух? — спросил доктор.
— Знаю, знаю!.. Ух, баловник!
Лейтенант пьяно усмехнулся, затряс головой, встал пошатываясь. Он сказал:
— Балуетесь?.. Балуетесь… А мне баловаться нельзя… Я верен делу… Я верен дуче… Ни на минуту нельзя… Вот… Пойду проверю… четвертый блок… Там голубчики… тоже рады бы побаловаться…
Лейтенант пошел к двери.
— Куда же вы, Бартоломео? — певуче спросила хозяйка.
— Синьора… целую ваши ручки… Там в четвертом блоке наверху… канальи… Никогда нельзя быть уверенным… Спокойной ночи, синьора…
Он ушел.
Полковник давно уже, уронив голову на грудь, дремал в своем кресле.
Синьора стала угрожающе приближаться к доктору:
— Доктор, милый… Вас ведь зовут Альберт?
— Да. Альберт Зайдель. Доктор медицины. Берн. Швейцария.
— А как, дорогой, вас называли в детстве?
— Как называли? Кто его знает? — пожал он плечами. — Скорее всего — Алик.
— Алик? Как это мило! Алик…
Доктор отодвинулся, а синьора придвинулась. Он снова отодвинулся, а дама опять придвинулась.
— Почему вы нервничаете? — лукаво спросила синьора. — Из-за присутствия мужа?
— Вот именно. Неудобно как-то.
— Ха-ха.
Лейтенант, пошатываясь, шел через крепостной двор. Он вошел в центральный корпус не с главного входа, а через запасной, или, как его тут называли, технический подъезд.
Охранники откозыряли ему. Лейтенант уже направился было к железной винтовой лестнице, ведущей на верхние этажи, как вдруг остановился, глядя на бочку огромных размеров, наполненную доверху нечистотами.
Он круто повернулся к охранникам и свирепо крикнул:
— Это почему же дерьмо не вывезено?! Вы что, рехнулись, идиоты? Кто допустил такое нарушение?
— Мы здесь ни при чем, синьор лейтенант! — воскликнул один из охранников. — Это ведь обязанность второй смены.
— Значит, вы не имели права заступать!
— Они нам сказали, синьор лейтенант, что машина сегодня не прибыла.
— Почему?
— Они сказали, что вашей заявки не было, синьор лейтенант.
Офицер мутно, зло смотрел на охранников:
— Значит, не надо было сливать параши!
— Это ведь делает не наша смена. Нам самим-то каково дежурить, синьор лейтенант.
— Сукины сыны вы!
Офицер пошел к лестнице и стал подниматься. Он сказал:
— Я на верхний этаж!
Планер «Савиола» вновь, чиркнув брюхом по ровно выложенной кирпичом площадке, оказался на крыше центрального корпуса.
И вновь повторилась предыдущая сцена. Неслышно открыта камера Бертоне и Орландо. Они тихо вышли из нее и направились за Регюсси к лесенке, ведущей через люк на крышу.
А лейтенант Бартоломео тоже поднимался по железной винтовой лестнице наверх. Он был где-то посередине между вторым и третьим этажами, когда у него закружилась голова — то ли от выпитого вина, то ли от смрада, поднимающегося из бочки. Во всяком случае, бравый офицер пошатнулся. А на тон ступеньке, как на грех, кто-то пролил лужицу из параши. И блестящий сапог лейтенанта скользнул совсем немного, чуть-чуть. Но этого оказалось достаточно, чтобы красавчик Бартоломео потерял равновесие, нелепо взмахнул руками и, прокатившись с грохотом по лестнице, угодил прямо в бочку со зловонной жижей.
Пока охранники вытаскивали лейтенанта из бочки, на крыше завершалась операция по спасению узников.
Неожиданно забарахлил пусковой механизм. Только с пятой попытки загруженный планер рывком сполз с крыши и, плавно снижаясь, устремился к морскому берегу.
— И вся недолга! — сказал Ерема с облегчением.
В коридоре верхнего этажа блока № 4 Репосси припудрил пылью замок люка и ступеньки ведущей к нему лесенки. Затем тщательно подмел и протер каменный пол коридора.
Бурдига, в свою очередь, внимательно и приветливо пересчитал толстую пачку денег, аккуратно уложил ее в карман, закрепил булавкой.
Затем оба дежурных вымыли руки, поставили на плитку кофейник. Сменщики застали мирную картинку: Бурдига и Репосси пили кофе.
Новый начальник смены сообщил новость:
— А наш синьор лейтенант искупался в сортирной бочке!
Бурдига удивился:
— Совсем сдурел! Что это ему — бассейн?!
— Он к тому же и шею свернул, — сказал сменщик.
— И поделом! Не будет нырять куда не положено. Высшим чипам — и тем не дозволено булькаться в клозетной жиже. А тут всего лишь лейтенант. Непорядок!
В хижине рыбацкой деревушки четверо беглецов — Рудини, Каррето, Джакомо и Орландо быстро переоделись в брезентовые куртки и зюйдвестки, и старый рыбак повел их по тропинке вниз к морю.
Здесь покачивалась на волне шлюпка. Прежде чем сесть в нее, беглецы молча обняли тех, кто оставался на берегу.
Старик махнул рукой. Четверо забрались в шлюпку. Рыбак поднял парус, и лодка, ходко заскользив по волне, стала удаляться в море.
Ерема с обрыва смотрел на парус, пока он не растворился во тьме. Тогда он взобрался в кабину и в последний раз воспользовался механизмом для взлета. Планер подпрыгнул, устремился с обрыва вниз, но пилот его выпрямил, и он, словно птица, стал подниматься на восходящих потоках.
Седых пролетел над шлюпкой, затем развернул планер в обратную сторону и взял курс на аэродром.
Планерист и журналист Поль Эккерт, он же сборщик моторов грузовых автомобилей Нижегородского автозавода Еремей Павлович Седых, возвращаясь из ночного полета, испытывал безудержную радость. Душа его ликовала. И это ликование требовало выхода.
Бесшумно плыл над землей планер, а пилот его пел.
Тем временем прелат собора св. Доминика в округе Марио Ди Грациани и священнослужитель при тюрьме Регина отец Витторио возвращались из Ватикана. Они ехали не спеша от станции в пролетке, запряженной парой мулов. Блаженное спокойствие и тишина царили вокруг. Святые отцы молча отдавались этой благодати.
И вдруг с неба послышались звуки непонятной песни. Диковат был ее мотив и причудлив язык. Отцы в смятении глянули вверх на яснозвездное ночное небо: никого! Но загадочная песня продолжала плыть в небесах. Священникам стало жутко. И было отчего:
У Еремы лодка с дыркой, У Фомы — челнок без дна. Эх, дербень, дербень, Калуга, Тула, родина моя! Вот Ерема стал тонуть — Фому за ногу тянуть. Вот Фома пошел на дно, А Ерема там давно…Священники не владели русским языком, и им оставалось лишь осенить себя крестным знамением.
Полковник Гвиано и его супруга вышли провожать дражайшего доктора Зайделя к воротам крепости.
— Ну, вы решите, решите?! — настаивала дама.
— Решит, решит! — повторял комендант.
— Мы рассказали о вашем волшебном искусстве супругам Стабилини, — сообщила синьора — Они буквально заинтригованы.
— Спасибо, конечно. Но ведь я завтра уматываю домой.
— Но вы вернетесь, вернетесь?! — спрашивала синьора.
— Вернется, вернется, — ответствовал супруг.
Фома сложился пополам и втиснулся в комендантский автомобиль.
— Для вас надо строить машину по спецзаказу! — хихикнул полковник.
— Таким и должен быть настоящий мужчина! — заявила сионьора.
5. НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
— А теперь зададим стрекача! — сказал Ерема, стремительно входя в гостиничный номер. — Как можно быстрей!
— Все обошлось? — тревожно спросил Фома.
— Порядок! Уплыли. Утром будут в Югославии. А ты давно из крепости? Там еще не хватились?
— До утра не хватятся.
— Когда поезда?
— В полдень и вечером.
— На дневной успеваем?
— Должны успеть. С утра схожу поставлю выездные штампы, и порядок.
— Билеты заказал?
— Ага. Утром принесут. Ты будь в номере.
— Лады. Ты жрать хочешь?
— Меня там обкормили.
— И тебе кусок в горло лез, когда все решалось?
— Лез не лез, а приходилось глотать.
Утром Фома пришел в бюро виз и регистраций и подал в окошечко документы.
Оттуда послышалось:
— Синьоры Зайдель и Эккерт? Швейцария?
— Да.
Услышав фамилии, произнесенные чиновником, с кресел встали двое — лощеный господин в форме офицера жандармерии и приземистый человек в штатском. Они подошли к Фоме, и офицер отчеканил:
— Доктор Альберт Зайдель, именем короля вы арестованы!
— Прошу следовать с нами! — сказал тот, что в штатском.
Фому препроводили к черному автомобилю с занавесками и вежливо усадили на заднее сиденье. Взвыв и исторгнув клуб дыма, машина помчалась по улице.
В сопровождении той же пары Фома поднялся по ступенькам помпезного здания с колоннами. Медная доска свидетельствовала, что здесь помещается министерство внутренних дел Италии.
Продефилировав по коридору, поднялись на лифте. Миновали одну за другой две огромные приемные. Остановились перед роскошными дверями с серебряной табличкой: «Министр внутренних дел». Офицер нырнул за дверь и тотчас же появился снова. Кивнул.
Фому ввели в кабинет гигантских размеров. Две стены были покрыты гофрированным шелком, а третью занимала карта Италии. Зеленый ковер был мохнат, ноги погружались в него по щиколотку.
За подковообразным лакированным столом сидел генерал с лихо закрученными вверх усами. Волосы его были прилизаны и сверкали.
Министр встал, неторопливо подошел к арестованному, всмотрелся в его нахмуренное лицо и внезапно расхохотался. Фома недоуменно глянул на министра. Тот жестом отпустил сопровождающих и, когда они вышли, сказал:
— Перепугались, доктор?
— Не так уж чтоб очень.
— Не бойтесь! А главное, не обижайтесь! Это ведь была шутка — ваш арест. Я всегда так шучу со своими друзьями.
— Шуточки, значит? — сказал Фома.
— Ну, помилуйте, доктор! Нам столько наговорили чудес про ваше искусство, что жена умолила просить вас задержаться в Риме и полечить ее. Ну что вам стоит пожить здесь еще недельку? Наши друзья Гвиано уверяют, что вы применяете прямо-таки фантастические методы!..
Глухо звякнул один из десятка разноцветных телефонов, стоящих на отдельном столике. Министр не спеша подошел, взял трубку.
— Что?! Что?! — воскликнул он. — Этого не может быть!!!
В кабинет вбежал адъютант министра. Он хрипло выкрикнул:
— Ваше превосходительство! Из Регины исчезли четверо пожизненных…
— Я знаю… Мне уже звонили… Этого не может быть…
Министр обессиленно опустился на диван. Перепуганный адъютант заверещал:
— Ему плохо! Он умирает! Доктор, помогите ему!
Фома взял сифон, нажал клапан и направил струю шипучей воды прямо в физиономию министра. С бровей и усов тотчас же потекла черная краска.
Зазвонил серебристый телефон. Адъютант схватил трубку.
— Да? Да, ваша светлость! Да, он здесь. Слушаюсь. Целую ваши ручки!
Адъютант подал трубку Фоме:
— С вами будет говорить ее светлость, супруга министра.
— Слушаю, — сказал Фома.
— Здравствуйте, милый доктор! Вы уже все знаете? Умберто все сказал вам? Умоляю, останьтесь, и вы не пожалеете!
— Но я…
— Не упрямьтесь же, дорогой мой! Приезжайте прямо сейчас ко мне. Умберто даст свою машину.
— Здесь такая заварушка, синьора! Все бегают, галдят. Наверное, сейчас будет не до лечения!
— А что произошло?
— Я так понял, что удрали арестанты из тюрьмы. — Ну и что? Господи, какие пустяки! Это ничего не значит!
— Но у них будут неприятности. Вашему Умберте даже дурно стало.
— Но раз вы там, о чем беспокоиться! Отлежится — пройдет. Вы ему помогли?
— Помог. Он, по-моему, уже очухался.
— Ну-ка дайте ему трубку.
Фома сунул трубку министру:
— Супруга ваша.
— Да-а! — жалобно простонал министр в трубку, — Ах, солнышко, сейчас не до того. У нас такая беда!.. Да… Да… Будем ловить… будем. А не найдем, так посадим взамен четырех — четыреста… Да… Хорошо, ангел мой… Сейчас отправлю.
Министр положил трубку. Сказал адъютанту:
— На моей машине синьора доктора — ко мне домой.
— Будет исполнено, ваше превосходительство!
Красотка-горничная провела Фому в будуар синьоры, обитый голубым шелком. Ее светлость с ослепительной улыбкой встала ему навстречу. Одета министерша была с изысканной скромностью. Домашнее простое платье декольтировано до самого пояса. Разрезы по бокам приоткрывали ноги от бедра до пятки. В пальцах синьоры дымилась сигарета, вставленная в длинный рубиновый мундштук.
Ее светлость подала доктору руку для поцелуя, но Фома, в простоте душевной, этого не понял. Синьора нисколько не обиделась. Она слышала от Гвиано об оригинальности манер и экстравагантности лексикона швейцарской знаменитости. Она с удовольствием оглядела могучую фигуру доктора, отступила на шаг и воскликнула:
— Наконец-то я вас заполучила, милый доктор! Я так благодарна вам! Вы и представить не можете, как жажду я испытать ваши методы лечения!
Фома кашлянул. Показав на белый телефонный аппарат, спросил:
— Телефончиком разрешите воспользоваться?
— Прошу вас! — удивилась министерша.
— Прошу прощенья! — поклонился Фома: при желании и он мог быть галантным.
Министерша вышла.
— Отель «Карлтон»! — назвал Фома. Затем попросил — Сорок второй!.. Алле! Это кто! Ты, Поль Эккерт? Привет! Я вот чего звоню. Никуда не поедем, понял? Задержали тут меня. Вернусь — все растолкую… Ты не ори, дурошлеп! Мне и самому тошно! Билеты сдай. Чего? Ну пусть пропадают. Бес с ними. Все!.. Тут у меня важное дело. A-а, глаза б мои не глядели!
В будуар вплыла синьора. Она проворковала:
— Нам подадут завтрак. Как вы желаете — до или после осмотра?
— После чего?
— Осмотра.
— Ах, осмотра!.. Но у меня с собой даже инструментов нет.
— А мне говорили, что вы обходитесь без обычной медицинской аппаратуры и инструментов.
— Это верно. Ну, тогда ладно. Обойдемся.
— Итак: до или после?
— Давайте уж — до! — вздохнул Фома.
Хлопок в ладоши. В дверях показалась тележка.
Ароматный конверт с золотой графской короной содержал чек на такую сумму, что закаленный Ерема, крякнув, медленно осел на ковер.
— Это да-а! — протянул он, — Чем это ты, Фома ее ублажил? А? Графиню? Министершу? А? Они тут деньгами, между прочим, не любят попусту швыряться! Ох, Фома, утрачиваешь ты классовое чутье! В азарт входишь с этими буржуйскими бабами! Признайся, как это ты ее лечил? А?
— Ты на что это намекаешь, сукин ты сын?! Трахнуть тебя по шее за пустозвонство!
— Чего ты взъерепенился? Мне и вправду интересно, как ты ее лечишь.
— Ему, видишь, интересно! А Фома отдувайся, мозгами крути, как этих заграничных дур лечить! Интересно ему, прохвосту! Тебя-то никто не заставляет статьи писать, господин журналист Эккерт!
— От Задели слышу!
— Дубина!
— Задель!
Фома схватил чек и гаркнул:
— Разорву сейчас!
Ерема, изловчившись, выхватил из его кулака чек, стал разглаживать, приговаривая при этом:
— Я тебе разорву! Я тебе разорву! Ишь какие замашки появились! На народное достояние руку поднимает! Только гайка слаба!
— Заткнись, зануда!
— Задель!
Премьер-министр Бенито Муссолини вызвал к себе Стабилини. Он хмуро спросил:
— Что там за дикая история с побегом коммунистов, Берти? Мне сообщают прямо-таки фантастические вещи! Почему ты сразу мне не доложил об этом деле?
— Я надеялся поймать этих подлецов еще сегодня.
— Ну и не поймал, конечно?
— Нет. В этом побеге есть действительно что-то немыслимое!
— Объясни ж мне, наконец!
— Можешь не верить, Бени, но эти четверо словно испарились из своих камер. Не взломаны ни окна, ни двери. Никаких следов! В эти сутки в тюрьме дежурили опытнейшие охранники. Когда именно исчезли эти бандиты, неясно, куда, каким путем, как, — совершенно непостижимо! Допросы ничего пока не дали. Никто ничего не видел, не слышал… Коменданта вы знаете. Это наш опытнейший тюремный специалист, давний член партии Гвиано. Он ни на час не отлучался из крепости, Никаких машин или конных экипажей за эти сутки в тюрьме не было. Ни одного постороннего лица, за исключением врача, не было. Врач находился все это время у Гвиано. Он сам его встретил и сам проводил до ворот.
— Что за чертовщина! — удивился Муссолини.
— В том-то и дело!
— А никаких мелких происшествий в крепости за эти сутки не зафиксировано? — поинтересовался дуче.
— Никаких! Один, впрочем, идиотский случай.
— Ну-ка, ну-ка!
— Комиссар по тюремному режиму лейтенант Бартоломео Бисолатти оказался в бочке с нечистотами.
— Тьфу, пакость! Разжаловать в рядовые, чтоб не позорил мундира! От него ведь теперь разить будет всю жизнь!
— Наверняка!
— Постой, постой! А что, если это хитрый ход? Слушай! Все указывает на то, что действовал там кто-то свой! Этого вонючку надо арестовать и допросить.
— Слушаюсь. Сделаем.
— Скажи, а в этой бочке никого больше не оказалось?
— Нет. Выудили только лейтенанта.
— Ну, хорошо, Умберто. Я позабочусь, чтобы вся эта дикая история не попала в наши газеты. А ты постарайся, чтобы сведения о побеге не просочились за границу.
В салоне ювелирной фирмы встретились три дамы.
Графиня Стабилини, супруга министра внутренних дел, с жаром рассказывала своим подругам — жене министра финансов Мартино и жене банкира Марчелло:
— Это феноменальная личность! Не знаю, что больше на меня действует — его ли чудной выговор и необычный акцент, атлетическая внешность и странные манеры, — но он неотразим.
— А как он тебя лечит?
— О, это необыкновенно! Ну, вот, например, как Зайдель избавил меня от гипотонии. Он дал мне курить особую табачную смесь. Название я запомнила: ма-хор-ка. Он скрутил из газеты нечто вроде толстой сигареты, и я закурила. Ма-хор-ка вызывает кашель, слезы, жжение. Но это, оказывается, и дает лечебный эффект. Я избавилась теперь от недуга… Он так мил, этот Зайдель! Бормочет на каком-то непонятном диалекте разные слова, словно заклинания. Кое-что я теперь тоже могу произнести.
— А ну, миленькая, скажите!
— «Твоу мать!»
— Какая прелесть!
— Милочка, ты должна направить его ко мне. Обещай же!
— И ко мне! Прошу тебя!
И вот доктор Зайдель с глазами, полными мрачного огня, появился у жены министра де Мартино. Министерша полулежала на турецком диване. Она в восхищении промолвила:
— О, вы настоящий Геркулес!
— Что болит? — свирепо спросил Геркулес.
— Я, наверное, простудилась.
Синьора покашляла, стараясь, чтобы этот кашель был мелодичным и деликатным. Доктор задумался.
— Луком пробовали? — наконец спросил он.
— Что? — растерянно спросила больная.
— Я говорю, лук очень помогает при простуде.
— То есть как?
— Да очень просто! Берете сырую луковицу и наворачиваете. Ничего мудреного.
— И действует?
— Еще как! У нас бывало в де… извините. А больше у вас никакой хвори нет?
— Есть. В груди боль.
— Покажите где.
— Раздеться? — обрадовалась синьора. — Я сейчас!
— Не надо! — остановил ее Фома, — Просто покажите, в каком месте болит.
— Вот здесь.
— Гм. В ложбинке?
— Да. Притроньтесь.
— Ничего. Я и так.
И вновь дамский будуар, теперь уже синьоры Марчелло, супруги владельца банка «Банк д’Италия».
Едва несчастный доктор вошел к больной, как она сбросила с себя кружевной капот и предстала перед ним во всем великолепии.
— Вы что? — ошарашенно спросил Фома. — Зачем?
— А разве вы не будете выслушивать и выстукивать? — удивилась в свою очередь пациентка.
— Необязательно. Что у вас болит?
— Колено.
— Колено?
— Да. Ужасно ноет. Вы посмотрите?
Доктор горестно вздохнул. Потом буркнул:
— Закрой свои прелести, дамочка! Иначе не буду лечить колено.
Синьора игриво улыбнулась:
— Вы — прелесть! Вы — душка! Вы будете меня лечить долго-долго. А я буду паинька паинькой!
6. ФОМА И ЕРЕМА ДЕЙСТВУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Пять роскошных конвертов с монограммами лежали перед Еремой в номере гостиницы «Карлтон». Злющий Фома ходил в носках по ковру. Седых сказал ему:
— Смотри-ка! Твои бабы стремятся перещеголять одна другую, кто больше денег отвалит! Видел, сколько банкирша прислала?
Фома ничего не ответил, продолжал ходить взад и вперед. Потом буркнул:
— Визы не дадут, пока всех этих шлюх не перелечу.
— Тогда мы будем торчать тут до пришествия Христа-спасителя. Вот влипли, так влипли! На заводе нас, поди, уж уволили как прогульщиков. Ну и гадство! От коллектива оторваны. Ты с буржуазией якшаешься, здоровье ей поправляешь на радость фашистам.
— Брось ахинею нести!
— Ахинею! Слыханное ли дело: сидим в этой помойке. Вместо того чтобы с простым народом общаться, с рабочим людом, ты по графским спальням отираешься! А я сижу тут в номере целыми сутками, как сирота казанская, и носа никуда высунуть не могу.
— Я тебе высуну! Хочешь провалить нас?
— Я хочу к рабочим податься.
— Обойдешься. Перетерпишь. А с мопровцами я сам встречусь. Передам им все эти деньги.
— А я?!
— А ты еще посиди.
— Черта с два! Ты ведь завтра на банкет идешь к банкиру?
— Иду. Нельзя не пойти.
— Вот и я с тобой пойду!
— Ты ж хотел с рабочим людом! А там будут графы, богачи, министры.
— Хочу лично взглянуть на твои связи с буржуями. Что-то мне все это подозрительно.
— Дурень, они такие деньги дают — все на пользу итальянскому пролетариату.
— Все равно пойду с тобой.
— Ну иди. Только там надо быть во фраке.
— Что? И ты фрак напялишь?
— А как же! Иначе нельзя! Возьму напрокат.
В пригороде Рима на веселой зеленой лужайке встретились итальянские рабочие из местного МОПРа Клавдио Ладзари и Артуро Буоцции с советскими рабочими Бурлаковым и Седых. Они тепло обнялись. Фома спросил:
— Ну, что там с нашими друзьями?
— Все хорошо, товарищ! — сказал Артуро. — Благополучно добрались до Югославии. Вам огромное пролетарское спасибо! Это было проделано замечательно! У нас ликует вся партия. Ведь эти четверо — наша гордость.
— Значит, все обошлось. Порядок!
Клавдио сказал:
— Но вам, друзья, как никогда, надо быть осторожными. С нами больше встречаться нельзя. Вам бы лучше скорей уехать домой.
— Мы пришли, чтобы передать вам деньги, заработанные здесь. Они по праву принадлежат вашим рабочим.
Ерема протянул пакет Артуро. Тот взял, взвесил на ладони и рассмеялся:
— Знали бы капиталисты, куда текут их денежки!
— Эти деньги принесут много добра, — сказал Клавдио. — Мы крепко поможем нашим людям.
— Вот и славно! — сказал Фома, — Хоть и тошно мне водить дружбу с вашими буржуями, но польза от этого есть, и я доволен.
Все четверо снова дружески обнялись. Клавдию предупредил:
— Вы идите. А мы с Артуро через часик выберемся другой дорогой.
Доктор Зайдель и Эккерт облачились в парадные костюмы. На Фоме фрак и брюки сидели превосходно, казалось, что он всю жизнь только и носил это одеяние. И стесненно он себя ничуть не чувствовал. В отличие от него Ерема выглядел во фраке нелепо. Он все время сгибался, поглаживал живот, то и дело трогая длинные фалды. Они его почему-то смущали в особенности.
— Сукины сыны! Чертова одежда буржуйская!
— Терпи, раз решил пойти!
— И пойду! Тебя одного пусти-войдешь во вкус и станешь ренегатом.
— Кем-кем?
— Ренегатом. Как Карл Каутский. Ты на рабфаке разве не проходил?
— Ну, пойдем к буржуям?
— Пошли.
Они поднялись по роскошной лестнице в зал. Сверкал хрусталь, мрамор, цветной паркет. Переливались красками вина, бокалы, закуски на низких столах. Лощеные аристократы и богатеи толпились около них.
Разодетые дамы, увидев Фому, радостно щебетали:
— О, профессоре! Как мы рады! Позвольте вас познакомить с моим мужем!
Шел обмен любезностями, рукопожатия. Доктор Зайдель, в свою очередь, представлял своего молчаливого друга, швейцарского журналиста Поля Эккерта. Тот наклонял голову и делал вид, что не видит протянутой для поцелуя руки, и даже ухитрился украдкой пару раз сплюнуть.
Банкир Марчелло, пожимая Фоме руку, сказал:
— Вы наш благодетель, доктор! Если б не вы, наши дамы совсем бы захирели! Вы первый из врачей угадали, что им нужно.
— Это правда! — подтвердил Фома. — Что им надо, я понял сразу.
Банкир отошел к другому гостю. К Фоме приблизилась жена министра внутренних дел.
— Вы меня совсем забыли, доктор, нехороший! А ведь это я оставила вас в Риме.
— Но вы направили меня к своим подружкам, синьора, и я увяз по уши…
— Выходит, я же и виновата?
— Вот именно… Синьора, позволю обратиться с просьбой.
— Да?
— Пусть меня отпустят завтра же из Рима.
— Соглашусь, но с одним условием!
— Что еще за условие?
— Обещайте принять меня в своей клинике в Берне. Я буду в Швейцарии в декабре. Обещаете?
— Ну, конечно! — обрадовался Фома. — О чем разговор! Я вам вызов пришлю. Ждать буду! За милую Душу!
— Прелестно!.. Завтра же вам дадут разрешение.
— Вот спасибо!
Он схватил руку синьоры и звучно поцеловал. Ерема скривился. По в этот момент его подхватил под локоть какой-то веселый господин средних лет, подтащил к столу, сунул в руку бокал с коньяком и стал заставлять пить. Сам господин подал пример — опрокинул два фужера подряд.
— Это кто? — тревожно спросил Фома у синьоры министерши.
— Это финансовый магнат Карло Гронки. Самый богатый человек в Италии.
— Он что — псих?
— О, Карло — любитель кутежей и азартных игр. Он прославился своими чудачествами. Я вас с ним сейчас познакомлю.
Синьора подвела Фому к финансисту и представила:
— Карло! Это доктор Альберт Зайдель из Швейцарии.
— A-а, доктор! Альберт!.. Алик! Как же! Знаю! Слышал! Чудесно! Отлично! Алик, пей коньяк! Твоу мать!
Синьора сказала:
— Ну, я вас оставлю.
Гронки обнял Ерему и Фому и спросил их:
— Гульнем? А, ребята?
— Непьющий я, — сказал Фома.
— А ты хлебнешь? — спросил финансист Ерему.
— Он тоже трезвенник.
— О Санта-Мария! Не будете пить?
— Не будем!
— Тогда поехали, игранем в рулетку!
— Куда это?
— Как куда? В казино! Монте-Карло! Ха-ха! Карло едет в Монте-Карло!
Фома сказал:
— Да мы…
Но Гронки цепко схватил обоих и поволок к выходу. При этом он громко напевал:
— Карло едет в Монте-Карло!
Друзья попытались улизнуть, когда спустились с лестницы, но Гронки не позволил. Два лакея и шофер бережно усадили всех троих в сверкающий лимузин, и он в сопровождении еще двух машин с ревом помчался по улицам Рима.
Кавалькада выскочила на автостраду Рим — Монако и понеслась с бешеной скоростью. Хмельной Гронки обнимался со своими новыми друзьями. Ерема мрачно отплевывался. А Фома ворчал:
— Ну, брось дурить, Карла! Отстань, я же тебе не баба!
— Алик, сейчас мы сделаем с тобой игру. Ты — везучий! У меня нюх на везучих. Ты что, не играл никогда?
— Нет.
— Браво! — воскликнул Гронки. — Это то, что нам надо!
В казино Монте-Карло их провели через несколько залов в тихую комнату без окон. Здесь за игорным столом сидело несколько человек. Гронки усадил Фому. Ерсма злой, как черт, отошел в сторонку. Ему мгновенно с поклоном принесли кресло. Он сел и сплюнул. За столом продолжалась игра. Крутанулся никелированный диск. Крупье сгреб фишки специальным совочком. Снова какие-то непонятные слова. Новые повороты диска.
И вдруг Гронки закричал:
— Браво! Я так и знал! Поздравляю, Алик!
Он хлопнул его по плечу. И зычно крикнул:
— Больше не надо искушать судьбу! Пошли кутить! Устроим грандиозную попойку по этому случаю!
Ерема встревожился, спросил Фому:
— Ты что — выиграл?
— Ага. Триста тысяч франков! Уйма деньжищ!
— Не смей их транжирить на пьянку. Понял? Сам знаешь, куда пойдут деньги! Я их уже заприходовал!
Гронки хлопнул Ерему по спине и воскликнул:
— Кутить будем на мои деньги!
Обратно ехали навеселе. Бурлаков и Седых учили итальянского магната «швейцарской» народной песне. Карло Гронки очень старался правильно выговаривать ее слова. Из бешено мчащейся автомашины далеко по окрестностям разносилась песня:
…Одного зовут Ерема, А другого звать Фома. У Еремы денег куча, У Фомы один пятак. Ой, дербень, дербень, Калуга, Дербень, Ладога моя!Миллионер дважды с удовольствием пропел эту песенку и вдруг пьяно спросил Фому:
— Ты меня уважаешь?
А затем неожиданно смолк и заснул.
— Спит? — спросил Ерема.
— Ага.
— Паразит!
— Да ладно. Что он тебе плохого сделал?
— Во! Так я и знал! Сначала дуется в азартные игры с капиталистом, а потом теряет классовое сознание!
— Брось ты!
— Учти: наклепаю на тебя в райком! Сообщу, с кем в рулетку играл. И строгача схватишь как миленький! Там тебе вправят мозги!
Фома, блаженно улыбнувшись, отозвался:
— Эх, хорошо бы! Жуть как хочется оказаться дома! И чтоб с песочком прошкурили и выговорок влепили!.. До чего же славно!.. Обрыдло мне тут!
— Меня теперь в загранку калачом не заманишь, — отозвался Ерема.
Фома сказал с тоской:
— Уж и не верится, что уедем.
Ерема, подумав, сказал:
— Слушай, Фома. Пока ты по этим бабам шастал, я потихоньку сидел и все думал…
— Полезно иногда.
— Будет тебе задаваться!.. И вот план один мне пришел в голову.
— Да? Что за план?
— Как вызволить из этой тюрьмы всех до единого заключенных! А крепость потом взорвать к чертовой матери!
— И все?
— А что еще?
— Ну как же! Что нам — одна крепость! Давай уж все тюрьмы Италии взорвем! И заодно и дворец короля, и правительство, и банки! Гулять так гулять!.. Авантюрист!
— А-ван-тюрист? — с растяжкой произнес Ерема, — Словам-то каким тут научился. Задель!..
— А? Что? — вскинул вдруг голову Карло Громки. — Зайдель? Алик? Дружище! Хочешь стать президентом моего банка?
— Еще чего! — сказал Фома.
— Хороший крепкий банк!
— Отстань, Карла!
— Соглашайся!
— Иди на фиг! Я спать хочу.
Лимузин въезжал в Рим.
Друзья еще спали, когда в их номер кто-то постучал. Ерема встал и с проклятьями, в одних кальсонах, босиком пошлепал к двери.
В номер вошел благообразный господин с холеным лицом, аккуратными тонкими усиками. Он сказал:
— Тысячу извинений! Я говорю с доктором Зайделем?
— Что? А, Зайдель! Вот он дрыхнет.
Посетитель глянул на кровать Фомы:
— Это — профессоре?
— Это, это!
— У меня срочный разговор.
Ерема подошел к Фоме и стал его расталкивать:
— Эй, Задель! Проснись! Встань! Тут к тебе пришли.
— Что? Кто пришел? Бабы?
— Ты уж спятил на бабах! Все бы тебе бабы! Натуральный мужчина. Хмырь с усами.
Фома приподнялся. Спросил с хрипотцой:
— Чего надо?
— Строго конфиденциальная беседа, коллега!
— У меня от Эккерта секретов нет. Выкладывайте, зачем пришли.
Посетитель растерянно огляделся. Фома подбодрил:
— Давайте, давайте! Да сядьте же!
Посетитель сел. Положил на колени черную кожаную папку. Тросточку прислонил к столу. Он начал:
— Я — доктор Джермиано.
— Очень приятно.
— Я — президент ассоциации терапевтов Италии.
— Ух ты, какая мне честь! Слушаю вас.
— К вам же я по поручению коллегии Римской региональной секции этого общества.
— Так. Усвоил. Дальше?
— Сложилась многолетняя традиция, согласно которой высшее общество в Риме обслуживается исключительно врачами особой квалификации. Их не так много. Каждый знает свою сферу. Один лечит высшее духовенство, другой — семьи аристократов, третий — промышленников и финансистов, четвертый — государственных деятелей высшего ранга.
— Понятно. Что дальше?
— Эта традиция была внезапно нарушена. Ряд высших сановников стал пользоваться услугами приезжего иностранного терапевта. Это нарушило установленную стабильность гонораров и поколебало необходимую веру пациентов в привычные методы лечения.
— Ну и что вы от меня хотите? Говорите прямо и не тяните! Не выношу занудства!
— Проблема деликатная, доктор Зайдель!
— А вы попроще!
— Дамы очарованы вами…
— Что вы предлагаете, черт бы вас подрал?!
— От имени моих коллег я предлагаю отступную сумму, доктор Зайдель…
Джермиано открыл кожаную папку и вынул из нее конверт. Положил на стол.
— Наше условие, коллега, таково: сегодня же вы должны покинуть Италию.
— Ну-ка дайте взглянуть, сколько вы предлагаете!
Джермиано подал ему конверт. Фома взглянул на чек и сказал:
— Ого! Щедро!
Джермиано сказал со вздохом:
— Буду откровенен. Если б не ваша дружба с его превосходительством министром Стабилини, мы сумели бы выслать вас более дешевым способом.
Фома захохотал. Потом спросил:
— Мне надо что-нибудь подписать?
— Да. Прошу вас. Вот это.
Фома лихо расписался на трех экземплярах. Джермиано пригласил ожидающего, как оказалось, за дверью нотариуса. Тот заверил документ и немедленно исчез. Джермиано достал из папки еще один конверт, и подал Фоме.
— А это что еще?
— Два билета на экспресс Рим — Женева. Сегодня в ночь.
— Вот за это особое вам спасибо! Уважили!
Джермиано встал.
— Счастливого пути, коллега!
— Счастливо оставаться! Больше не буду вносить смуту в вашу работу.
— Будьте здоровы, доктор!
Едва Джермиано вышел, как Ерема взял конверт, вынул чек и посмотрел его на просвет. Затем записал в свой блокнот и сказал:
— Надо срочно звонить Клавдио, чтоб успел забрать и выигрыш и чек…
В дверь снова постучали.
— Это еще кого несет? — удивился Фома.
В номер вошел жандармский офицер. Он козырнул и сказал:
— Приношу извинения, синьоры! Мне нужны ваши документы.
Фома молча протянул ему бумаги.
Офицер взглянул на них, быстро вынул печать, лихо проштамповал и вернул Фоме.
— Прошу вас, синьоры! Тысяча извинений! Честь имею откланяться!
— Чего там? — спросил Ерема, когда офицер ушел.
— Выездные штампы.
Фома счастливо, по-детски улыбнулся.
— Домой, Еремушка! Наконец-то!
— Вот это другой коленкор! Ай да бабы! Цены им нет!
Но визиты в этот день не закончились. Снова постучали в дверь. На этот раз в номере появился полковник Гвиано собственной персоной. Он радостно пропищал:
— Ах, как хорошо, что я вас застал, друг мой! А это кто? Ваш приятель Эккерт? Очень приятно. Гвиано… Я слышал, что вы сегодня покидаете нас? Какая жалость!.. Я не имел возможности этот месяц вас видеть. У меня такие неприятности. Исчезли четыре узника. И вы знаете, чья это работа?
Фойа пожал плечами.
— Этого паршивца Бартоломео!
— Да что вы?!
— Это доказано! Он, прохвост, сознался наконец на допросе, что замешан в этом деле… Правда, пока не сказал, куда скрылись беглецы.
— Ну, еще скажет! — уверенно сказал Фома.
— Разумеется! Без сомнения. Скажет! Если, конечно, не сдохнет во время допроса.
— Вот негодяй! — сказал Фома.
— Мерзавец! Из-за него я чуть места не лишился. Бандит!
— Как чувствует себя супруга?
— Ах, благодарю вас! Она так жалела, что не может поехать со мной! Вам сердечный привет. Мы хотим посетить вас в Швейцарии.
— Милости прошу в любое время! Буду счастлив.
— Прощайте, синьор! Всегда буду помнить ваше лечение!
— Хе-хе! Чего уж там! Прощайте!
— Прощайте!
Дверь захлопнулась.
— У Еремы лодка с дыркой! — воскликнул Фома.
— У Фомы челнок без дна! — отозвался Ерема.
Оба радостно захохотали.
Мчался поезд через Италию и Швейцарию.
Потом экспресс пересек Австрию и Германию. Затем— Польшу. И вот уже — милая, прекрасная Родина.
Москва… За нею — Волга… Нижний Новгород. Родной завод…
Бурлакова по дороге в кузнечный цех встретил секретарь цехового комитета МОПРа Зюкин. Он сказал:
— Ты ведь у меня задолжник, Фома Игнатович! Чтоб сегодня же уплатил взносы за два месяца! Понял?
— Виноват! Уплачу!
— Давай, давай!
Затем Фома повстречал секретаря заводской ячейки МОПРа Шарко. Шарко сказал:
— Ты чего это так долго ездил? Мы тут прямо уж не знали, что и подумать!
— Да, пришлось подзадержаться. Не по нашей вине. Там, понимаешь, волокиту развели…
— Я ж и говорю — чего было задерживаться без толку! Наша подшефная четверка-то удрала из тюрьмы! Ты знаешь?
— Да, слышал.
— Так что понапрасну вы с Седых катались?
— Выходит, напрасно.
— Я ж и говорю.
— Ты извини, Степа, я по кузне стосковался! Побегу! Мне еще до смены надо пресс отладить!
И вот Фома Бурлаков вновь у своего пресса.
С каким наслаждением включил он рубильник! С каким удовольствием подставил он под ковку коленчатый вал! Лицо его светилось радостью.
То же выражение беспредельной радости можно было увидеть и на лице Еремы Седых. Он вновь привычно трудился в своем цехе, колдуя над сборкой мотора.
И заводские звуки казались ему чудесной музыкой.
А у кузнечного пресса стоял богатырь Фома Бурлаков и ковал, ковал, ковал горячий металл.
Это и было для него — Счастьем!
НАШ ДРУГ КУЗЯ Рассказ
Был в моей жизни момент, когда я почти поверил в переселение душ и прочую чертовщину. Случилось это по милости нашего корабельного кота, нахального и мрачного зверюги, долгие годы плававшего на «Аскольде» под именем Кузьмы.
С тех пор прошло уже много-много лет, и я не питаю больше зла к этому лохматому дьяволу. Так что рассказ мой будет вполне объективным. Это, кстати, может подтвердить Гоша Солодухин, который в те давние времена работал на «Аскольде» матросом, а нынче командует траулером в Мурманске.
Команда называла кота, словно монарха, «наш обожаемый Кузя». Кузя пользовался в то время широкой известностью на многих судах и в портах Дальневосточного пароходства. И наш экипаж гордился славой своего любимца.
Я же, до того как определиться на «Аскольд», понятия не имел об этой знаменитости, поскольку попал на флот впервые.
Надо сказать, что я пришел на «Аскольд» начитанным мальчиком с сильно развитым воображением и воспринимал тогда мир так, как мне хотелось его воспринимать. Хотя меня зачислили на «Аскольд» палубным учеником, я упрямо именовал себя юнгой. Это вроде бы то же самое и все-таки не одно и то же. Пусть палубный ученик значится в бухгалтерской ведомости, а для всех я юнга.
Помню, даже выданная боцманом новенькая роба из толстого и твердого брезента вызвала у меня гордые аналогии с одеждой Фаррингтона, матроса первой статьи из рассказа Джека Лондона. Мне с детства запомнился Фаррингтон, стоящий у штурвала накренившегося брига, одетый в зюйдвестку, куртку и высокие сапоги. И хотя штаны не сгибались в коленях и неистово шуршали при ходьбе, хотя сапожищи лукавый боцман всучил мне на четыре размера больше, чем надо, и они волочились по палубе с трамвайным скрежетом, хотя вместо зюйдвестки пришлось натянуть прозаический берет и к штурвалу вставать было нелепо, поскольку «Аскольд» мирно стоял у стенки Владивостокского порта, все же в первый день на судне меня распирало от гордости за мою морскую удаль. И я бросал с борта лихие взгляды на девчат-учетчиц, проходящих по причалу.
Боцман Сурмич, оказавшийся вовсе не здоровенным, хриплоголосым, волосатым детиной, многократно описанным в литературе, а щуплым тихим пареньком, поставил меня на вахту у трапа. В обязанности мои входило не допускать на судно посторонних. Но определить, кто из приходящих на «Аскольд» посторонний, а кто нет, мешало мне чрезмерное воображение. Так я пропустил вяло поднявшегося по трапу небритого верзилу, обладателя сизого носа и светленьких безмятежных глазок. Этот человек, решил я, закоренелый моряк. Он только что из далекого плавания. Много лет океанские ветры обдували нос моряка, пока он стал таким сизым. Из его канадской куртки еще не выветрился острый запах морской соли…
Мне попало от штурмана за сизоносого типа. Он оказался обыкновенным «бичом», который шатался по порту и клянчил у всех на пиво.
Едва человек ступал на трап «Аскольда», как я впивался в него напряженным взглядом, стараясь угадать: свой или чужой. И неотрывно следил, пока он поднимался на палубу. Уже на середине трапа люди начинали беспокойно дергаться, а потом испуганно шарахались от меня.
Видимо, кто-то сообщил о моих опытах дежурному штурману, и он вышел из каюты понаблюдать, как я травмирую членов команды гипнотическими взглядами. Он выручил миловидную женщину, оказавшуюся нашим судовым врачом, что-то такое похмыкал неодобрительно и ушел.
Настроение у меня было все же приподнятое. Я вышагивал вдоль фальшборта и представлял, как уже завтра подо мной будет яростно колыхаться палуба и океанские волны обрушатся на мои плечи…
И вот тут-то мне довелось познакомиться с его благородием Кузей, омрачившим мою первую вахту.
Я увидел, что по парадному трапу «Аскольда», неспешно переставляя лапы, поднимается большущая лохматая кошка. В желтых круглых глазах ее застыло беспредельное равнодушие ко всему окружающему.
— Брысь, проклятая! П-шла! — заорал я.
Кошка невозмутимо продолжала шествовать на судно. Я топал ногами и вопил, а кошка уже ступила на палубу. Она вдруг уставилась на меня круглыми вещими глазами. Осмотрела всего с нескрываемым презрением, оскалила в беззвучном шипе свою пасть и, держа хвост строго горизонтально, направилась на корму.
— Ты чего его гонишь?! — сказал вышедший покурить парень в тельняшке. — Это наш кот Кузя. Неужели не слыхал? Он, дружок, пять лет с нами плавает. Коли он явился на борт, значит, скоро уйдем в море… Так, что ли, Кузя?
Кот, не оборачиваясь, противно мяукнул надтреснутым басом.
Как потом растолковали мне бывалые аскольдовцы, пытаясь не пустить Кузю на борт, я нанес ему тяжкое оскорбление, и он мне этого не простит. Он станет проверять мою работу.
Я легкомысленно посмеялся в ответ. Уж больно это походило на розыграш.
— Учти! — вкрадчиво сказал один из матросов. — Кузя — кот сложный. С психологией.
По рассказам моряков, этот кот жил на «Аскольде» только во время плаваний. Стоило судну пришвартоваться в любом порту, как он сходил на берег и пропадал там до самого отплытия парохода. Перед отходом судна Кузя неизменно являлся на борт. Если судно задерживалось у причала, откладывал свое прибытие и Кузя. Однажды пришлось отчалить раньше, чем намечалось, но Кузя таки пришел и, как всегда, завалился спать на трое суток.
Чем занимался Кузя в портах, оставалось тайной. Но моряки были убеждены, что дело не обходится без амурных похождений. Порой кот возвращался с выдранными клочьями шерсти и исцарапанной мордой. Некоторые аскольдовцы уверяли меня, что целые кошачьи стаи выходили выть по ночам, провожая Кузю в дальнее плавание. Но это уже вранье.
Около двух лет я плавал в его благородном обществе, и неизменно, будь это в Петропавловске-Камчатском, в Певеке, Гонконге, Ванкувере или Магадане, наш обожаемый Кузя пунктуально и невозмутимо прибывал из увольнения на берег за несколько часов до отхода судна. Вот и разберись после этого, где мистика, а где интуиция.
Но когда я появился на «Аскольде» и вступил в открытый конфликт с Кузьмой, я по легкомыслию недооценил его методов психологического воздействия.
Мы еще не отправились в рейс, как началась какая-то чертовщина, стало сбываться дурацкое пророчество, что кот будет проверять мою работу. Кузя то и дело лез мне под ноги, уставившись на меня загадочными желтыми глазами. Он даже отказался на этот раз от обычного трехсуточного сна, решив, вероятно, что мистифицировать новичка — дело более занятное. У меня с непривычки под жутковатым взглядом кота все валилось из рук.
Перед отплытием «Аскольда» я задраивал вместе с матросами трюмы. На поперечные железные бимсы мы плотно укладывали лючины — широкие толстые доски. Затем разворачивали огромный кусок брезента, набрасывали его на образовавшийся настил, туго натягивали, закладывали края за скобы и крепко заклинивали. Я старался изо всех сил. Вдруг на брезент, натянутый словно кожа барабана, плюхнулось возле меня что-то темное, лохматое. Это был Кузя собственной персоной. Он сел и, прижав уши, стал уминать передними лапами брезент, изредка цепляя его когтями.
— Э-э, — закричал Гоша Солодухин, — что-то Кузя недоволен твоей работой, парень. Ну-ка поглядим!
Матросы осмотрели мой участок и обнаружили, что я недостаточно прочно вбил клинья. Аскольдовны стали хором благодарить Кузьму за квалифицированную инспекцию. Я был посрамлен.
Вечером мне поручили пробить склянки. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно сделать сильный и быстрый сдвоенный удар так, чтобы он прозвучал слитно, звонко, четко. В этот момент на всех судах Золотого Рога одновременно звучат склянки. Мелодичный перезвон их начинается у первых причалов: он пробегает по судам, огибает залив, хрустальным эхом откликается у Чуркина мыса и замирает где-то в синеющей дали моря и неба. Словно кто-то перебирает пальцем струны гигантской арфы.
Тут уж нельзя ударить лицом в грязь, и в общем оркестре надо возвестить не только время, но и показать верную морскую руку. Я был убежден, что мне удалось показать. Отбив склянки, я удовлетворенно оглянулся. И самодовольная улыбка сползла с моей физиономии: я увидел страдальческую гримасу на морде Кузи. Мой музыкальный опыт пришелся ему явно не по вкусу. Тут же, как на грех, случились Сурмич с Гошей. Они тоже сокрушенно покачали головой. Плохи, мол, твои дела, парень.
Но вот наконец на рассвете мы покинули Владивосток. Молча смотрел я на тихо свернувшийся вокруг залива город. Он медленно удалялся. Легкий ветерок гнал по бухте длинные извилистые волны и делал ее похожей на гигантскую стиральную доску. Потом сопки замкнули вход в бухту. Между нами и землей запенилась бесприютная поверхность моря. Налетел холодный ветер и зашевелил на мне брезентовую робу, призывая заниматься своими обязанностями.
Уборка деревянной палубы — дело непростое. Сначала надо упругим и жестким голиком долго шаркать вдоль узких линеек палубного настила. Следует крепко, очень крепко прижимать голик, до нытья в плечах. Потом продрать песочком и каустиком потемневшие планки. А затем пройтись пару раз сочной, набухшей от воды шваброй. При нажиме она, чмякнув, истекает водой и, мягко скользя по глади палубы, захватывает потеки грязи и песка. Но это еще не все. В дело вступает боцман со шлангом. Упругая, сверкающая на солнце струя воды с силой бьет в палубу, переламывается под прямым углом и растекается кружевным пенистым веером. Эта струя, расшвыривая брызги, вышибает из щелочек последние песчинки.
Сначала мне доверялось лишь помогать боцману скатывать палубу. Топая огромными сапогами, я волочил за Сурмичом тугую гудящую змею. Но потом мне разрешили и самому орудовать шлангом. Я с удовольствием мыл палубу, насухо протирал, и тогда взору представала чистейшая матово-желтая поверхность, легкий прозрачный парок поднимался от нее.
Кузя побродил по выдраенной мною палубе, придирчиво понюхал в нескольких местах и мрачно удалился. Вот после этого он и сменил гнев на милость. Он позволил себе наконец отоспаться. Взял отгул. Такое легкомыслие чуть не стоило ему жизни.
Я скатывал из шланга спардек. А там на приоткрытых световых люках машинного отделения устроился Кузя. Его дымчатая шкура сливалась с шаровой окраской люка. И я не заметил кота. Вернее, увидел, но поздно. Мощная струя воды хлестнула по коту и швырнула в открытый люк. Раздался дикий вопль. Только лохматый хвост мелькнул…
У меня сердце остановилось. Я убил Кузю!
Я подскочил к люку и с боязнью заглянул вниз, в машинное отделение. Оттуда, из темной глубины, поднимался горячий масляный воздух. Не закончив уборки, я убежал в подшкиперскую. Переживать.
Но все обошлось. Машинисты отнесли Кузю к докторше, а потом он сам себя вылизывал до вечера. И во время ужина кот, как обычно, притащился в столовую. К нему подозрительно принюхивались. От Кузи почему-то пахло духами «Красная Москва». Я с беспокойством ожидал, что начнется расследование. Но только машинист Рахаев, обведя всех сердитыми черными глазами, вдруг спросил:
— Интересно, какая скотина сегодня Кузю в машину сбросила?
Мне стало нехорошо. Захотелось уползти под стол. Но гроза тут же миновала, потому что по обыкновению сцепились в незлобной перебранке палубная и машинная команды.
Когда мы на обратном пути с Камчатки спасали пассажиров потерпевшего аварию парохода, то Кузя всю ночь не уходил с палубы, озабоченно бегал по спардеку, даже взбирался зачем-то на мачту. Измотанные и взвинченные, мы вдруг замечали возле себя Кузину морду с оживленно блестевшими глазами и невольно веселели.
А дело было нешуточное. Бедствие потерпел в проливе Лаперуза пароход «Снабженец», который вез на Север семьи переселенцев и грузы для факторий. Он налетел в тумане на Камень опасности. Была штормовая погода, а мы подошли к «Снабженцу» ночью. Катер стал перевозить пассажиров. Море швыряло катер, он то проваливался глубоко в водяное ущелье, и мы слышали далеко внизу его торопливый глухой стук. То вдруг взлетал с волной вверх, и мы видели его освещенные снизу грязные борта, и снова он ухал в глубину и снова взлетал над нами.
Мы закрепили штормтрап. На катер, изловчившись, спрыгнули наши матросы. Мы сбросили конец, и наши ребята попытались обвязать тросом женщин, чтобы помочь им вскарабкаться на «Аскольд» но штормтрапу. Но без детей ни одна из них не хотела подниматься на пароход. Хлопцы несколько растерялись. Но наш старпом быстро нашел выход. На катер сбросили большие мешки — чехлы для набивки матрацев. В эти мешки укладывали детишек. Затем матрасовки накрепко перехватывали узлами и осторожно вытягивали на борт «Аскольда». Из шевелящихся мешков раздавался разноголосый рев и крики «мама». Мы развязывали мешки, выпускали ревущих ребятишек и вытягивали следующих….
На рассвете мы закончили погрузку пассажиров. Потом передали их на теплоход «Дзержинский». Перед обедом нам велели выстроиться на палубе. Мы уже знали, что начальник пароходства объявил нам благодарность. В это время из-за лебедки показался Кузя. Он чрезвычайно медленно, держа хвост строго параллельно палубе, прошествовал вдоль нашего строя. И что-то хрипло, отрывисто мяукнул.
Появившийся капитан никак не мог понять, почему команда валится от хохота, и решил, что это нервная разрядка после пережитого за ночь напряжения.
И вот завершился мой первый рейс, а за ним последовали и другие. Я стал опытным матросом, и Кузя больше не проверял мою работу и не гипнотизировал загадочным взглядом. У него были свои, видать, нелегкие делишки в портах, и он пользовался каждым плаванием, чтобы получше отоспаться и поесть. Я же перестал верить в переселение душ и чертовщину. У меня, как и у всех аскольдовцев, вошло в привычку приветствовать появление Кузи на судне.
Но однажды Кузя не вернулся. Это было в американском порту, где мы грузились целую неделю. Кузя, как обычно, спустился после швартовки на берег по парадному трапу и неторопливо направился куда-то за складские постройки. Никто за пего не беспокоился. Но вот наступило время отчаливать, а кот не приходил. Хлопцы бродили по причалу, кричали, Кузи не было.
Такого еще не случалось. Капитан с беспокойством расспросил ночных вахтенных, но те обескураженно разводили руками. Оставлять Кузю на чужом континенте было жестоко. По делать нечего. Вконец расстроенная команда разошлась по своим местам. Загрохотал брашпиль, задрожала под ногами палуба. Я принял швартовый трос и закойлал его на кнехт.
Двое суток, покачиваясь на волнах Тихого океана, аскольдовцы ходили мрачные и подавленные, пока Гоша Солодухин не совершил великого открытия. Подметая около зачехленных лебедок, он зачем-то нагнулся. И вдруг увидел лежавшего под брезентом Кузю. Около него виднелось что-то белое, как снег. Гоша прополз между лебедками и обомлел.
Рядышком с могучим, косматым Кузей лежала на ветоши беленькая кошечка с голубыми глазами. Она нежно вылизывала бурую клочковатую шкуру своего друга, а он блаженно жмурился и — неслыханное дело — мурлыкал.
Вся команда, от кока до капитана, побывала у лебедок, желая своими глазами убедиться, что Кузя вернулся на судно. Да еще не один. Но на чьей вахте ему удалось незаметно провести на «Аскольд» свою американскую подружку, так и осталось невыясненным.
Эта милая парочка пересекла с нами океан, а потом совершила еще несколько рейсов на «Аскольде».
Но когда у них появились котята, а произошло это событие в Охотском море, то наш кот принял решение. Едва мы пришвартовались к причалу Владивостокского порта и установили трап, как Кузя вместе со своим семейством покинул «Аскольд», и на этот раз навсегда.
Я больше не встречал этого удивительного кота и не знаю его дальнейшей судьбы. По его хорошо помнят многие моряки-дальневосточники, и, быть может, кто-нибудь из них сообщит что-нибудь о нашем Кузе.






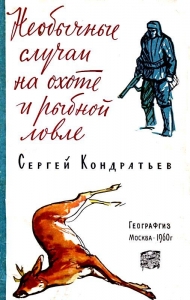

Комментарии к книге «Тайна», Борис Борисович Медовой
Всего 0 комментариев