МАШИНА НЕИЗВЕСТНОГО СТАРИКА Фантастика Серебряного века Том XI
Борис Лазаревский ДУХОВИДЕЦ
С левой стороны, за обрывом, среди черных стволов деревьев видны были красные крыши нескольких зданий огромной губернской больницы для живых мертвецов. Густой, как лес, парк кончался кладбищем, и все могилы были подряд, одна возле другой. Несколько лет назад тут вышло скандальное дело: сторожа, для скорости, опускали по два гроба в одну яму и стоймя, и в жаркие дни здесь носился тяжелый запах.
За кладбищем в пожелтевшем парке совсем отдельно помещались две частных лечебницы для нервнобольных. В одну из вид меня пригласили прочесть рассказ. Шел я туда с жутким чувством, потому что никогда раньше не бывал в таких учреждениях.
Врач-владелец встретил меня приветливо и сказал, что никаких сумасшедших я не увижу, то есть не увижу людей, кривляющихся или болтающих чепуху, что живут у него или совсем тихие, или те, у которых переутомлены нервы, и просил только не читать ничего печального или касающегося войны. Я обещал, и прочел любовную историю с благополучным концом.
Вся аудитория состояла из пяти человек, из них один был офицер, который, как мне показалось, слушал особенно внимательно. Меня заинтересовало его красивое и очень серьезное бледное лицо. Потом начал играть и играл очень долго виолончелист, а доктор опять пригласил меня в свою квартиру и предложил выпить чаю на веранде, хотя был уже конец сентября. Осенний день кончался безболезненно, и птицы разными голосами благодарили природу за то, что не было дождя, и за наступивший отдых.
Я сказал, что мне ужасно понравилось лицо больного офицера и показалось очень умным. Доктор пыхнул сигарой, улыбнулся и произнес:
— А между тем, это единственный из моих пациентов, о котором можно сказать, что он ненормален и почти безнадежен. Зовут его Александр Иванович… Поставить точный диагноз я пока затрудняюсь, но у этого безусловно образованного человека (он прежде был учителем) есть глубокая уверенность в том, что он может сообщаться, без помощи почты и телеграфа, но только с живыми, но и с мертвыми… Впрочем, мне он теперь об этом не рассказывает, а больше просвещает фельдшерицу. На маниакальный бред, однако, его слова не всегда похожи, — улыбнулся доктор и добавил: — В психиатрии еще много непочатых углов, и диагностика — увы! — до сих пор не всегда на высоте.
После окончания концерта доктор разрешил мне поговорить с больным и сам проводил меня к нему в комнату, ничем не напоминавшую госпитальной палаты, и окно даже было без решетки и все время оставалось открытым. На столе лежало несколько книг и красовался букет чудесных белых роз.
Доктор благоразумно ушел, а я, не менее благоразумно, не начал разговора, касающегося бреда. Впрочем, Александр Иванович очень скоро сам перешел к своей идее и говорил так, как будто сам себя вышучивал, но выражение его карих глаз ясно показывало, что он верит.
— Козловского укокошило на моих глазах и очень основательно, большой осколок снял с него череп, точно фуражку, — я молча перекрестился и отвернулся. Потом убило двух нижних чинов: немцы, по-видимому, решили заставить замолчать нашу батарею, но это им не удалось. Я еще целых шесть недель здравствовал, а затем наступила и моя очередь: я сразу потерял сознание и пришел в себя только в лазарете и очень удивился, когда мне сказали, что я здесь уже целых пять часов, и прошло не меньше времени, пока меня сюда привезли с батареи. Я был одновременно ранен и контужен… начал что-то припоминать, но остался у меня в памяти только голос Козловского, голос без слов, иначе я выразиться не умею, и обращался он не ко мне, а к женщине, живой, но спящей где-то очень далеко там, в глубине России, — как будто в Москве… Была ли эта женщина его мать или жена — тогда я не знал, но все, что я подслушал, хорошо запомнил. И у меня осталось впечатление, — как вам сказать? — как будто я стоял возле телефонного аппарата с двумя трубками, и одна из этих трубок была возле моего уха, а другую держал кто-то неизвестный… Козловский, как и я, прежде был учителем, а еще раньше прапорщиком запаса. Это единственное, что я о нем знал, а остальное уже понял из того, невольно подслушанного у невидимого телефона разговора. Впрочем, сейчас, знаете ли, у меня нет желания рассказывать об этом… и потому именно, что хочется, чтобы вы всю эту историю узнали лично, сами… Вы ее поймете. Вы или никто…
Александр Иванович сделал передышку, улыбнулся ласково-ласково — не по-земному — и заговорил быстрее:
— Не бывать бы счастью, да несчастье помогло… Я после всего пережитого потерял многое, но приобрел особое, похожее на собачье, чутье, — я сразу угадываю, кому что можно говорить, а кому нельзя… Вам можно…
Я поблагодарил.
За окном стадо прохладнее. Солнце, вероятно, еще не зашло, но уже не было видно розового света. Я приготовился слушать, но вошла фельдшерица и сказала, что сейчас подадут ужин. Вены на висках больного вдруг посинели, он с досадой и, видимо, сдерживаясь изо всех сил, сказал:
— Я не хочу есть.
— А нужно, — ответила деревянным голосом фельдшерица и многозначительно поглядела на меня из-за спины Александра Ивановича.
— Все-таки мне очень хотелось бы еще раз вас увидеть, — жалобно произнес он, обращаясь ко мне. А когда фельдшерица вышла, добавил: — Я убежден, что вы по совести ответите мне, бред это или нечто реальное, но до сих пор необъясненное…
Я совершенно искренне обещал зайти в самом ближайшем будущем и пожал его желтоватую руку. На обратном пути опять зашел к доктору, чтобы спросить разрешения еще раз повидаться с Александром Ивановичем. Доктор кивнул головой и сказах:
— Когда хотите и сколько хотите, ибо вы понимаете, с кем имеете дело, и волновать его понапрасну не станете, а без посетителей он очень скучает. Остальные же больные почта все люди малообразованные и неинтересные.
Слова доктора о том, что больного не следует волновать, удерживали меня, чтобы не навестить загадочного офицера на этой же неделе. Я бы, пожалуй, не пошел к нему и после, но увидел его во сне, вернее, услышал его голос: «Мне очень бы хотелось поговорить с вами еще раз, пока я в этой больнице».
Кажется, прошло около десяти дней со времени нашего первого свидания. Как и в предыдущий раз, я сначала зашел к доктору. Не знаю, что меня заставило солгать, будто я получил письмо от Александра Ивановича, в котором он просил его навестить.
Мои слова произвели совсем неожиданный эффект. Всегда вежливый и ласковый, доктор вдруг покраснел и, не обращаясь ко мне, пробормотал:
— Это черт знает, что такое, ведь я тысячу раз повторял всему персоналу, чтобы ни одно письмо больного не получалось и не отправлялось без моего разрешения и ведома, а между тем, это уже второй случай. — Он сделал над собой усилие и уже другим, извиняющимся тоном сказал: — Дело в том, что Александру Ивановичу стало гораздо хуже, и не физически, а психически. Больной даже собирался буйствовать и только в последние два дня вдруг утих. Ведь вы, господа публика, всегда относитесь к вам, психиатрам, как-то подозрительно, и даже самые образованные люди. И только потому я вам разрешаю навестить больного, — пойдите и убедитесь сами.
Я поблагодарил и направился через сад по уже знакомой дорожке. За десять дней почти все листья успели облететь с деревьев. Дул ветер, и голые мокрые ветви после недавнего дождя бились одна о другую и роняли холодные слезы на такую же холодную землю. В этот короткий период в природе совершился резкий поворот в сторону зимы. Трава вдруг пожелтела, вероятно, на рассвете случались морозцы, и не было ни одной птицы вокруг.
В сенях небольшого домика я старательно вытер ноги о коврик и сказал фельдшерице, что пришел к Александру Ивановичу с разрешения доктора. Она наклонила голову и ответила:
— Да, но все-таки я должна еще спросить по телефону. Я сейчас.
Сестра ушла в другое помещение, вернулась минуты черев две и так же холодно и деловито произнесла:
— Пожалуйте!
Александр Иванович мне ужасно обрадовался. Его глаза сразу оживились. Не вставая с кровати, на которой он сидел, больной радостно закивал головой, потер рука об руку и, точно доказывая кому-то, несколько раз повторил:
— Ну конечно же, я знал, что вы придете, ну конечно же!..
И, как сегодня в природе, я заметил резкую перемену также и в лице Александра Ивановича, сейчас увидел, что это уже не тот человек, с которым я разговаривал всего десять дней назад, хотя сразу трудно было уловить, в чем произошла перемена: голос остался тем же, а манера говорить будто иная.
— Дайте папироску!
И снова показалось, что это сказал не Александр Иванович. Мне самому пришлось говорить мало, а больше слушать. Оглядывая его, я подумал, что больной как будто даже пополнел, но щеки его и лоб пожелтели. Александр Иванович угадал мою мысль и ответил:
— Без воздуха сижу, — ужасная погода, дождь и дождь. Ах, как я вам благодарен, что вы услышали меня и пришли. Впрочем, это не от вас зависело: я стал гораздо сильнее. Ни на что другое не тратится энергия, только на мысли. Доктор даже запретил давать мне газеты. Правда, прочитав о том, что делают болгары, я не вытерпел и одну из этих газет порвал, но Бог с ними… Теперь они мне совсем не нужны. Я нашел способ не только сообщать о самом себе, кому хочу и когда хочу, но и узнавать, где и что делается в данную минуту! Я не вижу, но я угадываю, воспринимаю тем шестым чувством, которое со временем разовьется у всех людей, — Александр Иванович безнадежно махнул рукой и добавил: — Еще не скоро, лет через сто-двести…
Он улыбнулся важно, многозначительно и снисходительно поглядел на меня, как на субъекта, еще не посвященного. Забыв, с кем я говорю и где, я начал было возражать и сказал, что для такого предположения нет никаких оснований. Тогда Александр Иванович просто и коротко произнес:
— Однако, вы почувствовали, что я вас зову, и пришли. Еще так недавно теории и гипотезы Жюля Верна считались сказками, романы Уэльса просто чепухой, а теперь и сказки я чепуха сделались самой реальной действительностью, так почему бы рано или поздно в такую же действительность не обратиться и моей теории?
И я ничего не сумел ему ответить.
Александр Иванович вдруг опять оживился и начал тоном профессора, читающего лекцию:
— Если мы возьмем и бросим в воду камешек, то от него пойдут круги, сначала ясно видимые, затем едва заметные и, наконец, совсем невидимые, но, вероятно, весьма ощутимые для микроскопических растений и животных, мимо которых они пройдут. По сравнению с размерами земного шара, а еще вернее, с размерами атмосферической оболочки, которая его окружает, человек такое же микроскопическое животное… Если я сделаю хоть одно движение пальцем, то воздушная волна пойдет невидимыми кругами и будет плыть, пока не иссякнет энергия, которой я создал волну. Значит, все дело том, чтобы рассчитать эту энергию и приблизительное расстояние до нужного мне человека или предмета, который и явится препятствием для дальнейшего ее движения… Да… Так что я хотел сказать? Вот, вот… Встретив такое препятствие, она так же невидимо пойдет назад и снова докатится до меня, вызвавшего мановением пальца это колебание… Может быть, я не совсем точно и ненаучно выражаюсь, ибо я плохой физик и преподавал историю, но вы, конечно, поняли, что я хочу сказать?
Не знаю, почему мне неловко было ответить отрицательно, и я молча кивнул головой. Александр Иванович оживился сильнее и заговорил быстрее:
— Но прежде, чем рассказать, как я утилизировал эту теорию, я хочу вам сообщить о том, что меня натолкнуло заняться разработкой этого вопроса.
Больной вдруг замолчал, пугливо осмотрелся и ловким движением достал из-под матраца какой-то очень грязный конверт, весь покрытый почтовыми штемпелями и несколькими перечеркнутыми адресами.
— Вот, смотрите, это письмо ездило по России целых шесть месяцев, пока дошло до меня и наконец попало ко мне в руки, правда, не совсем легально, а именно через дворника и за хорошую мзду… Вы, конечно, помните мой рассказ о прапорщике Козловском, голос которого я услышал, когда очнулся в лазарете. Голос этот говорил буквально следующее: «Я обещал так или иначе дать тебе знать о моменте перехода в другую жизнь; если не поверишь самой себе, спроси письменно у Александра Ивановича Быстрова…» Я услышал эти слова точно в телефоне, и они запечатлелись в моем мозгу. Тогда я не успел вам их сказать, а может быть, и не совсем хотел, не будучи сам уверен до конца. Но вот явилось письмо от его жены, которой я никогда не видал и которая знает обо мне только одно, что я однополчанин ее мужа…
Больной вынул из конверта листочек бумаги и прочел подчеркнутую, вероятно, им самим фразу: «Я знаю, что его нет и не будет, но мне будет легче, если окажется, что вы действительно знаете о желании мужа так или иначе уведомить меня о том, что после моей смерти мы с ним наверное и без всякого сомнения увидимся».
Александр Иванович поднес к моим глазам письмо и заставил еще раз прочесть те же строки.
— Так? — спросил он.
— Так, — ответил я.
— Вы скажете, что это сверхъестественно, а я вам отвечу, что в наше время все естественно, и меньше всего следует удивляться. Но не в этом самое важное, что жена убитого товарища узнала о смерти своего мужа день в день и час в час; о таких случаях вам расскажут многие жены и матери и многие офицеры из образованных и даже окончивших естественный факультет, и даже некоторые врачи расскажут… А дело в том, чтобы уяснить себе, как это явление совершается. И мне кажется, что я почти решил задачу, и в то же время кажется, что, как только я ее решу окончательно, сейчас же умру и не успею даже отчасти сообщить людям мою тайну. Поэтому я так тороплюсь. И еще кажется мне, что, если я не умру, то сойду с ума и потеряю способность логично говорить, ну и тогда, конечно, меня, во-первых, посадят куда следует, а во-вторых, ни один человек не станет меня слушать хотя бы так, как слушаете вы… Ах, Боже мой, как бы мне сейчас, сию минуту, хотелось сделать один эксперимент, который вы бы могли со временем проверить… Ну-с, вот, есть у меня однополчанин, штабс-капитан Николаенко. По некоторым данным я имею основание думать, что он останется жив, и знаю я, что в данную минуту он находится в окопах, но совсем в другом месте, а не там, где был я, и даже на другом фронте, о котором я не имею понятия… Сегодня у нас двадцать первое октября — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы… Ну-с, так вот, если хотите, я сейчас точно узнаю, что он делает, где находится и кто возле него. Теперь около двенадцати часов дня…
Александр Иванович начал смотреть на ладонь своей левой руки, и лицо его стало очень серьезным. Дыхание участилось. Когда прошла минута или две, он пальцами правой руки начал барабанить по пальцам своей левой, как это делают телеграфисты; затем остановился и начал дышать еще чаще. Его левая рука продолжала оставаться в том же положении, и я вдруг заметил, как легонько стали вздрагивать мускулы на его пальцах; казалось, что это происходило помимо воли Александра Ивановича.
Лицо его опять засияло какой-то детской радостью, и он торопливо заговорил:
— Сейчас обедают… Там землянка, а не просто окопы, и Николаенко сидит в плюшевом кресле… Вот денщик принес самовар, и денщика я знаю, такой же хохол Яценко. Кто-то из офицеров говорит по телефону… Радостно кивает головой, должно быть, услышал приятное донесение. Вот явился прапорщик безусый, я его не знаю… А вот сел за стол еще какой-то офицер, как будто штабной… Теперь тот, который говорил по телефону, обернулся, ясно слышно как он произносит: «Пятьсот пленных германцев…» и смеется. Вот еще пришел прапорщик, и в руках у него не то шкатулка, не то фотографический аппарат.
Александр Иванович вдруг покачнулся и склонился ко мне на плечо.
Я страшно испугался, пока сообразил, что с ним легкий обморок. Что-то мне подсказало, что не следует звать сестру милосердия. Я схватил стакан с водой и брызнул в лицо больного, мысленно проклиная себя за то, что не остановил его. Александр Иванович глубоко вздохнул и раскрыл глаза. Я уложил его на постель и, сам не зная почему, забормотал:
— Эх, и зачем вы, право… Ах!
— Ничего, ничего, — залепетал он в ответ, — только вы спрячьте письмо, я не могу подняться… Фу, как, однако, я еще слаб… Но все-таки хорошо, что мне это все удалось, а нехорошо то, что нет никакой возможности проверить… Дайте мне воды.
Он выпил целый стакан и опять вздохнул, уже легче. В коридоре послышались шаги, я схватил письмо и почти машинально заткнул его под матрас, а затем, точно мальчишка, пойманный на месте преступления, сел на стул, стоявший возле кровати.
Вошел доктор и ласково, но подозрительно поглядел на нас обоих и произнес:
— Не пора ли, господа, прекратить свидание?
Александр Иванович метнул свирепый взгляд, и кожа на его лице порозовела. Я вынул часы и опять, точно мальчишка, пробормотал что-то вроде:
— Да, конечно, уже пора. Я сейчас…
Но доктор оказался милостивее, чем можно было ожидать, и ответил:
— Нет, еще минут десять вы можете посидеть.
— Почему не двадцать? — дерзко спросил Александр Иванович.
Доктор не обиделся и спокойно ответил:
— Потому, что вам нужен покой.
Но я боялся уже о чем бы то ни было расспрашивать Александра Ивановича и тогда, когда доктор ушел. А больной сидел на своей койке и тоже молчал, но все лицо его помолодело, тихо улыбалось и сияло радостью, точно после встречи с любимым, дорогим существом. Вероятно, я был тем первым человеком, которому Александру Ивановичу, как он считал, удалось доказать свою теорию. Прощаясь, он опять заволновался, крепко пожал мне руку, и в его глазах вдруг блеснули слезы.
Жаль было оставлять его одного. Кроме слишком серьезной и слишком благоразумной фельдшерицы, к нему почти никто не входил. Когда я медленно ступал, уже в темноте, по влажной тропинке парка, мне почему-то казалось, что я никогда больше не увижу этого милого человека, а может быть, и гениального… Иногда мои ботинки хлюпали по лужицам, но я заметил, что мои ноги промочены, — только дома.
Случилось так, что мне пришлось на две недели уехать в Москву по скучным денежным делам. Хотелось поскорей от них отвязаться, и потому весь день у меня был занят, а ложась в постель, я чувствовал себя настолько усталым, что голова ни о чем не могла думать. Забыл я и об Александре Ивановиче, и только на обратном пути в вагоне он снова мне приснился: весь в чистом, белоснежном, но рваном белье, и сам весь белый, как будто желавший что-то сказать, но не имевший сил.
Я не придал значения этому сновидению, только подумал, что сейчас же по приезде нужно будет его навестить. Но вышло так, что и здесь не сразу удалось пойти в частную лечебницу, а когда я наконец попал к доктору, то услыхал, что в психическом здоровье Александра Ивановича произошло резкое ухудшение, и его перевезли в столицу, в клинику знаменитого профессора:
— Там вас вряд ли к нему допустят, — закончил доктор.
Перед праздниками, в декабре, военные действия затихли. Погоды стояли чудесные и, если бы не дороговизна, то можно было бы думать, что на земле действительно наступил мир и в «человецех благоволение».
Сочельник я встречал в доме одного присяжного поверенного, среди многочисленного общества. Были здесь и офицеры с фронта. Молодой артиллерийский поручик показывал барышням альбом с любительскими фотографиями, сделанными очень хорошо. Когда все желавшие их пересмотрели, я попросил дать этот альбом мне и невольно остановился над одним из снимков, изображавшем землянку.
В плюшевом кресле сидел, судя по звездочкам на погонах, штабс-капитан, денщик стоял возле самовара, за столом сидели еще два офицера, а один около стены держал возле уха телефонную трубку и улыбался.
Ни одно из этих лиц мне не было знакомо, а между тем, казалось, что всех их я где-то видел. Пришло в голову, что, вероятно, среди присутствующих есть кто-нибудь из этих самых офицеров, но после внимательного осмотра всех гостей я должен был сознаться, что это не так. Сам не зная почему, я подошел к владельцу альбома и, указав на сидевшего в кресле штабс-капитана, спросил:
— Скажите, как фамилия этого офицера?
— Это штабс-капитан Николаенко, а это его денщик Яценко — ужасно упрямый хохол; впрочем, теперь Николаенко уже подполковник и георгиевский кавалер… А вы разве его знаете?
— Нет, не знаю, — ответил я и больше ни о чем уже не спрашивал, но очень удивился и взволновался. Думалось: «Значит, теория бедного Александра Ивановича верна».
Затем явилось желание узнать, что с ним.
Больше ничто меня не интересовало в этот вечер, и я почти не принимал участия в общем разговоре, а дома, когда вернулся, хотя уже был второй час, сейчас же сел и написал профессору, у которого лечился Александр Иванович, а на другой день послал это письмо заказным в Петроград. Ответ пришел очень не скоро, почти через месяц. Мне сообщали, что интересующий меня больной умер от кровоизлияния в мозг.
Милое, серьезное лицо Александра Ивановича я и теперь иногда вижу, хотя у меня нет его фотографии.
Борис Лазаревский ОБЕЩАНИЕ
Я жила у своей подруги по гимназии, Веры, и мы часто говорили об ее брате, подпоручике Коле Семенове. Вспоминали его, тонкого и стройного, с великим спокойствием уезжавшего на войну…
Вера хорошо знала меня и своего брата; не знала только одного, как близки были моя душа и душа Коли. С гордостью могу сказать, что искренним он бывал только со мной одной. Я любила его за то, что мы выросли вместе, любила за красоту, но больше всего за уменье молчать.
Многие из товарищей Коли, почувствовав легкое рукопожатие или услыхав какую-нибудь фразу вроде: «Да, вы мне нравитесь», хвастались этим, иногда преувеличивали и старались подчеркнуть свой «успех». Коля же, после самых нежных поцелуев, если в комнату входила Вера или его мать, умел сделать скучающее лицо, весьма естественно зевнуть и заговорить о чем-нибудь неинтересном…
Чутье всегда говорило мне, что самое сладкое в любви — тайна. Иногда он сердился на меня за неумение владеть собой и, внимательно разглядывая альбом с открытками, шептал, так что могла слышать только я одна:
— Ты слишком раскраснелась, сядь за рояль, там меньше света, и начни играть…
На «ты» мы уже были два года, с тех пор, как мой Коля сделался юнкером, но в присутствии третьего лица он ни разу не обмолвился и не ошибся.
И прежде и теперь, наблюдая его почти каждый день, я никогда не замечала в Коле особенной храбрости: он терпеть не мог никаких драк и не старался упражнять своих мускулов, но в то же время я не знала, и до сих пор не знаю, ни одного ни старого, ни молодого человека, который бы так спокойно относился к смерти, даже больше — который бы так страстно ею интересовался…
Коля не был религиозен, но мы часто ходили с ним в церковь, обыкновенно в Казанский собор, ко всенощной и становились возле самого клироса. Прослушаем «Благослови душе моя, Господа», перекрестимся и пойдем пешком куда-нибудь далеко-далеко на Васильевский остров.
Никакая погода не мешала нашему счастью и нашим разговорам, я даже бывала рада, если начинался дождь. Тогда мы садились на извозчика и бывало нам уютно в приподнятом верхе коляски; пахло кожей, духами моего носового платка и сукном толстой, немного промокшей шинели. Хотелось, чтобы Надеждинская улица, на которой жили Семеновы, была как можно дальше. Мы целовались и говорили, говорили, как это ни странно, больше всего о смерти, особенно с тех пор, как началась война и стало известно, что в этом году будет ускоренный выпуск.
Заниматься Коле приходилось очень много, в отпуск он приходил теперь не часто и ненадолго. Мать и сестра почти не отпускали его от себя и бывали минуты, когда мне казалось, что Вера недовольна моим присутствием.
И я, и Коля мучились, но даже и в эти дни он владел собою чудесно. Делал вид, что не обращает на меня ни малейшего внимания и прощался со мной в гостиной холодно и церемонно.
Я минут десять ждала на панели, наконец, слышала за своей спиной звон шпор и тихую фразу:
— Милая, как я устал без тебя, скорее на извозчика…
До училища было езды минут двадцать, наших минут.
За неделю перед выпуском, в чудесную дождливую ночь (для нас она была чудесной), Коля был особенно нежен и говорил особенно проникновенно:
— Муся, милая Муся, еще в прошлом году я думал, что ты совсем глупенькая и слабенькая, как только что вылетевший из гнезда воробушек, боялся, что ты меня не поймешь, а теперь не боюсь и знаю, что, если меня убьют, ты, во-первых, найдешь силы сохранить полное спокойствие, а во-вторых, будешь верить и знать, что я сумею проявить свою любовь и с того света. Будешь?
— Буду, — ответила я, точно загипнотизированная.
— Помни, что я так или иначе сумею тебе дать знать о своем существовании, в котором не сомневаюсь, а пока жив, буду писать до востребования на главный почтамт…
Я не умею описать того, что пережила, когда я, Вера и ее мать провожали Колю. Еще в квартире он в первый и в последний раз произнес:
— Я хотел бы, чтобы и вы, Муся, поехали на вокзал…
Я владела собою великолепно и даже спокойно глядела, как целовал он мать и сестру, а не меня, но когда вернулась домой, мне сделалось дурно. В последующие дни я все- таки ни разу не заплакала.
За три недели я получила от него только два письма, проникнутых той нежностью, на которую способны скрытные люди. Но пусть эти слова будут только моими.
Последнее заканчивалось фразой: «Писал бы чаще, да нет времени и негде опустить. А смерти и теперь не боюсь. Самое неприятное здесь — остаться без папирос, а самое приятное — заснуть и увидеть тебя. Завтра, вероятно, напишу еще…»
Не заплакала я и тогда, когда мы с Верой прочли его имя в списке умерших от ран. Мое самообладание поддерживало и ее, и мы целых пять дней очень удачно скрывали Колин конец от его матери. Она, бедная, чуть с ума не сошла, когда узнала.
Случилось это в начале октября.
Не знаю, угадала ли Вера, что я для Коли была не только ее подругой, но она и ее мать стали относиться ко мне, точно к родной. Обе написали моему отцу, чтобы я переехала из пансиона к ним жить. Папа, конечно, позволил. И мне легче было в этой уютной квартирке, где на каждый предмет когда-то смотрели Колины глаза. Я спала на его кровати. О случившемся мы трое старались не говорить и не были в силах читать газеты.
Все ждали, а чего — и сами не знали.
Впрочем, я знала, — я ждала, что Коля исполнит свое обещание и так или иначе даст знать, что он существует.
Трепетно закрывала я глаза, стараясь заснуть и увидеть его во сне, но не видела.
Два раза была в почтамте и надеялась получить опоздавшее письмо, но не получила.
Молчали Вера и ее мать, молчали стены и молчали Колины фотографии.
Мы часто служили панихиды, и в церкви бывало невыносимо тяжко, а после на улице вдруг легче.
Коля умер от ран в госпитале, и все его вещи сохранились. Вера хлопотала и куда-то писала о том, чтобы нам их прислали. Пришла открытка с синей казенной печатью о том, что посылка с вещами подпоручика Семенова уже отправлена. Но мы долго ничего не получали.
Медленно и тяжко приползло время и к таким радостным когда-то рождественским праздникам. Наш седьмой класс отпустили. Я не поехала к отцу в деревню и осталась у Семеновых.
За день до сочельника к Вере пришли еще две подруги, которым некуда было ехать, и мы от скуки начали топить воск и рассматривать на тени, что вышло. Но выходила форменная чепуха. Одна из девочек объяснила, что это нужно делать в самый сочельник, а не сегодня…
Тревожно цыркнул звонок в передней.
Не понимая, кто бы это мог быть, я пошла сама отворять. Оказался почтальон с посылкой из действующей армии. Когда мы ее распечатали и мать Коли увидела его портсигар, она вся затряслась и чуть не упала, но овладела собой и произнесла:
— Нет, не могу, разбирайтесь вы уж сами…
Разбираться было не в чем: несколько носовых платков, теплые перчатки, фуражка и обыкновенная пятикопеечная тетрадка в синей обложке, сильно измятая. Первые две страницы ее были вырваны, а дальше в ней лежали три конверта и небольшой кусок промокательной бумаги. В фуражке оказалось «вечное» перо с невысохшими еще чернилами в середине — вот и все.
В этот вечер мы уже не могли больше ни гадать, ни ужинать, ни даже просто разговаривать. Подруги скоро ушли. Чтобы освежиться, я отправилась проводить их в трамвае на Васильевский остров и вернулась только через полтора часа.
Вера и ее мать уже спали.
Стараясь не шуметь, я повернула кнопку электрического освещения и быстро разделась. Затем взяла лежавшую на письменном столе посылку и еще раз осмотрела каждый предмет. Мое внимание обратила промокашка. На ней остался оттиск двух или трех строчек. Как ни старалась я разобрать написанное, но не могла.
Вдруг вспомнила, что нужно бювар поставить перед зеркалом, и тогда строки, отпечатавшиеся наоборот, можно прочесть прямо. Одним прыжком я бросилась к туалету и поднесла к стеклу розовую бумагу. И сейчас же ясно прочла: «Муся, любимая моя, ты одна знаешь… Я исполнил свое обеща…».
Трудно было устоять на ногах. Я с трудом добралась до постели, легла и в первый раз заплакала, но никто, кроме Коли, не узнал об этих слезах…
Борис Лазаревский БЕГСТВО
В этом году я возвратился из деревни раньше обыкновенного и нашел себе комнату в квартире жены ушедшего на войну офицера. Или она, действительно, постарела на моих глазах в течение первых двух недель, или Катерине Павловне на самом деле было гораздо больше тридцати лет.
«Дух бесплотный, Нестеровская святая»[1], — думал я каждый день, когда выходил к утреннему чаю.
Безусловно, Катерина Павловна была самой молчаливой женщиной из всех виденных мною до сих пор, и сын ее, десятилетний Горя, и восьмилетняя Люсенька также не любили говорить лишнего. Целый день возились у себя в комнате, что-то строили из кубиков, что-то рисовали и все без слов.
Изредка щебетали, как воробушки, и опять умолкали.
Катерина Павловна жила теперь только детьми и письмами с войны, которые получались то три дня подряд, то лишь ожидались в течение двух недель, а иногда и большего времени…
Я был рад тишине и хорошим людям, не мешавшим мне заниматься. Хотелось им помочь, и я под предлогом, что неудобно ходить далеко обедать, устроился здесь и со столом. Теперь я видел эту семью еще чаще. По лицу Катерины Павловны всегда было заметно, получила она письмо или нет. Из наших коротких разговоров можно было сделать вывод, что эту войну она считает страшной необходимостью, похожей на хирургическую операцию, но безумно тоскует.
Однажды она мне сказала:
— Знаете, я очень рассудочная и понимаю, что жизнь одного моего Коли нужна для будущих поколений, как и жизнь многих других, мы с ним взяли на этом свете много хороших моментов, но ведь я человек и боюсь, что, когда узнаю, сойду с ума, и дети без меня погибнут…
Утешать такую женщину было излишним, и я отвечал коротко:
— Да, это страшно, но вы так великолепно владеете собой, что сумеете пережить и это.
Я не мог произнести: «смерть мужа». Была еще одна особенность у Катерины Павловны: она не читала газет, даже не просматривала списка убитых и раненых. Я долго не мог этого понять, как-то не вытерпел и спросил:
— Неужели вам не интересно, что делается там?
— Из первых писем Коли я уже все поняла, и теперь мне ясно, что все слова, даже самых талантливых писателей, ровно ничего выразить не могут, не могут нарисовать и сотой доли того, что там люди видят и переживают. Было время, когда я плакала над Гаршиновскими «Записками рядового Иванова»[2], а теперь они мне кажутся наивными. Затем, мне невыносимо стыдно читать об этом в теплой, светлой и сухой квартире, — не могу. Такая я уже…
Не знаю, под влиянием ли Катерины Павловны или по другим причинам, но я тоже все чаще и чаще оставлял газету неразвернутой и думал: «Все самое главное и самое важное я услышу и узнаю на службе, а детали, — они слишком жестоки». Не приходило мне в голову, что и я и моя хозяйка инстинктивно бережем нервы для чего-то грандиозного, что предстоит пережить и нам.
Во всяком случае, ни с ее, ни с моей стороны это не было эгоизмом.
Уже плыл по Неве лед, уже началась война с Турцией, уже привыкли люди к известиям, к которым бы привыкнуть, казалось, не было никакой возможности.
Лицо Катерины Павловны за последние недели оживилось. В одном из писем ее муж сообщил, что наступил временный отдых, и явилась возможность писать каждый день хоть открытку. И, действительно, в течение целой недели почтальон приносил по письму, а иногда и по два. Катерина Павловна знала его звонок и всегда шла открывать двери сама, а я по ее возвращающейся походке всегда угадывал, если письма не было.
Как и многие отсутствующие, неведомый мне Коля ставил на своих письмах номера, и было их уже больше сорока. Чутье мне говорило, что он останется жив, а глубокая уверенность в конечной победе русских мало-помалу приучила уже совсем спокойно заниматься своим делом.
Я искренне был рад тому, что закрылись рестораны и клубы и невольному правильному режиму. За день я легко выполнял работу, на которую прежде потребовалось бы целых два, и еще оставалось время вечером прочесть что-нибудь из художественной литературы или перекинуться двумя- тремя фразами с моей хозяйкой.
Однажды за утренним чаем я заметил, что Катерина Павловна снова бледнее обыкновенного, хотя вчера письмо и было. Казалось, она хочет меня о чем-то спросить или что-то рассказать. И действительно, когда Горя и Люсенька убежали в детскую, Катерина Павловна, кажется, в первый раз смущенно улыбнулась и произнесла:
— Вторые сутки не могу отделаться от впечатления, которое на меня сделало очень простое событие, даже не событие, а чистейший пустяк…
— А что именно? — спросил я.
— Да вот лампа на столе у меня… и позавчера, когда я сидела и писала письмо днем, перед завтраком, — на ней вдруг лопнуло стекло, она не горела и не могла гореть. И я себя убеждаю, что случилось это вечером и я просто не заметила, но уши мои слышали, как звякнуло стекло. Я посмотрела и увидела, что оно как будто разрезано алмазом наискосок. И сейчас я думаю и убеждена, что стекло треснуло раньше, а звук был галлюцинацией слуха. И совсем уже успокоилась. Но вчера, когда вас не было дома, зашел доктор Рогуля, старик, наш бывший старший полковой врач, хохол и фантазер, философ. Он обладает способностью вызывать на откровенность. И я поделилась с ним этим случаем. Невольно хотелось услышать какое-нибудь научное объяснение. Я даже была уверена, что Рогуля свалит все на изменение температуры в комнате, хотя этого быть и не могло, но мой нелепый доктор, вместо ожидаемого объяснения, очень подробно рассказал, как десять лет назад у них в доме лопнуло стекло на незажженной лампе, а затем через три дня заболел скарлатиной его единственный сын, тоже Коля, и несмотря на все средства — умер. Я хорошо владею собой, но рассердилась и чуть не выгнала Рогулю вон. Потом успокоилась, но все-таки это уже не настоящее спокойствие. Досадно…
Катерина Павловна замолчала. Я, как можно резоннее и проще, сказал, — что первая трещина на стекле, почти незаметная для глаза, конечно, произошла в то время, когда в лампе горел огонь, а затем достаточно было очень небольшого сотрясения, как например, от проехавшего по улице ломового, чтобы трещина в одну секунду опоясала все стекло.
С радостью я увидел, что Катерина Павловна мне поверила. Она помолчала и уже совсем весело произнесла:
— Конечно, так, тем более, что из последнего письма видно, что Колю или переведут или уже перевели в штаб полка, где гораздо меньше опасности. Досадно только, что идут его письма иногда очень долго и получаются на десятый день, но я против этого не могу ничего возразить. Ведь ясно, что в таком огромном деле и при постоянной перемене места никакие человеческие силы не состоянии устранить этого. И спасибо, что почта хоть так функционирует.
Катерина Павловна опять посвежела. По-прежнему жила письмами и ненавидела газеты. А я, как раз наоборот, все чаще и чаще не мог удержаться, чтобы не просмотреть телеграмм и списка убитых. Уже нашел нескольких товарищей, иным позавидовал, иных пожалел.
В конце октября я встал, как всегда рано, умылся и невольно потянулся к только что принесенной газете. Почти сейчас же в списке убитых мне бросилась в глаза фамилия, имя, отчество и чин мужа Катерины Павловны. Показалось, что двери и письменный стол поплыли и остановились. Я растерялся и не знал, что предпринять. Не вышел пить кофе в столовую под предлогом, что не одет, и попросил прислать мне в комнату. Не мог сделать ни одного глотка.
Поскорее оделся и выбежал на улицу. Здесь стало легче, но в канцелярии цифры прыгали у меня в глазах, и на вопросы людей я отвечал невпопад.
Не думалось, что это может случиться так скоро и просто, и настойчиво хотелось решить вопрос: сказать ей или не сказать?
Доктор Рогуля бывал очень редко, а кроме него, ей узнать о смерти мужа было не от кого. О случае с ламповым стеклом я тогда почему-то не вспомнил. Решил не говорить до последней возможности. Делал огромные усилия и в общем владел собой недурно.
Как нарочно, письма от Коли продолжали получаться очень аккуратно и каждый день и, судя по Катерине Павловне, были с хорошими вестями.
Однажды она сказала:
— Ну, теперь я совсем спокойна.
— А я не спокоен, — вырвалось у меня.
— Почему?
Вместо того, чтобы сказать ей страшную правду, я неожиданно для самого себя начал ей лгать самым фантастическим образом, будто получил письмо от матери, жившей в провинции, что она больна, якобы у старухи воспаление легких, и каждая минута дорога. И мне нужно сегодня же уехать.
— Ну, конечно, поезжайте…
Дальше мне уже не нужно было разыгрывать роль. Я и на самом деле разволновался и, вероятно, еще никогда в жизни не собирал своих вещей так поспешно и бестолково. Катерина Павловна помогала мне укладывать белье и говорила:
— Вот, вы других умеете утешать, а сами вдруг перестали владеть собой. Я убеждена, что ваша матушка поправится, и через неделю вы вернетесь радостным и спокойным.
Я не вернулся.
Есть давно потухшие звезды, но яркий свет их, — бывший свет, — мы видим только теперь. Большое время потребовалось, пока добежал он до крохотного, сравнительно, кусочка чего-то, называемого земным шаром…
Антоний Оссендовский ТЕНЬ ЗА ОКОПОМ
Илл. В. Сварога
1
Прапорщик Дернов сидел в окопе и курил трубку, по временам ежась от холода, неприятно щекочущего спину. Тут же рядом стоял солдат и в щель между двумя камнями, защищавшими его голову, смотрел за окоп. Солдаты стреляли редко, лишь отвечая на утихающий огонь немцев. Бой шел жаркий и длился дней пять без перерыва. Днем и ночью окопы засыпались шрапнелью и ружейными пулями. Много ужасов, много тяжелых потерь пережил полк. Несколько раз ходил он в штыки, но возвращался, потому что приходилось брать пулеметы «в лоб». Много офицеров было убито, много ранено, и прапорщику Дернову пришлось командовать ротой.
Прапорщик совсем обстрелялся, и хотя он был всего три месяца в бою, не только не обращал никакого внимания на свистящие или, как говорили солдаты, «зудящие» пули, но не мог себя представить заведующим вексельным отделом одного крупного банка.
Вспомнив об этом, он поднялся и, отстранив солдатика, сам заглянул в щель окопа. Со свистом и жужжанием пронеслись две пули, почти задев камни, за которыми скрывалась голова прапорщика.
Дернов усмехнулся и подумал:
— Это тебе не банк, где выглядываешь из-за решетки и любезничаешь с крупным клиентом! Этот «клиент» повнимательнее будет, да зато и с ним надо ухо держать востро!
Прапорщик отошел от щели, и его сейчас же сменил солдатик. Положив ружье на окоп, он, быстро прицеливаясь, послал противнику пять пуль и, присев на землю, начал заряжать винтовку.
— Красавец! — окликнул его Дернов. — Сбегай-ка, поищи мне фельдфебеля!
— Слушаюсь, ваше благородие! — ответил солдатик и, согнувшись, побежал вдоль окопа. В перерывах между выстрелами слышно было, как под его ногами чавкала грязь и плескалась вода.
Скоро пришел фельдфебель, старый, сверхсрочный служака. Он шел, прихрамывая, так как накануне прусская пуля пробила ему ногу. Рана была легкая и, перевязав ее, фельдфебель остался в строю.
— Ну как, Архипов? — спросил его Дернов, протягивая резиновый кисет с табаком и кремневую «зажигалку».
— Покорнейше благодарю, ваше благородие, так что заживет скоро! — ответил фельдфебель.
Прапорщик указал ему на вывороченный при углублении траншеи пень, и фельдфебель, усевшись, начал набивать трубку и с удовольствием затянулся дымом. Оба молчали, только изредка Архипов густым басом журил солдат:
— Чего ты, дурашка, торопишься, ровно на пожар? Знай, бери настоящий прицел и стреляй толком… Эй, ты, Храм-ков, что ли, там? ты чего зря голову суешь за окоп? Гляди у меня!
— Молодцом солдатики-то у нас! — заметил, чтобы сказать что-нибудь, фельдфебелю Дернов.
— Чего уж лучше, ваше благородие! — ответил Архипов, и глаза его заблестели. — Ведь, почитай, пять дён не спят, сухарями питаются, чаю не видят; снизу — вода, сверху — вода… Герои они, ваше благородие! Откуда это в народе берется?!..
— Как откуда? — удивился Дернов. — Ты должен знать, Архипов, ведь ты сам — герой. Ранен ты, а вот ходишь и службу исправляешь!
— Я-то чего герой?! — в свою очередь удивился фельдфебель. — Я свое ремесло исправляю и все тут. А они-то, кто из городов, кто от сохи оторваны, кто старый, кто совсем молодой еще, а ровно всю жизнь в бой ходили…
Архипов с восхищением повел взглядом вдоль извилистой линии окопа, и любовно заискрились его глаза. Однако, по привычке начальства, он тотчас же крикнул:
— Ты опять! Федотов, стукни, щелкни по дурьей башке Храмкова, чтобы за окоп не лез. Вот так. Молодчина!
Фельдфебель и Дернов расхохотались над усердием неуклюжего Федотова, щелкнувшего красной, широченной лапой по темени любопытного Храмкова.
Начинало смеркаться. Вдали уже сделались заметными вспыхивающие огоньки выстрелов. С севера ползла темная, мягкая туча.
— К снегу это, ваше благородие! — сказал Архипов и с трудом поднялся. — Покорно благодарим за табачок.
— Ты куда? — спросил Дернов.
— Обойти окоп надо и с того флангу покараулить. Кабы немцы, как снег пойдет, чего доброго и в атаку не пошли! — сказал фельдфебель и заковылял, ворча по дороге на солдат.
— Не в бабки играешь, не с девками шутки шутишь, а потому гляди в оба!..
Архипов угадал. Туча наползла, и вдруг, словно распоровшаяся перина, рассыпалась снегом. Не прошло и часа, а на окопы на пол-аршина нанесло снегу, и вся равнина между русскими и немецкими траншеями покрылась белой, пушистой пеленой.
А снег все падал и падал.
Архипов ковылял от солдата к солдату и всем говорил:
— Снег сгреби с гребня окопа, снег сгреби! А то понадеешься, что головы не видать, а пуля сквозь снег пролетит за милую душу, да и стрелять тебе же легче… Снег сгреби!..
Подходя к флангам, где свалены были камни, фельдфебель садился на них и сквозь щели между камней внимательно осматривал все поле, где легло уже так много людей, и вглядывался в сгущающийся мрак. Он успокаивался, убеждаясь, что там клубится лишь снег и маячат в нем темные, чернее ночи провалы и расселины. Но они тотчас же исчезали и закрывались зыбкой завесой падающего снега.
Фельдфебель, однако, скоро опять начинал тревожиться и опять всматривался в темноту и мчащиеся в ней снежные призраки.
Он шел по траншее и говорил:
— Не зевай!.. Не зевай!.. Время опасное, кабы атаки не было… Гляди, не оплошай!..
Он пошел к прапорщику и рассказал ему о своей тревоге.
— Может быть, и попытаются! — согласился Дернов. — Ну что же, примем, погреемся…
Привычка следить за собой тотчас же подсказала Дернову, что в этих словах не было ни напускного молодечества, ни искусственного веселья, и опять удивился прапорщик.
— Как перерождает людей война! — подумал он и вспомнил университет, разные служебные огорчения и жизненные неприятности и неудачи, казавшиеся раньше тяжелыми и важными, а теперь ничтожными, жалкими и смешными. Прапорщик обошел солдат, приказал на всякий случай взять полный запас патронов и сказал фельдфебелю, чтобы выставить за камнями оба пулемета.
2
Он медленно пошел к своему месту, где уже обзавелся целым хозяйством. В углублении окопа, словно на полке, лежала отлично пристрелянная кавалерийская винтовка, большой резиновый кисет с табаком, ящик с сотней патронов, карманный электрический фонарь, бинокль и розовая эмалированная кружка, в которой, вместо чая, лежало несколько кусков отсыревшего шоколада и солдатский сухарь.
Не успел он набить трубку, как к нему, несмотря на рану, прибежал Архипов.
— Ваше благородие! Быть атаке: разведчики ползут, осматривают поле…
— Где? — спросил, сразу оживляясь, Дернов.
Они подползли к выходу из окопа. Снег слепил глаза, и сначала ничего нельзя было разглядеть, но потом глаза привыкли.
— Вот там, там, ваше благородие… — шепнул фельдфебель. — Вот… шевелятся…
Вдали, шагах в шестистах, от окопа медленно двигалась тень.
Она то поднималась и тогда казалась огромной на тусклом, беспокойном от снега небе, то припадала к земле и почти бесследно исчезала.
Было что-то таинственное и жуткое в этом движении черной тени, бесстрашно идущей между окопами по полю со свистящими над ним пулями. Какой-то вызов и насмешка чудились в этом беззвучном и быстром шествии человека или призрака по земле, давно пропитанной кровью убитых. Временами казалось, что тень отделялась от земли и плавно колебалась в белесых, мятущихся полосах снега. Тогда фельдфебель крестился, а Дернов в изумлении пожимал плечами.
— Дать залп? — спросил, наконец, Архипов.
— Постой! — шепнул прапорщик. — Ведь там один… человек?
— Один… — кивнул головой фельдфебель. — А других, может быть, не видно…
— Да… — протянул Дернов.
В это время на какой-то сопке вспыхнул прожектор. Юркий и любопытный луч пробежал, как лезвие ножа, по окопу и, скользнув по равнине, на одно короткое мгновение осветил одинокую фигуру, пробирающуюся по полю, между ведущими бой позициями.
Дернов и Архипов даже воскликнули от удивления и переглянулись.
Это была, несомненно, женщина. Она шла, и платье ее и платок развевались по ветру. Ее заметили, однако, и в немецких окопах.
Окопы тотчас же расцветились красными и желтыми огнями выстрелов, и затараторил пулемет. Взвилась ракета и красным огнем осветила часть поля. На побагровевшем небе Дернов еще раз увидел загадочную тень неожиданно появившейся здесь, под огнем, женщины. Она пробежала несколько шагов и вдруг пошла спокойно.
Прожектор с наших позиций начал бегать по полю. Женщина была видна, как на ладони, но немцы не обстреливали ее. Она шла, скрытая небольшим косогором, и подвигалась в сторону немецких траншей.
Дернов и Архипов переглянулись.
— Сколько шагов, по-твоему, до нее? — спросил прапорщик.
— С 1500 будет!.. — ответил тот. — Что она, ведьма, что ли?
— А наш прицел какой? — перебил старика Дернов.
— Сами знаете, ваше благородие! — ответил Архипов и вдруг сразу понял и пытливо заглянул в глаза прапорщику.
— Значит, фланга немцы не берегут? — шепнул Дернов. — И можно, пожалуй, оттуда незаметно подойти…
Чувствуя на себе взгляд Архипова, прапорщик взглянул на него в упор и спросил:
— Попытаем счастья?..
— Так точно, ваше благородие, надо попытаться!.. — обрадовался фельдфебель.
Дернов по телефону объяснил положение полковому командиру, и тот разрешил его роте ударить в штыки, в случае успеха обещав тотчас же пустить в атаку весь полк.
Дернов обрадовался.
Мешал прожектор. Он освещал всю равнину, нащупывал каждый камень, всякий куст. Надо было успокоить наблюдателей и заставить перевести луч в другую сторону.
Архипов побежал вдоль траншеи.
— Не стрелять! Не стрелять! — приказывал он, и его приказание повторяли взводные:
— Не стрелять!.. отставить!
Русский окоп внезапно замолчал.
Стал утихать огонь и с немецких окопов. Вскоре редкие выстрелы и те умолкли. Там, видно, были рады отдохнуть.
Прожектор, словно удивляясь, пошарил, побегал по полю и, убедившись, что здесь все спокойно, ускользнул куда-то.
Между окопами залегла темнота, глухая и слепая.
И в этой темноте бесновались лишь мчавшиеся куда-то с легким шорохом снежные призраки. Поднялся ветер и погнал на русский окоп тучи снега, вздымая с поля легкие, пушистые сугробы.
3
— Готовься! — скомандовал Дернов и, увидав смотревшего на него Архипова, поднял кверху руку.
— Готовься! — зашептали солдаты, осматривая сумки с патронами и штыки и туже подтягивая пояса. — Господи благослови!..
Рядом с прапорщиком вырос, вынырнув из темноты, горнист. В руках у него тускло отсвечивал рожок.
— Сигнала не будет, — сказал ему Дернов. — Стройся!
Солдаты построились и медленно начали выходить из окопа.
Сам Дернов выводил их и велел перебегать, не шумя, к тому месту, где он видел тень женщины, бесстрашно шедшей под пулями.
Архипов оставил в окопе пятьдесят человек и велел им изредка по одному стрелять, как это делалось без перерыва пять дней.
Солдаты осторожно тянули за собой два пулемета.
Дернов понимал, что идет на отчаянное дело, какое не каждый день может случиться, но он смело вел людей, веря в успех. Ему казалось, что он — волк, и что крадется за ним стая сильных злых и смелых волков, и ему становилось все веселее и как-то смешнее.
Вот начался косогор. Из немецкого окопа щелкнули два выстрела в ответ на одинокие пули, свистящие из русской траншеи. Но огней не было видно.
Отряд шел под прикрытием косогора.
— Ваше благородие, — зашептал подошедший к Дернову фельдфебель. — Шагов четыреста осталось, а то и меньше. Послать бы вперед разведчика Семенова с товарищами.
— Пошли, и я с ними пойду, — сказал Дернов.
Он знал Семенова. Это был худой, чернявый солдат из запасных. Загорелый и вихрастый, с черными, бегающими глазами, он до войны служил егерем у помещика и привык выуживать и «скрадывать» зверя. Свои способности он обнаружил с первых же боев и, подобрав себе пятерых товарищей, всегда ходил на разведку.
Косогор начал понижаться и вдруг сразу оборвался. Разведчики замерли; впереди, в сотне шагов, мелькнули редкие огни выстрелов, а потом снова все смолкло.
— Назад! — шепотом скомандовал Дернов, но едва успели они скрыться за косогор, из темноты вынырнули две черные тени и начали медленно приближаться к ним.
Дернов понял, что место это охранялось немецким патрулем. Разведчики притаились за камнями и кустами.
Когда два прусских солдата, запорошенных снегом, поравнялись с ними, Дернов шагнул вперед и негромко, но повелительно сказал:
— Halt!
Привыкшие к повиновению и удивленные, дозорные остановились, но в это время Семенов и другой разведчик ударили их штыками.
Дернов даже услышал, как заскрежетал штык, скользнув по кости. Немцы рухнули на землю, а снег заглушил падение их тел.
Через несколько минут весь отряд был уже в ста шагах от первой немецкой траншеи. Солдаты, закусив губы и крепче сжимая в руках винтовки, смотрели, как вспыхивают огоньки прусских выстрелов по окопу, где они оставили часть товарищей, поддерживающих «для виду» вялый огонь, и весь полк, готовый придти к ним на помощь.
Дернов и Архипов поставили на пригорке пулеметы и вернулись к отряду.
Пройдя еще около полусотни шагов, Дернов выхватил шашку и бросился вперед, крикнув:
— С Богом! Ура-а-а!
Тяжелым, громыхающим эхом покатилось сзади за ним «ура» и торопливый топот ног.
Черные фигуры кричащих солдат начали обгонять его, впереди раздались тревожные голоса и беспорядочная стрельба.
Солдаты ворвались в траншею. Шел рукопашный бой. Били штыками и прикладами… Дернов больше ничего не помнил. Он только знал, что свое дело он сделал. Дальше — Бог и судьба! Он догнал и рубнул по спине старавшегося перелезть через скользкий окоп офицера. Увидев убегавшего пруссака, выстрелил в него из нагана… Потом «ура» усилилось, заговорили пулеметы и Дернов понял, что полк бросился в атаку. А потом вдруг все смолкло — и «ура», и крики погони и страха, и торопливые, сухие выстрелы в упор.
Солдаты окружили Дернова и смотрели на него радостными, яркими глазами, с еще непогасшими огнями, загорающимися в бою.
— Ваше благородие, ваше благородие, взяли! — крикнул, протолкавшись сквозь толпу солдат, Архипов.
Дернов только теперь понял все. Он провел рукой по глазам, снял папаху и широко перекрестился.
— Спасибо, товарищи! — сказал он, не надевая папахи.
— Рады стараться! — гаркнули веселые голоса.
Но замолчали, так как Архипов уже ворчал.
— Занимай окоп! Не в избу, чай, пришли! Первый взвод, выставь дозорных! Петренко, возьми людей, да пока не рассветает, повыкидывай немцев. Не развешивай ушей, ровно лопухи, Дмитриев! Н-ну, живо у меня!
4
Дернов получил благодарность от полкового командира и ждал утра…
При первых его отблесках он увидел целые груды убитых немцев, сваленных за окопом. Лужи крови стояли еще в траншее, валялись ружья, опрокинутые в свалке пулеметы, штыки и каски.
Три ряда сильно укрепленных проволокой и кольями окопов были заняты полком.
Когда совсем рассвело, он увидел, что внизу, в глубокой долине, стоит деревня.
Черный, старый костел, видно, недавно сгорел и еще дымился.
Десятка три изб, крытых соломой, ютилось вокруг, а дальше чернелась стена леса и блестело незамерзшее озеро, окаймленное рамой белого снега.
На улице копошились три женщины, заходя во дворы покинутых и разграбленных изб.
Дернов улыбнулся и подумал:
— Одна из этих женщин привела нас в немецкие окопы…
Но его думы были прерваны взводным. Он бежал, размахивая руками, и еще издали кричал:
— Ваше благородие! Командир дивизии на машине едут!
Дернов бегом пустился к своей роте, но прибежал тогда, когда генерал уже выходил из автомобиля и принимал рапорт командира полка, указывавшего на козырявшего на бегу прапорщика.
— Лихое дело, прапорщик, лихое, настоящее дело!
— Спасибо, богатыри! — весело крикнул генерал.
И вдоль всего окопа пронеслось:
— Рады стараться, ваше превосходительство! Ура-а!
Антоний Оссендовский УСЛЫШАННЫЕ МОЛИТВЫ
I
Горячо молились в избе Акима Турина. Молились без слез, с крепкой, как камень, верой смотря на древние, дониконовского письма, давно почерневшие иконы.
С темных, источенных червями кипарисовых досок сурово и пристально глядели лики святых. Много на своем веку видели эти суровые лики: и гонение ревнителей старой веры, и лихие времена, приходившие на Россию и уносившие людей, захваченных бурями и вихрями.
Молился старик Аким Турин и с ним молились две снохи его.
У всех было свое, особое и в то же время общее горе и глубокая, рождающая тревогу забота.
Два сына старика пошли на войну. Бог миловал их в бою и невредимыми были оба. Только два месяца уже прошло, а от обоих не было вестей.
Тревожились жены, тревожился и по ночам громко вздыхал Аким.
Но вздыхал он не по одним сыновьям, а еще больше по внучку Пете.
От младшего, покойного сына остался Петя. Матери мальчик не знал — умерла она при его рождении. Когда же вскоре преставился и отец, остался Петя на руках деда. Полюбили друг друга старый и малый и сделались неразлучными.
Подрос внук. Из сельской школы дед послал его в город, в гимназию. Понимал Аким Турин, что трудно темному, неученому в людской тесноте пробиваться.
А из гимназии Петя уж сам в университет пошел, да здесь его война застала.
Написал он деду письмо, что добровольцем записался, попросил благословения и скоро с полком ушел. Писал потом, что наградили его крестом за храбрость и в прапорщики произвести обещали.
Писал часто. Гордостью вспыхивало лицо деда, и большая, жесткая рука складывалась для крестного знамения.
Теперь замолчал и Петя.
А там, где лилась родная кровь, где вырастали братские могилы, шел жаркий бой с наступающим врагом. Пядь за пядью защищали русские войска свою землю, не щадили жизни, не жалели кровавого труда.
Горячо молились в избе Акима Турина в тот вечер, когда тревога сильнее сжала и истомила сердца.
II
Сделав три земных поклона, Аким выпрямился и сказал:
— Помолились за воинов. Бог им защитой! Ничего, спасутся, знаю я!
Было столько убеждения и непоколебимой веры в словах старика, что обе бабы сразу успокоились и принялись хлопотать около ужина.
Старик же сел к столу и, достав газету, начал медленно, водя пальцем и глядя поверх очков, читать.
Мысли его, однако, скоро побежали туда, где проклятый немец засыпал наши окопы «ураганным огнем», где он пускал на наших защитников ядовитые газы и предавал огню беззащитные деревни.
Вспомнил Аким Турин тот день, когда он впервые услыхал о выдумке немцев душить наших солдат каким-то ядом. Места тогда не мог найти себе старик. Ходил, как в чаду. Молитва на ум не шла. Аким ушел в лес и брел, не разбирая дороги, видя перед собою страшную картину, описанную в газете.
Вот глубокий окоп… На свежей зелени травы, как черная змея, как след огромного крота, вьется он и исчезает вдали. Это оплот России. Там, за этой грудой черной земли, засели грудью своею защищающие родину и народ солдаты. Там среди них сыновья Федор и Дмитрий и он — внучек Петя, нежный, со звонким голосом и яркими, смелыми глазами.
Старик видел его в студенческой тужурке и не может представить его в жесткой, негнущейся солдатской шинели.
Над окопом мелькают огоньки выстрелов, и вьется чуть заметный дымок.
Начался бой… И вдруг откуда-то издалека прилетело что-то грузное, заунывно воющее. Упало, вскинуло землю и камни, загрохотало, вновь разметало землю, дерн, песок и свистящие и жужжащие осколки. Красный дым, словно видение, вздыбился столбом и, медленно падая, полз по траве и наконец дополз до окопа. Здесь задержался, а потом начал переливаться вниз, туда, где были солдаты, сыновья Акима Турина и внук Петруша.
Что было потом, что увидел глазами своей души, он не хотел вспоминать и, вздрогнув, снял очки и взглянул испуганно и жалобно на черные лики святителей.
Вспомнил старик, что долго молился он потом и решил послать внучку дедовское благословение.
Туринский род — все от дальних прадедов были иконописцами старого склада. Сам Аким до пятидесяти лет занимался этим ремеслом и бросил его тогда, когда убедился, что фабрики и художники из ученых совсем забили иконописцев.
Аким Турин решил написать для внука икону — благословение.
На чердаке он разыскал маленькую икону. Была она написана, видно, очень давно, в каком-нибудь скиту, на дубовой доске. Время уничтожило изображение, и лишь кое-где виднелись еще следы сморщенной, отпадающей чешуйками масляной краски.
Отчистив старую доску, иконописец мелкими кистями написал иконку архистратига Михаила. Броню Аким сделал из куска красной меди и покрыл ее мелкою чеканкой.
Давно уже послал Аким иконку внучку Пете, но в это-то время внезапно прекратились письма.
III
Поужинав, долго еще сидели Турины, и свет в их избе виднелся далеко за полночь.
Уже пропели первые петухи, когда в Туринской избе обитатели заснули.
Разбудил их громкий стук в дверь. Зажгли свет и старик открыл дверь.
— Отец Яков! — воскликнул Аким, увидев священника.
— К тебе, Аким Никодимыч, с радостной вестью пришел! — заговорил священник, крестясь на образа. — Прости, что по ночи тревожу, да не хотел до утра откладывать.
Сев у стола и разглаживая редкую бородку, отец Яков продолжал:
— Брат ко мне приехал двоюродный. Священником служить он в полку, где внук-то твой находится. Сказывал мне, что Петруша-то твой уже офицер, и вся грудь в боевых наградах. В одном бою пуля ударилась в иконку на груди, да там и осталась. Жестокий был бой, и чудом спасся тогда Петя. Кланяться просил, а писать недосуг, новые окопы делают и к новому бою готовятся. Сказывал внук твой, что после производства в офицеры довелось ему повидаться с сыновьями твоими, оба здравствуют, а не пишут потому, что в походе были и в разведках. Рад я душевно, что добрую весть тебе, привести Бог позволил. Теперь пойду. Вдове Анфисе Смелковой письмо от сына из лазарета надо отдать.
Когда отец Яков ушел, в избе тихо молился старик Аким Турин.
На глазах его были слезы восторга, и светилась в них радость за услышанные молитвы и вера, крепкая, как старая дубовая иконка, задержавшая пулю на груди внучка Пети.
Марк Криницкий МАМЫШАН
I
— Мамыш, а вы в амулеты верите?
Мамышан долго соображал, прежде чем ответить. Но в ответил он странно:
— Не думаю.
Как всегда, он больше ответил собственным мыслям, чем нам, его трем постоянным собеседникам.
— То есть что означает, что вы не думаете? — спросил ротный, поручик Прасолов.
— Значит, не уверен. Думаю, что вздор.
— Нет, не вздор, — сказал прапорщик Борковский с юношеской искренностью.
В другое время и при других обстоятельствах мы бы засмеялись. Но сейчас я притворился серьезным, а Прасолов перевел темные, карие, сочувственные глаза на Борковского.
— Расскажите.
Борковский расстегнул ворот гимнастерки и вынул тугую шелковую ладанку потемневшего голубого цвета на черной тесемке. Он показал ее нам всем со смешной гордостью, по очереди останавливая на каждом внимательный и восторженный взгляд своих глаз, таких же голубых, как и его ладанка.
— Вы напрасно, господа, — сказал он. — В особенности ты, Мамышан.
— Ладно.
— А я тебе говорю совершенно серьезно. Господа, я серьезно.
Я уже один раз слыхал про эту ладанку. Ее прислала ему жена, с которой он только что, всего за два месяца до войны, был повенчан. Эго было извинительно. Каждый раз, когда он упоминал о жене, на его лице появлялся отблеск их молодого, еще неизжитого счастья. Вероятно, это ощущение постоянного счастья и давало ему его несокрушимую внутреннюю уверенность.
Мамышан громко рассмеялся. Это было бестактно. Юноша почти плакал. Губи его кривились и дрожали. Вдруг он улыбнулся, внутренне и спокойно, для себя.
— Я верю, — сказал Прасолов и положил на руку Боровского тяжелую волосатую руку.
Он закурил плохую сигару и посмотрел на часы. Потом мы все перевели глаза на окна. В темноте беспрестанно вспыхивали зеленоватые зарева ракет противника. Он готовился к нашему ночному нападению. Было еще рано: половила одиннадцатого, а наступление ожидалось в час.
— Расскажите, — обратился Прасолов ни к кому в особенности.
Это была его поговорка.
— Рассказать?
Мы удивились, что это сказал несообщительный Мамышан. Он. сидел, подавшись широкой и выпуклой грудью вперед. Черные, плутоватые его глазки осторожно бегали.
— Что же особенно рассказывать? Особенного ничего. Я ушел на войну добровольцем.
Мы этого не знали и потому сейчас глядели на Мамышана с удвоенным любопытством. Действительно, он был мало похож на энтузиаста. Скорее, он всегда представлялся человеком себе на уме.
Мамышана что-то обидело в выражении наших глаз.
— Что же в этом особенного? — повторил он, быстро вертя большими пальцами рук друга возле друга. — Ничего такого. Перед войной я покушался три раза на самоубийство. Ведь я не вижу левым глазом.
Мы посмотрели на его левый глаз, и мне стала понятна та странная асимметрия, которую я раньше замечал в лице Мамышана. Но он опять захихикал, как будто то, что он сейчас сообщил, было достойно самого решительного осмеяния.
— Что же вы смеетесь? — сказал удивленно Прасолов.
Мамышан сказал:
— Пуля повредила мне левый глаз. Потом я порезал себе вены.
Он задрал рукав гимнастерки и показал на мускулистой руке беспорядочные белесоватые порезы.
— В третий раз я выстрелил над обрывом реки себе в грудь. Я разом, как говорится, застрелился и утопился.
Он хохотал. Мы с любопытством смотрели на него и видели, что это правда. В этом человеке, несомненно, было что-то искалеченное.
— Расскажите, — сказал Прасолов.
Но он ответил коротко:
— Спасли.
И стал курить. Его темные, узкие глазки на мордастом, краснощеком лице сохраняли выражение смеха. Несомненно, он еще не рассказал нам самого главного из того, что собирался рассказать. Слова из него обыкновенно приходилось вытаскивать клещами.
— Я потому пошел на войну, — сказал Мамышан, — думал…
В молодых, сочных губах Борковского изобразилось отвращение. Я видел, как Мамышан встретился с ним глазами.
— Однако, вы уже на войне год, — сказал Борковский.
Он был занят своими переживаниями и все, что им противоречило, мало его интересовало. Он прибавил, потягиваясь:
— А не выпить ли нам еще чайку? Лавриков! — позвал он денщика.
Пока тот возился с устройством чаепития, Мамышан продолжал рассказывать с паузами:
— Мы пришли в пустую деревню. Я был верхом. Со мною было человек шесть отбившихся. Была ночь. Постучал в одну избу; выглянул поляк и говорит: «Пане, тутэй немцы». Дал нам провожатого-мальчишку. Мы пересекли деревню, через задворки. Людей я спрятал в лесу. Не прошли десяти шагов, мальчик опять шепчет: «Пане, немцы». Повел меня назад. Вышли в поле. Кругом чернота. Вдруг: «Halt! Wer da?» И сейчас по-немецки: раз-раз! Защелкали ружья. Мой мальчонка упал. Я слез, потрогал его: не шевелится. Думаю, поеду прямо, на ура. Пустил в карьер. Вижу, заговорили огоньки по всей линии. Должно быть, лошадь взяла прыжком, как запуталась одной ногой, споткнулась, но как-то оправилась. Видно, как ходят люди. Ударил нагайкой еще раз. Люди сторонятся, тишина. Теплая, летняя ночь. Звезда. Выехал на деревенскую улицу. Немецкий разговор. Только на заставе пустили мне вдогонку несколько пуль. Этот немецкий отряд мы потом на рассвете уничтожили…
— Да вы рассказывайте, — сказал с досадой Прасолов.
— Поднимался я и на шаре, на наблюдательном пункте. Шар загорелся во время полета и всех нас троих прикрыло. Двоих моих товарищей вытащили замертво, я…
Мамышан, извиняясь, тоненько заржал.
— Вы хотите сказать, что вас пуля не берет, — сказал Борковский.
— Да, видимо, приходится сказать так.
У обоих установились враждебные отношения. Мамышан рассказывал:
— Говорят, что в атаке люди ничего не помнят. Я помню очень хорошо все, что со мной было. Как вышли и как пошли. В этот раз мы наступали под сильным пулеметным огнем. Раза три я велел людям ложиться. Наконец, дошли. Они высыпали нам навстречу. Их больше. Кричат нам: «Все равно, сдавайся». Ко мне подходят двое, ружья направили штыками в грудь. Ощущение не из приятных.
— Ага! — сказал Борковский.
Мамышан не обратил внимания.
— Умирать всегда скверно, — сказал он серьезно. — Я выстрелил. Промах. Один бросается и втыкает штык. Прямо под мышку. Мы схватились. Я думал — приколет другой. Но подмял под себя первого, оглянулся: вижу тот, другой, лежит, уткнувшись. Я сижу верхом на немце. Подбежал фельдфебель. Забрали этого. Гляжу: все покончено, окоп взят.
— Бывает, — сказал недоверчиво Прасолов.
Мамышан, извиняясь, тоненько хихикал и вертел большими пальцами рук. Мне показалось, что у него возле рта горькая складочка. Он смеялся, но его смех походил временами на всхлипывание. Я подумал:
«Вот заброшенный человек. Никто никогда не поинтересовался, что с ним и почему он так упорно стремится к смерти. Напротив, он даже вызывает во всех нас неприязненное чувство».
Поспел чай.
— Получите, господин самоубийца, ваш стакан, — сказал Борковский, протягивая Мамышану стакан с дымящимся чаем.
И нам всем стало окончательно неловко: Мамышану, — что он откровенничал, мне и Прасолову — просто так, неопределенно неприятно. Мы пили чай, обжигаясь, и даже были довольны, когда неожиданно пришло распоряжение наступать.
II
Шли по невероятно грязной дороге, выдергивая ноги из глубоких маленьких колодцев, которые проделывали в грязи своими же сапогами. Чуть светало. Дорога была немцами пристрелянная. Пришлось двигаться под шрапнельным дождем. Но, запятые вытаскиванием ног из жидкой глины, мы думали больше о том, когда окончится это шоколадное месиво, чем о ежесекундной опасности. Кто падал, так и оставался лежать. В довершение неприятности начал накрапывать дождь.
Ко мне и Мамышану подъехал верхом Борковский. Он был в остроконечном кожане.
— Я нисколько не волнуюсь, — сказал он и прижал руку к верхней части груди.
В его юношеских глазах были, действительно, полное спокойствие и доверие. Я пожалел, что у меня нет ладанки. Было стыдно за себя.
Он обратился к Мамышану:
— Ну, а вы спокойны тоже? Знаете, я потом думал о вас. Это — удивительно, и я начинаю думать, что вы…
Он не докончил фразы и заторопился вперед. Его кожан некоторое время еще колыхался сквозь сетку дождя. Разрывы шрапнели участились. По краям дороги тесными вереницами плелись раненые.
— Офицера убили, — сказал кто-то.
Мне почему-то показалось, что это — Борковский. Действительно, в толпе людей стояла его лошадь. Мы подошли ближе. Люди угрюмо расступались и двигались дальше. Лавриков держал в поводу лошадь Борковского.
— Так что в грудь стаканом, — сказал он Мамышану.
Я нагнулся к телу, которое казалось втоптанным в грязь, и тотчас отвернулся. Из кровавой массы на меня глядели остановившиеся выпуклые голубые глаза, в которых было полное спокойствие и доверие к судьбе.
— Что он хотел сказать словами: «и я начинаю думать, что вы…»? — сказал Мамышан.
Подъехал Прасолов.
— А, — сказал он равнодушно. — Царство небесное…
И перекрестился маленьким крестиком. На момент его глаза остановились на кровавой массе. Он поморщился.
— Пожалуй, затопчут. Эй, обходи! — крикнул он задним рядам и махнул безнадежно рукой.
Мы двинулись за его лошадью, которая помахивала сивым хвостом. Я встретился глазами с Мамышаном, и мне не понравился их нехороший блеск.
— Ладанка иногда не помогает, — сказал он.
Я почувствовал к нему вражду.
III
Дела на этот раз закончилось не в нашу пользу. Занявши первую линию германских окопов, мы вскоре получили приказание отойти. Наша артиллерия действовала тогда еще слабо. Солдаты, ругаясь, отходили. Прасолов шел пешком, потому что под ним убило лошадь, и тоже ругался.
При отступлении части нередко теряют связь, и много сил и внимания уходит на поддержание порядка.
Мы были усталы и вдруг почувствовали, что голодны и мокры насквозь.
— Нет, лучше не жить, чем так воевать, — сказал Прасолов. — Ей Богу, я завидую Мамышану. По крайней мере, он добился, чего хотел.
— Как? — поразился я. — А где же он?
И только сейчас сообразил, что Мамышан странно отсутствует.
Мне стало страшно, как будто со мною вдруг случилось что-то сверхъестественное.
— Остался на проволочных заграждениях, — сказал Прасолов.
Очевидно, мое чувство передалось и ему. Некоторое время мы молчали. Я удивлялся странной судьбе Мамышана. Война делает человека суеверным. Вероятно, мы с Прасоловым думали об одном, потому что я не удивился, когда он сказал:
— А не пришло ли вам в голову, что с ним бы этого не случилось, если бы он вчера…
— Не рассказывал? — спросил я.
— Да.
Прасолов внимательно посмотрел на меня своими темными и, как всегда, любопытными глазами. Я не ответил ничего, но мы поняли друг друга. Во всем этом был какой-то смысл. Я бы сказал: высшее целомудрие войны, как всякой тайны.
Над нашей головой с воем проносились снаряды, чтобы в отдалении поднять черный столб земли и дыма. Мы оба шли, не разговаривая и даже не взглядывая друг другу в лицо, чтобы не оскорбить этой тайны.
Вадим Белов «КОМУ ЧТО СУЖДЕНО…»
I
После восьмидневного движения к неизвестной цели, после бесконечных стоянок у товарных платформ больших станций и около полустанков, затерянных в голубом просторе полей, наш поезд достиг, наконец, большого белого вокзала, озаренного серебряными шарами электрических фонарей, и мы поняли, что наше путешествие окончено.
На платформе перед окнами вагонов уже прохаживались двое: это был батальонный командир в зеленом дождевом пальто, подпоясанном походным снаряжением, и рыжеусый капитан, догнавший нас уже на полпути, фамилию которого многие еще не знали. Он был из запасных и делал уже вторую войну — манчжурскую кампанию капитан с первого до последнего дня провел на передовых позициях, заслужил кучу наград и не получил ни одной царапины.
Мы все это знали и, конечно, с расспросами о войне, о боях и о предстоящих опасностях чаще всего обращались именно к нему.
Теперь он шагал рядом с батальонным командиром по длинной платформе в своем серо-зеленом дождевом пальто с привязанным за плечами мешком вроде тех, что носят швейцарские туристы, поднимаясь в горы.
Мешок прихватывался к плечам двумя ремнями и несколько отвисал вниз, почему капитан время от времени сутулил спину, чтобы поднять его на прежнее место.
— И вы напрасно смеетесь, г. полковник, — говорил он своим ровным, негромким голосом, — эти мешки, действительно, применяются только туристами да разными там тирольцами, но это ровно ничего не значит, вы после увидите, как удобно иметь всегда свое хозяйство за плечами. У вас-то вот в батальонной двуколке будет полевой багаж; представьте, приходим на бивуак, захотели бы чаю напиться или что-нибудь там еще, а двуколка ваша в десяти верстах позади из грязи вылезти не может… вот вам и чай и закуска!.. а я сейчас же сбросил с плеч мешок и — готово дело… замечательное удобство!..
— Ну, уж зато тоже мало удовольствия, — возразил батальонный, — постоянно за плечами такую торбу таскать, это вы сейчас поете, а вот погодите, мы за сегодняшний день верст сорок прошагаем, тогда другое дело будет…
В эту минуту в другом конце платформы затрубил горн, и полк начал поспешно строиться в походную колонну, несколько минут выравнивался, потом всколыхнулся всей черной тысячеголовой массой и тронулся, поблескивая тускло сталью наклоненных штыков, по пыльной, белой ночной дороге.
II
Перед боем роты расходились на околице большой деревни и здесь, около остановившейся вереницы бесконечных обозов, лазаретных линеек и двуколок, собралось несколько человек офицеров.
— Ну, свидимся ли вечером, Бог знает, — говорил задумчиво какой-то прапорщик.
— Их, говорят, корпуса два? — спросил кто-то.
Капитан оглянулся на спрашивающего и пожал плечами:
— А вам-то не все ли равно, два их корпуса или три? Для каждого из нас одной пули достаточно, одного такого, знаете, малюсенького металлического кусочка, а уж кому не суждено — так тому хоть три корпуса, хоть четыре… все равно — цел будет… вот ведь, я же в манчжурскую войну уцелел! А, между тем, за бруствера не прятался!..
Прапорщик, стоявший в стороне, не успел ответить, как кто-то окрикнул офицеров, и все поспешили в свои роты.
Проходя мимо меня, прапорщик покачал головой, улыбнулся и заметил:
— Счастливец этот капитан, черт его возьми, его и пули не берут, ходят себе со своих мешком и горя не знает!..
III
День пролетел незаметно в пылу стычки, новых, неожиданных и острых впечатлений. Уже смеркалось, когда наша рота, значительно поредевшая, отходила во вторую линию к той самой деревне, в которой мы были этим утром.
В деревне теперь развернулся перевязочный пункт, и на улицах сновали санитары с красными крестами на рукавах, сестры и доктора, а по сторонам у заборов, свеся ноги, в канавах сидели легкораненые, дожидавшиеся эвакуации, раскуривая цигарки и негромко беседуя.
Около одной из изб я встретил капитана. Он спускался с крыльца такой же, как всегда, хладнокровный и спокойный, в своем серо-зеленом дождевом пальто. И странно, первое, что бросилось в глаза — это отсутствие за спиной его того самого оригинального мешка, которым он хвастался батальонному.
— Капитан, что с вами?.. Где же вы потеряли ваш мешок? — воскликнул я.
Капитан досадно махнул рукой.
— Этакая, знаете, глупая история, просто досадно.
— Да что такое?
— Да можете себе представить, — продолжал он, — разорвалась сзади меня граната и осколком прямо в мешок… Ну, естественно, весь мой багаж пошел к черту!.. то есть, такая досада!.. ведь это в первом же бою…
— Ну, а спина-то как же? — перебил я его.
— Да что спина, — махнул рукой капитан, — спина, конечно, ушиблена, синячище во какой, да это черт с ним, но ведь вы подумайте, в клочья всю мою торбу разорвало, ни одной целой вещи нет. Одно слово — не везет!..
Капитан махнул рукой и мы расстались. Я несколько минут глядел ему вслед, думая о том, что бы было теперь с этим хладнокровным человеком, если бы за его спиной не висел его мешок, о потере которого он так сожалел.
IV
В течение целой недели нам не удавалось встречаться и беседовать между собой: бои шли беспрерывные, и только через восемь дней отвели нас всех на вторую линию на отдых.
Остановились в большом селе, расположились недурно и начале подводить итоги потерям.
— А вы знаете! — окрикнул меня у входа в избу, где располагалась полковая канцелярия, знакомый прапорщик. — Вы знаете — ведь наш капитан умер!..
— Да что вы, не может быть?! — не поверил я. — Когда же его убили?
— Какой убили, в том-то и дело, что нет!.. Вы представьте себе, наш добродушнейший капитан отравился, выпив воды из зараженного колодца… Не правда ли, какая дикая смерть?
— Да… и особенно для капитана, — ответил я и отошел в сторону.
Мне ясно вспомнился рыжеусый капитан, которого «не брали пули» в манчжурской кампания, вспомнился его разорванный попавшим в спину осколком гранаты мешок и философские его рассуждения перед боем о том, что кому суждено…
Нелепой, загадочной и ужасной показалась мне тогда судьба отравившегося капитана.
Аркадий Бухов МАШИНА НЕИЗВЕСТНОГО СТАРИКА (Подвиг капитана Лирона)
I. Бумаги старика
Слабый, сухой звук выстрела долетел до палатки, где обедали офицеры штаба, и после того грохота гигантских орудий, к которому за эти кровавые дни привыкли все, он не вызвал ни малейшего движения.
Только хмурый Лесбе повернул голову к выходу палатки и пробормотал вслух:
— Ну, нашли время стрелять… Тоже, развлечение…
Снова продолжался разговор, но когда полковник Лирон хотел во второй раз передать какой-то анекдот о пленном офицере, в палатку вошел взволнованный лейтенант Сенди и что-то шепнул ему на ухо.
— Я сейчас, господа, — бросил Лирон и вышел месте с лейтенантом, — тут что-то вышло.
— Побежим, капитан, — сказал Сенди, как только полотно палатки закрыло вход, — это очень, очень страшный случай…
— Да что такое… Неужели разведка?..
— Увидите сами… Только бы он не умер…
— Кто умер?
Сенди показал пальцем на маленькую группу солдат, наклонившихся над каким-то человеком, лежавшим на земле. Это был старик, очень бедно одетый; на нем не было даже шапки, и седые длинные волосы разметались на песчаной земле, как хлопья побуревшего снега.
— Вот, — переводя дух, произнес Сенди, — он вас звал, капитан… тот старик…
Лирон опустился на одно колено и наклонился к старику.
— Вы меня звали, — тихо сказал он.
Старик открыл глаза, в которых мелькнула слабая улыбка удовольствия, когда он узнал Лирона.
— Здравствуйте, капитан, — прошептал он.
Лирон напряг всю память, чтобы вспомнить это лицо, и ответил кивком головы.
— Я вас знал еще ребенком, Лирон, — еще тише прошептал старик, — поэтому-то я и шел к вам… Тот снаряд, который сейчас у меня взорвался…
Лирон вспомнил звук выстрела, который только что он слышал за обедом, и машинально взглянул на окровавленные лохмотья старика.
— Он уже не будет вам полезным… А вот это возьмите…
— Что?..
Старик с усилием протянул руку и передал Лирону какую-то связку бумаг.
— Вот это… Прочтите… Лирон, дайте мне честное слово… Исполнить то, о чем я попрошу…
— Если француз может исполнить то, о чем вы просите, я вам даю честное слово француза…
— Только француз, — прошептал старик и снова закрыл глаза. Он попытался снова открыть их, но лицо его передернулось гримасой боли и губы нервно зашевелились.
— Отнесите его в лазарет, — сказал Лирон солдатам.
Те осторожно подняли старика и понесли по направлению к крепости, а Лирон, недоумевающим взглядом посматривая на переданные ему стариком бумаги, зашагал обратно вместе с Сенди к палатке.
— Ничего не понимаю, — хмуро бросил он, — а вы?
— Меньше вас, капитан. — И, немного помолчав, добавил: — А вид у старика хороший… Такие не лгут.
— Вы еще забываете о моем честном слове… Может быть, просто фантазер, один из тех, которые наводняют штаб предложениями быстрого уничтожения неприятеля каким-нибудь детским способом… Вы свободны сейчас, Сенди?
— К вашим услугам, капитан.
— Пойдемте ко мне в палатку. Там дообедают без меня. Нужно прочитать, что здесь написал этот старик… Сюда, пройдемте здесь…
Еще надвигалась полуденная жара, когда Сенди вошел в палатку Лирона и, наклонив голову, стал слушать монотонное, грубое чтение капитана. Нагрев землю, солнце уже окровавилось на горизонте; подошли сумерки, на востоке уже загорались звезды, а в маленькой палатке все еще был слышен взволнованный разговор полушепотом двух людей. И только, когда на горизонте снова показалась полоска солнечного света, бледный Лирон пожал руку Сенди.
— Неужели это правда? — дрогнувшим голосом спросил тот, ежась от утреннего холода.
— Завтра, завтра, Сенди… Тогда все узнаем…
II. Стальной губитель
Это было нечто вроде громадного сарая, и пока Лирон не зажег фонаря, ничего не было видно.
— Здесь кнопка, капитан, — шепнул Сенди, — должно быть, здесь электричество.
Он повернул кнопку, и громадные дуговые фонари разом осветили весь сарай. Земляной пол был весь закидан какими-то обломками железа, кусками стали и дерева, а посередине стояло то, о чем рассказали вчера Лирону и Сенди пожелтевшие листки бумаги, переданные неизвестным стариком.
Какое-то сооружение, не похожее ни на одну из машин, когда-либо виденных Лироном и Сенди, стояло посреди сарая. С виду оно страшно напоминало гигантскую опрокинутую лодку, поставленную на еле заметные колеса, с широкими стальными, окутанными резиной, шинами. Тонкая броня покрывала борта и суживающийся, как киль лодки, верх сооружения, а сверх брони все было усеяно какими-то небольшими шипами и тонкой проволочной сетью.
— Зачем эти шипы и проволоки, капитан?
— Разве вы не помните, Сенди? По плану старика, на эти шипы и в эту проволоку втыкается и впутывается дерн, листья, ветки деревьев, чтобы вся эта страшная машина могла незаметно подползти к неприятелю…
— Пойдемте внутрь, капитан, — я прямо сгораю от нетерпения посмотреть…
Они подошли к борту машины и остановились около того места, где слабыми нарезами на стали вырисовывалась дверь.
Лирон повернул ручку и вошел. Сенди шагнул за ним. После яркого света в сарае, их охватила глубокая, жуткая темнота.
— Зажгите фонарь, капитан… Ничего не видно… Светлый круг от фонаря забегал по стенам длинной, узкой комнаты.
— Смотрите, Сенди, как все просто, — вырвалось у Лирона.
Действительно, ничего не поражало внутри этой длинной комнаты-каюты. И Лирон, и Сенди поняли, что значат эти маленькие сиденья у сорока узеньких бортных бойниц, в которые могло пролезть только дуло пулемета.
— Сорок пулеметов в людской гуще, — прошептал, бледнея, Сенди, — в людской гуще…
Лирон в это время осматривал какие-то рычаги в переднем конце аппарата.
— Вы видите, Сенди, старик, должно быть, очень неглуп… Его машина управляется, как простой автомобиль для прогулок… А эти ящики, видите, вот в той стороне, в которые идет дым сгорающего бензина — они совершенно заглушают шум…
— А это? — и Сенди потянулся к блестящей медной рукоятке, вделанной в стену около окошка, — единственного во всем аппарате, из которого ведущий машину может видеть дорогу.
— Сенди! — дико вскрикнул Лирон, — Что вы делаете?
Сенди выпустил рукоятку и быстро взглянул на Лирона.
— В чем дело?
— Посмотрите, какой номер стоит на рукоятке…
Сенди наклонился и инстинктивно отступил назад.
— № 23, капитан…
— Разве вы не помните, Сенди, когда надо нажимать на рукоятку № 23?.. Разве вы не захотите последний раз посмотреть на небо… Сенди, — взволнованно закончил он, — помните, что с того момента, когда мы повернем эту рукоятку, Франция никогда не забудет наших имен… Пойдемте…
Когда двери сарая захлопнулись, Лирон подозвал дожидавшегося их унтер-офицера и сказал:
— Все сделано?
— Сделано, господин капитан.
— Теперь возьмите все куски земли, которые вы нарыли, все листья, зелень и ветки — все это отнесите в сарай… Лейтенант покажет вам, что сделать… Сенди, вы останетесь с ними… Да не забудьте, чтобы в бойницы были вставлены не палки, а то что нужно… А завтра к ночи все должно быть готово… Прощайте…
И, подняв воротник пальто, он скрылся в темноте.
III. Как вырос лишний холм
Когда пришла ночь, черная и беззвездная, с мелким накрапывающим дождиком, из громадного сарая медленно и бесшумно поползло чудовище, напоминающее один из тех пригорков, которые были разбросаны перед позициями и которые завтра должен был брать неприятель.
— Вы видите, Сенди, — сказал Лирон, наклоняясь к лейтенанту, — там эти шестнадцать пригорков, на которых мы завтра должны встретиться с немцами… На этой бумажке я набросал вам план, где должна остановиться наша машина… Она так хорошо вся забросана землей и ветками, что даже вблизи ее трудно отличить от природного возвышения… Возьмите вот это. Только ближе к лесу…
Сенди посмотрел на план…
Крестом на плане было обозначено место, где должна была поместиться машина неизвестного старика.
— Вы, Сенди, останетесь внутри аппарата вместе со всей командой. Я после проберусь к вам и буду с вами все время…
— Как, капитал, и вы?
— Сенди… Лейтенант Сенди! Разве вы имеете право сомневаться в мужестве капитана Лирона?
— Но, капитан, я думал…
— Вы думали, что капитан Лирон будет издали смотреть на подвиг лейтенанта Сенди… Стыдно, Сенди!..
— Простите, капитан…
Они обменялись рукопожатием. Сенди вошел в аппарат и взялся за рычаг. Машина снова медленно и беззвучно поползла среди ночной темноты и мрачного безмолвия.
Утром, когда стало светать, на позициях ничего не изменилось. Только между одним из пригорков и молодым лесом появился холмик, покрытый травой и вышками. Солдаты ночью сделали то, что им поручил Лирон, и скрылись в узкой каюте аппарата, каждый у своей бойницы.
Только эти молчаливые люди, Лирон, Сенди и главнокомандующий де Ринкар знали о машине неизвестного старика, и только безусый поручик Жюриль, которому Лирон и Сенди сдали два пакета с просьбой переслать их на родину, догадывался, что сегодня должно произойти что-то большое и важное.
А когда стало светло — над французскими позициями с жутким хрустом стали рваться шрапнели, и стихийный гул донесся до поспешно убираемых палаток: немцы перешли в наступление…
IV. Атака отбита
Земля стонала и как будто тряслась от негодования на ту кровь, которая покрывала ее новыми и новыми потоками. Бурые дымки шрапнелей, взвизги стали и брызги взрываемой земли — все смешалось в одном гуле и грохоте.
Главнокомандующий де Ринкар стоял на холме и смотрел на наступление германской армии. Выпрямившись, как стальная пружина, бледный и мертвенно-спокойный, он смотрел на тысячи людей, тесной лавиной надвигающихся на французские позиции…
Без криков, с опущенными в безветренном воздухе знаменами, прусские войска шли, то колыхаясь от внезапного удара снаряда в середину, то снова смыкаясь — шли, чтобы затопить французские позиции полумиллионом своих солдат…
— Сейчас они будут брать эти холмы, — почти прокричал на ухо де Ринкару его лейтенант, — смотрите, смотрите..
Мешалось с землей кровавое мясо, но пруссаки шли и шли вперед. Казалось, что только какая-то стихийная сила может остановить эту стену человеческих тел и море сверкающих касок, и в тот момент, когда пушки крепостных фортов должны были открыть верный и отчаянный огонь, де Ринкар впился глазами в маленький лесок, отделявший часть укрепленных позиций от неприятеля, и вскрикнул:
— Лирон… Лирон действует…
Все, бывшие около главнокомандующего, схватились за трубы, бинокли и обернулись туда, куда была протянута рука де Ринкара.
Маленький кусочек земли около леса зашевелился, как будто отвалившийся от горы камень, вздрогнул на месте и внезапно ринулся вперед, навстречу сомкнутым германским колоннам… Вот этот кусок земли начинает ронять с себя ветки, вот вырисовываются под ним колеса, вот часть его начинает блестеть на солнце яркой сталью, и машина неизвестного старика, как коса, выпавшая из рук смерти, врывается в плотную массу сверкающих касок и ружей, прочищая широкую незаполняемую дорогу…
Вот она на секунду останавливается и около нее образуется круг из падающих людей. Еще секунда — она резко сворачивает и бросается в сторону — новая кровавая дорога… Она носится между обезумевшими людьми, как испорченная заводная игрушка, выпавшая из рук ребенка — но игрушка, навевающая безумный ужас…
Точно кто-то разом оборвал залпы раскаленных пушек — разом умолкла и французская, и немецкая артиллерия, и только со стороны нападающих несся нечеловеческий, смертельный рев обезумевших людей…
Полумиллионная армия в панике бежала назад…
Но и капитан Лирон не мог вернуться назад. Де Ринкар заметил одно характерное движение аппарата, когда он вздрогнул, попятился назад и не мог больше нестись по полю — он понял, что двигатель сломан… И бегущие люди увлекали с собой стальное чудовище, только что вселявшее им такой ужас.
V. За родину
Темно. В беспамятстве лежит большинство солдат на полу узкой каюты аппарата. Там, за стальной коробкой, тихий гул и грохот людского моря, увлекающего ее куда-то за собой.
На Лироне нет шапки и тужурка брошена на пол. Он ничего не видит и не слышит. Рычаг машины, теперь бесполезный, брошен. Он прильнул к одной из бойниц и не оборачивается назад: он знает, что Сенди уже держит в напряженном кулаке рукоятку № 23 и ждет его приказа.
Вот машина останавливается. Людское море встретилось с новым людским прибоем и остановилось. Теперь аппарат в центре этого моря.
Бешеным движением повертывает Лирон какой-то рычаг, и на потолке длинной каюты открывается широкий кусок, стальной кусок. Яркое солнце врывается сверху, и дикий рев немецких солдат туманит сознание и заполняет каждый атом воздуха.
— Пора, пора, Сенди! — кричит Лирон. — Да здравствует Франция!.. Да здравствует родина!..
Но Сенди не слышит. Его лицо обращено к небу, и в глазах безумная радость какого-то достижения, о котором можно думать только во время молитвы…
Рука Лирона нажимает рукоятку № 23, и Лирон чувствует, как что-то большое и темное надавливает ему на грудь…
Вихрь огня и едкого дыма похоронил машину неизвестного старика…
Вечером французские войска отбросили смятенную прусскую армию, а пред сном триста тысяч солдат молились о тех людях, которые купили своей кровью победу…
Владимир Воинов «СТРАННЫЙ» ДНЕВНИК
1
После некоторых размышлений я решил, наконец, сделать этот странный дневник достоянием общества.
Я знаю, что появление его в печати не пройдет для меня безнаказанным: некоторая группа людей безусловно остановит на мне пристальное внимание; и, может быть, вскоре со мною случится то же, что и с автором этого дневника.
Однако решение мое непреклонно, и я осуществлю его во что бы то ни стало.
2
Отрывок первый
…Наконец я нашел то, что надо.
Это не дача, а домик в лесу — бревенчатый, маленький, стоящий совсем в стороне от селения и станции.
Вокруг — только сосны.
Сквозь густую и крепкую зелень приятно глядеть на небо.
Когда идет дождь, или поет морской ветер, стряхивая небрежно с мокрых иголок голубые огни, широкие щели в стене позволяют мне слушать зеленую музыку леса.
А в тяжелые знойные дни я лежу на ковре и отмечаю в душе каждый треск, каждый шорох, неизвестно кем вызванный в глубине притаившейся чащи.
Иногда появляется желание взобраться на кровлю. И я это делаю.
Там у меня — флаг. Широкое, тонкое полотнище.
Трехцветное.
Размотав тонкий шнур, я спускаюсь.
И когда, под едва ощутимым томлением воздуха, полотно разовьется, хлестнув неожиданно свободным концом, сам не умею сказать — почему — сразу свежее становится: может быть, самый звук этот таит в себе что-то прохладное; а, может быть, ухо привыкло слышать его с тонкой мачты идущего корабля, когда морской бриз пружинит рубаху и щекочущим холодком пробегает под мышками.
По ночам звуки леса иные, чем днем. И мне кажется, что в эти часы между синих стволов, овеянных дымкою призрачных испарений, проходит та тайная полоса жизни, на которую смотреть не дано ни одному человеческому глазу.
Отрывок второй
Сегодня меня потянуло на станцию.
В шесть часов вечера приходит почтовый поезд.
К этому времени собираются дачники и ждут вечерних газет.
Есть своеобразная, острая прелесть — показаться чужим; человеком, пришедшим из леса, чтобы купить газету и скрыться опять: может быть, на день, до следующей почты; а может быть, и навсегда.
Сознание полной оторванности делает смелым, освобождает от многого и облекает обычные действия в былину красивой таинственности.
Когда идешь по площадке, небрежно постукивая стеком по запылившимся крагам, хочется надвинуть панаму поглубже, на самые глаза, и придать лицу оттенок спокойного, усталого равнодушия.
Это всегда привлекает внимание.
А потом нужно взять газету и ровными, неторопливыми шагами уйти. Не оглянувшись ни разу.
Впрочем, можно и не дождаться газеты.
Так еще лучше.
Когда я сегодня уходил таким образом, я знал, что мне вслед, кроме многих других, будут глядеть и глаза той лукавой прелестницы, которая довольно бесцеремонно заглядывала под панаму, пока я стоял у киоска с фруктовыми водами.
Отрывок третий
Открылся ли купальный сезон?
Может быть.
Хотя на рассвете в июне, конечно, никто не купается, и я могу смело рассчитывать, что буду на пляже единственным наблюдателем игры поднимающихся туманов.
Я очень люблю туманы за их неуловимость, изменчивую, призрачную красоту, за текучесть и неустойчивость форм и за тот изумительно нежный и сказочный колорит, который они придают всему, попадающему в сферу их мокрого, пьяного дыхания: они растворяют в себе грубые формы реальности, стирают черты, рушат грани: в них чудится что-то от космоса; и обыденные предметы, облагороженные близостью их, приобретают особую слитность — минутную, гибкую, каждый раз новую, но всегда находящую в чуткой душе многообразие соответственных откликов.
Странно.
Только после вторичного осмотра берега я почувствовал, что я не один.
Далеко впереди на острой косе, несомненно, был кто-то еще.
Этот «кто-то», как и все остальное, казался лишь тенью в общем царстве витающих призраков, но одушевленность его природы была вне сомнения.
Я быстро укрылся за сети, висящие длинными, мокрыми рядами вдоль берега, и на минуту задумался:
Уйти? Или выждать?
И то и другое потеряло теперь для меня всякую прелесть.
Я решился на третье.
Под прикрытием полога мокрых сетей, я направился прямо туда, где коса отделялась от берега.
Там я сел на песок и принялся ждать.
Скоро солнце прогонит багровый туман. Тогда можно будет подняться и глянуть:
Кто это, кроме меня, ходит смотреть игру умирающих призраков?…
У розовой каймы берега на желтом песке была девушка. Та самая, о которой я думал вчера, уходя без газеты со станции.
У ног ее снежным комом лежало белье.
Она одевалась.
Нагибалась, искала руками на желтом песке. И делала это свободно и медленно.
Очень медленно.
Потом поправляла пряди волос на висках.
— Уйдет сейчас, — думалось мне.
Но она не ушла: повернулась опять в сторону моря и села.
Я глянул вдаль.
На том месте, где еще не успело растаять последнее призрачное крыло голубого тумана, над розовым зеркалом тихой воды клубились дымки.
Шла эскадра.
Это было красиво и трогательно.
Есть глубокий и правильный смысл в том, что люди всех наций с любовью и гордостью встречают глазами свои корабли.
Я это особенно ясно почувствовал, глядя на стройные реи, простертые к лону небес.
Может, быть такое же теплое чувство испытывала и она, моя незнакомка?
Она даже сделала легкий поклон в сторону моря перед тем, как уйти.
А когда ее гибкая белая фигурка скрылась за первым песчаным холмом, я не противился больше желанию пройти по косе.
Рядом с тем местом, где лежало белье, остались следы ее ног — мокрые после купания.
Тут же остался лежать кусочек бумаги, скомканный чьей-то рукой.
Уходя, я, не знаю зачем, поднял его и опустил в карман.
Кажется, в этот момент я не думал решительно ни о чем.
Отрывок четвертый
…Условные знаки…Участок какой-то местности… Несколько параллельных дорог… И где-то, в середине пространства, зарисованного короткими, прерывистыми черточками, маленький крестик.
Вот и все, что я нашел на бумаге.
Всякий серьезный человек бросил бы эту бумажку и возвратился к своим делам.
Так решил поступить и я.
Однако, минутою позже, в мыслях моих оказался разлад.
Все эти черточки и крестики — ерунда. В этом смешно сомневаться. Но… времени у меня много, человек я свободный… А бумажка подобрана на том самом месте, где лежало белье… Почему бы…
Одним словом, через десять минут я бродил уже по всем направлениям, разыскивая чью-то усадьбу, выходящую острым углом на окраину.
Таких острых углов оказалось одиннадцать.
Тогда я решил заняться дорогами. На плане их было четыре, и все они шли параллельно.
После нескольких часов ходьбы, я пришел к выводу, что параллельных дорог нет совсем, а есть просеки, которых, действительно было четыре.
Теперь оставался участок, заштрихованный прерывистыми черточками.
Он лежал у концов длинных просек. Это было не близко.
После полуторачасовой ходьбы я даже подумал:
— Стоит ли?
Но из-за странных значков, нанесенных чьей-то рукой на бумагу, глядело на меня лукавое лицо странной девушки, и в улыбающихся глазах ее я прочел:
— Стоит!
Ведь не в другом же полушарии то место, которое обозначено крестиком.
А крестиком можно пометить многое: например, дачу, где живет моя незнакомка.
И если это действительно окажется так, то…
У меня даже мысли запрыгали от прелести такого предположения.
Ведь это бы значило, что клочок, зарисованный карандашом, не случайно обронен. А стало быть, и все остальное…
Можно ли было раздумывать?
С крепко бьющимся сердцем я шел по просеке и, после упорной борьбы с пространством, вышел, в конце концов, к тому, что обозначено было на плане штриховкой.
Увы! Это было болото! Унылое, голое…
Растерянный, измученный, я сел у опушки и чуть не заплакал от злобы.
Было похоже на то, что меня одурачили.
Кто? Зачем? Почему меня именно?
Да, наконец, никто меня и не дурачил! Это была моя добрая воля — идти сюда или нет. И никто не запрещает мне убраться отсюда сию же минуту.
Я встал в твердой решимости покончить раз навсегда с этой глупой забавой; окинув глазами опушку и, шатаясь от страшной усталости, двинулся…
Обратно? Домой?
Ничуть не бывало… В болото, к той точке, которая была намечена таинственным крестом.
Совершалось чудовищное насилие; чья-то рука начертала мне путь и неуклонно влекла меня к неведомому концу.
Болото с минуты на минуту становилось мокрее; все реже и реже встречались упругие кочки; скоро ноги мои стали вязнуть, и освобождать их из липкой, захватывающей тины стоило невероятных усилий.
Мелькнула последняя трезвая мысль:
А что, если этим крестом указано место, где всему живому, имеющему физический вес, уготована погибель?
Может быть, этим крестом предостерегал кто-то кого-то от тайной опасности?
Мелькнула и тотчас погасла; потому что пришла слишком поздно: с первым же шагом я ощутил, что болото уже засосало в себя мою волю; и теперь, утопая в грязи, пробирался уже не живой человек, способный сопротивляться опутывающим его чарам, а маньяк, который не может остановиться, пока не дойдет до креста.
Почти не помня себя, я упал и, захлебываясь тиной, с головой, одурманенной ядовитыми парами проклятого места, продолжал пробираться вперед, ощущая холод дыхания смерти.
Темнело в глазах… Нечем было дышать…
Скоро угасли остатки сознания.
Сколько времени я пробыл без памяти — не знаю.
Когда же оглянулся, небо стало бледнеть, вещая начало мертвой июньской ночи.
Кругом было пусто; жутко глядела необозримая болотная равнина, и из колеблющейся, остывшей трясины, навстречу обманчивой мгле, вставали туманы…
Что меня вывело из состояния небытия?
Я глядел мутными глазами прямо перед собою и силился что-то понять.
Нужно было что-то додумать, оформить и осознать.
Шум?
Да! Нужно понять этот шум — ровный, ритмичный, далекий и близкий…
Он то замирает, то странно усиливается. Откуда он? Что он такое? Галлюцинация? Бред?
Нет! Он действительно плывет над болотом и тревожит своей неуместностью.
Я выпростал руки, ушедшие в тину, и приподнял выше голову.
Ровная, тихая струя слабого звука падала откуда-то сверху и сбоку и говорила о чем-то знакомом, живом.
Загребая ногами и выкидывая вперед себя окоченевшие руки, я, как болотный паук, отполз несколько метров.
Звук оборвался.
Выждав несколько времени, я снова вернулся на старое место; и снова мой слух отчетливо и ясно воспринял ритмический шум, заглушенный туманом и расстоянием.
Неожиданно меня озарила большая и смелая мысль.
Собрав весь остаток удержавшихся сил, я постарался припомнить то направление, по которому достиг середины болота, и принялся ползти к опушке.
Отрывок пятый
…Это мой старый, испытанный друг; и я очень рад, что он выполнил обещание известить меня в моем одиночестве.
Прежде всего он опросил, почему я в постели.
Я, действительно, лежал, завернувшись в пушистое одеяло и щелкая зубами от внутренней дрожи.
Лихорадка?
Может быть! Во всяком случае, в прошлую ночь я продрог основательно.
Коньяк?
Да, коньяк помогает отлично, но, к сожалению…
— Никаких сожалений! — оборвал меня друг.
Говоря это, он вынул из бокового кармана литр превосходного коньяка и поставил его на ковер у моего изголовья.
— Теперь говори! — продолжал он, когда мы прикончили добрую половину и закурили по душистой сигаре.
— Что говорить? Рассказать нужно многое, но все это так непонятно и странно, что я боюсь показаться смешным.
— Тогда выпей еще!
Я покорился.
Минуту спустя я наслаждался восхитительной внутренней теплотой, сменившей противную дрожь, и неторопливо рассказывал о всем, что пришлось перенесть за последние дни.
Рассказывал в третьем лице, словно это случилось не со мной, а с кем-то другим.
Мой друг прослушал рассказ с величайшей серьезностью, и теперь, по морщинам на лбу его, я видел, что он крепко думает о всем, только что слышанном.
— Это все чрезвычайно серьезно, — нарушил он наконец длительное молчание, — и пусть наивный чудак, не убоявшийся смерти в болоте, ответит мне на следующие вопросы:
— Девушка, стоявшая у воды, блондинка?
— Да! — ответил я, вглядываясь в моего приятеля.
— Бумага с условными знаками у тебя?
— Да.
— Место, где тебя покинули силы, и пункт, помеченный крестиком, могут совпасть?
— Вполне.
— Шум был различный и на расстоянии нескольких метров терялся?
Я молча кивнул головой.
— Какие же выводы сделал ты из своих наблюдений?
Он приблизил ко мне лохматую голову и глухим, подавленным голосом спросил:
— Сегодняшние газеты читал? Двухверстная карта этого района есть у тебя? О параболических поверхностях помнишь из курса?
Эти три странных, не связанных между собою вопроса заставили меня растеряться.
Отрывок шестой
Наступил тихий вечер…
Мой приятель сидел неподвижно, только пальцем руки направляя мои изыскания; а я стоял на коленях у карты и озабоченно разглядывал складки поверхности.
Я еще не успел оправиться от утренней слабости, и мысли мои никак не могли войти в спокойное русло.
То мне мерещились огромные параболические поверхности со своими чудесными свойствами; то перед глазами вставали печатные сообщения на страницах газеты; то, неожиданно, линия залива на карте принимала живой, розовый тон, и на желтом песке появлялась прекрасная фигурка белокурой девушки с глазами, устремленными в открытое море, где в голубой дымке рассветного тумана проходили один за другим легкие, призрачные корабли.
Как это все далеко одно от другого и как это все связано между собой незримыми, тайными нитями!
«Если какой-нибудь источник света посылает лучи в зеркало с параболической поверхностью, то все эти лучи, отразившись, пересекаются в одной общей точке — в фокусе. Обратно: если источник света поместить в фокусе, то лучи, отраженные поверхностью зеркала, уйдут в бесконечность параллельно друг другу, образуя один яркий сноп, вне которого ни один луч не может упасть».
Какое изумительное свойство! Не правда ли?
Теперь попытайтесь представить себе, что звуковые лучи подчиняются тем же законам.
Если вы не желаете обращать на себя внимание людей шумом и грохотом машины, обслуживающей ваши какие-то личные потребности, — поместите эту машину в фокусе огромной параболической поверхности, и эта поверхность услужливо унесет все эти звуки одним покорным снопом в любом, нужном вам направлении. При достаточной тщательности оборудования, ни один звуковой луч не выйдет за пределы снопа, и всю сумму звуков и шумов вы можете отправить в любое место. Например, в болото…
А? Не изумительное ли это свойство?
Теперь позабудьте, на время, о законах акустики и вспомните, что вы — человек, имеете определенный язык для выражения ваших мыслей и живете на определенной территории, которую любите и считаете своей родиной.
Подумайте дальше о том, что родина эта находятся сейчас в состоянии войны с ее, а, стало быть, и вашими врагами.
Припомните, что одним из средств обороны территории является военный флот.
Что вы должны испытывать, когда на страницах газет глаз ваш встречает такие короткие сообщения:
«К сожалению, осведомленность наших врагов в области военных мероприятий, предпринимаемых судами нашего военного флота, стоит на исключительной высоте благодаря своеобразной „лояльности“ населения некоторых наших окраин. Не редкий случай, когда военное судно, только что получившее предписание сняться с якоря, получает по радио любезный вопрос: „Вы куда? Желаем вам счастливого пути“».
Вы представляете себе, что должен испытывать человек, случайно увидевший в слабых руках своих один из концов тайных нитей, образующих сложный и жуткий клубок еще не разгаданных до конца, прочно налаженных, чьих-то враждебных хитросплетений?
И этим человеком, волею судьбы, стал я.
Добрый мой друг должен был в эту же ночь покинуть меня, ибо был призван к отбыванию гражданского долга и заехал проститься со мной.
Его крепкий ум, закаленный высшей технической школой, легче меня разбирался в сложившихся обстоятельствах; и теперь, в последние минуты перед уходом, он торопился направить дальнейшие мои шаги на правильный путь, свободный от возможных ошибок.
Ему было ясно, что «уводить» звуки работающей «динамо» в непроходимое, топкое болото путем сооружений, требующих огромных затрат, не станет никто без достаточных к тому оснований.
— Итак, — решил он, садясь за мой маленький «ундервуд», — ты знаешь теперь, что источник ритмичного шума должен лежать на одном из указанных мной возвышений. Обследуй их все. Будь настойчив и остроумен до крайности. Остальные инструкции, чтобы не вызвать в твоей голове беспорядка, я изложу тебе письменно.
Короткие пальцы его с бешеной быстротой забегали по клавишам пишущей машины, и страницы бумаги, одна за другой, покрылись красивыми синими знаками.
— Вот! Получай! Теперь позволь мне обнять тебя перед разлукой, и помни мой последний завет:
Будь решителен, смел, доведи это дело, во что бы то ни стало, до конца., но… действуй с необычайною осторожностью. Иначе…
Мы крепко пожали друг другу руки, и друг мой ушел.
Отрывок седьмой
Я поступаю согласно оставленной другом инструкции, исследуя весь прилегающий к болоту район по концентрическим кругам с увеличивающимся день ото дня радиусом.
Сегодня я выступил налегке и около часа был уже в той точке окружности, которую поставил себе исходной для выполнения нового урока.
Пункт этот — место в лесу у возвышенности, глухое и темное. На гребне песчаного холма я задержался, закуривая сигару.
Было тихо и хорошо.
Я присел у ствола и принялся разглядывать дачу, прочный и строгий массив которой густым силуэтом проектировался на бледное небо.
Какая красивая башня! Высокая, легкая… Наверху — шпиль…
Воздух был сух и прохладен; и в его неподвижности четко и ясно вставали детали постройки.
Жил ли тут кто-нибудь?
У жилых помещений бывает всегда что-то такое, что позволяет угадывать их среди остальных почти безошибочно. Эта казалась необитаемой.
И, однако, что-то задерживало на ней внимание.
Едва я уселся удобнее, тихий, скребущийся звук упал откуда-то сверху.
Я впился глазами и ждал. Наступившая тишина стала жуткой.
Потом повторился опять легкий звук, и по линии шпиля стал осторожно и медленно подниматься какой-то предмет.
Через минуту предмет этот принял горизонтальное положение, и я ясно увидел, что от него в одном направлении уходят дрожащие, тонкие нити.
Я погасил сигару в руке и, не отрываясь, следил за вышкой.
Отчетливо видимое кольцо собрало все нити в один тугой узел, и они натянулись, застыв в одном положении.
Это было именно то, о чем говорилось в инструкции моего друга.
Я ощутил холодок за спиной, и руки мои задрожали.
Не поворачиваясь, с глазами, прикованными к внезапно ожившему шпилю, я стал спускаться с песчаной возвышенности, еще раз окинув глазами высокую башню.
Не знаю — показалось ли мне, или это было в действительности: на верхней площадке, опершись о сквозные перила, стояла красивая, легкая фигурка девушки в белом.
Отрывок восьмой
…Дорогой мой друг! Прими мое полное восхищение.
Вчера я сумел убедиться в силе твоего прозрения.
С высоты многолетней сосны, я приветствовал совершенство твоего аппарата мышления.
Да! Это было поистине восхитительное зрелище!
Бетонная вышка в лесу — позади знакомой мне дачи. Тяжелая, прочная, точно выкованная из одного куска темного железа! Вся эта толща бетона, зажатого на углах в железные лапы, словно игрушечный домик, колебалась и вздрагивала от работы чудовища, укрывшегося под каменной оболочкой. Это была чудовищная машина почти сверхъестественной мощности.
И только с того места, которое я занял на вершине сосны, можно было обнять происходящее одним взглядом.
В верхней, восточной стене, зияло огромное круглое отверстие. Словно луженая пасть неведомого чудовища, оно светилось слегка загадочным светом, и из него, через верхушки ближайшего леса, ураганом неслась звуковая струя, отраженная невероятных размеров рефлектором.
Когда, онемев от усталости, я спустился на землю, только тут заметил, что панама моя отсутствует.
Я искал ее на влажном песке и в росистой траве очень долго; до тех пор, пока громкий и злобный лай собаки не напомнил мне предостережения приятеля:
«Будь осторожен до крайности».
С великой поспешностью я постарался укрыться в лесу, провожаемый издали неистовым лаем противной собаки.
Отрывок девятый
Сегодня я снова ходил на станцию.
Необходимо следить за газетами. Кроме того, нужно купить папаху. Солнце жжет сильно, а я не привык ходить с непокрытой толовой.
На станции все было по-прежнему.
После почтового поезда, когда я собрался идти в магазин, мимо меня тихо прошла моя незнакомка.
Она была не одна: рядом с нею шагал огромный породистый пес — спокойный, бесстрастный…
Поравнявшись со мной, он неожиданно поднялся на задние лапы, положил мне передние на грудь и прямо в лицо испустил глухое рычание.
Я отстранил его жестом руки и отступил.
Девушка остановила на мне теплые голубые глаза и ласково улыбнулась.
— Он не злой! — протянула она кокетливо.
Я поклонился ей и поднял к голове руку, чтобы почтительно дотронуться до края панамы.
Девушка поняла мой неудачный жест и рассмеялась, обдавая меня горячими искрами свежести.
— Вы забыли панаму? — прищурила она глаза.
— О, нет… Не забыл… Хотя, может быть, это и так… Во всяком случае, я не замедлю заменить ее новой.
— Идемте, я вам укажу магазин, где большой выбор панам!
Отрывок десятый
Это случилось, как в сказке.
Лесной домик, отшельник и фея.
Она пришла вечером, когда я сидел у стола и думал о ней.
— Я к вам… Посидеть… Стало скучно одной.
Я усадил ее со всею заботливостью, на которую только способно молодое, восторженное сердце, а сам поместился на лохматом ковре: у ее ног.
— Почему вы живете один?
— А с кем же мне жить? — ответил я тоже вопросом.
Она улыбнулась.
— Вы не так поняли. Почему далеко от других?..
— Я очень устал от работы… Одиночество и лес — лучшее средство восстановить силы.
— Может быть, мне лучше уйти, чтобы не отнимать у вас лучшее средство?
— О, нет! Ни за что! Вы — сказка. Вы — ветер лесной…
Она согласилась с покорной улыбкой и машинально положила прекрасные пальцы на клавиши «ундервуда».
Я вспомнил, как несколько времени тому назад на этих же клавишах работали короткие, грубые пальцы доброго моего друга. Вспомнил и засмеялся.
Возле меня сидела та самая девушка, которую в розовом тумане рассвета я видел всю: я помню все линии ее прекрасной фигуры; я помню все ее смелые положения и спокойную вольность движений. И эта прелестная девушка сидит теперь у меня, и мы уже стали друзьями.
Целую вечность мы провели с ней вдвоем… Так показались мне два розовых часа ее пребывания в моем лесном домике.
А потом я ее провожал.
До узла трех дорог. Дальше она не позволила.
Уходя, я ощущал у себя на плече запах ее духов — тонкий и пьяный…
Какая чудесная девушка!
Дома я решил привести в порядок бумаги.
В «ундервуде» был крепко зажат какой-то листок. Освободив его, я увидел, что это была одна из страничек инструкции, оставленной мне моим другом.
На обороте страницы осталась строка.
Это было то, что вышло из-под пальчиков феи, когда она машинально трогала несколько клавишей машинки.
Я подошел к свету и поднес страничку к глазам.
На ней было выбито:
«Куда вы идете? Желаю вам доброго пути».
Отрывок одиннадцатый
Сегодня я получил письмо от моего милого друга.
Из письма его было ясно, что сделанное мною открытие представляет огромную важность, и что медлить с его окончательным выяснением — равносильно преступлению.
В конце, по обыкновению, давались инструкции.
«Главное, будь осторожен и не допускай в этом деле никаких посредников. При первом подтверждении выводов, поезжай в город сам. Кстати, я еще стою со своей частью на месте, и ты мне доставишь великое наслаждение повидать тебя пред отъездом на фронт.
Твой…»
Милый мой друг!
Конечно же, я исполню во всем его благие советы и завтра же поеду в город!
Я не сказал ничего о причинах поездки моей доброй фее, но о решении быть завтра в городе, конечно, сказал. Ее опечалило это обстоятельство.
— Я так привыкла к вам, мой милый отшельник, что даже один вечер без вас — печалит меня.
Я был особенно нежен с ней в этот вечер.
Ровно в десять я выеду.
Фея выйдет меня проводить.
— Иначе я не могу! — сказала она, расставаясь.
Спасибо! Великое, теплое спасибо этой очаровательной девушке, превратившей мое пребывание в лесном домике в волшебную, светлую сказку!
3
На этом кончался странный дневник.
Я нашел его в начале июля под клеенкой стола в маленьком лесном домике, нанятом мною на остаток сезона.
Здесь жил мечтатель, имеющий некоторое отношение к изящной словесности.
В словесности я понимаю не больше, чем в арабской мифологии.
Поэтому дневник этот лежал у меня некоторое время рядом с нечищеными сапогами.
Так продолжалось до августа; пока я не уткнулся однажды, во время одной из своих прогулок, в огромное пустынное болото, начинавшееся у выхода лесной просеки.
Не знаю, как это вышло, но в этот же день, я, запасшись двумя короткими досками, рискнул совершить путешествие к центру трясины. Вообразите мое изумление, когда в одном пункте болота я попал неожиданно в струю тех самых таинственных звуков, о которых так красочно было написано в дневнике.
В этот день странный дневник получил для меня совершенно иное значение.
И в течение нескольких ближайших дней я проделал буквально все то, что было проделано моим предшественником.
Вот результаты: 1) Дача есть. 2) Вышка есть. 3) Есть это самое дьявольское сооружение, уносящее звуки динамо в болото. 4) Динамо прекрасно работает, как ни в чем не бывало.
Мало того, я но только имел встречу с огромным псом, но и отравил его для удобства дальнейших исследований.
В заключение сообщу самое странное:
Вчера вечером, когда я раздумывал над сложностью создавшегося положения, ко мне вошла девушка в белом с голубыми глазами и просидела у меня до ночи.
Провожал я ее до узла трех дорог.
Как по нотам!
А наутро я не преминул справиться у хозяина дачи о судьбе моего предшественника.
— Писала, писала, — ответил мне старый корявый финн. — Потом ехала город и падала с поезда. Ропала под колесом. Равая рука и голова потеряла.
Утешил! Нечего сказать.
Теперь я вижу, что предшественник мой не только мечтатель, но и дурак, каких мало.
Я буду действовать несколько иначе, и сделаю этот странный дневник достоянием общества.
Той же группе людей, которая остановит на мне пристальное свое внимание, я считаю не лишним заявить следующее:
Я не романтик и разными феями со мной ни черта не поделаешь.
Что же касается поездки на поезде, то… Вес мой без малого семь пудов, а подковы в моих руках сами ломаются, как баранки.
Поняли?
Георгий Северцев-Полилов ЧЕЛОВЕК С ГОЛУБЫМ БРИЛЛИАНТОМ
I
Несколько лет тому назад я прожил целое лето в Бельгии, на выставке в Льеже.
Свободного времени у меня было достаточно и, воспользовавшись дешевым круговым проездом по железной дороге, я решил осмотреть все города и уголки этой трудолюбивой страны, муравейника в полном смысле слова.
Билет для проезда повсюду в пределах Бельгии в течение двух недель стоил пустяки — 30 или 40 франков. Я мог далее не вылезать из вагона и все время кататься повсюду, где пролегал рельсовой путь.
В это время мне удалось посетить и Шарлеруа, и Гент, и Брюгге, побывать в Малине, в Спа, одним словом, везде. Кажется, не было такого уголка, который я бы не осмотрел. Не знаю почему, я все время откладывал осмотр Антверпена и Остенде напоследок.
Но пришел и им черед.
Переезд от Брюсселя до Антверпена недолог. Час или полтора, теперь не помню. Я вскочил в вагон второго класса за минуту до отхода поезда. В нем было очень мало народа, — неудобный час для деловых бельгийцев, у которых все аккуратно рассчитано, время размерено.
Это был какой-то случайный поезд в 10 часов утра. Как о нем выразился мой знакомый, купец-бельгиец, — «ни то, ни се».
Несмотря на май, один из самых приветливых, мягких месяцев в Бельгии, погода хмурилась. Изредка перепадал дождь, прояснялось недолго, и снова небо затягивалось серыми тучами.
Пока мы стояли под громадным навесом брюссельского вокзала, в вагонах было совсем темно, и только когда поезд, как громадный червяк, пополз на свет Божий, я мог осмотреться в купе, в котором сидел.
Кроме меня, там находился еще пассажир. Это был еще не старый мужчина со здоровым цветом лица; немного одутловатые щеки его точно горели; оттопыренные уши, казалось, улавливали каждый малейший шорох; беспокойные глаза бегали по всему купе, выискивали, наблюдали…
Густые, рыжие с проседью усы немного смешно топорщились; круглая, аккуратно подстриженная борода еще более полнила лицо моего случайного спутника.
Он был хорошо одет; почти легкое пальто, висевшее на крючке, поражало меня своей оригинальной подкладкой с массой карманов.
До сих пор мне не приходилось видеть ничего подобного. Нельзя было сомневаться, что все эти тайники-карманы имели особое назначение и были устроены так, что почти не замечались. Пассажир снял котелок, аккуратно положил его на сетку и надвинул на слегка поредевшую шевелюру головы темную шелковую бескозырную шапочку; затем, еще раз осмотревшись, достал из кармана записную книжечку и тщательно принялся выводить в ней какие-то цифры и знаки.
Я сидел против него и тоскующе посматривал на серенький денек, с неудовольствием предвкушая предстоящую мне сегодня неудачную поездку.
Поезд шел не особенно быстро, точно сознавал, что пассажирам его спешить некуда, и он может тащить их лениво, не принеся им своей ленью никакого ущерба.
II
Я не мог понять, что такое заставило меня оторваться от наблюдения за погодой и посмотреть на моего спутника, но я понимал, что желание было не с моей стороны. Над моей волей восторжествовала чья-то другая. Я обернулся — и глаза мои встретились с упорным взглядом моего соседа напротив.
Он точно фиксировал меня, изучал, видимо, стараясь разгадать мою национальность и некоторые особенности характера.
Для сильных волей людей это не трудно. Что мой спутник обладал таковой, я вскоре убедился.
— Я уверен, что вы не бельгиец, — резким, немного скрипучим голосом неожиданно спросил он, и его серые глаза еще настойчивее проникли в меня.
Вопрос был сделан по-немецки. Я не ожидал услышать здесь этот язык. Мне не хотелось почему-то сказать правду, но опять против воли я должен был открыть мою национальность.
— Иначе и быть не могло, я так и предполагал, что вы русский или… финляндец! О, я знаю тех и других, их легко узнать по некоторым движениям, повороту головы, немного рассеянному взгляду и… костюму, — прибавил он.
Странная улыбка прозмеилась по его тонким губам.
Мною овладела неожиданно смелость.
— Мне интересно также узнать, какой же вы национальности? — спросил я его.
— Я не заставлю вас ломать головы. Я немец, настоящий германец, тевтон. У вас в России мы желанные гости; я несколько раз бывал в Петербурге, Москве и в других больших городах и везде встречал необычайное гостеприимство. Русские народ добрый, немного наивный, впрочем, — бросил он мимолетное замечание.
— Но если вы бывали в России, значит, умеете говорить по-русски?
— Да, немного, но все же могу объясниться, если желаете, — с легким акцентом ответил мне по-русски немец. — Род моей торговли заставляет меня говорить на многих наречиях. Я торгую драгоценными камнями, преимущественно бриллиантами. И, так как мои товары требуют большой осторожности и сохранности при перевозке, то я принужден сам перевозить их во все концы света.
Теперь я понял причины такого множества карманов в пальто моего спутника. Взгляд мой невольно упал на них.
Усмешка тенью скользнула по лицу немца.
— Вы смотрите на мои баулы и ящики? Но сейчас они совершенно пусты; я именно отправляюсь за пополнением запасов, а потом поеду для их распродажи, — все так же по-русски объяснял он. — В Антверпене ведь в настоящее время центр торговли бриллиантами. Бельгийцы сумели перетащить ее сюда из Амстердама. Голландцы оказались слишком ленивы для подобной промышленности.
Меня заинтересовал мой случайный собеседник, я пытался вызвать его на дальнейшие разговоры.
III
Во время нашего короткого переезда он подробно, систематично умел мне все объяснить, рассказать, какие существуют сорта бриллиантов, как и где они добываются, как шлифуются, и сообщил мне также приблизительную разницу их стоимости.
— Самое странное в бриллиантах, это их свойство изменять свой блеск согласно атмосферическим условиям. На севере, в особенности в полосе вашего Петербурга, пожалуй, даже в Стокгольме, иногда и Лондоне, блеск его ярче, чем здесь, в Бельгии, у нас в Германии, не говоря уже о южных странах; там сразу бриллиант становится тусклее, его яркость тухнет.
Обыкновенно мы покупаем эти камни, так называемое сырье, на Лондонском рынке, там центр их продажи, а затем уже привозим в Антверпен и отдаем известным шлифовальщикам, которые по указанным нами формам шлифуют их, придают им особый блеск; ведь даже в этом случае существует мода! Кроме того, имеются четыре различных цвета бриллиантов: чисто белые без всякого порока, затем золотистые, голубые и черные. Ну, эти не так распространены, хотя и очень дороги. Самый большой спрос имеют обыкновенные камни яркой воды! Этим сортом преимущественно и торгую я. Круг моих покупателей интересуется только ими… — и он медленно поднял левую руку и протянул ее мне.
На безымянном пальце в перстень был вправлен крупный голубой бриллиант, изумительный по форме и по блеску.
— Я лично предпочитаю вот этот сорт!
Рука рассказчика потянулась обратно, но он сделал это как-то особенно. Голубой бриллиант все время находился в поле моего зрения и затем сразу исчез.
— Если вам будет интересно посмотреть на работу шлифовальщиков, я охотно сведу вас. Они все меня отлично знают и разрешат этот осмотр постороннему.
Я поблагодарил любезного немца, но он пошел еще дальше.
— Пойдемте вместе с вами также и на бриллиантовую биржу; в Антверпене имеется и такая! — с улыбкой пояснил он. — Понаблюдайте, очень интересно! Сделки совершаются не меньше, чем на бумажном денежном рынке, но вы не услышите здесь крика: ажиотаж отсутствует, крупные суммы произносятся спокойно, они никого не втянут, и многомиллионные сделки совершаются ежедневно.
— А в Лондоне? — невольно полюбопытствовал я.
— Там на бриллиантовой бирже обороты еще крупнее, но не забудьте, там торгуют только сырьем, необделанными камнями, а здесь, это совсем готовые драгоценности.
Поезд стал уменьшать ход, расплылась сеть подъездных путей, замелькали железнодорожные строения и, немного спустя, мы въехали в Антверпенский вокзал.
IV
Условившись, где встретиться, я расстался с моим любезным спутником и пошел осматривать давно желанный Антверпен, на сегодня наскоро, оставив подробный осмотр до завтрашнего дня.
Солнечный день не располагал отправляться сегодня в музеи, которые заняли бы у меня много времени, а, главное, бриллиантовый торговец предупредил меня, что он остается сегодня в Антверпене только до вечера и завтра не может мне быть полезен.
У меня с собою был «Бедекер». Пользуясь им, я быстро обежал, объехал все достопримечательные места старой бельгийской столицы, побывал в соборе, осмотрел снаружи древние постройки гёзов, сделал прогулку по длинной набережной Шельды, всей запруженной множеством пароходов, парусных лодок, мутной, медленно струящейся, непривлекательной.
Мне удалось даже забежать позавтракать. Времени до нашего свидания с немцем осталось мало, и я торопливо поспешил на назначенное место.
Аккуратно, минута в минуту, мой рыжий спутник явился. Благосклонно закивала голова в котелке, улыбка обнаружила крепкие, но мелкие зубы.
— Мне кажется, я переменю свое мнение о русских. До сих пор я считал их чрезвычайно неаккуратными и плохо исполняющими свои обещания. Но вы, должен сознаться, педантичнее нас, немцев, и явились, — и он при этом вынул из кармана темные лукообразные часы, нажал пружинку, причем они прозвенели несколько раз, — вы явились даже на три минуты раньше. Это достоинство!
Мне оставалось только поклониться, прослушав подобные слова.
— Теперь идемте.
Мы вошли во двор небольшого дома, причем меня поразили железные, точно литые ворота. Калитка автоматически захлопнулась за нами сама. Завернули за угол, поднялись во второй этаж. Только тут мы обнаружили присутствие людей. Слышался негромкий говор и непрерывное шипение.
— Это разговаривают наши камешки между собой, — пошутил мой спутник, — точно гады, которые держат совет, как бы им лучше заползти в сердце человека.
«Неприятное сравнение», — внезапно промелькнула у меня мысль при этих словах, и чувство гадливости проползло по моему телу.
Мы прошли через узкий коридор. Какой-то пожилой человек окинул нас зорким взглядом и, узнав моего спутника, почтительно поклонился ему.
— Вот сюда, — указал мне немец на светящееся отверстие в форме бубнового туза.
Отворенная ногой дверь распахнулась.
Передо мной — длинная комната с большими зеркальными окнами. Несмотря на сумрачный день, в ней достаточно светло. Неприятное шипение усилилось.
Все пространство перед окнами занято вертящимися станками; целый ряд шлифовальщиков сидел перед быстро вращающимися аппаратами и работал. Глаза у работников были защищены роговыми окулярами с особыми увеличительными стеклами, дающими возможность наблюдать шлифуемый камень, каждое уклонение шлифа от формы, незримый простым глазом самый тонкий волосок ошибки. Вся летящая от шлифования алмазная пыль, отбиваемые ненужные осколки камня, все тщательно попадало в особое, закрытое помещение тут же находящейся машинки и затем продавалось особо.
V
Работающие коротко здоровались с моим спутником, когда мы проходили мимо их станков. Он кидал им односложные немецкие приветствия.
Затем мы отправились в следующую комнату, где отшлифованные бриллианты разбирались, браковались и распределялись по известным сортам.
— Вы думаете, что надзор отсутствует в этом производстве? — неожиданно спросил меня, оборачивая назад голову, немец. — Напротив, надзор здесь идеальный. Помните, когда мы вошли сюда во двор, калитка сама отперлась перед нами и так же бесшумно захлопнулась, ведь тайна ее открытия и запора известна только одному человеку на всей фабрике — это инспектор. Из своего кабинета, посредством хитроумно комбинированной системы стекол, он может наблюдать одновременно не только за всеми рабочими, как шлифовальщиками, так разборщиками и укладчиками, но видеть также, кто входит в дом и кто его покидает.
Я с изумлением пожал плечами.
— Мы встретили при входе человека. Он был послан инспектором спросить меня, с кем я пришел.
— Но ведь вы ему ничего не сказали?
Загадочно улыбнулся мой спутник.
— К чему слова? Достаточно одного знака. Вот этот камень за меня говорит все, что мне нужно, — и он указал на свой знаменитый перстень.
К инспектору попасть нам не удалось. По словам немца, он был очень занят, извинялся, что не может меня принять, но предлагал все свои услуги, если мне что-нибудь понадобится в деле приобретения или шлифования бриллиантов.
— Таких заведений в Антверпене имеется несколько, но это самое большое. Вот почему я и предпочитаю иметь с ним дело. Я уверен, что меня здесь не обманут и не продадут, — иронически засмеялся мой спутник.
В эту минуту он мне сделался неожиданно противен. Этот смех, это самодовольство, чувствовавшееся в нем, произвели на меня гадливое впечатление.
Осмотрев бриллиантовую шлифовальню, мы вышли снова на двор; точно так же калитка сама собой отворилась перед нами и опять бесшумно захлопнулась, когда мы очутились на тротуаре улицы.
— Теперь отправимся на бриллиантовую биржу, — предложил мне немец.
Но мне сделалось неприятной эта прогулка с ним. Я хотел было отказаться, но почувствовал, что моя воля снова скована, и, ничего не сказав, пошел с ним вместе.
Мы молча шли по извилистым улицам старого Антверпена. Я легко мог бы в нем заблудиться, тем более что сумрачный день сказывался все больше и больше. Надвигались сумерки, и когда, после недолгих странствий, мы остановились перед каким-то небольшим старинным зданием, за ближайшим углом, по-видимому, вспыхнул уличный фонарь, и отражение весело забегало в окнах домов.
VI
В невысокой зале собралось человек 25–30 торговцев драгоценностями. Когда мы проходили мимо, некоторые кидали рассеянный взгляд на нас, раскланивались с моим спутником, но вообще мало обращали на нас внимание. У каждого была своя забота, свое дело.
Говорили негромко, солидно, скупо. Слова падали редко. Мне показалось, что все они были строго обдуманы заранее и составляли окончание того процесса мысли, который происходил перед этим в голове говорившего.
Несколько лампочек под зелеными абажурами, в большой нише, то вспыхивали, то потухали.
— Это расценивают камни, — объяснил мне немец, — тут лампочки всевозможных освещений, газ, электричество, керосин, даже масло и, наконец, свечи, все имеется тут! Купец должен знать основательно покупаемый товар, все его качества и недостатки.
— Ист! — раздался негромкий и внушительный призыв.
Мой спутник обернулся и поспешил к небольшому, почти квадратному торговцу, направлявшемуся к испытательной нише. Они вошли в нее, и занавесь за ними запахнулась.
Я испытывал чувство, точно попал совершенно в другой мир. Все эти торговцы, близкие друг другу, разговаривали между собой; разнохарактерные национальные черты лиц ясно выдавали их происхождение. Тут были и французы, и англичане, и бельгийцы; преобладал еврейский тип у некоторых из купцов; сильные брюнеты казались мне румынами или итальянцами с дальнего юга.
Но, повторяю, что обычного торгового шума, движения здесь не было. Люди мирно беседовали, точно о каких-то пустяках. Изредка передавали друг другу кожаные, тщательно сложенные пакетики, шли в испытательную нишу, снова возвращались обратно.
Мне, незнакомому человеку, все это казалось странным, совершенно непонятным.
— Ну, вот и я, — услышал я за собой сзади голос немца, — купил товару, не хотите ли полюбоваться?
И он вытащил из какого-то кармана такой же кожаный сверточек, как и у других, и подойдя вместе со мною в другой конец зала, повернул кнопку электричества.
Лампочка дала сильный, но строго ограниченный пространством круг света. Передо мной блеснул ряд бриллиантов. Это была целая Голконда; яркий блеск их слепил мне глаза.
Я невольно отшатнулся.
Довольный произведенным эффектом, немец благосклонно промолвил:
— Сейчас видно, что вы новичок; несколько ничего не значащих камешков вас поражают. Пустяки заплатил за них, 100 тысяч франков, и то неполных! — и сейчас же прервал свою речь, громко заметив: — Я вижу, что вам все это надоело. Идемте обедать: я хочу вас угостить великолепнейшим местным обедом, так называемым обедом бриллиантщиков, причем для вас откроется очень интересное и небывалое зрелище.
Последнее обещание меня чрезвычайно заинтересовало; я послушно отправился за ним. Нам пришлось идти недалеко; ресторан «Конго» приветливо встретил нас. Подбежавший громадный негр с толстыми выпяченными губами почтительно взял от нас шляпы и трости, помог снять пальто, причем мой спутник, вынув из кармана последнего заветный сафьяновый сверток, переложил его в карман сюртука.
VII
Здесь, в ресторане, было все оригинально. Тропический мир далекого Конго, этой золоторуной овцы покойного короля Леопольда, был показан воочию.
Прислуга вся была негрская, в характерных национальных одеждах; женщины-негритянки бесшумно скользили босыми ногами между рядами столиков. На небольшой эстраде играл африканский оркестр; какие-то особые инструменты таинственно звучали; шум их напоминал то ветер, то падающие листья, то какое-то бряцание, стук сухого бамбука. Все это было оригинально, ново для меня, и я вполне отдался моим впечатлениям, забывая на время моего случайного спутника, не слушая, как он приказывал, составляя меню, гиганту-негру.
— Вы сейчас будете есть такой обед, какой едва ли вам когда-нибудь удавалось пробовать, — вырвал меня из мечтаний тот же резкий уверенный голос немца. — Вино мы африканское не станем пить, оно чересчур терпкое и тяжело действует на голову; я просто заказал дать нам шабли; впрочем, если вы предпочитаете что-нибудь другое, пожалуйста, приказывайте!
Но я положился на его выбор.
Мы сидели некоторое время молча. Я чувствовал на себе фиксирующий взгляд моего собеседника, он снова пытал, ощупывал меня, стараясь глубже проникнуть в мои мысли…
Слегка брякнувшая тарелка подошедшего без шума к столу лакея-негра положила конец этому гипнотическому внушению.
Мы принялись за обед. Шабли было подано настоящей температуры; я безучастно отнесся к африканской гастрономии: она мне не особенно понравилась — слишком пряная, едкая, возбуждающая.
— Как это странно: до сих пор ни вы, ни я не назвали свои имена. Случайность, но изумительная, — немного деланно произнес немец.
Я потянулся в карман за своей визитной карточкой.
— Нет, подождите, останемся пока неведомыми друг другу, — твердо по-русски сказал он. — Это мы еще успеем.
Мне показалось, что он не хочет назвать себя из каких-то особых, только ему известных соображений.
— Как вам угодно, — точно обрадовавшись, согласился я.
Мне самому почему-то не хотелось сообщать моему спутнику свое имя.
Разговор сделался общим; говорили о русской жизни, о Петербурге, Москве. Немец оказался недурно знающим все обстоятельства русской жизни, даже до мелочных подробностей.
Хотя я ему не выяснил своей профессии, но, по-видимому, он уже догадывался и со своей методой выискивать, ощупывать, кидал вопросы, которые сейчас же потухали, если оказывались неудачными.
VIII
— Что бы вы мне ответили, если бы я вам предложил небольшое занятие, которое давало бы вам хороший верный доход? — неожиданно спросил меня немец, пристально уставившись в мое лицо.
Я вздрогнул от неожиданности.
Не дав мне ответить, он продолжал:
— Не подумайте, что я налагаю на вас какое-нибудь трудное дело, обязательство…
Он, видимо, старался смягчить свои первые слова, придать им случайный интерес, не имеющий большого значения.
Я продолжал молчать.
— Мне необходимо получать время от времени сведения из России о положении бриллиантового рынка. Обращаться за этим к торговцам, ювелирам, я не могу: каждый подобный запрос чувствительно подымает цены, варьирует положение рынка… Мне необходима помощь постороннего человека…
Это меня заинтересовало. Войти в мир драгоценных камней, познакомиться с деловыми тайнами этой оригинальной отрасли торговли — привлекало меня.
— Но едва ли мне ответят на те вопросы, которые я буду предлагать. Ювелиры и торговцы сейчас же поймут, что я профан, или же…
— Что вы подосланное лицо? — докончил мою фразу мой случайный собеседник. — Да, это очевидно. Но я вам укажу именно те торговые дома и тех лиц, которые на ваши вопросы ответят вам вполне откровенно, разъяснят необходимые пункты и вообще «эклерируют»[3] вам все положение рынка, — как-то особенно подчеркивая редкое слово, пояснил он. — За все эти сведения, которые вы будете мне сообщать, я расплачусь щедро. За каждое такое сообщение сколько бы вы желали получать?
Полное недоумение с моей стороны выразилось пожатием плеч.
— Не стесняйтесь называть цифру: повторяю, подобная услуга недешева. Вы, как посторонний человек, совершенно не заинтересованный в нашем деле, принесете мне громадную пользу. Ну, называйте цифру!
В уме моем промелькнуло 10 рублей, 25, но я сейчас же испугался таких высоких притязаний за пустые сведения, которые нс составляли для меня особого труда.
— Ну, я приду к вам на помощь, я вижу, что вы слишком стесняетесь. Скажем, за каждое такое сведение, письменно или телеграммой сообщенное вами мне, вы получите 200 рублей; мало, по вашему мнению?
Я обомлел от такой крупной цифры, но сейчас же сообразил колоссальные обороты бриллиантовых торговцев и понял, что 200 рублей— это только капля в море их капиталов.
— Я не требую сейчас вашего согласия. Вы, по прибытии домой, в Россию, мне напишете о нем. Это время еще терпит, тем более, что раз мы сойдемся, ваше сотрудничество будет постоянное? Ответ вы мне сообщите…
Тут он немного замялся, затем вытащил из кармана бумажник, поднес ближе к глазам и вытащил небольшой картон, на котором стояло:
«„Торговый дом Джузеппе Анкоро“, международный товарообмен, Барселона».
Изумление мое дошло до крайнего предела.
Передо мной сидел типичный немец, берлинец или саксонец, а на карточке напечатана итальянская фамилия и испанский город.
Немец понял мое недоумение.
— Это маленькая хитрость. Ввиду замкнутости бриллиантового рынка, каждое письмо, адресованное на меня, как на человека, более или менее в нем известного, возбудит подозрение среди других членов нашей биржи; вот почему я и даю вам мой условный адрес, откуда уже все письма безопасно ко мне доставляются.
Я ничего не ответил ему на это. Музыка вскоре стала затихать, перестал реветь громадный слоновый бивень, трещать маленький барабан под нервными ударами черных рук какой-то жительницы Конго. Обед окончился, и мы пошли к выходу.
Уже на пороге ресторана немец мягко сжал мне руку повыше локтя и тихо прибавил:
— Я надеюсь, что вы мне ответите, и мы с вами сойдемся!
IX
Эта случайная встреча, вероятно, скоро исчезла бы из моих воспоминаний, как вообще все случайные дорожные встречи, разговоры, даже лица.
Но таинственная бриллиантовая биржа, где мы тогда были с немцем, невольно заставляла вспоминать и его самого.
В Антверпене я остался только один день. Осмотрел некоторые музеи. В особенности, меня поразил один из них, посвященный произведениям Рубенса. Фламандцы отдали долг своему знаменитому земляку и собрали в роскошных залах все, что могли только раздобыть из произведений его талантливой кисти.
Мне показалась в одном из уголков большого зала знакомая фигура немца. Он стоял с каким-то высоким сухощавым человеком военной выправки и что-то убежденно ему говорил.
Тот кивал ему головой, видимо, с ним соглашаясь.
— Как же он хотел еще вчера выехать из Антверпена? — невольно подумал я. — Вероятно, задержался со своими бриллиантами.
Меня не потянуло подойти к нему и поздороваться; я перешел в другой конец зала и остановился перед изумительным полотном Рубенса «Снятие со Креста». Не знаю, заметил ли также и он меня, но потом я уже не видел моего вчерашнего спутника.
Проходил я и мимо таинственного дома, где шлифовали бриллианты. Он напомнил мне крепость благодаря своей солидной постройке, плотным, кованым из железа воротам и рядом таких же ставень во втором этаже около окон. Нижний этаж представлял из себя глухую стену.
Окончилась в Льеже выставка довольно поздно осенью. Я уехал в Россию гораздо раньше, еще летом, утомившись сутолокой выставочной жизни, этим непрестанным колесом и ярким калейдоскопом красок, впечатлений, лиц и непрерывным шумом.
В России меня вполне захватила японская война. Все это так живо воспринималось сердцем, все наши неудачи, потери горячо волновали меня, и пестрая ярмарка зарубежной жизни погрузилась в туманную даль.
Забыл я и о моих странствиях по бельгийскому муравейнику; впечатления непрерывной деятельности промышленных его центров тоже ускользнули из моей памяти.
Но Антверпен, а в особенности бриллиантовая биржа, нет-нет, да и вспоминались мне. Туманным пятном мелькала перед глазами фигура случайного спутника-немца, но его просьбы я все-таки не исполнил и ничего ему не написал.
Мне почему то претило это сделать, и я откладывал писание ответа все дальше, дальше.
Случай совершенно неожиданно напомнил мне опять о нашей встрече. Это было так.
X
Был удушливый летний вечер. Семья моя находилась вне города. Мне приходилось всю неделю толкаться здесь, и я, чтобы убить время, подышать воздухом, отправился погулять по тенистым аллеям Каменного острова.
Масса экипажей, автомобилей летели на Стрелку; все это было переполнено нарядными дамами, корректными джентльменами, скакали военные…
Картина была блестящая…
Обойдя знаменитый мысок, на котором наблюдают не заход солнца, а красивых дам в роскошных туалетах, я направился обратно вдоль Невки.
Вереница экипажей продолжала медленно тянуться. Я наблюдал за нею, отыскивая знакомые лица и неожиданно вздрогнул. В одной из колясок сидел пожилой, седоватый, с острой бородкой какой-то господин, изящно одетый, в котелке. Рядом с ним находился… мой антверпенский знакомый! Да, это был он, я не ошибся.
Они оживленно разговаривали; первый что-то показывал рукою на Невку, немного горячился. «Немец» повернул голову, последовал его указанию; его взгляд неожиданно остановился на мне и, кажется, как будто застыл.
Он, видимо, колебался, что ему делать, — поклониться ли мне, кинуть ли слово-другое приветствия (экипаж ехал у самой пешеходной аллеи) или сделать вид, что он ошибся.
Но я был убежден, что он меня узнал. Сомневаться в этом было трудно.
Мне была неприятна эта встреча; я отвернулся и стал смотреть на лежащий по ту сторону реки Крестовский остров.
Затор экипажей на этот раз был немалым и весь ряд их еле-еле двигался.
Вернулся обратно, но знакомая коляска проехала очень мало вперед.
— И вы здесь гуляете, милый друг? — раздалось сзади меня.
Это оказался мой приятель, биржевой маклер.
— Почему это вы так заинтересовали директора П. банка? Он вместе с сидевшим с ним известным иностранцем (позабыл его фамилию) все время смотрел на вас и разговаривал; по-видимому, тоже предметом их разговора были вы!
— Не знаю, — отклонился я от каких-либо объяснений. — А кто такой этот знатный иностранец?
— Я забыл его имя; он часто бывает в Петрограде, появляется на бирже. У него здесь громадные связи. Трудно решить, кто он, немец, бельгиец ли, но, видимо, у него большие дела с Россией, ему везде оказывают почтение. Это персона грата не только в одном финансовом мире.
В эту минуту я немного пожалел, что не ответил антверпенскому немцу. Кто знает, может быть, действительно, он помог бы мне получить хороший верный заработок…
Писать ему теперь было бы немного странно.
У меня мелькнула новая мысль — отыскать его самого и переговорить лично.
Но как найти? Я не знал ни имени его, ни положения. Наше мимолетное знакомство не дало мне никаких сведений.
Я обратился с этой целью к тому биржевику, с которым я встретился на Стрелке. Тот обещал узнать, но через день телефонировал мне, что «немец» уже уехал из Петербурга.
XI
Снова ушли в вечность года. Из памяти моей исчезли и последние остатки воспоминании о Бельгии. Завеса времени заволокла все плотным туманом.
События за событиями мчатся с быстротой молнии, точно экстренный поезд убегает куда-то вдаль, оставляя за собой только клубы дыма, быстро рассеивающегося в воздухе.
Принеслась к человечеству и современная европейская война. Теперь уже нельзя сомневаться, что она не носит какой-нибудь местный характер. Воюют чуть ли не все европейские государства. Нервными когтями захватила она каждого, приковала к одной себе общее внимание, заставила содрогаться ее ужасом, небывалым зверством современных гуннов-тевтонов, восторгаться героизмом бельгийцев и сожалеть их разрушенное гнездо, их поруганную отчизну!
Не знаю, заметил ли кто-нибудь несколько строк, промелькнувших в военно-иностранной хронике.
Вот что гласили они:
«Во время осады Антверпена неожиданно было обращено внимание защитников города на одно здание, в котором помещалась шлифовальная фабрика бриллиантов. По сведениям оказалось, что работы в ней уже давно не производятся, хотя там жили, так как в окнах был виден свет. У проходившего по улице вечером патруля возникло случайное подозрение в пожаре. В верхней части довольно высокого бельведера, помещавшегося на крыше, неожиданно вспыхнул яркий огонь. Это продолжалось несколько секунд, затем он потух. Все здание снова погрузилось в темноту. Начальник патруля настойчиво стучал в бронированные ворота, но никто не отзывался. Выломать их представлялось очень трудным.
Оставив несколько людей наблюдать за домом, начальник патруля сообщил командующему городом, и утром отряду удалось проникнуть в само здание. Оно было пусто. Куда исчезли таинственные жильцы из него, никто не знал.
Немало „интересного“ нашлось в этом таинственном жилище. Как оказалось, оно принадлежало одному немцу, довольно часто сюда приезжавшему. В бельведере прекрасно оборудована станция беспроволочного телеграфа, в шлифовальной были устроены приспособления для фабрикации бомб, а в самом низу приготовлялась взрывчатая смесь для них.
Измена свила себе гнездо в самом центре и, как теперь выяснено, оно существовало уже здесь немало лет, все время выдаваемое за бриллиантовую шлифовальню.
Эти шлифовальщики были немецкими агентами, передававшими все малейшие сведения и наши секреты в Берлин.
Как жалко, что оба стоявшие во главе этого „благородного“ учреждения немца вовремя исчезли. Для них оказалось бы превосходное место на приемной мачте беспроволочного телеграфа».
Воспоминания сразу нахлынули на меня, рассеяли туман. Теперь я ясно понял, какими бриллиантами торговал мой антверпенский немец, так щедро предлагавший оплачивать пересылаемые ему сведения из России.
Георгий Северцев-Полилов ПОД ЧУЖОЙ ЛИЧИНОЙ
I
— Ты, Джим, пойдешь сегодня в море? — спросил крепыш-моряк в шерстяной синей фуфайке с белым якорем на правой стороне груди.
Его рыжеватые усы повисли над губами, редкая бородка кучерявилась, слабой тенью обрамляя красноватое грубое лицо.
— Да нужно было бы, — нехотя отозвался его товарищ, высокий плотный парень, не выпускавший из зубов короткой трубки.
Широкая ладонь его приглаживала упрямо выбивавшийся из-под шапки клок темно-русых волос.
— Погода только выдалась неудачная; может, за ночь стихнет! А то, смотри, Дик, волны что горы: на якоре лодку не удержать.
Оба моряка сидели у окна одного из матросских кабаков в Гримсби и лениво тянули горький эль. К ним подошли еще несколько моряков-соседей, тоже владельцев небольших рыболовных судов.
Начались толки и споры; в конце концов, человек пятнадцать решились выйти на рыбный промысел поздней ночью, чтобы рано утром приняться за работу.
Моряки, закончив свои обыденные кружки с элем, рассчитались с хозяином и, надев свои желтые, из просмоленной парусины пальто, направились к гавани, где их ожидали рыболовные боты.
Впереди шумело невидимое море, порыв ветра пригибал пламя в газовых фонарях, фантастические тени от дрожащего света раскидывались по мокрому от мелкого дождя каменному молу, лодки и боты скрипели снастями, где-то назойливо звенела якорная день, а в высоких реях злобно посвистывал пролетавший ветер.
II
Привычные руки принялись по знакомым местам опускать сети, закинули якоря. Ловко управляются рыбаки со своими снастями. Вскидывает заливчатая волна их бот, как легкое перышко, водой захлестывает, а моряки спокойно справляются с привычным делом.
Давно уж потухли фонари на ботах, затушил их порыв ветра. Ничего, и без них справляются! Сети опустили. Второй якорь куда далеко от первого забросили.
Часа три провозились, давно уже из гавани вышли; много времени прошло, сами не знают, что делать.
— Домой плыть далеко: пока еще доедем, да обратно, много времени уйдет, — заметил Джим старому Джону, много лет уже плававшему с ним вместе на рыбачьем боту (родственником он ему каким-то доводился).
Молчаливый старик, редко когда разговорится, все какую-то думу про себя держит.
— К тому берегу поближе, что ль, отплыть; может, там поспокойнее?
Молчит старик, не отзывается.
— Что ж ты, старый, уснул, что ли? — настойчиво сказал Джим.
— Лучше на волнах качаться, чем к тому берегу плыть: там немцы, — угрюмо откликнулся рыбак.
— Немцы, немцы… знаем мы их: где они в темноте-то нас увидят, в такой-то ветер! Отстоимся поближе, где к берегу, а как утро светать станет, и уйдем!.. Клади румпель на юг!
Недовольно заворчал старый в положил румпель по желанию хозяина.
Примеру Джима последовали и остальные боты. Только два из них почему-то остались в море; все прочие ушли к немецким берегам.
III
Прав оказался старый волк: еще далеко до немецкого берега оставалось плыть, как дорогу ботам преградила какая-то черная масса. Белая лента прожектора перекинулась мостом на воду и нащупала приближающиеся боты.
— Стой, — прогремел чей-то голос в рупор. — Кто такие, куда плывете?
В ответ с некоторых ботов послышались проклятия. Не ожидали британские рыбаки, так скоро наткнулись на врага.
Поняли немцы, с кем имеют дело. И грозить не стали, не стоило с жалкими рыбачьими лодками свару заводить. Приказали только подойти ближе к миноносцу, а затем, как воробьев под шапку, поочередно одну за другой опростали рыбацкие лодки от их экипажа.
Привели их всех к себе на миноносец, в пустую темную камору заперли и с добычей направились обратно к немецкому берегу.
Наутро на английских ботах уже плыли обратно в британские воды немецкие моряки, переряженные англичанами. С собой вместе взяли они старика Джона, угрожая ему смертью, если он не укажет дорогу к английской гавани, откуда вчера ночью выплыла флотилия рыбаков.
Съежился старик. Но воля не своя, пришлось покориться, хотя задумал он отплатить врагу за его нападение; как, чем — старый рыболов сразу не мог сообразить, но в голове его роились уже планы.
Вместо рыбы, на этот раз рыболовные боты были нагружены немецкими минами. Хитроумный план пришел в голову одному из немецких начальников: проскользнуть в английскую гавань под видом английских рыбаков и там совершенно безнаказанно разбросать мины. Никто не сможет догадаться о такой выдумке: разве можно подозревать своих же людей в этом!
Немцы смеялись и одобрительно кивали головой, когда узнали о хитроумной выдумке своего начальника.
— Зададим мы этим гордым британцам, взлетят их суда на воздух в своем же порту. Им и в голову не придет догадаться о нашей шутке! — самодовольно говорил немецкий моряк.
— А вот я еще что выдумал, капитан, позвольте вам сообщить, — неожиданно сказал один из немцев, переодетых английскими рыбаками.
— Говори, Карл; я знаю, у тебя голова набита не горохом, — благосклонно согласился начальник выслушать своего подчиненного.
Последний наклонился в уху капитана и стал шепотом передавать ему свой план.
— Великолепная идея!.. вот будет эффект-то! — со злорадством сказал немецкий моряк и прибавил: — Нужно это сейчас же исполнить; когда пойдем обратно, это будет неудобно.
IV
— Ну, старик, показывай, где ставили ночью сеть, а ну! — прикрикнул на Джона капитан Вольгемут.
Нахмурился британец. В голове у него созревал уже план, как только немцы подойдут к английским берегам, чем-нибудь дать знать своим о приходе врага.
«Неужели они только и плывут сюда, чтобы обобрать нашу рыбу?» — с недоумением подумал старик и послушно направил флотилию к тому месту, где стояли поставленные ночью сети.
Бурная ночь не помешала богатому улову. Все сети были переполнены крупной рыбой, бившейся в крепких ячейках.
Немцы без зазрения совести воспользовались чужим трудом; весь улов сейчас же был ими сложен в боты и, как только сети опростались, Вольгемут крикнул своей команде:
— Ну, молодцы, принимайтесь за дело!
Должно быть, работа пришлась по душе немецким морякам. Они прицепили небольшие мины к рыболовным сетям в разных местах и опустили сети опять на старое место в море, закрепив якорями.
— Хо-хо-хо, — гоготал Вольгемут, — хорошая рыба попадется в эти сети; потанцуют английские офицеры, когда взлетят на воздух.
Немецкому капитану представилась та минута, когда какое-нибудь английское судно, проходя в этом месте, случайно коснется поставленных сетей и дотронется до прикрепленных в ним мин.
Легкого прикосновения достаточно будет, чтобы неосторожный корабль сейчас же был взорван и отправился со всем своим экипажем ко дну.
— Смотри, английская собака, какое угощение приготовляем мы твоим землякам! — презрительно кинул капитан старику Джону, указывая на опускаемые в воду мины.
V
— А теперь, детки, у меня есть еще план, — предложил Вольгемут своим товарищам, — осталось у нас еще, кажется, порядочно мин?
— Много еще, капитан, хватит взорвать весь английский флот, — не без бахвальства отозвался кто-то из команды.
— А краска есть с собой?
— Как не быть, имеется, — отозвался другой. — На траулере, который на прошлой неделе захватили у англичан, все так и осталось.
Несколько дней тому назад немецкой миноноской был захвачен английский рыболовный траулер, занимавшийся вылавливанием в Немецком море немецких мин, которые, по приказу императора Вильгельма, были раскиданы повсюду.
«Англичанин» так увлекся своим делом и протралил уже несколько десятков немецких адских машин, что не заметил, как к нему подкрался вражеский миноносец и под угрозой стрелять и потопить захватил его.
Вместе с рыбачьей флотилией переодетых немцев, этот траулер, тоже под командой немецкого капитана, сопровождал боты в их рискованную экспедицию.
Подойти близко в английским берегам он не решался, но все-таки проводил эти лодки до места остановки сетей.
Капитан Вольгемут не любил медлить. Он сейчас перекинулся на своем боте к траулеру, переговорил с его командиром, и оба офицера с веселым смехом принялись за исполнение нового остроумного плана.
План этот был прост. Немцы придумали окрасить свои мины в английские цвета и этим вызвать сомнение, что взрывчатые аппараты поставлены самой Англией. Подтасовать общественное мнение, в особенности с помощью податливого и готового на всякую услугу агентства Вольфа, было нетрудно; телеграммы быстро оповестят весь мир о вероломстве Великобритании и свалят всю вину с больной головы на здоровую.
Немало понакидано было в Немецкое море замаскированных подобным образок мин. Старались видать именно в том месте, где проходили суда нейтральных государств. Это было сделано для того, чтобы при взрыве одного из последних можно было бы объявить виновницей Англию.
— Ну, дальше ты не ходи с нами, Шварцберг, — сказал своему товарищу, командиру траулера, Вольгемут, — мы без тебя продолжим наш маскарад и постараемся ввести в заблуждение наших приятелей-англичан.
Траулер остался ожидать направлявшуюся дальше к английским берегам рыбачью флотилию.
VI
Ветер дул попутный, но капитан все-таки решил немного отстояться на море, чтобы подойти к Гримсби, когда достаточно стемнеет. Это давало немцам возможность безопаснее заняться своим страшным делом. Никто не обратил бы в сумерках на них внимания.
— Ну что, английская собака, лежишь? Трусишь? — презрительно обратился в старому рыбаку один из экипажа.
Только сжался Джон, закусил губы, чтобы не ответить дерзкому врагу. У старика уже созрел план. Он надеялся, что никто из немецких злодеев не уйдет из родного ему Гримсби.
К вечеру погода переменилась. Хотя и было мористо, но ветер значительно упал. Солнце спускалось за чуть видневшуюся береговую полосу, море дышало солью и йодом. Легкая дымка сумерек подернула водяную поверхность, кое-где заклубился туман.
— Ну, теперь пора. Ставь паруса! Живо домчимся до нашей цели, — приказал капитан, и боты понеслись на северо-запад, по направлению к гавани Гримсби.
Все ближе и ближе вражеская земля. Вечер потопил в темноту все кругом. Неожиданно прорезал тьму яркий столб берегового прожектора, перекинулся через все рыбачьи боты и стал нащупывать дальше в море; видимо, убедившись, что, кроме рыбачьей флотилии, море свободно от других судов, луч прожектора упал. Снова стало темно.
Ослепленный ярким светом электрического луча, Вольгемут облегченно уставился в темное пространство, казавшееся теперь еще глубже, еще темнее…
— Вот и Гримсби, — послышался глухой голос морского волка-англичанина, — и его опытный глаз уловил линию газовых фонарей.
VII
Все ближе и ближе стягивалось огненное ожерелье гавани. Притихли и немцы на лодках, боятся немецким словом перекинуться, выругаться, чтобы не выдать себя; только Вольгемут, держа револьвер у груди старика Джона, сидевшего на носу первой лодки, зорко следил за британцем.
Старый рыбак не подавал признаков жизни. Он вперил глаза в знакомую ему одному только точку на берегу и, затаив дыхание, настойчиво ожидал, когда боты подойдут к ней.
Передалась ли его затаенная мысль немецкому капитану, или тот ради осторожности инстинктивно берегся захваченного врага, но он грубо схватил за плечо англичанина и внушительным шепотом сказал:
— Помни, британская собака, если чем-нибудь посмеешь подать сигнал своим, сейчас же будешь убит!
Точно не слыхал угрозы старый Джон и ничем не отозвался на нее.
Вот уж немецкие боты проскользнули створы гавани; здесь ветер еще стал тише. С берега неясно слышался человеческий голос.
Вольгемут сам понял, что настало время приняться за разбрасывание мин. Чтобы отдать приказание, он на мгновение отвернулся от пленника и еле слышным шепотом сказал:
— Начинайте!
Этого было достаточно, чтобы старый рыбах собрал все свои усилия и, как уж, быстрым скачком перекинулся через невысокий борт загруженного тяжелыми минами бота.
Еще мгновение — и он, отдуваясь от попавшей ему в рот воды, поплыл к берегу.
Вольгемут растерялся. Он не знал, что ему делать: стрелять в плывущего беглеца или воспользоваться минутой замешательства и, не исполнив своего дерзкого плана, в темноте ускользнуть обратно?
Последнее намерение он предпочел, и тихий приказ плыть обратно сейчас же передался по всей немецкой флотилии.
До створов оставалось недалеко, но ветер еле раздувал упавшие паруса; неуклюжие рыбачьи боты медленно поворачивались и тихо двигались по успокоившейся поверхности гавани.
Только одну мину удалось сбросить в воду, остальные лежали наготове, но теперь было не до них.
— Скорее, скорее! — торопит капитан переодетых матросов. Близок створ, мелькнули его разноцветные глаза.
Нос первой лодки почти уже касается гигантских ворот гаваньского створа, как неожиданно задребезжал электрический звонок, где-то глухо брякнул автоматический аппарат, и тяжелые створки медленно стали сдвигаться.
Ужас охватил вражеских моряков: они поняли, что попали в западню, из которой выхода нет никакого.
У Вольгемута в голове блеснул отчаянный план: кинуть одну мину в заграждающий выход могучий створ, взорвать его и выйти на свободу.
— Кидай мину, прямо в ворота, — громко скомандовал он соседнему боту.
И германцы, подняв дружными усилиями тяжелый аппарат, со всей силы швырнули его о каменный парапет, к которому были прикреплены дубовые ворота.
Раздался громкий взрыв, все полетело вверх, столб воды перекинулся через мол и с грузным плеском упал обратно в воду.
Море расступилось. Лучи прожектора ярким столбом упали на место взрыва. Страшная картина обнаружилась: из всех пятнадцати ботов каким-то чудом уцелели только два последние; обе стороны стенки были разрушены, от тяжелого створа не осталось и следа.
VIII
Начальник гавани сейчас же принял меры, чтобы выловить те мины, которые могли случайно остаться целыми и повредить выходившим из гавани судам.
Всю ночь рыбачьи лодки, освещенные лучами прожектора, искали этих страшных утопленников, но их оказалось очень мало. Несомненно, что от страшного взрыва, благодаря детонации, они тоже взорвались.
Следы взрыва были ужасны.
Когда рассвело, англичане убедились в этом. Их утешало только то, что ни одно английское судно, даже рыбачья лодка, не пострадали при этом.
— Ну, старик, тебе будет награда, — благодарно взглянув на морского волка, сказал начальник гавани. — Благодаря тебе, адский замысел немцев не удался.
— Я хотел сообщить вам, господин комендант, еще кое о чем, — тихо, по своей привычке, сказал Джон и медленно передал о траулере, захваченном немцами у англичан и о его злонамеренной работе, имевшей целью опорочить британское имя.
Не умолчал старик и о привешенных немцами к рыбачьим сетям минах.
Всполошились английские власти. Сейчас же был снаряжен один из быстроходных миноносцев; он должен был немедленно отправиться в путь и во что бы то ни стало захватить предательский траулер.
— Ну, Джон, — ласково похлопывая по плечу старика, промолвил командир миноносца, — ты пойдешь с нами, пусть твои старческие глаза поработают на пользу родины; ты выищешь этот немецкий траулер и узнаешь его?
— Как не узнать! Я помню хорошо всю его оснастку.
Яркий день сменил непроглядную ночь. Свежело. Седая волна чувствовала себя хозяйкой. Точно змея, шипела она, перегибаясь своим зеленым телом.
— Вот и ноши значки, — указал Джон на махалки, привязанные у буйков, где были брошены сети.
Командир осторожно далеко обошел опасное пространство, и миноносец продвинулся дальше.
— Вон какой-то рыболовный пароход, — заметил несколько времени спустя один из офицеров миноносца.
Командир посмотрел на судно, «съел» его взглядом и спокойно ответил своему подчиненному:
— Это, Чарли, судно его величества, видишь, английский флаг!
Все ближе и ближе надвигался миноносец на «рыбака», качавшегося на якоре.
— Ура! — загремело британское приветствие на борту последнего.
Командир успокоился.
— Ну, не прав ли я был, Чарли, это наш, английский траулер, вероятно, вылавливает немецкие мины.
Капитан снова приложил бинокль к глазам и, после короткого наблюдения, с довольным видом сказал:
— Теперь я вижу вполне ясно, что это не вражеское судно; вся оснастка, окраска, да и номер английские.
Офицер, пожав плечами, ничего не возразил своему начальнику.
— Ну, а ты, Джонни, что скажешь? — обратился к рыбаку командир, точно ища подтверждения в его ответе.
Напряглись старые глаза, сузились.
— Подозрителен он мне что-то, капитан, шкот не так вытянут, как мы, англичане, вытягиваем, через шлюз иначе пропущен.
Такая мелочь заставила командира миноносца усмехнуться, но он все-таки не упустил из виду замечания рыбака.
— А мы сейчас это все выясним. Чарли! — крикнул он офицеру. — Спустите шлюпку и отправляйтесь для осмотра!
Немного спустя, шлюпка запрыгала по волнам, приближаясь к траулеру.
Командир наблюдал в бинокль за последним.
Какая тревога внезапно поднялась на борту траулера! Приближение лодки, видимо, было нежелательным для него. Не было спущено трапа для приема подплывавших моряков, а напротив того, спешно вытягивался якорь, было слышно, как визжала торопливо цепь.
Понял капитан миноносца, что дело неладно. Он сейчас же вывесил сигнал, что будет стрелять в траулер, если он не впустит на свой борт команду с английской шлюпки.
Суета сразу замерла на судне. Миноносец подошел ближе к неизвестному пароходу — и сейчас же все выяснилось.
Несмотря на недолгое сопротивление, траулер очутился во власти англичан. Это было то же судно, которое вчера ночью встретилось с переодетой флотилией немцев.
Капитан Шварцберг злобно посмотрел на английского моряка, заставившего его положить оружие, и молча сдался в плен.
Сейчас же принялись обыскивать все помещения судна; в них нашлось более сотни мин, которые немцы расставляли на фарватере.
Немцы захватили несколько недель тому назад у англичан этот траулер, благоразумно умолчав об этом для того, чтобы, пользуясь английским обликом судна, совершить свой злодейский план.
Александр Барченко «ЭКСТРЕННЫМ РЕЙСОМ»
I
Дальше море было мутное, молочно-зеленое; к горизонту накрывалось лиловой пеленой, что на востоке свисала с неба. А здесь, возле борта, вода пряталась под плотной шершавой чешуей. Перепутавшись, липли к бокам парохода вялые водоросли, обломки тростника, золотые шкурки бананов и старые пробки.
С океана на рейд забирались шквалы, сдирали с воды блестящую скользкую кожу, расстилали длинные темные коврики ряби. И с ковриком вместе, будто припаянная, вползала на рейд крутозадая джонка под жестким костистым парусом.
Малайские «прау» сновали, протискивались между судами с видом озабоченных сплетниц, а тростниковые шатры на судах черномазых тамилов уже закурились дымом; готовят ужин.
Океанское судно сразу при входе облипают двуногие паразиты; не помогают ни брандспойты, ни ругань. От «москитов рейда» под тропиками застрахован только станционер, и то не всегда. Цепляясь Бог знает за что, туземные лодки липнут к корме парохода день и ночь напролет, густым веером, как стружки к магниту.
Надо видеть, как здесь заходит солнце. Солнцу надоедает за день еле ползти под зенитом. И будто лопается нить, что держит над горизонтом этот багровый сплющенный диск. Быстро — только следить успеваешь — диск падает на воду, полощет в воде широкую алую ленту и тонет.
И нет зари. Быстро сползает темнота, тушит краски.
Далеко, над городом, встало мертвое зарево электрических «солнц». А рейд весь иллюминован цветами живыми и теплыми.
Там, где с утра еще вытравил якоря белый лебедь, красавец почтовый лайнер «Messageries Maritimes»[4], в темноте протянулось и в воде опрокинулось по три длинных ряда огненных глаз. На борту звуки оркестра. Темная масса русского «Добровольца»[5] тяжело придавила сонную воду ближе к выходу в море.
В башнях-трубах жестко скрежещет. Поднимают пары. И, чудится, вся эта чудовищная железная громада трепещет и вздрагивает с тихим гуденьем.
Внизу визжат и стрекочут лебедки, с шаланд грузят последний уголь. Ночью дальше, на север…
II
— Надежда Семеновна! Что с вами?
Молодая женщина зябко встряхнула плетеными бабушами на крошечных ножках, настороженно выпрямилась в лонгшезе, отозвалась рассеянно:
— Со мной? Господи, абсолютно ничего!
— Но вы побледнели?
— Просто вздрогнула. Боялась, что он сейчас сорвется в воду, этот матрос… Кстати, Василий Степаныч, кто он? Или это юнга?
Толстый кубышка-штурман пыхнул жесткой манильской сигарой, развел рукой облачко пахучего дыма, пригляделся.
— Ну, уж… какой юнга! Четвертый десяток малому идет. Это Янсон, эстонец. Ловкая шельма… Идет первым рейсом, а с делом освоился, будто родился на нашей «Туле». Что он вас так интересует?
— Просто так. Разве не прелестная группа?
Под балкончиком расплющился на воде плоскодонный туземный дощаник, груженый плодами. На корме нагие фигуры сидят, охватив руками колени, вокруг очага. Огонь мажет кровью нахмуренные лица, подчеркивает белки влажных глаз. Длинные огненные руки ложатся на воду, гладят выпуклый борт парохода. И как раз в полосе света висит над бездной, над чем-то возится стройная фигура в матросской рубашке, с сильным загорелым затылком.
Штурман перегнулся через решетку, окликнул:
— Янсон!
— Есть!..
— Ты что там копаешься? Иллюминатор? Готово?
— Так точно.
— Поди-ка сюда.
— Есть!
Матрос подергал за невидимый линь, подтянулся, змеей пополз вверх, перемахнул на руках через фальшборт, вытянулся перед столиком.
— Вот, Янсон, барыня тобой интересуется.
Изящная собеседница укоризненно повернулась к штурману.
— Василий Степаныч! Я вовсе не хотела отрывать… молодого человека от работы. Просто испугалась… Вы работали в такой опасной позе.
Стройный матрос повел глазом на лицо говорившей. Ответил не сразу, странно-холодно, с заметным акцентом:
— Покорно благодарю, барыня. Эта работа ничего… Пустяки.
— Все-таки… Вы прежде не служили в цирке?
Матрос выдержал паузу, еще более долгую, вздрогнул углами резко очерченных губ, возразил спокойно:
— Никак нет, не служил. Я с детства на море.
Пассажирка с беспомощным видом повернулась к штурману. Видимо, не знала, чем кончить беседу с этим жилистым эквилибристом, вблизи таким заурядным и вместе странным; взялась было за неразлучный спасительный портфельчик, нерешительно порылась в нем. Внезапно встретившись взглядом с невозмутимым матросом, растерянно щелкнула замочком. Вдруг придвинула столик, потянула из бокальчика чайную розу с длинным стеблем.
— Вот вам… приз!
— Бери, бери, чего же ты… — поддержал штурман. — Ишь, лапы-то трясутся. Опять наханжился на берегу? Можешь идти.
— Шельма! — заметил штурман. — А золотые руки. Ему боцманская вакансия впору.
Звонкий голос окликнул с мостика над тентом:
— Господа! Можно?.. Не помешаю?
Младший помощник, красивый крепыш в ослепительном кителе, бронзовый от загара, спустился с лесенки. Щелкнул каблуками перед Надеждой Семеновной, повторил, вопросительно глядя обожающим взглядом синих глаз:
— Нет, в самом деле… Не помешаю? Вы не стесняйтесь!
— Господи! Вот несносный мальчик.
Мальчик с наслаждением обвис в камышовом кресле, вытащил носовой платок.
— Уф! Ну и вахта. Ночью всего на два градуса ниже.
— А скоро снимаемся?
— Слава Богу, сейчас. Вон и наш старик катит.
Со стороны города вылупились и росли светящиеся зрачки, разноцветные глазки моторного катера. Стало видно, как взгоняет он грудью пенистую гору впереди, как морщится за ним взбаламученная вода.
Капитан поднялся по трапу, тяжело отдуваясь, вытирая лысину взмокшей тряпочкой, быстро перебежал балкончик. Не подошел даже к столу, торопливо откозырял привставшим офицерам, не без тяжеловесной грации сделал ручкой по адресу дамы. Через минуту снова появился на пороге, рявкнул хриплым, школы старого флота, баском:
— Василий Степаныч! Пожа-алть!..
Штурман обменялся с собеседниками изумленным взглядом, поправил кортик и трусцой направился к начальству. Младший помощник покосился вслед.
— Старик штормует… Что-нибудь случилось на берегу! Вам, разумеется, нечего тревожиться. Скорее снимемся. Через неделю вы на берегу.
— И слава Богу! Меня этот переход страшно утомил. Хорошо на море, а на земле лучше.
Младший помощник прикрыл ресницами синие глаза, выдержал долгую паузу и сказал значительно:
— Для вас лучше… конечно. Но… Вы не хотите понять меня…
— Николай Константинович! Опять? А ваше слово? Смотрите, идет капитан.
Хозяин железного чудовища, широкоплечий крепыш в куцем кителе, с Владимиром в петлице, тяжело протопал кривыми ногами из рубки в сопровождении штурмана. Подошел к столику, блеснул крупными каплями пота на лысине.
— Небожительница, ручку… Простите старика, пробежал невежей. Такая история… Разрешите присесть? Так, Василий Степаныч, с Богом, прокладывайте… Да! Классных Гринберг оповестит, а вы переселенцев успокойте. Спуститесь и объясните.
— Но в чем дело, капитан? Вы меня пугаете…
— Голубушка, Надежда Семеновна! Кабы я сам знал, в чем дело. Не знаю, не знаю… А догадываться боюсь. Мы куда вас поручились доставить?
— Во Владивосток.
— Ну-с, а теперь не ручаемся. Мой совет, перебирайтесь сейчас же на «Бонапарта». Он вас к китайцам доставит, а оттуда как-нибудь.
— А вы разве?..
— Мы, голубушка, через час тоже снимаемся. Да, да. Обратно, в Россию, а уж каким путем — не имеем понятия. В океане получим директивы.
Пассажирка встревоженно расширила глаза, сделала движение подняться с лонгшеза, нерешительно спросила:
— Но, ведь… в таком случае, я рискую совсем не попасть во Владивосток? Скажите, по крайней мере, почему… Ах… Неужели?..
— Ни за что не ручаюсь. Да вам-то горюшка мало. Вас и Китай и Индия с распростертыми объятиями примут.
Пассажирка укоризненно покачала головой.
— И вам не совестно? Я русская или кто?.. Не двигаюсь с места. Назад, так назад!
Капитан изумленно воззрился, пошевелил пальцами:
— А ваш несчастный импресарио?
Пассажирка презрительно выпятила нижнюю губку.
— Какие глупости! Разве нет телеграфа?
III
— Целый час до восхода… Ну, а я уже засыпаю.
— Надежда Семеновна! Одну маленькую минуточку… Вы увидите восход солнца в Индийском океане!
— Но вы понимаете, я хочу спать…
Младший помощник умоляюще таращил глаза.
— Николай Константинович, я до сих пор не могу добиться у вас, куда же мы, собственно, идем сейчас?
Младший помощник развел руками и голову свесил набок с выражением крайнего отчаяния.
— Сами не имеем понятия. С минуты на минуту ждем указаний.
— Неужели… война? Но ведь это такой ужас! А что будет с нами, если уже… объявлено? Нас… утопят?
— Н-ну, это, положим, — помощник обиженно встопорщился, — не так-то легко. Мы зайдем, очевидно, в порт союзной державы, вооружимся. С момента войны наша «Тула» — легкий крейсер.
— В таком случае, вам придется покинуть вашу службу. Ведь вы моряк… коммерческий?
— Мне? Я прапорщик флота. Останусь начальником той же вахты, по всей вероятности.
— И вам не страшно, скажите откровенно?.. Ах, как красиво!.. Вы видели?..
Высоко над трубой парохода сумрак разорвала зеленая молния.
Недвижно на миг стали в воздухе клубы пересыпанного искрами дыма. Тяжело нависла над головой вымазанная отсветом корма большой шлюпки, как раз над лонгшезом Надежды Семеновны.
Порвала синюю дымку новая искра.
Помощник насторожился.
— Кому-то отвечают…
Неожиданно близко раздался мужской сиплый голос, кто-то перегнулся сверху, с командирского мостика.
— Николай Константиныч! Как бы вы, батюшка, старика побудили? Телеграфист вызывает. Требует самого. Звон-ком-то неохота тревожить.
— Надежда Семеновна, одну секундочку.
Надежда Семеновна откинулась на упругую спинку лонгшеза, закрыла глаза. Над головой, на командирском мостике, снова настойчиво застонал вызов из телеграфной рубки. Постепенно оформилась, овладела сознанием новая мысль, погасила улыбку, заставила нахмурить красивые, чуть подправленные карандашиком брови.
«Неужели, в самом деле, война? Кто бы мог думать? Соседи… Сегодня — враги, злые убийцы. Давно ли Надежду Семеновну принимала Германия? Ее выступление в королевском театре… Цветы, гром рукоплескании, овации… Ее успех, почитатели. Выходка этого гвардейца, барона фон-Эберса…
Впрочем, нет ничего удивительного… Сравнить эту нацию с нами? Смешное, но трогательное обожание милого юноши с наглым домогательством перетянутых лейтенантов?.. Ее сердце, она помнит отлично, на минуту даже не дрогнуло, когда сообщили, что барон Эберс пустил себе пулю. У нее даже мысли не мелькнуло навестить его в клинике. И это не жестокость, а просто уверенность, что лейтенант останется жив. Разве она не права — с него, как с гуся вода? „Прусские офицеры не имеют права умирать от любви“ — не от него ли она слышала эту фразу?..»
Надежда Семеновна встряхнула головкой, отгоняя тяжелое воспоминание. Вдруг с легким криком выпрямилась в лонгшезе, вздрогнула, пугливо-зябко подобрала ноги.
Прямо ей на лицо лег пристальный, страшно знакомый взгляд светлых прозрачных холодных глаз. Тот же изгиб бровей, та же складка на лбу…
Сверху стучат торопливые молодые шаги. Потом залязгали ступеньки, грузно ступает толстяк-капитан.
— Надежда Семеновна! Объявлена… Минуем Аден. Франция с нами, Англия ожидается… Ради Бога, что с вами, на вас лица нет?..
— Ах, не, ничего… Просто почудилось. Мне показалось, будто кто то вошел, вон оттуда…
— Оттуда? Да это же наш матрос… Ты чего, Янсон?
— Кнехты почистить, ваше высокоблагородие, поручни протереть…
— Барыню напугал. Сгинь!
Капитан грузно спустился по лесенке, долго вытирал вспотевшую лысину, отдувался. Присел рядом в плетенку, потряс головой.
— Да, мать моя, вот… Стало быть, воюем…
IV
— Чур меня, чур! Думал, русалка, привидение… Голубушка моя, этак вы себя вконец изведете. Которую ночь глаз не смыкаете?
— Разве можно уснуть в такую жару? А на меня еще страшно действует эта обстановка, напряженность, отсутствие огней…
Толстяк-капитан оторвался на минуту от бинокля.
— Матушка, не взыщите. Теперь уж не про огни думать. И то, не сглазить, мимо Малединских-то как прошмыгнули. Николай Константиныч! Пожа-алть!..
Младший помощник отстаивал вахту и потому издали лишь осмеливался пожирать взорами пассажирку.
— Поглядите-ка, юноша, вы… Слеза, что ли, набегает?
Младший помощник взялся за свой бинокль. Оба долго передвигали бинокли вправо и влево, отрываясь от окуляра, поверяли глазом и снова прицеливались в одно и то же место на горизонте. Там, кроме мутной дымки туманного утра, на взгляд Надежды Семеновны ничего не было.
Потом младший помощник оторвал от бинокля глаза и отозвался негромко:
— Так точно!
— А? В самом деле? Позвоните-ка Василь Степанычу.
Штурман бочонком вкатился на мостик, на ходу застегивая китель. Приняв из рук капитана бинокль, будто казак в седле, подался вперед, впиваясь в горизонт. И, когда оторвался, в голосе его протиснулись зловещие нотки.
— Д-да-с!.. И знаете что? Много ближе, чем кажется.
Капитан спросил коротко:
— Сколько, по-вашему?
— Троих насчитал… по огням. А сколько потушено…
Капитан покрутил головой, пощелкал языком.
— Ce-эли! Выход один: попробуем спрятаться. Как раз на траверсе Адена. Василий Степаныч, проложите на Аден. Николай Константиныч, к повороту!.. Жарь без отсечки! Механику — чтобы чище сахара уголь!
Штурман обронил осторожно:
— Солнце скоро взойдет.
— Дудки! Под горизонтом будем.
Капитан разом помолодел, засигналил в телеграфную рубку:
— Гартвиг, алло! Немедленно начинайте вызов… Да, да, по секретному. Начинайте вызов наших судов. Начинайте сигналить: «Заметили эскадру… Три вымпела. Не решаемся идти на Аден. Ска-ти-мся к Мадагаскару». Поняли? Разумеется… Ну, пускай теперь перехватывают, колбасники!
Надежда Семеновна бледно улыбалась, пряча прерывистый вздох, пыталась шутить.
— Вот… А вы смеялись вчера над приметой?..
— Типун вам! Мы, слава Богу, ко дну еще не пущены. Коли на такие приметы в этих широтах глядеть… Дайте срок, подойдем к Адену: там на рейде этих ваших примет, как червей после дождя. Уха настоящая!
За пароходом второй уже день увязалась акула.
Капитан уверял, что этих страшных спутников парохода за сутки сменилось, наверное, не меньше десятка. Но, когда бы суеверно настроенные пассажиры ни заглянули за корму, постоянно в хвосте взбаламученной винтами пены острым пером маячил зловещий треугольник плавника. И всем начало казаться, что одна и та же акула гонится за пароходом сотни миль, ожидает, предчувствует добычу…
В рубке штурвальные быстро переталкивали рукоятки штурвала. Палуба на минуту ушла из-под ног Надежды Семеновны, и тяжко перевалилось набок чудовищное туловище парохода. Через минуту выпрямилось снова. Лишь крутой излом пенистого следа за кормой да вспухшая с правого борта водяная морщина говорили о лихом повороте. С новой силой, с высшим напряжением устремилась вперед железная масса.
Капитан вышел из рубки довольный, помолодевший. Вытер лысину, цепко расставил на мостике толстые ноги в позе лихого отца-командира старой школы. Подмигнул Надежде Семеновне на корму в сторону страшных огней и снова прильнул к окулярам. Медленно поворачивал вокруг оси свой грузный торс, обыскивая горизонт. Опять повернулся к корме и… Надежда Семеновна чуть не свалилась с лонгшеза от внезапного, зверского, оглушительного рева:
— Дья-а-аволы!.. Ис-карио-оты!..
Мячиком запрыгал по мостику брошенный капитаном с размаху бинокль. Сам капитан, с видом помешанного, широко разевая рот, простирая руки к корме, завопил, заплясал на месте.
— Искариоты! Зарезали!.. В двадцать четыре секунды подлеца на нока-рею!!..
В ужасе Надежда Семеновна увидела, как, вместе с криком, штурман и один из подручных штурвальных кубарем покатились с мостика, как схватился за голову бледный младший помощник, как сам капитан, сломя голову, кинулся к рубке, с лихорадочной поспешностью принялся передвигать какие-то рычаги, ежеминутно, с настоящим страхом, озираясь в сторону кормы.
Младший помощник простонал с отчаянием:
— Прожектор… Кормовой прожектор. Кто? Когда?..
И, обернувшись, Надежда Семеновна увидела, что за пароходом тянется длинный голубой вуаль, и там, где ложится он на воду, волны вспыхивают тысячами бликов в лучах ослепительного света.
— Но… кто же зажег его?
В ту же минуту прожектор погас.
Капитан, спотыкаясь, вышел из рубки. Прохрипел в сторону младшего помощника:
— Под суд-с, молодой человек-с… под суд!.. Выключатель не действует-с… Вахтенный начальник…
Снизу затопали шаги. Шариком вкатился на мостик штурман, красный, облитый потом, с выражением не только изумления, но и настоящей таинственности на прыщавом круглом лице.
Потом поднялись на мостик матросы-подручные. Дальше затопали беспорядочные шаги нескольких людей. Кто-то топтался на лестнице, протискивался.
Было впечатление, будто что-то тащили наверх.
Надежда Семеновна вздрогнула, с криком отшатнулась.
Из-под нахмуренного бледного лба, под спутанными прядями рыжеватых волос человека, крепко опутанного линем, с руками, грубо вывернутыми за спину, холодные глаза кинули прямо в лицо ей взгляд бесконечной презирающей ненависти. Глаза, что так напугали ее ночью недавно…
Штурман взволнованно докладывал капитану, и глаза у того таращились все более. Подошел к пленнику, кинул коротко:
— Развязать! Как фамилия? Янсон?
Пленник с наслаждением размял ноги, освобожденные от веревок, сразу выпрямился, отозвался спокойно, с достоинством:
— Флота Его Величества лейтенант фон Эберс.
— А!.. Гм… Ну, что ж? Вам мне говорить нечего. Будете доставлены в Аден, если… если ваше предприятие не увенчается успехом. В противном случае… не взыщите… Николай Константиныч! Сдать вахту. Нарядите караул.
В память Надежды Семеновны навсегда врезалась картина, как в рамке. На фоне синего неба, белая брезентовая стенка мостика; к ней прислонена скамейка, спасательная, пловучая; видна сутулая спина переднего конвоира-матроса. Он уже начал спускаться по лестнице, за ним стройная прямая фигура…
И вдруг, будто в кинематографе, разом меняется картина. Крик. Беспорядочное движение… Сразу исчезает спина переднего матроса. Задний от неожиданного удара растянулся на мостике. Через поручни, вместе с скамейкой, что-то летит в океан… Испуганный голос сигнальщика:
— Человек за борто-ом!!
Тишина. Тот же голос с оттенком недоумения повторяет протяжно:
— Человек за бортом. Челове-эк!..
Вспыхнула суета. Тревожно застучал вдоль балконов дробный топот бегущих людей.
С мостика было видно, как перила кормовых балконов облепили целые гроздья белоснежных спортсменок и разноцветных дамских блуз.
Железный гигант не замедлил хода. Рука вахтенного начальника замерла на рычаге машинного телеграфа, взгляды матросов, бросившихся к гребным судам, пристыли с нетерпеливым вопросом к нахмуренному лицу капитана.
Тот тяжело отдувался, мерил главами расстояние.
— Отставить!.. Из-за одного прохвоста не дарить немцам крейсер… Жарь без отсечки!
Капитан передвинулся на правое крыло мостика, куда кинулась Надежда Семеновна, пытаясь отыскать за кормой, среди водяных, разрисованных пеной складок знакомую фигуру.
— Вы, того, успокойтесь, драгоценная… Малому, небось, и не улыбается наше спасение. Этак он, все-таки, надежду какую-нибудь имеет, что его заметят с эскадры, когда подойдут. А уж ежели мы… никаких шансов. А-ах… П-подлая!..
Рука капитана, державшая бинокль, судорожно вздрогнула. Сам он порывисто шатнулся, будто перед ним из-под мостика выросло привидение. Вцепился свободной рукой в поручни, напряженно поддался вперед с биноклем у глаз.
— Ай!.. Господи!..
Это кричал Николай Константинович. На миг он оторвал глаза от бинокля, снова припал к окулярам, снова порывисто, с видом брезгливого ужаса, отдернул бинокль.
Пассажиры внизу заголосили еще беспорядочнее. Махали руками, на что-то указывали…
Надежда Семеновна, еле держась на ногах, переводила глаза с помощника на капитала, силилась сама разглядеть простым глазом то, что привлекало внимание за кормой.
И мутной инстинктивной догадкой в памяти осветилась картина, еще вчера встревожившая пассажиров. Скользкий зловещий треугольник плавника акулы, то исчезавший, то выраставший из моря опять, за кормой, в ключе пены…
Толстяк опустил бинокль, повернул к пассажирке изменившееся, ставшее иссиня-серым лицо. Хотел было ответить, челюсть непослушно задрожала и стукнула.
Подхватив Надежду Семеновну под руку, мягко, но настойчиво повлек ее к сходням. Сказал с видом няньки, боящейся за ребенка:
— Ничего, ничего, голубушка. Ничего… В порядке вещей-c… Вот мы сейчас с вами кофейку. Не тревожьте себя напрасно. Мы уж, того, под горизонтом. Ушли. Спрятались…
Вл. Кохановский ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
I
На борту огромного океанского парохода «Георг» стояли мистер Джерсей и его молоденькая дочь Мэг. Они смотрели в даль, на необъятный водный простор, и думали о том, как через несколько дней вдали, на горизонте, тонкой туманной линией покажется земля, задымят пароходные трубы, засереют каменные громады домов. Продолжительное водное путешествие их кончится, и они очутятся в Англии. Здесь мистер Джерсей займется своими делами, а Мэг, оставив на время его, поедет вместе с своей родственницей в Данию, чтобы увидеться там со своим женихом, лейтенантом немецкого флота фон Гольбе. Она не видалась с ним с тех самых пор, как Германия объявила войну России и Франции. Он тогда гостил у них на вилле в Италии, и они провели вместе чудную весну и лето. Провожая его в Германию, она плакала и говорила, что злые предчувствия томят ее. Он утешал ее, говоря, что ведь не все на войне погибают, и многие не только остаются живыми, но еще становятся героями и получают боевые награды и отличия.
— Пройдет полгода, самое большее год, и мы будем снова вместе с тобою, и тогда уже ничто не разлучит нас… — И потом, улыбаясь, добавлял: — Только тогда я буду уже не простой, никому не ведомый лейтенант фон Гольбе, а герой, увешанный орденами: тогда ты уже с гордостью сможешь сказать — это мой муж…
Когда отошел поезд, увезший его, она долго стояла на платформе и заплаканными глазами смотрела вслед убегающему вдаль красному фонарю последнего вагона.
После этого она недолго жила в Италия и скоро вернулась с отцом в Америку. Здесь потянулись для нее тоскливые и тревожные дни. И ей казалось, что она уже больше никогда не увидит своего жениха. И вот теперь, спустя полтора года томления и тоски, она едет к нему и спустя две-три недели снова увидит его, снова услышит его голос.
Месяц тому назад она написала ему, что мистер Джерсей в скором времени едет по делам в Англию и она упросила его взять ее с собой. Из Англии она направится в Данию и будет там ждать его, фон Гольбе.
«Георг» идет, быстро разрезая своим мощным корпусом холодную воду, но ей кажется, что он едва-едва двигается; весело и шумно в огромных, роскошных залах и в ресторане, но она далека от всего этого, она всеми помыслами своими — там, в далекой ей Германии, где живет и сражается любимый ею человек…
Все больше и больше сгущается тьма над необъятным водным простором, вот звездочка замерцала в ясном небе, вот другая, ветер стал свежее и сильнее.
— Пойдем в каюту, Мэг, — сказал мистер Джерсей, — поздно уже и становится свежо.
Мэг в последний раз посмотрела вперед, в потемневшую даль, за которой скрывалась далекая еще Англия, и пошла за отцом в каюту…
II
Прошло уже больше месяца, как фон Гольбе назначили командиром подводной лодки, а он еще не совершил ни одного крупного дела. Многие его товарищи за это время успели потопить несколько коммерческих и пассажирских пароходов, и это раздражало и возбуждало в нем зависть. Кроме жажды подвига, в его сердце еще лежала глубокая ненависть к противникам. Эта ненависть простиралась не только на военных, но и на мирных граждан. В начале войны, когда он был глубоко уверен в могуществе и непобедимости Германии, в его душе по отношению противника царило лишь презрение и пренебрежение, теперь же, когда он убедился, что с противником приходится считаться не только как с крупной силой, но уже и подумывать о спасении Германии и от разгрома, — злоба и бешенство охватили его душу. Особенно ненавистна была ему Англия, как наиболее неуязвимый противник, и когда ему было поручено потопить несколько транспортов с войсками, идущих из Англии во Францию, он с особенной радостью взялся за это дело, но и здесь ему не повезло. С вражеских судов вовремя заметили перископ его подводной лодки и чуть не пустили ее ко дну. После нескольких таких неудач его назначили топить пассажирские и коммерческие пароходы. Во время одной из стоянок его по беспроволочному телеграфу известили, что в море замечен громадный океанский пароход одного из крупных английских обществ. Он вспомнил о гибели «Лузитании»[6] и о той славе, которую заслужил пустивший ее ко дну командир подводной лодки, и решил во что бы то ни стало здесь добиться успеха.
Выезжая навстречу океанскому пароходу, он чувствовал в своем сердце необычайный прилив силы и бодрости. «Я им покажу, как иметь дело с фон Гольбе», — подумал он, смотря в даль и представляя в своем воображении огромный пловучий город, наполненный тысячами мужчин, женщин и детей…
Потом он вспомнил Мэг… Вспомнил, как обещал вернуться к ней героем и победителем. Усмехнулся гордой и самоуверенной улыбкой и прошептал: «Ты скоро услышишь обо мне, Мэг».
Потом он стал думать о мистере Джерсее. Старик обещал дать за дочерью завидное приданое, а после смерти все его миллионное дело должно перейти в его, фон Гольбе, руки: он не будет скрывать перед собой, что эта перспектива сыграла одну из главных ролей в его стремлении жениться на молодой девушке.
Конечно, он любит Мэг, но все же, если бы не богатство мистера Джерсея, он не женился бы на ней…
Немного погодя, он спустился вниз, в маленькую каютку. Здесь его помощник и механик пили чай.
— Ну, как на поверхности? — спросил помощник.
— Пока лишь вода кругом, — отвечал фон Гольбе, присаживаясь к столу.
— Ничего, — проговорил, усмехаясь, механик, — скоро и кроме воды будет еще кое-что кругом…
Поговорив потом о войне, заговорили о женщинах. Оказалось, что у механика и у помощника фон Гольбе тоже были невесты, оставшиеся в Берлине.
— Как пустим ко дну английский пароходик, так я и в отпуск, хоть ненадолго, попрошусь к своей милой, — проговорил помощник фон Гольбе, — вот уж тогда похвастаюсь ей.
— Я тоже тогда к своей Герте поеду, — проговорил механик и потом, обратясь к фон Гольбе, спросил:
— А вы?
— Моя невеста далеко, — проговорил, гордо усмехнувшись, фон Гольбе.
— Где же она? — спросил механик.
— Она в Америке, — и потом добавил: — Она дочь известного нью-йоркского богача Джерсея.
На лицах помощника и механика выразилось почтение и зависть. Несколько мгновений оба молчали, потом помощник, чуть усмехнувшись, проговорил:
— А что, если кто-нибудь из знакомых вашей невесты будет ехать на этом пароходе?
Фон Гольбе пожал плечами.
— А мне какое до этого дело? Пусть и они испытают силу немецкого оружия.
Потом он рассказал им, как познакомился в Италии перед войной с Мэг и как чудесно провел с ней там время, но началась война, и нужно было спешить в Германию.
Прощаясь с молодой девушкой, он обещал приехать к ней в Америку после войны увешанным орденами героем.
— Что она вам пишет последнее время из Америки? Каково там теперь отношение к Германии?
— После своего назначения в подводный флот я с большим трудом получаю от нее письма и многие из них совсем не доходят до меня, — отвечал фон Гольбе.
Немного погодя он пошел в свою каюту отдохнуть. Здесь он опять думал о Мэг и о том, что через несколько дней она услышит о его подвиге, потом думал, как по окончании войны женится на ней и заживет богатой и беспечной жизнью…
Рано утром его разбудил помощник.
— Вставайте скорее, показался пароход, — проговорил он.
Фон Гольбе быстро вскочил с койки и бросился к перископу. Вдали дымил трубами, приближаясь, громадный океанский пароход.
«Ну, теперь только бы удачно попасть в него и тогда я — герой», — подумал фон Гольбе, и сердце его забилось быстрыми радостными ударами…
III
Утро было ясное, солнечное, но прохладное и ветреное. Довольно большие волны, пенясь и бурля, наскакивали на пароход и рассыпались мелкими, блестящими на солнце брызгами.
Мэг вместе с отцом сидела на палубе и, глядя на залитую ярким солнцем голубую даль, говорила мистеру Джерсею о своем женихе.
В эту ночь он снился ей, снился ласковым, нежным…
— Ну, вот мы и опять вместе, — говорил он, — чего же ты беспокоилась и волновалась?
Потом снилось ей, что они гуляли с ним по каким-то незнакомым улицам, по парку. Сначала светило солнце, потом вдруг наступила ночь и кругом стало темно и жутко. В темноте она уже не могла рассмотреть лицо жениха, и постепенно ей стало казаться, что рядом с нею идет не он, а кто-то другой, далекий и незнакомый.
Она что-то спрашивала у него и он молчал. Вдруг откуда-то блеснул свет, и она увидела перед собой чуждое страшное лицо, горящие ненавистью и жестокостью глаза…
Она долго не могла отделаться от жуткого и тяжелого впечатления этого сна и теперь, сидя на палубе с отцом, рассказывала ему об этом. Он, улыбаясь, смотрел на нее и повторял:
— Длинный путь и незнакомая обстановка утомили тебя и тебе начали сниться страшные сны.
Под впечатлением его спокойствия и ясного солнечного утра, оживления, царящего на палубе, впечатление сна стало постепенно сглаживаться, и спустя некоторое время она совершенно успокоилась и снова стала мечтать о своей встрече с фон Гольбе в Дании, о прогулках вместе с ним, о его ласках.
В то время, когда она, поднявшись с кресла, подошла к борту парохода, она увидела вдруг, что лицо проходившего поблизости матроса сильно побледнело и взгляд его точно застыл, напряженно глядя перед собой на водную поверхность… Мгновение спустя кто-то крикнул около:
— Мина…
На мгновение все точно застыли на своих местах… Но потом невообразимый шум и суета поднялись на пароходе…
— Мина, мина… — неслись крики со всех сторон. Еще секунда и сильный треск и удар потрясли все могучее тело «Георга», и мгновение спустя он стал тяжело погружаться в воду. «Неужели смерть?» — пронеслось в голове Мэг, и ужас охватил ее душу. Быстро, как молния, прорезала ее мозг мысль о скором свидании с фон Гольбе, о светлой и радостной жизни с ним после войны, о тех наслаждениях жизни, которые вообще предстояли ей впереди. Толпа испуганных обезумевших мужчин, женщин и детей неслась мимо нее к спущенным в воду лодкам. Она уже не видела около себя отца, его оттиснула от нее толпа. Напрасно она звала его, он не отзывался. Тогда, увлекаемая толпой и жаждой спасения, она побежала тоже к лодкам. После сильной давки ей удалось вскочить в одну из них. Спустя несколько мгновений переполненная лодка, сильно качаясь на огромных волнах, отплыла от тонущего парохода. Молодая девушка смотрела на бледные, искаженные отчаянием и страхом лица сидящих в лодке, вспоминала исчезнувшего в толпе отца и ужас все сильнее и сильнее охватывал ее душу. «О, — думала она, — если бы теперь был здесь фон Гольбе, он, наверное, спас бы меня и моего отца».
Вдруг огромная волна нахлынула на лодку и, высоко подняв ее, перевернула… «Теперь конец», — пронеслось в голове Мэг. Но она еще не хотела сдаваться смерти. Она хотела жить и быть счастливой.
Очутившись под водой, она напрягла все свои силы и выплыла на поверхность. И вдруг в нескольких саженях от себя она увидела на поверхности не то огромную лодку, не то какой-то странной формы плот и людей, стоящих на нем. «Может быть, это подоспевшие на помощь пароходу?» — подумала она и поплыла к нему… Несколько раз волны захлестывали ее, но она все плыла вперед.
Наконец, ей стало казаться, что расстояние между ней и неподвижной лодкой стало гораздо меньше и она уже различает лица и одежду стоящих на ней людей. «Это немцы», — подумала она тогда и поняла, что это подводная лодка и стоящие на ней люди — ее экипаж. Но ей все-таки не верилось, чтобы они не спасли ее, мирную, ни в чем не повинную американку. Ведь даже во время боев неприятель спасает экипаж враждебных судов…
Они просто не замечают ее. И, изнемогая и выбиваясь из последних сил, она все плыла и плыла вперед… Вот лодка уже совсем близко от нее, и она уже может рассмотреть лицо стоящего впереди всех высокого, крепкого человека… Он внимательными глазами смотрит на нее… И вдруг она узнала в нем фон Гольбе. Стон ужаса и отчаяния вырвался из ее груди, и она потеряла сознание…
IV
Когда мина попала в пароход и он, расколовшись, начал тонуть, необычайная радость и победный задор охватили душу фон Гольбе.
Спустя несколько минуть он отдал приказ подняться на поверхность и вышел на мостик. Жуткая картина гибели тысяч людей открылась его глазам, но эта картина не поколебала его радостного настроения. Он хотел отличиться, хотел прогреметь на весь мир — и вот он, наконец, достиг своей цели… Долго охотился он за неприятельскими судами, но судьба все время была против него, и ему не удалось почти никого пустить ко дну. И вот теперь он вознагражден. Он пустил ко дну не какое-нибудь маленькое суденышко, а огромный, наполненный тысячами пассажиров океанский пароход. Завтра уже об этом узнает весь мир, и награда ищет его. И перед ним мелькнул далекий образ Мэг, и он почувствовал ту гордость, которая охватит ее душу, когда она прочтет в газетах его имя. Крики и вопли неслись отовсюду, несколько лодок, подбрасываемых волнами, пытались торопливо отъехать от тонущего парохода. Вот одна из них перевернулась и все сидевшие в ней попадали в воду. Вот какая-то женщина, барахтаясь в волнах, поплыла по направлению его лодки. Вот лодка захлестнула ее, и она скрылась под водой, должно быть, погибла, но нет, опять на поверхности. Вот она уже совсем близко, и он ясно и отчетливо может рассмотреть ее лицо. И вдруг ему показалось, что ее лицо знакомо ему, чрезвычайно знакомо…
Сердце его начало биться быстрыми и порывистыми ударами, и ему стало тяжело дышать. Напряженным и острым взглядом он продолжал смотреть на нее… Вдруг волна захлестнула ее, и она исчезла под водой…
— Не может этого быть, не может этого быть, — шептал он, чувствуя, как холодный ужас охватывает его душу, — это мне только так показалось. Не может быть…
— Что с вами? — спросил стоящий около него помощник. — Отчего вы сразу так побледнели?
— Мне почудилось, что женщина, которая только что пошла ко дну, моя невеста, — отвечал глухим голосом фон Гольбе.
— Вы давно имели от нее письма? — спросил помощник, и лицо его стало серьезным.
— Давно, — отвечал фон Гольбе.
Молчали несколько мгновений, потом фон Гольбе взволнованно проговорил:
— Но ведь это не может быть! Не может быть, чтобы она ехала на этом пароходе в Европу?! Зачем ей ехать в такое опасное время?
Помощник, пожал плечами, и тихая, точно злорадная усмешка скользнула по его губам.
— Все может быть, г. фон Гольбе.
— Нет, нет, это не может быть, это мне так померещилось, — повторял фон Гольбе, — ей незачем было ехать в Европу, да, наконец, она меня тогда бы заранее уведомила…
— Но ведь вы же говорили, что не все ее письма доходят до вас, — отвечал помощник.
Фон Гольбе старался уверить себя, что не может быть, чтобы Мэг ни с того, ни с сего поехала в Европу, что она преспокойно живет с отцом в Нью-Йорке, в уютном комфортабельном доме, вдали от опасностей, но волнение и тревога не унимались в его сердце. «Сегодня же при первой возможности пошлю ей телеграмму в Нью-Йорк», — подумал он.
Вечером этого же дня он послал телеграмму в Нью-Йорк, а через два дня прочел в газетах, что в числе погибших на океанском пароходе «Георг» погибли известный миллионер Джерсей и его дочь…
«Значит, я не ошибся тогда, и это действительно была Мэг», — подумал он.
V
Спустя несколько дней фон Гольбе, временно покинув свою подводную лодку, пострадавшую в бою с английским миноносцем, возвращался на небольшом немецком военном судне в Германию.
Ему не спалось, и он вышел из своей каюты наверх. Сначала ходил по палубе, потом пошел в самый конец кормы и стал смотреть в даль, в ту сторону, где был Берлин и где его ожидали почести и награды… Образ Мэг уже потускнел теперь в его памяти и ему было только досадно, что вместе с ее смертью исчезли от него бывшие уже так близко и сулившие ему беспечную и веселую жизнь миллионы…
Но потом он стал утешать себя тем, что теперь, после потопления «Георга», он сделался героем в Германии и что всякая самая богатая немка с радостью выйдет за него замуж. И постепенно он стал чувствовать, как на душе у него становится все спокойнее и спокойнее и как образ Мэг все больше и больше тускнеет в его памяти. Когда луна была уже низко и предрассветный ветер стал прохладным и свежим, фон Гольбе хотел пойти в каюту, но вдруг его внимание привлек плывший навстречу судну какой-то белый предмет. Спустя несколько мгновений фон Гольбе рассмотрел, что это труп женщины…
«Какая-нибудь утопленница», — подумал он, но почувствовал вдруг, как какое-то волнение начинает охватывать его душу. Несколько секунд спустя в близко подплывшей к судну женщине ему вдруг почудилась Мэг. «Это не может быть, это не может быть», — подумал он и, подойдя к самому борту судна, нагнулся над водой.
Когда труп, качаясь на волнах, проплыл совсем близко, мертвое лицо женщины показалось ему необыкновенно и жутко знакомым и, точно влекомый какой-то неведомой силой он нагибался все ближе и ближе и вдруг, потеряв равновесие, упал с парохода…
Когда фон Гольбе выплыл на поверхность, то увидел, что судно уже далеко от него… Некоторое время он плыл за ним, взывая о помощи, но оно, не останавливаясь, удалялось все больше и больше. Тогда он понял, что погиб… И, поняв это и почувствовав близко смерть, он с необыкновенной ясностью вспомнил гибнувших на его глазах и моливших о помощи пассажиров с «Георга», умолявшую о спасении Мэг. Вспомнил потом проплывшую только что мертвую женщину, так таинственно похожую на нее, и чем-то роковым и мистическим повеяло на него, и жуткий холодящий страх, никогда не испытанный им до сих пор, охватил его душу…
Спустя неделю матросы английского миноносца нашли труп лейтенанта фон Гольбе на берегу небольшого залива. Лицо его было изуродовано и в остекленевших глазах застыл предсмертный ужас…
Лев Никулин ИЗМЕННИК Фантазия
Принц Генрих Прусский, принц Леопольд Баварский и некто, называемый графом фон Цоллерном, полулежали в креслах, в ставке главнокомандующего у реки Эн. Пронизывающий, беспрерывный дождь стучал по старой крыше дома винодела в Шампанье. Этому дому суждено было приютить трех германских вождей в дни титанического сражения на реке Эн. Граф фон Цоллерн сидел у камина… Вспыхивающие, раскаленные угли минутами освещали крутой актерский подбородок, зачесанные кверху усы и согнутую руку, пугавшую странной неподвижностью. Он поправил сползшую с плеча генеральскую шинель и заговорил резким и не терпящим возражений голосом:
— Или… или… от контратаки к наступлению.
Принц Леопольд шевельнулся в кресле и что-то прошептал еле-еле слышно.
— Что ты говоришь?..
— Так, ничего. Я говорю о жертвах.
— Жертвы! Разве они могут меня остановить?… Повторяю тебе: или… или… или мы, или…
Дверь скрипнула и тонкая прямая фигура адъютанта проскользнула к ним.
— Ваше велич… Простите! Exzellenz!
— В чем дело?
— Наши уланы захватили французского офицера…
— Какое мне дело до пленных!
— Но ваше вел… но exzellenz! Это немец! Мы его все знаем…
Граф фон Цоллерн поднял голову и отрывисто бросил:
— Шпион!
— Нет, exzellenz… Он доброволец… Он изменил Германии и сражался во французской армии…
Тяжело бряцая, передвинулась ближе к колену графа кавалерийская сабля… Он помолчал, потом криво улыбнулся и сказал:
— С каких пор лейтенант и мой личный адъютант не знает, что мы делаем с изменниками…
Адъютант вытянулся и прошептал:
— Да… Ваше величество… Но вы его знаете.
Принц Генрих вышел из долгого оцепенения и нерешительно пробормотал:
— Допросите его, граф… Может быть, он раскаялся и скажет нам многое…
И точно тем же отрывистым голосом, каким он только что отдал приказ расстрелять, граф сказал…
— Приведите его сюда.
Лейтенант исчез… Колебалось пламя камина и принц Леопольд нехотя зашептал:
— Он может нам сказать многое.
Помолчали… Тяжелые шаги и звон шпор пробудили молчание дома. Дверь отворилась, слегка нагнувшись, неуклюже прошел громадный гвардеец и вытянулся у порога. Вслед за ним, слегка прихрамывая, вошел человек с грустным и насмешливым взором и русой бородкой. Он был в мундире французского кавалериста. Еще один гвардеец стал рядом с ним.
Граф фон Цоллерн встал и громко бросил гвардейцам:
— Уходите…
Принцы переглянулись, потом один сказал:
— Но… граф!..
Граф фон Цоллерн повернулся:
— Хотел бы я видеть хоть одного немца, который поднял бы руку на своего государя.
Пленник улыбнулся.
— Кто вы такой?.. Ваше имя? Вы немец?
Пленник, по-прежнему улыбаясь, выслушал ряд отрывистых вопросов и устало сказал:
— Я родился в Дюссельдорфе. Я сын купца… Я писатель…
Резко стукнули металлические ножны шпаги.
— Изменник!..
— Я никогда не был немцем… Потом, вы изгнали меня… Я писатель…
— Лжете! Все мои писатели, ученые и поэты живут одной мыслью со мной! Что вы знаете о французах?
Пленник шевельнулся и любезно сказал:
— Ничего, кроме хорошего…
Граф круто обернулся к нему.
— Вас расстреляют!..
— Я думаю… Один раз вы уже почти уничтожили меня… я был из бронзы. Это было на острове…
Принц Леопольд поднял брови и подумал вслух:
— Он сумасшедший.
Граф Дармштадт спросил:
— Ваше имя?
— Я скажу его вашим офицерам перед казнью… И потом, не завязывайте мне глаза… На это я смею надеяться.
Задребезжал звонок.
Граф приблизился к адъютанту и холодно сказал:
— Расстрелять!.. Перед казнью спросите его имя…
Офицер повернулся к пленнику.
— Да… Вот еще… Завяжите ему глаза.
Граф повернулся к камину и слушал, как затихали шаги пленника и звон шпор, как тихо дышал задремавший принц Генрих.
Потом несколько минут было совсем тихо. Трещали в камине дрова и вдруг резко прогремел ружейный залп…
Снова было тихо… В коридоре прозвенели шпоры.
— Это вы, лейтенант… Его имя?
— Анри Айне… Вернее, Генрих Гейне, ваше величество.
Была тишина… слегка затрещали ручки кресла у камина. Потом граф фон Цоллерн повернулся к адъютанту и тихо сказал:
— Feuer!..[7]
Началась канонада…
Лев Гумилевский В ЛЕСАХ ПОЛЕСЬЯ
Лейтенант фон Трауриг, высокий, худой, слегка сутуловатый офицер с некрасивым, прыщеватым лицом, вел свою роту по едва проходимой чаще леса, намереваясь обойти русский полк, атаковавший немецкие позиции.
Было уже позднее утро, но в густом лесу как будто бы еще только светало. Осторожно пробираясь по узкой, едва заметной тропинке, солдаты шли молча, стараясь не шуметь, почтительно пропуская вперед лейтенанта. Он то и дело останавливался, осматривая солдат, и иногда ждал, чтобы они прошли все перед ним, постоянно покрикивая, то и дело хватаясь за ременный хлыст, висевший у него на руке.
— Лучший способ сделать солдата храбрым и послушным, — часто говорил он, указывая на хлыст.
В конце прошедшей перед ним роты шел маленький, худой солдат в неуклюжих сапогах, в широкой шинели, совсем придавленный тяжестью винтовки и сумки и как будто прижатый своей нахлобученной каской.
Фон Трауригу не нравился этот солдат.
— Гей, Крацер, что у тебя за вид, — крикнул он ему, — как ты идешь… Отстать хочешь, скотина?!
Крацер шел медленно, прихрамывая, едва волоча ноги по грязной, затоптанной дороге. Он вспыхнул и взглянул на офицера.
— Трут сапоги, господин лейтенант… Трудно идти!
— Молчать! — рявкнул офицер и больно стегнул хлыстом солдата по обнаженной шее, так что тот покачнулся, но промолчал и быстрее, пошел вперед.
Лейтенант обогнал его и пошел впереди. У Крацера на глазах выступили слезы и в голове мелькнула острая, яркая мысль:
«Подожди… Первая пуля в тебя», — и он инстинктивно сжал винтовку холодными, красными руками.
Фон Трауриг обошел роту и пошел впереди, стараясь не сбиться с незнакомой дороги. Вдруг спереди донесся несомненно приближающийся шум. Фон Трауриг остановил роту и стал ждать, стараясь угадать, что бы это могло быть, и распорядившись на всякий случай приготовить винтовки.
Ждать пришлось недолго. Штук с сорок громадных зубров, распуганных из Беловежской пущи, быстро шли прямо на солдат.
Фон Трауриг облегченно вздохнул.
— С этими справимся… Ребята, пли…
Он сам выстрелил первым, намереваясь выстрелами распугать стадо невиданных зверей, но жестоко ошибся. На одно мгновение зубры опешили, но потом дружно бросились на врага, быстро свирепея, шагая через убитого лейтенантом вожака, раздражаясь запахом крови и сопротивлением врага.
Стрелять было уже невозможно. Солдаты терялись и начинали отступать, стараясь спрятаться за деревьями, укрыться от разъяренных чудовищ с всклокоченной шерстью, налитыми кровью глазами.
Вид их был, действительно, ужасен.
— Ребята, в штыки, — крикнул лейтенант и, думая предупредить отступление задних рядов солдат, сам кинулся туда, размахивая шпагой, стараясь ободрить и удержать солдат.
Но штыки легко вонзались в шкуры животных и оставались в них. Зубры ломали винтовки, мяли людей, готовились уничтожить всю роту.
И, едва уже сопротивляясь, вслед за последними рядами начали отступать солдаты, оставляя позади себя смятых и искалеченных товарищей, умиравших под копытами свирепых зверей. Лейтенант еще несколько раз пытался крикнуть, остановить, но ничего не мог сделать и отступал с горсткой солдат, которых зубры быстро гнали в глубь леса к болотной трясине, которую перед тем только так осторожно обошел лейтенант.
Отступая, фон Трауриг уже чувствовал, как постепенно вязнет нога. Но выбора не было. Зубры окружили его тесным кольцом и, казалось, умышленно загоняли его именно сюда.
И вдруг они остановились, верно, почувствовав дальше трясину. Фон Трауриг облегченно вздохнул и осмотрелся. Из солдат, кажется, никого не было близко: все успели скрыться в лесу.
Лейтенант злобно сжал кулаки и пошел вперед: сзади терпеливо ждали его зубры и еще доносилось злобное похрапыванье их копыт.
А ноги самого лейтенанта вязли все глубже и глубже.
Он менял направления, старался идти быстро и легко, и все-таки вяз все глубже и глубже. Ужасная мысль, остро, как нож, прорезала его мозг, и сердце сжалось тоскою и болью.
Хриплые крики проклятья вырывались у него.
Он уже напрягал последние усилия, когда увидел за три-четыре сажени впереди отчетливо видный берег, сухой и высокий, перед которым шла зеленая полоса травы. Лейтенант бросился туда со вздохом облегчения.
Но едва лишь ступил он на зеленую гладь обманчивой травы, как вдруг опустился до пояса в мягкую, жидкую грязь, противно и прочно сдавившую его ноги.
Чем больше он карабкался оттуда, тем глубже утопал, махая руками, цепляясь за эту же бездонную топь, губившую его. У лейтенанта со страшною болью шевелились корни волос на голове от тоски и ужаса. Судорожными гримасами ужаса искажалось его лицо и нечеловеческие стоны с хрипом вырывались из горла, от напряжения уже точившего кровью.
В мутившемся мозгу еще тлела искра надежды:
— Кто-нибудь пройдет… Бросит веревку с берега… сучок…
И лейтенант, стараясь сэкономить силы, стараясь задержаться как можно дольше на поверхности, стонал и звал на помощь:
— Помогите… Помогите…
Грязь доходила уже до плеч, сдавливая грудь, душа густым запахом гнили и грязи.
Кто-то Неведомый и Всемогущий направил шаги Крацера, блуждавшего по лесу, на крики и стоны лейтенанта. И когда Крацер дошел до берега, он сразу не узнал своего офицера: до того было искажено ужасом и страданием его лицо. Но лейтенант узнал его; к нему быстро вернулось хладнокровие, и он крикнул:
— Эй, Крацер… брось сюда сучок, или хоть винтовку… Скорее, я не могу выбраться…
Крацер подошел совсем близко к берегу и сел:
— Это вы, лейтенант… И вы думаете, я помогу вам? О, нет!
Голос его был тверд и спокоен.
Лейтенант понял. Он молил, заклинал Крацера то со стонами угроз и проклятий, то со слезами мольбы и унижения. А липкая грязь доходила ему уж до шеи. Было трудно шевелить руками и едва-едва подымалась сжатая грудь, чтобы вздохнуть.
Крацер сидел молча и смотрел на безумные глаза офицера.
Он не радовался страданиям лейтенанта: как грозный и справедливый судья при совершении акта правосудия, он был совершенно спокоен.
Ему даже было жаль чуть-чуть его.
Он встал и взял в руки винтовку:
— Лейтенант… Вы видите еще? Вот все, что я могу для вас сделать… Поняли?
Потухающее сознание лейтенанта прорезала яркая мысль только на мгновение. Прежде, чем он понял, — Крацер выстрелил, а когда дым разошелся, на поверхности быстро затягивавшейся зеленой травы неуклюже торчал только медный наконечник каски.
Через секунду и он исчез.
Лев Гумилевский БРЕД
Доктор покачал головой.
— Нет, сестрица, не выживет… Рана ничего бы… Но два дня в этакой обстановке… Ведь это, знаете…
Не кончил, еще строже качнул головой и пошел к следующей койке:
— Вы, впрочем, последите за ним, микстуру давайте… Организм, знаете, железный… Может быть…
Пожал плечами, на мгновение задумался и наклонился над новым лицом, привычно чередуя внимание между одинаковыми койками, одинаковыми лицами. Молча стала рядом сестра.
Тяжело скрипнула койка сзади.
— Сестрица… Я… я…
Она торопливо подошла. Тот задыхался, едва разжимая ссохшиеся губы, едва поворачивая в сухом рту словно одеревеневший в долгом беспамятстве язык. Но кое-как сумел выговорить:
— Сестрица… Я слышал…
Она совсем низко наклонилась над ним, успокаивая ласковым прикосновением нежных рук, стараясь понять, рас слышать.
— Не выживу… А я не хочу… Я хочу рассказать… Хочу… Тогда умру… Я скажу… скажу…
Не выдержал напряжения последних сил и умолк, впадая в беспамятство. Доктор прислушался к его дыханию и смущенно развел руками:
— Я всегда говорю — может быть… Ничего верного нет в медицине… Ничего…
И с любопытной улыбкой обратился к сестре:
— Ведь это кризис у него, сестрица… Теперь выживет, наверное… И как он мог слышать… Как…
Махнул рукой, точно досадуя на непорядок в его обходе, и опять двинулся дальше.
— Вы оставайтесь с ним, пока…
Сестра осталась.
Было что-то особенное и в словах этого раненого, впервые разомкнувших его потрескавшиеся губы за время пребывания в госпитале, было что-то особенное и в его бледном лице, странно выделявшемся из сотни других таких же бледных лиц, неподвижно покоившихся на белых подушках длинного ряда коек. Гримаса боли, искажавшая углы его губ, словно занемела в одном осязании чего-то ужасного, неотвратимо близкого, всегда стоявшего рядом с ним.
А ожившие теперь черты лица то и дело сквозили выражением страшного напряжения. Точно каким-то только желанием мучилось все тело и смутный инстинкт толкал, напрягая все душевные и телесные силы, только на оправдание этого желания. И это было так ясно в чертах его лица, что невозможно было отвести взгляда от него, невозможно было трезвым рассудком задушить желание чем-то прийти ему на помощь.
Сестра сидела возле него, молчала и ждала. И мучилась сознанием своего бессилия помочь ему, облегчить его страдания.
А вечером он очнулся. Застонал, заговорил, точно бредил:
— И опять он не то сказал… Не выживу я… Умру… Опять умру. Был уж я мертвым… И там был… Там был… У Господа души человеческие меня отпросили… Только рассказать.
И улыбнулось его лицо: радостно и светло улыбнулось.
Он замолчал на минуту, точно ждал вопроса. И сестра спросила:
— О чем рассказать?
Не было в ее вопросе любопытства, не было искренности. И тот понял:
— Не веришь, сестрица… А ты поверь… Поверь! А вот что я знаю…
Точно просветившая его лицо улыбка дала ему силы. И удивлял его связный рассказ и не были слова похожи на бред. А он улыбался и рассказывал:
— Пошли мы в атаку, сестрица. И шел уж я не впервой. А только надумано было мной в этот раз, что моя пришла череда умереть. И на первом же шагу долбануло меня в грудь, так что словно от толчка только я и упал. Шли это наши через меня, которые и по мне — хорошенько все я помню. Помню я, как и душенька во мне колыхалась, ровно за тело цеплялась, уходить не хотела. И долго так-то. С ночи до другого вечера, стало быть. А вечером меня подобрали и сволокли в могилку. Душенька-то моя во мне еще была. А как стали землей присыпать, учуял я, что душенька из меня вышла. И такое странное со мной сталось: не боли у меня, ни страданий… Ничего, только легкость какая-то. И поплыл я как в воздухе… И вдруг увидел, как кругом меня все такие же душеньки в воздухе плавают. И облики у них человеческие, а только прозрачные, прозрачные, как воздух дым какой… И стремятся, вижу я, все они ко мне. Тут я и тех увидал, что могилу засыпать хотели… Только немцы им засыпать не дали. Налетел разъезд ихний, наши и отошли от могилы и скрылись… А тут подхватили меня словно вихрем душеньки человеческие и понесли по полю… И понесли…
На минуту замолчал. Потом откинулся на подушки и выговорил тихо:
— Доктор идет… После доскажу…
Доктор подошел к его койке. Сестра, пожимая плечами, рассказала ему.
— Бредит… Это хорошо, останется, значит… — равнодушно заметил он.
— Да вы послушайте, доктор… Совсем не похоже на бред…
— Бывает… Послушайте… Любопытно все-таки…
Она опять села около больного. Тот не открывал глаз, пока доктор не отошел в самый конец комнаты, и только тогда опять тихо заговорил, словно и не прерывал своего рассказа:
— И чувствую я, что легко мне и хорошо и радостно… Спрашиваю… Чудно так: спрашиваю, а голоса не слышу и губами не шевелю… Это, вот, мол смерть такая-то и есть? Не страшно совсем?.. Они отвечают: сейчас мы еще на земле… Срок положен душе в сорок дней. А тогда уж на Суд Божий представимся мы… А был я, сестрица, неверующим… И в душу человеческую веры не имел. Со студентами (при университете служил я) всему научился… Поверил я им, что ни души нет никакой, ни жизни там загробной… А тут и спрашиваю: нельзя ли, мол, сказать нашим всем, чтобы смертушки не боялись, ведь вон, мол, хорошо как так-то пребывать… И чую ответ их: о том, мол, мы все тужим… А только сказано нам было Ангелом от Господа, что не пришло время еще тайны своей людям открыть, и что открыть это нужно будет той душеньке, которая сравняет число всех душ человеческих с числом Ангельских сил. И только учуял я ответ этот, как в сиянии великом Ангел явился и громогласно изрек мне: есть сия душа последняя, уравнявшая число душ человеческих, с земли пришедших, до числа сил Ангельских. Иди на землю и первому человеку, коего увидишь, о сем расскажи… Тогда же и возвратись… И указал перстом на меня… И душенька моя опять вошла в тело и почуял я, как сволокли меня с могилы и донесли досюдова… И тебя, сестрица, я первую увидел и тебе рассказал… А ты всем скажи… Легка смертушка, легка… Потому душеньке свободно и легко и радостно…
Сестра вздрогнула и потянулась к его лицу: оно быстро темнело, искажалось страшной гримасою боли. И в этот же момент горячей струей брызнула изо рта яркая кровь, четко прочертившаяся в белой пене…
Доктор вернулся с обхода, еще раз взглянул на любопытного раненого и едва привел в чувство сестру. Она пробовала было рассказать ему, но он замахал руками:
— Вы переутомились… Идите, идите отдохнуть… Не хочу ничего слушать…
А когда ее сменили, он только пожал плечами.
— Ничего верного в медицине. Должен был поправиться и умер… Хотя, в грудь рана… Кровоизлияние от напряжения… Все может быть… Может быть…
Отдохнувшую сестру утром едва-едва убедили, что раненый бредил. Она долго не соглашалась. Но потом поверила и мне рассказала, уверяя, что это был бред. Только бред.
— Только бред.
Александр Грин ЖЕЛЕЗНАЯ ПТИЦА
I
Елена Петровна зажгла елку и стала окончательно поправлять украшения, как вдруг в гостиную быстро вбежал муж Елены Петровны, Николай Иванович Карский, начальник почтовой голубиной станции.
— Я пропал! — вскричал он.
— Коля, что ты!?
— Да, Лена! Непростительная, ужасная оплошность! Я пустил твоего любимца Снежка с важной депешей в N., а вот телеграмма, извещающая, что N вчера занят немцами. Депеша будет у них в руках; а там очень важные сведения!
— Шифрованная?!
— Не знаю. Не я писал ее.
— Коля, ты же не мог знать о положении N.
— Увы! Я, по оплошности, сначала пустил голубя, а затем распечатал телеграмму!
— Я сейчас приду, Коля. Ты очень бледен. Я сейчас.
Сказав это, Карская медленно вышла в прихожую, а затем без шляпы и платка бросилась бегом за задворки, где в сарае стоял ее собственный аэроплан системы Блерио, подаренный мужем три года назад. Карская увлекалась авиацией и участвовала в состязаниях. Теперь она задумала, ни более, ни менее, как догнать Снежка — безумное, отчаянное предприятие.
II
Разговор с мужем — 1 минута; путь до аппарата — 2 минуты; приведение его в готовность, с помощью подвернувшегося прохожего, весьма изумленного и давшего слово молчать — 10 минут. Считая, что Снежок вылетел за 10 минут до прихода Карского в гостиную — Елена получила 23–25 минут. Голуби делают ночью не более шестидесяти верст в час. Они летят по прямой линии. Когда Блерио взвился на воздух, Снежок был, следовательно, верст на 30–40 впереди Карской. Аппарат развивал скорость до 110 верст в час. Елена выровняла его на высоте 40 саженей — обычной высоте почтовых голубей и, пустив мотор вовсю, понеслась во тьме к N. Компас определил ей точное направление.
Снежок был ручной любимец Елены. Она выучила его прилетать на особый сигнал свистка — отрывистую трель с паузами. Летя со скоростью 100–110 верст, Елена по временам останавливала мотор, чтобы свисток был услышан птицей, и подавала сигнал. Через час, к великому ее счастью, маленькая верная птица, свистя крыльями, бросилась в колени Елены. Бесстрашная женщина повернула обратно.
III
Давно уже сидели гости в доме Карских вокруг тихо горящей елки и недоумевали, куда исчезла хозяйка; Карский, переживая двойное волнение, томился, как перед казнью. Где жена? Ее пальто и шляпа висели в прихожей.
Разговор не клеился. Вдруг широко раскрылась дверь, мелькнули женские руки, и Снежок, белый почтовый голубь, так удачно возвращенный из своего путешествия, порхнул в комнату. Вошла усталая, бледная Елена; лицо ее горело счастьем.
— Вот твоя депеша, — сказала она мужу. — Снежок не захотел лететь в N. Блерио я оставила за городской чертой под охраной рабочих и взяла извозчика.
Карский молча целовал ее руки.
Александр Грин 382
Разговор прерывался…
— Желаете, я расскажу… Называйте это совпадением, случайностью, не все ли равно.
Вот здесь, в этом самом кабинете, год тому назад кутила веселая компания. Не один ящик Мума и Помри[8] был вылит на алтарь веселья. Среди нас был и Кронский, вы знаете его, наверное, по его роману «Забытые». Вот про него я и хочу рассказать.
Весь этот вечер он хандрил и нервничал, много пил, но было видно, что живительная влага на этот раз не оживляла его и по его лицу было заметно, что он готов расплакаться. Кто-то предложил позвать цыган. Они много пели и немного разогнали веселье. Сделалось как-то тоскливо. Кронский сидел в углу на пуфе и тянул особенно медленно, сосредоточенно Мум, казалось, он весь ушел в это занятие. К нему подсела цыганка, известная здесь под кличкой «Ню».
Они что-то говорили вполголоса. Я видел, как цыганка взяла его правую руку и вдруг неестественно громко сказала: «Знаешь — твое счастье 382 и несчастье 382». «Почему не 384? — вяло произнес Кронский. — И что за цифровые данные?».
— Уходи, — прошептал он ей и бросил золотой.
Я подошел к нему.
— Дура, — заметил он. — Пророчица из «Яра».
— Что ты хандришь? — спросил я его.
— Скучно до безобразия.
— Может быть, неудача?
— В чем, с издателем? Нет. Вчера получил 5 тысяч авансом, да на что деньги? Пропить их здесь? Да?..
— Удивляюсь, ты — всегда такой веселый.
Вместо ответа он опять уставился в одну точку и долго о чем-то думал, потом взглянул на меня и серьезно заметил:
— 382 — сумма цифр 13.
В это время ему подали телеграмму и посыльный из редакции тупо, удивленно глядел на груду бутылок и ждал ответа.
Кронский прочел телеграмму и вдруг выпрямился во весь рост, глубоко вздохнул, словно сбросил с себя тяжесть, простер руки… Я как сейчас вижу его вдохновенную фигуру с полузакрытыми глазами и слышу шепот: «Это счастье, счастье, счастье…»
Он вдруг заторопился и начал прощаться, мы его не задерживали.
— Послушай, проводи меня, — сказал он мне.
Я согласился.
В швейцарской он передал для «Ню» 382 рубля «за предсказанье».
— Скажите, от Кронского, — говорил он гарсону, ошеломленному щедрым «чаем».
— Прочитай телеграмму, — сказал он и протянул ее мне. — 13. В ней всего 13 слов. Только 13, сумма цифр!
«Я свободна. Муж умер. Жду здесь в гостинице Марсель. 382. Немедленно.
Мария Горская».
— Не понимаю. А правда, 13 слов, — согласился я.
— Да, 13. Ты знаешь, я 14 лет жду этого зова. Я холостой… да что рассказывать, ты читал мой роман «Забытые». Так вот, Шаус — это я.
Он настаивал, чтобы я вошел в гостиницу — я отказался. Я встретил его на другой лень и могу сказать, что не видал в жизни более счастливого человека.
— Мне более ничего не надо в жизни, — сказал он мне, — даже славы…
Вы, может быть, слышали, что его призвали на войну, он прапорщик запаса. И вот прочитайте кто-нибудь вслух письмо его денщика. Я вчера получил.
«…а барин мне наказывал вперед сообщить вам.
Нашел я барина возле леска, на ем лежит немецкий солдат и перегрыз ему горло, а солдата — наши штыком проткнули. Так они и померли обнявшись. Барина везу домой, больно барыня наказывала, а от солдата немецкого сорвал погоны, на них цифра 382, полк их или дивизия. Каску тоже везу и саблю…»
Кто-то вздохнул. Электрическая люстра вдруг погасла и снова загорелась еще более ослепительным светом…
Д'Альг ЧЕРНАЯ МАСКА
Офицеры 3-го батальона (их всех было только пятеро: четыре ротных и один батальонный) собрались праздновать канун нового года в землянке своего командира. Это была самая большая и самая комфортабельная на всем боевом участке землянка.
В ней можно было стоять почти во весь рост и, главное, в ней находилась найденная во взятом австрийском окопе складная железная печь.
Вестовые батальонного, беспрерывно подкладывая дрова, накаливали ее почти докрасна и в землянке было настолько тепло, что можно было расстегнуть шинели.
Хотя от накаленного железа и разогретых сырых земляных стен стоял тяжелый банный угар, а из щелей потолка капала крупными частыми каплями вода, но все были очень довольны возможности встретить праздник в таком удобном помещении.
«Комфортабельность» землянки еще более оттенялась тем, что снаружи бушевала бешеная вьюга, засыпая сухим колючим снегом окопы; ночь была настолько темна, что в трех шагах ничего не было видно.
С вечера офицеры боялись, что не придется собраться вместе, так как погода уже очень благоприятствовала неожиданным нападениям, а кроме того, в приказе по полку было предписано удвоить бдительность из опасения, что австрийцы попробуют воспользоваться нашим праздничным настроением для внезапной атаки.
Но, с наступлением темноты, австрийцы участили обычную стрельбу наблюдателей и принялись беспрерывно бросать осветительные ракеты.
Это было лучшим доказательством, что они не только не собираются нападать, но, наоборот, опасаются нашего нападения, и потому все успокоились и собрались к батальонному.
И только когда вестовой вылезал из землянки за новой охапкой дров, командир спрашивал его:
— Ну что, австрияк светит?
И неизменно получал успокоительный ответ:
— Так точно, светит, Вашвыскродь!
Великолепный ужин, состоявший из краковской колбасы, голландского сыра и малороссийского сала, поджаренного на сковородке, был кончен, и теперь офицеры, развалясь на соломе вокруг пылающей печи, пили чай из разнокалиберных эмалированных кружек. И притом не простой чай, а с коньяком, из заветной бутылочки, уже давно сберегаемой батальонным командиром для торжественного случая.
Вели праздничные разговоры, вспоминали, конечно, «дом» и прошлые встречи Рождества у себя в офицерском собрании… Эти воспоминания казались такими далекими и как-то не верилось, что было время, когда они жили не в окопах, а в удобных, чистых квартирах и встречали праздник не в «комфортабельной» землянке, а в залитых светом блестящих залах, среди нарядной женской толпы, под звуки музыки.
Все замолчали и сосредоточенно смотрели в огонь жарко пылавшей печи, и каждый задавал себе молчаливый вопрос:
— Придется ли мне вернуться?..
— Да! Вернется ли хоть кто-нибудь из нас? — вслух выражая общую мысль, вздохнул штабс-капитан.
— Не знаю, как кто, а я то уж непременно вернусь! — вдруг с неожиданной уверенностью отозвался поручик Ш.
— Э! Не надо так говорить! — испуганно остановил его старик-батальонный. — Говорить так, — это дразнить судьбу. А судьба, как и женщина, не любит, чтобы хвастались успехом у нее.
— Знаю! — сказал Ш. — Но я не хвастаюсь, а говорю так потому, что знаю свою судьбу.
— Ну, вот еще глупости! Откуда это? Как можно знать свою судьбу? — заговорили кругом.
— Так, знаю! — упрямо повторил поручик.
— Но в самом деле, откуда же? — серьезно спросил батальонный.
— Так, было одно предсказание…
— Ну!.. предсказание, — разочарованно протянули все хором. — Какая-нибудь гадалка!..
— Нет, не гадалка!
— Так тогда что же?.. Расскажите!..
— Да не хочется… Не люблю я рассказывать об этом. Тяжело и неприятно вспоминать, а потом боюсь, что мне и не поверят, за враля сочтут…
— Ну, нет уж, батюшка, раз начали, так рассказывайте! — пристал к нему батальонный.
— Кстати, сейчас самое подходящее время для рассказов «о таинственном», — слегка насмешливо протянул прапорщик К., «в миру» — известный адвокат.
— Не хочется!.. Говорю, неприятно вспоминать! — все еще отнекивался Ш., но все насели на него, а батальонный даже предложил ему хватить «для легкости» чарку чистого коньяку, что являлось выдающейся привилегией и не могло не соблазнить поручика.
— Ну уж, если чарку коньяку, то тогда… — сдался он.
Батальонный собственноручно налил ему полную чарку.
Ш. долго держал ее в руках, предвкушая ожидаемое удовольствие, потом запрокинул и медленно выпил, крякнул, уселся поудобнее на соломе и сказал:
— Ну что же, господа, если хотите, то, пожалуй, я расскажу вам этот странный и дикий случай…
Все замолчали и приготовились слушать.
Стало тихо и было слышно, как ухает порывами вьюга, как хлопают редкие выстрелы австрийских наблюдателей и как ветер шуршит обледенелым полотнищем палатки, закрывавшим двери.
— Было это в Баку… — начал Ш. — Я тогда только что кончил училище и вместе со своим закадычным другом, Володькой Т., вышел в С. полк. Вместе мы приехали, вместе служили, вместе и жили, даже в одной комнате.
Вы знаете — Баку город большой, оживленный, богатый, всяких увеселений там пропасть; мы только впервые вступили в самостоятельную жизнь и молоды были еще очень, ну, и завертелись…
Полковое собрание, частные клубы, рестораны, кафешантаны… Редкий вечер дома бывали…
Ну вот, помню, как-то раз на святках собрались мы в Коммерческий клуб на маскарад. И вдруг, перед самым вечером, у Т. разболелась голова, и он отказывается идти. Я, было, стал его уговаривать (мы всегда и всюду вместе путешествовали), говорю:
— Пустяки! Выпьешь рюмку водки и все пройдет.
Но он возражает:
— Нет, не могу, чувствую, что не пройдет. Иди уж ты один, а я лучше спать залягу.
А мне не хотелось пропускать маскарад, в коммерческом самые интересные маскарады бывали, там всегда удавалось какую-нибудь девицу подцепить, ну и решил я пойти один.
— Пи-пи-пи-пи! — протяжно запищал в это время телефон.
— Вашскродь! Полковой командир требует к телефону! — поднялся подкурнувший в углу телефонист, передавая трубку батальонному. Ш. замолчал.
Командир приложил трубку к уху.
— Слушаю, г-н полковник? Что?.. Все спокойно… Австрийцы все время пускают ракеты… Да! Да!.. Все спокойно!..
— Ну-с, продолжайте, поручик, — обратился он к Ш., снова отдавая трубку телефонисту.
— Слушаю-с! — шутливо взял тот под козырек. — Ну вот, прихожу я в клуб. Там, как всегда, веселье в разгаре, танцы, масок такая толпа, что не и протолкаешься, а в столовой, конечно, кутеж, шампанское рекою…
Вот потолкался я в толпе, присматриваюсь… И вдруг метнулась мне в глаза одна маска, в черном домино, и лицо все черным кружевом закрыто.
Прошла она мимо меня, и показалось мне, что на меня вызывающе взглянула, а глаза черные, блестящие. Ну и бросился я за нею…
Довольно долго пришлось преследовать. Оглянется на меня, сверкнет глазами и опять исчезнет в толпе, будто дразнит.
Наконец, поймал я ее, ну и затеял обычный маскарадный разговор. Отвечает она очень остроумно, находчиво…
Голос у нее красивый, грудной, низкого тембра, этакий бархатный…
Стал я ее рассматривать: глаза дивные — прямо обжигают, овал лица, чуть видный из-под кружев, нежный, матово-смуглый, ручки холеные, в дорогих кольцах…
Она очень благосклонно принимала все мои комплименты и шутливые полупризнания и явно флиртовала со мной… При этом вела игру так тонко, изящно и красиво, что ясно было видно, что она — женщина хорошего общества.
Этого было вполне достаточно, чтобы потерять голову такому зеленому подпоручику, каким я был тогда. Через два часа я был уже влюблен в нее по уши и предполагал в ней чуть ли не «принцессу крови».
Я было предложил ей поужинать, но она даже обиделась и сказала, что никогда здесь не ужинает, а что вот она скоро уходит, т. к. не хочет снимать маску, и если я провожу ее, то она будет очень благодарна. Я, конечно, прямо перед ней разостлался: такое счастье и т. п.
Вышли мы из клуба. Подъехала коляска. В Баку, знаете, извозчики вообще очень недурны. Но тут я все-таки обратил внимание, что экипаж и лошади уж очень хороши.
— Если извозчик, то самый шикарный, а скорей собственный выезд, — подумал я, и это обстоятельство еще более меня подогрело.
Сели мы и поехали. В коляске, да в темноте, я осмелел, сначала целовал ручки, потом добрался и до шейки… Кожа всюду нежная, горячая, атласистая… Обезумел я совершенно, а она тихо смеется жемчужным задорным смехом…
Ехали мы очень быстро и что-то очень далеко, ну я, конечно, совершенно не замечал дороги. Наконец, коляска остановилась. Маска моя говорит: «Здесь» и выпрыгивает из экипажа, я, конечно, за нею, беру ее под руку… Идем в какую-то решетчатую калитку, рядом такие же ворота, дальше каменная стена; мелькнуло соображение — какая-нибудь загородная вилла!
Вошли мы в калитку, темнота, какие-то кусты, деревья, под ногами трава… И вот, как только вошли, меня сразу как холодом обдало, — такая вдруг жуть охватила! Все очарование пропало, и чувствую я, что мне страшно до дрожи. Сразу так ярко вспомнилось, что ведь я в Баку, в городе, где ежедневно происходят убийства, грабежи, похищения из-за выкупа, а у меня даже револьвера с собой нет… Спрашиваю я ее неуверенным голосом: «А что, далеко идти?». Она отвечает: «Нет, недалеко!». И послышалось мне в ее голосе что-то новое, резкое и жестокое, и чувствую, что она уж очень крепко прижимает мою руку… И все сильнее меня жуть забирает.
Иду нехотя, замедляю шаги, кругом все деревья, и вот вижу впереди какое-то небольшое белое здание — не то часовня, не то склеп, но, во всяком случае, не дом и не вилла…
Тут уж я не выдержал, резко выдернул руку, остановился и спрашиваю: «Это что же, туда?». Она отвечает: «Да, туда!».
— Ну, нет! — говорю. — Я не пойду!
А она как вскрикнет вдруг совсем новым, незнакомым мне, хриплым голосом:
— Нет! Ты должен идти!
Да как схватит меня за руку, и ясно чувствую я, что это уж не маленькая, бархатная женская ручка, а большая, сухая, жилистая рука… старухи или мужчины.
И такой ужас меня охватил, что прямо волосы дыбом встали… Рванулся я изо всех сил, — едва вырвал руку… да как пущусь бежать изо всех сил назад…
Слышу, сзади бежит она и топает… прямо, как солдат.
Летел, как сумасшедший… Добегаю до калитки… Бац — заперто! Бросился к воротам — тоже!.. Заметался в безумном ужасе: вот-вот она настигнет! И уж не помню, как взобрался по решетке и перемахнул через стену.
И только перескочил, слышу, она подбегает к стене и визжит так злобно, каким-то хриплым, не то мужским, не то проституточьим голосом:
— Га! Думаешь, ушел! Нет, вернешься! Завтра, в 8 часов вечера, ты встретишь меня у городского театра и снова придешь сюда!
Ну, я уже не слушал ее, а как пустился драть по улице… Вот никогда, за всю кампанию, ни под каким огнем не бежал так быстро, как тогда.
Бегу, улицы все пустынные, мне незнакомые, кругом одни заборы, ни жилья, ни души живой… И еще пуще страх меня забирает, еще сильнее бежать припускаюсь.
Бежал, бежал, наконец добежал до первого городового, помню, обрадовался ему, как отцу родному, и тут опомнился. Спросил — какая улица. Тот ответил и очень что-то странно на меня посмотрел, наверное, вид у меня был ужасный…
Ну, сообразил я тут обстановку и пошел домой, и такая меня слабость охватила, что едва приплелся…
Уже светало, когда я вошел в комнату, и прямо одетый плюхнулся на постель, по дороге стул опрокинул.
Володька спал, проснулся от грохота и спрашивает:
— Ты что, Сашка, пьян?
— Какой, к черту, пьян! — говорю, а сам отдышаться не могу…
Наконец, отдохнул и рассказываю ему все, как было. А он смеется надо мной:
— Эх, — говорит, — дурак! Струсил! Офицерское звание опозорил… Бежал от женщины!..
Ну, я защищаюсь:
— Попробовал бы сам!
— И попробую! — говорит. — Вот пойдем завтра вечером к театру, и если она будет там, ты мне ее укажешь, и я пойду с ней и уж я не убегу от нее до конца, куда бы она меня ни завела!
— Ладно! — говорю, — попробуй! Но только сперва посмотрим днем, я, может быть, припомню, куда она меня завезла!
Как ни был я утомлен, а заснуть не мог, и когда совсем рассвело, мы с ним отправились искать место моего ночного приключения… Дорогу до того перекрестка, где нашел городового, я хорошо помнил, ну, а дальше очень смутно…
Долго мы там бродили, путались, наконец, забрели совсем за город, и вижу я каменную стену, решетчатые ворота, калитку… те самые… Подходим, смотрим… ворота и калитка на запоре, засовы, огромные замки, ржавые, старые и видно, что их никто уж десятки лет не отпирал, а за оградой какое-то запущенное, заросшее деревьями кладбище.
Стали мы спрашивать у прохожих, и нам объяснили, что это — старое армянское кладбище. Заброшенное кладбище, на котором уже давно никого и не хоронят.
— Что за дьявольщина! — говорю. — Если она и была живой женщиной, то женщина, которая не побоялась идти ночью на заброшенное кладбище… тут дело неладно… И я не советую тебе идти с ней…
Но как я ни уговаривал, а он все стоит на своем:
— Пойду да пойду!
Упрям был очень и задорен.
Я было не хотел идти показывать ему мою черную маску, но как стало время приближаться к восьми часам вечера, чувствую, что не могу не идти, так меня и подмывает идти, точно кто за шиворот тянет:
— Иди да иди!
А тут еще и Т. пристает:
— Пойдем.
Ну и пошли.
Только по дороге я говорю ему:
— Ты подойдешь к ней, а я пойду за вами и буду следить.
Он отвечает:
— Ну, это можно.
Так и уговорились.
Подходим к театру, прошлись раз, другой, вдруг вижу: идет небольшая стройная женщина в черном.
— Она!
У меня мороз по коже, дыхание захватило, и я как прирос к тротуару… Она прошла мимо, взглянула на нас, и даже из-под очень густого вуаля блеснули глаза…
Володька спрашивает:
— Она? Черт, какая хорошенькая!
А у меня язык не поворачивается, только и мог головою кивнуть:
— Она, мол!
Володька сейчас за нею…
Когда я снова овладел собою, вижу, он уже догнал ее, и они вместе идут к углу площади… так, в сотне шагов от меня… Я за ними, гляжу: они подошли к углу и садятся в коляску… И коляска и лошади те самые, я узнал их…
Тут я к ним бегом бросился, бегу и кричу:
— Извозчик!
И как на грех, ни одного извозчика кругом…
Пока я метался, кричал, — коляски и след простыл… Побежал я домой, захватил револьвер да денщика.
Взяли извозчика, поехали на армянское кладбище… Приехали, калитка по-прежнему на запоре, темно, тихо, ни души кругом… Стали кричать, звать Т., никто не отзывается. Пробовали перелезть через стену, оказывается — так высоко да гладко, что и втроем не взберешься… Подождали, подождали, дико ведь дежурить всю ночь у кладбища, может быть, они сюда совсем не приезжали, может быть, Т. уже дома сидит…
Вернулись домой, — Володьки нет… Полночь — его нет. Два часа — нет, четыре — нет!
Ох, скверную ночь я тогда провел! Ни одной такой мучительной ночи и на позициях не бывало.
Наконец, уже на рассвете приходит Володька, измученный, страшный, в лице ни кровинки, глаза — безумные… Пришел, и прямо на постель бросился, лицом в подушку.
Лежит и молчит.
Я к нему:
— Володя! Ну что? Что было?
Он так глухо отвечает:
— Не спрашивай! Я ничего не могу рассказать!
Я, конечно, не отстаю:
— Да ну, Бог с тобой! Как же не можешь? Скажи хоть, узнал ли, кто она?
Он вдруг как вскочит, сел на кровать, смотрит на меня совсем сумасшедшим взглядом:
— Кто она? Хочешь ты знать? Смерть!.. Вот кто!
Дико так выкрикнул и снова упал лицом в подушку и бормочет:
— И вот, знай, будет скоро война, меня убьют, а ты останешься жив… — И замолчал, и молчит, как убитый, ни на какие вопросы не отвечает.
Я вижу, человек не в себе, оставил его в покое. «Пусть опамятуется», — думаю.
А он так целые сутки и пролежал, как мертвый.
Потом, когда встал, я опять к нему пристал:
— Ну, расскажи же, что с тобой было?..
А он так угрюмо и решительно отрезал:
— Не расспрашивай! Я ничего не могу рассказать. Понимаешь? Не могу!.. Хочу и не могу! Мне запрещено! И это выше моей власти… И не приставай, не мучь меня!..
И так, сколько я к нему ни приставал, так он ничего и не сказал, только и твердил:
— Не расспрашивай. Я не могу, не могу ничего рассказать!..
И сразу он сделался каким-то угрюмым, молчаливым, замкнутым, точно все время внутрь себя смотрел, и скоро уехал от меня на отдельную квартиру… А тут я перевелся в наш полк и…
— Взз… Бум-тю!.. — вдруг совсем неожиданно взвыла шрапнель, разорвавшаяся около самой землянки.
Все вскочили на ноги.
— Взз… Бум-тю! — взвыла другая, потом третья…
— Что за черт! — выругался Ш.
Где-то далеко справа забахали ружейные выстрелы.
Тревожно запищал телефон:
— Пи-пи-пи-пи!
— Первый батальон сообщает, что австрийцы ведут на них наступление! — прокричал телефонист.
— Вот тебе и раз! — всплеснул руками батальонный. — Ну тогда, господа, живо по местам!.. Будите людей. Да выслать сейчас же разведку!..
Офицеры, застегиваясь на ходу, торопливо полезли из землянки. Вьюга бушевала по-прежнему и слепила глаза. Ничего не было видно, кроме белесой, движущейся мути.
Справа, в окопах первого батальона, рокотала уже сплошная ружейная стрельба и, разрастаясь, подвигалась все ближе и ближе.
Мигали красные вспышки и с воем рвалась над окопами шрапнель.
— Ого! Австрийцы, кажется, и вправду вздумали нас атаковать! — говорил Ш., с трудом пробираясь по занесенному снегом окопу.
— Ну, а что же Т.? — спрашивал, следуя за ним, К. — Что же с ним случилось? Исполнилось ли предсказание?
— Ах, Т.?.. Убит в первом бою! — махнул рукою поручик и исчез и темноте.
Дмитрий Дорин СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ
— Ну и положеньице, черт подери!.. Гадай — не гадай, все одно не нагадаешь, куда пропал этот Постольников… Хоть бы одного драгуна выслал для связи, — бурчал молоденький, безусый прапорщик Рыков, то и дело поглядывая на часы-браслет и мерно измеряя тонкими журавлиными ногами длину грязной, холодной халупы, одной из немногих, стойко выдержавших отличный ураган немецких чемоданов[9].
Метель — какая-то смесь жесткого снега с песком и непроглядная темень — только и могли заставить нас выбрать себе приют в этой брошенной халупе, смотревшей еще не совсем разложившимся покойником.
Зачем и для кого судьба пощадила наше убежище от полного разрушения?.. Может быть затем, чтобы, возвышаясь над грудой развалин деревушки С., наша халупа ярче оттеняла весь ужас окружающего, бросая достойный укор в ненужном варварстве над мирными панами обнаглевшему и до цинизма одичавшему врагу, или для того, чтобы дать случайный отдых усталым воинам, застигнутым, как и я со взводом драгун, острой метелью, — едва ли знала сама халупа.
Так или иначе, не все ли равно, но войдя в нее, какое-то неприятное чувство заставило меня содрогнуться и утомленный мозг начал назойливо работать над разрешением загадки судьбы, и отвлечь свою мысль на что-либо другое я был положительно не в силах, да к тому же, будучи мистиком от природы, я невольно склонялся в этом вопросе в сторону тайны, связавшей меня ни с какой-нибудь другой уцелевшей деревушкой, а именно с деревушкой С., около которой застигла нас неожиданная непогодица.
Стараясь пересилить себя, я развернул карту и вымерил направление, по которому корнет Постольников, тоже со взводом драгун, шел на соединение со мною у дер. С., откуда ранним утром нам предстояла разведка правого фланга немцев.
По числу верст Постольников уже добрых два часа назад должен был быть на высоте д. С., но часы уже показывали одиннадцать, а об нем ни слуху, ни духу.
Я заглянул в окно.
Метель усиливалась, барабаня хрусткой дробью по закоптелому стеклу. Тьма прятала ужас разрушения, по унылый ветер тянул похоронную песню, переходящую вдруг в дикую свистопляску, и еще ярче вползал в душу ужас мертвой деревушки и гнет неизвестности…
«Развороченные черепа»[10], вспомнилось ни с того ни с сего название книжонки какого-то футуриста, попавшей мне в руки прошлой мирной зимой.
— Знаете что, Аркадий Иванович… мне кажется, что кайзер Вильгельм ни больше ни меньше, как представитель исковерканного футуризма… Не думаете ли вы, что с моментом его падения потерпят фиаско и наши бредо-футуристы и мы, наверное, уже не будем баранами, чтобы ходить на концерты и вечера этих акробатов рекламы… А может быть, они и сами образумятся… Как вы думаете?
Рыков сонно обвел меня взглядом и вместо ответа махнул рукой, широко зевнув.
Я опять заглянул в окно и опять темень больно ударила меня в глаза, поползла в голову и отразилась в мозгу бледновосковым трупом.
— Черт свадьбу правит… — вырвалось у меня. — А ведь, милый прапор, к утру-то нам необходимо соединиться с Постольниковым, не то, как дважды два-четыре, мы не только ничего не разведаем, а еще вмажемся в грязную историю… Не пойти ли сейчас пошарить к фольварку Д., — добавил я, сознавая, что поднять в такую погоду людей, — немыслимо… Кони уже двое суток не расседлывались, а люди засыпали в седле.
Рыков снова взглянул на часы и зашагал:
— Как хотите, Дмитрий Петрович… Все равно ничего не выйдет из этого рысканья, шарь, не шарь… Гораздо проще и полезнее, по моему, поставить пост у околицы, да и ахнуть на боковую… И люди поспят, да и кони отдохнут. Ну, а к утру и за дело можно взяться… А теперь…
Сильный крик ветра заглушил его последние слова и я, невольно вздрогнув, приказал расседлывать коней, а людям устроиться на отдых.
Утихала ли, или усиливалась метель, — разобрать я не мог. Острый песок слепил глаза, обжигал лицо и мой верный Рекс едва волочил ноги, насторожив уши и глубоко втягивая ноздрями морозный воздух, видимо, прилагая все усилия, чтобы отыскать заметенную дорогу.
Вокруг меня встала непроницаемая стена темени. Где, зачем и сколько уже времени я плутал в этом хаосе, — я не знал, но оглянувшись понял весь ужас своего положения.
— Я был один.
— Рыков!.. Прапорщик Рыков!.. — что было силы кричал я, но вместо ответа только громче и жалобней завыл ветер… Жуть проползла с головы до ног… Я хотел поднять руку, чтобы обтереть капли холодного пота, выступившие на лбу, но чья-то тягучая, нудная сила парализовала мое усилие и, беспомощно опустившись на шею Рекса, я поцеловал его и бросил повод, дав волю верному товарищу.
— Что же теперь делать? Как собрать растерявшийся во мраке взвод? — произнес я вполголоса, будто ища совета Рекса, но какое-то полное безразличие ко всему окружающему, ко всей жизни и смерти затемнило мой вопрос безответностью. Приятное, еще незнакомое чувство охватило меня и я, закрыв глаза, погружаюсь в нирвану покоя, как вдруг меня ужалила некрасовская фраза.
«А Марья стояла и стыла в своем заколдованном сне»[11], — вздрогнув и открыв нечеловеческим усилием глаза, я увидел перед собой серую фигуру, бледным пятном прорезавшую тьму.
Секунда и рука моя, брошенная к эфесу шашки, беспомощно опустилась… Ни шашки, ни револьвера не было… Все, все, что в походе так дорого, кажется, дороже самой жизни, все забыл я на столе в проклятой халупе.
Видя беспомощность своего положения, я решил дорого отдать жизнь и, склонясь на седле в сторону фигуры, что есть силы рванул ее за лапу башлыка, намереваясь задушить нежданного врага.
Башлык сполз и передо мною открылось, освещенное внезапно выглянувшей луной, бледное со скошенной улыбкой лицо драгуна Кирюхина, из взвода Постольникова.
— Ты откуда?!..
— Так что, ваше благородие, нарвались мы, значит, на засаду или секрет какой, не знаю… Только много их там, немцов-то… Теперь их благородие со взводом в крайней избе деревни, что у фольварка-то Д. и засели… Отстреливаются… Хотели мы прорваться, да их благородие решил вас подождать… Зачем, говорит, своих зря губить, да немца выпускать… Вот, вы, говорит, увидите, что нас нет, и верно, подойдете сами, так тогда немца-то с обеих сторон взять и легко, да так взять, что ни один из них не удерет… Больно надеялись на вас… А немца-то там, поди, без мала эскадрона два наберется.
— Да ты сам как выбрался-то? — перебил я Кирюхина.
— Охотником взялся, разыскать вас, да вот Бог не привел… Троих-то, что догнали меня, я срубил скоро, а четвертый — как это я шагнул его по голове, пошатнулся, свалился с коня. Ну, думаю, пронесло, а он, верно, жив остался, да и угодил мне в самый затылок из винтовки… Так и уложил на месте, окаянный…
— Что ты, Кирюхин… бредишь, что ли?..
— Никак нет… — слабо простонал Кирюхин и, подняв на меня заледенелые, мертвые глаза, пошатнулся и упал…
Я вскрикнул и проснулся.
Сальный огарок догорал, бросая бесцветные пятна на грязную стену халупы… Револьвер и шашка лежали на столе… Рыков, подложив под голову обмотанное тряпьем полено, спал врастяжку на полу и звонко храпел… Тут же клевал носом дежурный драгун.
В первую минуту я обрадовался, что все это было только сном, но, вспомнив слова Кирюхина и указание его на фольварк Д., что лежал от деревушки С. верстах в шести-семи к северо-западу, я глубоко уверовал, что во всем этом есть какая-то загадка, разгадать которую стало необходимостью.
Было четыре часа. Метель немного угомонилась и только ветер в трубе пел теперь еще жалобней и вся халупа со своей рухлядью стонала скрипуче-нудно, будто вспоминая о тихом былом вздохе бледными отблесками догоравшего огарка. Надо ехать.
В ту минуту я видел всю картину томительного ожидания нас Постольниковым, считавшим, может быть, по секундам, время неравной борьбы.
— Рыков!.. Вставайте скорей!..
Аркадий Иванович взглянул на меня вытаращенными глазами и укоризненно-недовольно пробурчал:
— Эх, Дмитрий Петрович, всегда вы штуку какую-нибудь смастерите. Ни свет — ни заря… На дворе дьявол с чертом горох молотят, а вы им на рога сами хотите напороться… Опять, видно, предчувствие ваше… Ей-Богу, вам надо отдохнуть недельки две… Так ведь от вас одно пустое место останется… Исчезнете… — тоном, не терпящим возражений, — закончил Рыков, любивший иногда корчить «бывалого», что ему совсем не удавалось и ругань его никогда не походила на ругань, так же, как и философия, — на философию.
— Об этом, Аркадий Иванович, потолкуем после, а теперь, пожалуйста, торопитесь.
За окном уже фыркали кони, позванивая мундштуками, и было слышно, как унтер Глыба подшучивал над любителем поспать хохлом Нищенко.
Готовые всегда и ко всему мои молодцы ни на минуту не задавались вопросами, куда и на что я веду их. Они знали, что без необходимости я не нарушил бы их давножданный отдых и теперь только ждали приказаний.
Потрепав гриву Рекса, я, уверенный в реальности пережитого во сне, набросал несколькими словами обстановку, в какой находился Постельников, и закончил:
— Подойти к фольварку должны тихо. Следи зорко за рукой. Махну — рассыпаться без звука, кошками вокруг крайней халупы, кольцом. Шагов за двести остановиться… Где нельзя подойти, брось коня и ползи… Без стрела… Слушать крепко… Свистну три раза и все, как один, лети птицей к халупе… Гикай крепче… Пусть думают, что целый полк за нами… Стреляй только тот, кто без коня, остальные, — рубить без пощады… Поняли, братцы?..
— Поняли, — тихо-серьезно ответили мои молодцы.
— С Богом, за мной! — тихо скомандовал я, взяв прямое направление на северо-запад.
По остротам драгун моего маленького отряда, которые сыпались несмотря на то, что отдохнуть им в эти трое суток так и не удалось, я видел, что настроение их бодрое, и сам крепко сжимая рукоятку шашки, горел желанием скорей встретиться с противником…
Медленно прошли версты три. Рыков несколько раз пытался навести меня на разговор обо всей, как он выразился, фантастической задаче, но мне казалось все настолько реальным, что всякие объяснения были излишни и я молчал.
Вдруг Рекс захрапел и круто отшатнулся в сторону. На нашем пути лежала темная фигура, наполовину запорошенная метелью.
— А ну-ка, ребята, посмотри, кто это лежит… Не Кирюхин ли! — скомандовал я, не глядя на труп, но будучи совершенно уверен, что не обманулся.
— Что вы, Дмитрий Петрович, какой леший Кирюхина сюда забросит… Скажете тоже, — возразил Рыков.
Драгуны спешились, окружили лежащего и, когда Глыба перевернул его вверх лицом и шепотом сказал:
— Так точно, Кирюхин и есть, — все как один сняли шапки и перекрестились.
— Ничего не понимаю… Это невозможно… Да объясните же, наконец, Дмитрий Петрович, что это такое? — подъехал ко мне Рыков.
— Ничего… Я уже был здесь, когда вы спали… Остальное — потом… А теперь, — вперед, ребята, за мной… Кирюхина всем везти по очереди…
Молча ехали драгуны, без шапок, за мной, а у меня щемящий ком подкатывался к горлу и слезы навертывались на глаза, до того было жаль мне лихого, отчаянного Кирюхина.
И еще больше загорелась жажда мести подлому врагу за Кирюхина, за печаль моих драгун, за все, за все.
По гробовому молчанию я чувствовал уже не впервые, что в такие минуты весь мои взвод, и безусый Рыков, и я, — сливаемся в одну мысль, в одну непобедимую силу, и дорого будет стоить врагу встреча с нами в такую минуту.
Начинало светать…
Наконец, впереди за версту или полторы выделился пятном фольварк, растянувшийся вправо улицей хибарок.
Кругом тихо. Ни одного выстрела не слышно.
«Что такое, — думал я, — опоздали, что ли, или сон и предчувствие обманули…»
Чувство недоверия начинало уже охватывать меня, но, указав на едва выделявшуюся из общей массы крайнюю халупу, стоявшую на отлете и бывшую покрупнее других, я опять уверенно махнул рукой.
Без шума рассыпались в обе стороны драгуны, окружая широким кольцом указанное им место.
Со мной остался только Глыба и драгун с телом Кирюхина.
Дав ему приказание ни в коем случае не бросить тело товарища, я с Глыбой спешились и пошли к фольварку… Чем ближе мы подходили, укрываясь за каждой кочкой, тем реже становился туман. Ветер притих и, подойдя шагов на триста, уже было можно различить немцев, которых было эскадрона два. Отведя коней шагов на сто вправо за пригорок и оставив их коноводам, немцы, окопавшись, окружили тесным кольцом крайнюю избу и залегли. Глыба, увидя это, не удержался и ругнул их за трусость сразиться в открытом бою…
— Ишь, сволочь трусливая… Не пора, ли ваше благородие, того и гляди, совсем светло станет, — закончил он красноречивую ругань…
Я взглянул на часы. Было около семи.
— Пора! — крикнул я и, вскочив на Рекса, что было силы дал три пронзительных свистка сиреной, которую знал весь эскадрон.
Почуя шпоры, Рекс летел, как вихрь и, уже почти подскакав к немцам, я услышал ответный свист Постольникова…
Сердце замерло от гиканья со всех сторон летевших драгун.
Немцы опешили, приземились совсем, не поняв еще положения… Некоторые из них только протирали глаза, хватали ружья и открыли беспорядочную стрельбу, бросаясь из стороны в сторону… Но… поздно… как смерч влетели мои драгуны в ошеломленную массу и крошили направо и налево уже торжествовавшего было над Постольниковым врага.
Моя шашка с размаху ударила что-то твердое и погрузилась в мякоть, брызнувшую мне в лицо…
Еще и еще… и вдруг, что-то горячее обожгло меня сначала в плечо, потом в шею… Мелькнула перед глазами рослая фигура Постольникова… Приклады его драгун… в ушах прозвенел хруст разбиваемого черепа и дикий храп…
«Развороченные черепа» — пронеслось в голове и сразу за этим все смешалось, расплылось в бесцветное пятно и поплыло глубоко вниз, вместе со мной.
Первые слова, которые я услышал, очнувшись, это были слова Рыкова:
— Хоть убей меня, доктор, а я не понимаю… Скажи, пожалуйста, как у вас в медицине объясняют подобные штуки?
Наш молодой доктор покачал с видом знатока головой и попросил Рыкова говорить тише, чтобы не тревожить меня.
— Так-то оно так, — понизив голос, не отставал Рыков, — а я ведь тебя не ерунду спрашиваю… Целый день думаю, что же это такое?
— Медицина, Аркадий Иванович, едва ли найдет объяснение этому… Просто странный случай, вот и все…
— Ничего нет странного, — перебил было я доктора, но увидя, что я проснулся, он замахал руками и закричал:
— Ни слова! Ни слова, не смейте говорить… Вы потеряли много крови, и вам необходим полный покой!..
— Да, я же ведь давно уж говорил ему, что он должен взять недельки две… — едва уловил я слова Рыкова и, кажется, заснул снова.
Игнатий Потапенко СТРАШНЫЕ ГРИБЫ
I
Невдалеке, меньше чем в сотне верст, надвигалась война и несла в себе гибель и разрушение. Приближение ее чувствовалось во всем: в строгости власти, в дороговизне хлеба, а главное в том, что куда-то словно попрятались люди, одетые в штатское, и всюду попадались на глаза военные мундиры — в городах в селах, в домах и на больших дорогах.
И странно было видеть, что тот самый Иван Иванович, который несколько недель тому назад ни о чем и думать не умел, как только о том, чтобы подешевле купить да подороже продать товар и нажить деньги, а с наступлением осени выдать свою дочку замуж, и при этом жаловавшийся, что его в сорок лет одолевает десяток каких-то болезней, — теперь, нарядившись в военное, забыл и думать о купле и продаже, о своей дочке и о всех своих болезнях, а только говорит о предстоящих битвах и показывает немцу кулак.
И все жители края, в сущности, знали уже, что и сюда придет война, — никак не миновать ей этих цветущих долин, — и принесет гибель и разорение, как принесла уже во многих местах.
Но, несмотря на это, жизнь неустанно производила свою творческую работу, не желая пропустить ни одного мгновения. На нивах желтела пшеница и поспевали ячмень и овес. Крестьяне торопились снять их, хотя многое еще далеко не было готово. Но лучше пусть стоит оно в стогах на корм животным, чем будет потоптано вражескими ногами. Копались и в огородах, выкапывая картофель и обирая огурцы, на просторных гумнах раздавался глухой и частый стук цепов, и тут же, гонимая легким ветром, летела облачком полова от провеваемого широкой лопатой зерна.
Люди, ввиду предстоящего нашествия, как бы старались показать, что может сделать деятельный неустанный труд.
А там, где поле упиралось в стену густого и глубокого леса, деревенские ребятишки беззаботно играли во все мирные игры, какие только им были известны. А иногда, когда после летнего теплого дождика землю грело жаркое солнце, они забирали кошелки и отправлялись в лес, и там рассыпались по всем направлениям и собирали грибы. И лес радостно откликался на их звонкие молодые голоса, добродушно дразнило их эхо, а солнечный луч, тихонько прокравшись сквозь листву, звал их из леса на простор полей.
А война подкатывалась все ближе и ближе. Уже из не особенно далеких мест появились беглецы, изгнанные неприятелем из своих донов. Они стремились в город и, проходя через села, кормились Христовым именем.
И, наконец, настало время, когда раскаты пушечного грома, в виде неясного гула, стали долетать до села. Доносились живые рассказы о том, как было разграблено и сожжено и сравнено с землей такое-то селение, подожжен со всех сторон такой-то город.
И жителям деревни было совершенно ясно, что и им не избежать той же участи.
Но, с другой стороны, — близко подошли русские войска.
Еще не произошло большого сражения, но отдельные отряды неприятеля уже то там, то здесь были то прогнаны, то перебиты.
Но близость опасности как-то мало обескураживала жителей деревни. Может быть, это происходило от сознания, что все равно некуда уйти. Города, куда направлялись беглецы из дальних мест, ведь точно также подвергались ограблению и сожжению, как и села. Так не лучше ли, если уж это суждено, помереть на своих родных насиженных местах?
Но много бодрости придавало и присутствие вблизи нашей армии, которая неторопливо развертывалась и с каждым днем все больше и больше давала знать себя противнику.
Так или иначе, а жизнь продолжала свою творческую деятельность. Взрослые продолжали работать, а ребятишки до такой степени свыклись с непрерывным гулом орудий, что не только не придавали ему значения, а еще дразнили его, оборачиваясь в ту сторону, где он раздавался, и стараясь перекричать ею.
Однажды в селении узнали, что неприятельские, да притом сильные отряды расположились верстах в двадцати по ту сторону ручья, который протекал за огромным густым лесом. В сущности, пора бы было уже испугаться, забирать свои пожитки и удирать, куда глаза глядят.
Но так уже чудно устроена славянская душа — будь то великоросс, хохол или поляк — что о спасении пожитков и самого бренного тела он начинает думать в самую последнюю минуту, а раньше все на что-то надеется. И здесь прежде всего надеялись на Бога и каждый день совершали молебствия — православный батюшка в своем храме, а ксендз в костеле. Селение было огромное, торговое и было в нем и тех и других достаточно.
Но немало уверенности внушали и небольшие казацкие отряды, которые разгуливали по окрестностям, наводя одним своим именем панику на неприятеля. Ходили легендарные рассказы о том, как один казак перерубил сотню немцев, а пара других чуть не целую роту немцев в плен забрала.
И когда, с одной стороны, кто-нибудь рассказывал о жестокостях, чинимых неприятелями, а другой — по проселочной дороге <встречал> казачий отряд, селяне с доверием посматривали на дорогу и говорили:
— Э, ничего, Бог не попустит и казак не выдаст.
А дети так даже и страха не знали, — бегали себе в одних рубашках, босые и без шапок, по поляне с утра до вечера и наслаждались солнцем, воздухом, простором, свежей зеленью ароматных трав и всеми другими бесчисленными Божьими дарами.
И вот однажды, часов в восемь утра, в деревню прибежали с поля сельчане с бледными испуганными лицами. На этот раз они перепугались и даже побросали на поле свои косы и грабли и лопаты. Они заявили, что неподалеку, за ближним леском, движется неприятельский отряд и прямо на деревню.
Тогда и сельчане перепутались и выбежали за село, чтобы взглянуть вдаль. И правда, там уже выдвинулась из-за леска и медленно двигалась какая-то темная туча.
Но ясное дело, спасаться уже было поздно. Все равно, враг настигнет где-нибудь на дороге и бегущих еще горше обидит, чем оставшихся. И потому, вместо того, чтобы приняться за свой скарб, селяне снова наполнили свои церкви и принялись истово молиться.
Одно только было странно и свидетельствовало о том, что они растерялись: в первые минуты никто не подумал о детях, которые гурьбой играли как раз около того самого леска. Как будто их и не было вовсе, или они были уже как-то особенно созданы, из воздуха, что ли, так что и немец не мог причинить им никакого зла.
Скоро, разумеется, спохватились. Многие сельчане уже готовы были пуститься к лесу, хотя бы и на верную гибель, но тут случилось нечто неожиданное и совсем непонятное.
Темная туча выдвинулась из-за леса, остановилась, постояла на месте и вместо того, чтобы продолжать путь прямо на деревню, как он лежал пред ней, вдруг повернула и исчезла с такой быстротой, что казалось, будто она растаяла в воздухе.
Сельчане только раскрыли рты и решили, что произошло чудо.
II
Чуда, однако, не было, а произошло очень простое, хотя и далеко не во всякой войне встречающееся обстоятельство.
Дело в том, что немецкий конный отряд, числом с добрый эскадрон, действительно выдвинулся из за леска и начал совершенно определенно держать направление на деревню, причем намерения его нисколько не отличались от тех, какие он осуществил уже в десятках других селений, лежавших в окрестностях, то есть: поесть, попить, ограбить жителей до нитки, а потом разгромить и сжечь их дома.
Но в то время, когда отряд по команде своего начальника уже приготовился пришпорить коней и бешеным галопом пуститься на деревню, кто-то из них заметил игравших на поле детей.
Правда, в этот момент они уже не играли, потому что со своей стороны тоже заметили выкативших из-за леса немцев. И уж тут им было не до игр. Их было десятка три, но все они были в таком возрасте, что любой немецкий драгун мог бы смести их с земли ладонью.
И дети так испугались, что окаменели и замерли на месте; потом они опомнились и инстинкт подсказал им, что в таком случае самое верное дело — удирать, и они уже было показали врагу несколько маленьких голых пяток. Но в это время над головами их пронеслось громоносное:
— Гальт!
И одновременно раздался направленный в воздух револьверный выстрел, очевидно, для наибольшей внушительности.
Ребятишки все, как один, остановились. Слова немецкого они, разумеется, не поняли, но им совершенно ясен был его смысл. Один из всадников — должно быть, старший, подъехал к ним близко, за ним придвинулись и другие. Тот, старший, вынул из кармана маленькую книжку в синем переплете, перелистал ее, заглянул туда, потом сказал:
— Ребиата… заген-зи…
Опять в книжку, потом:
— Гаварить прауда… Понимать? Ну?
— Понимаем! — ответил за всех десятилетний мальчуган, самый старший из всей компании.
— А! Нну, — продолжал немец, почти перед каждым словом заглядывая в книжку, — гаварить прауда. Если ньет, будет выстреляет… Инну?
И, чтобы посильнее напугать мальчуганов, он напрягал глотку и устрашительно вращал в разные стороны белками глаз.
Порылся в книжке продолжительно в нескольких местах и наконец, видимо, сколотил целую фразу.
— Не есть ли тут близки казаков?
— Казаки? — разом подхватили несколько голосов. — Есть, есть. Как не быть? Есть казаки…
— О-о! — произнес начальник и многозначительно окинул взором весь отряд.
— Есть казаки? Многие?
— Да тут их много, их не оберешься…
— Не обирошесиа? Вас-ис-дас — не обирошесиа? Ну? Ти-сиача? А?
— Может, и тыща наберется. Кто ж их считал?
— Читал? Вас-ис-дас читал?
— Считал, — поправил мальчик…
— Нну? А где он стоить — казаки? Там? В деревни?
— Не-ет! — живо ответили дети и даже весело переглянулись: какой, дескать, немец дурак, таких пустяков не понимает. — Где же таки в деревне! Казаки водятся не в деревне, а в лесу…
— Лесу? Им-ден-вальде? Каком лесу?
— В каком? А во всяком. И тут и там, везде, во всяком лесу водятся казаки.
— И тут? — спросил немец, указывая на ближайший лес.
— Ну да, и тут… У нас их много… Не оберешься, — с убеждением повторили дети.
— Тут? Многи казаки? Гейен-зи-цурюк… Зобальд, ви меглих![12]
И, сказав это, немец скорым движением повернул коня обратно и дал ему хлыста, за ним сделали то же самое другие, и отряд во весь опор подрал назад и скрылся за лесом.
Ребятишки постояли с минуту в глубоком раздумье, а затем пустились во весь дух в деревню.
Здесь народ собрался уже около здания волостного правления и думал-гадал о причине столь внезапного исчезновения вражеского отряда. Ребята прибежали сюда и объяснили, что сейчас приезжали немцы и что они поехали в лес собирать грибы.
— Что такое? — начали расспрашивать их. — Какие грибы?
— Грибы… Про грибы спрашивали нас; все в книжку глядел он. Посмотрит и спросит, а там опять заглянет и опять спросит.
— Да о чем же он спрашивал? Неужто и взаправду про грибы?
— А то как же: есть, говорит, тут у вас казаки?
— Ну? А вы ему что?
— А мы ему: есть. Как же не быть? Да их тут не оберешься. А он это: вас-ис-дас — не оберешься?.. А где, — говорит, — они стоят? А мы: да где же им стоять: в лесу, известно! А где? — спрашивает. В каком лесу? Да везде, — говорим, — во всяком. И тут и там и всюду.
— И тут? — спросил и в ту ж минуту скомандовал: цурюк, — говорит, — и за бальдом как только можно! Да как пришпорит коня, да как поскачет назад, а прочие за ним… Так их и след простыл…
Сельчане сняли шапки и начали креститься.
— Господи, вот уж поистине, когда Бог захочет, то и младенцу внушит мудрое. Ей-ей. Так это вы им про грибы?
— А ну да ж. А то про что ж? Про грибы и спрашивали.
Недоразумение сейчас же выяснилось. Порода грибов под названием «казак» водится во всей той местности, и ребятишки прекрасно ее знали и отличали от других пород. И они в самом деле нелицемерно и без всякой задней мысли сообщили немцам, что в близлежащих лесах, как им это было достоверно известно, растет много грибов, известных под названием «казаки».
Немцы же, с своим лексиконом, этого не знали и интересовались совсем другими казаками. И услышав, что их много в этом лесу, поспешили подобру-поздорову унести свои ноги.
Грибы продолжали мирно расти в лесах, но настоящие казаки стояли верстах в тридцати оттуда, и в деревне это было хорошо известно. Тотчас же снарядили пару верховых и приказали им стремглав лететь в казачью стоянку, чтобы известить наших о бежавшем немецком отряде.
И к вечеру того дня в деревню пришла весть, что казаки таки нагнали немецких трусов и задали им перцу.
Вл. Одинокий ЛЕГЕНДА
Отряд кавалерии есаула Грекова подходил к Валевицам. Валевицы — усадьба, построенная и подаренная Наполеоном знаменитой пани Валевской[13].
День был теплый. В лесу пахло острым запахом грибов и хвоей. Время хоть и зимнее, но снегу нигде и признака и все напоминало скорее осень, чем зиму. Звук копыт пропадал в толще опавшей листвы.
К четырем часам дня отряд вышел на опушку леса перед самой усадьбой.
— Ваше высокородие! — доложил прискакавший дозорный, — слева кавалерия!
— Сколько?
— Да не меньше эскадрона!
Греков с сотнею стал отходить в лес.
Здесь сотня остановилась.
Вечерело.
— Чтой-то горит! — послышалось сзади.
Греков с горки стал смотреть вперед.
Из-за рощи подымался зловещий черный дым.
Солнце уже зашло. Зловещим багровым светом горела заря. В полутора верстах впереди перед отрядом пылала, как свеча, усадьба.
Не просто панский двор, каких за время войны сгорело на левом берегу Вислы десятки, а может быть, и сотни. Нет, огнем безжалостно уничтожался один из исторических памятников Польши: сгорала одна из интимных страниц яркой наполеоновской эпохи.
Перед нею совсем близко громыхала без умолку немецкая батарея. Значительно дальше стоял сплошной треск ружейной пальбы.
С удивительной точностью снаряды один за другим падали в усадьбу пани Валевской.
Греков стоял неподвижно и наблюдал за оргией расстрела беззащитного уголка. К нему подъехал хорунжий Томилин.
— А знаете, Петр Михайлович, мы их сомнем.
— Кого?
— Да немцев…
Греков ничего не ответил. Он ждал, пока подойдет конная артиллерия.
— Зачем было разрушать усадьбу? — продолжал Томилин.
Он хорошо знал ее историю. И великолепно помнил расположенную возле нее деревню X., зимнюю стоянку полка.
— Кому она мешала? Были Валевицы. Люди приезжали издалека, чтобы посмотреть на историческую усадьбу. Люди вдыхали в себя аромат старины. Люди наслаждались. Я был в ней… Если бы вы знали. Петр Михайлович, какой это удивительный уголок! Нынешние хозяева Валевиц, потомки по боковой линии знаменитой пани Валевской, люди богатые, живут постоянно либо за границей, либо в Варшаве. Так что усадьба немного запущена. Облупились колонны, стены дома местами поросли бархатным мхом, аллеи в парке заросли травой, трубы затянуты ярко-зеленой тиной… Боже мой, Боже мой…
В это время подошла конная артиллерия и, заняв позицию, начала обстреливать немецкую батарею.
Немцы пробовали отвечать, но никак не могли нащупать наши хорошо замаскированные орудия.
Греков отнял от глаз бинокль и подъехал к сотне.
— Садись! справа по три, рысью, марш! Вы, Сергей Тимофеевич, — обратился он к Томилину, — как знающий местность, обходите усадьбу с парка, а я опрокину батарею.
Конная батарея уже сделала свое дело. Артиллерия из 6-ти орудий, обстреливавшая Валевицы, стала затихать.
Прискакал казак от Грекова с приказанием прекратить пальбу по немцам. И только замолкли орудия его части, как с диким улюлюканьем Греков врубился в прикрытие батареи, а Томилин занял усадьбу.
Через час отряд входил в историческое место и принялся тушить пожар. Массивное каменное здание сильно пострадало с внешней стороны. Обгорел балкон, крыша, многие барельефы и плафоны, но многое было спасено.
Сохранились тенистые аллеи парка с античными статуями, беседка, где, по преданию, Наполеон говорил о своей любви красавице пани Валевской.
В кабинете, в который вошли Греков и Томилин, стояло кресло, в котором любил сидеть великий корсиканец. Тут же на столе лежала книга, которую он читал.
— Мы здесь остановимся и отдохнем, — заметил Греков, — скажите офицерам и доктору.
— Мы, кажется, ошиблись, возлагая надежды на этот дворец, — возразил Томилин.
И действительно, немцы, посетившие Валевицы, не постеснялись. Пол был запачкан жидкой глиной и грязью, зеркало в богатой дубовой раме разбито, видимо, револьверной пулей — от нее осталась дырочка, окруженная, словно лучами, разбегающимися трещинами… Всюду были разбросаны опустошенные бутылки и какие-то объедки солдатского ужина.
— Так-с… — глубокомысленно произнес Греков, останавливаясь перед камином и глядя на разбросанные по полу бутылки, — очевидно, немцы успели здесь закусить… погреб, вероятно, был хороший…
— Именно — «был»… — подтвердил Томилин.
— Что делать… посмотрим дальше…
Офицеры отворили дверь и прошли в столовую.
Здесь также все носило признаки варварства и бесчинства. Превосходные статуэтки, когда-то украшавшие старинную горку красного дерева, были разбиты. Дубовая, старинная мебель, наполнявшая комнаты, носила следы людей, ложившихся прямо на диваны в грязных сапогах.
— Ну и нахамили же наши достойные противники! — развел руками Греков, садясь в кресло около стола. — Черт их знает!.. Точно нельзя прийти, выспаться, ну, напиться, наконец, чужим вином из чужого погреба и все-таки не плевать на пол, на кресло и не бить статуй и картин…
Вошел казак, ведя старика с седыми бакенбардами, во фраке.
— Это кто такой? — спросил Греков.
— Дворецкий… Я бы дворецкий… Станислав… — радостно шамкал старик, но с достоинством старого слуги держась перед гостями.
— Немцы здесь безобразничали, хотели меня повесить… Я спрятался, а узнал, что ваши пришли, ну и…
— Если бы ты, старина, устроил нам что-нибудь поесть… горяченького… Не худо бы подкрепиться…
— Зараз, пане! Будет горячее. Не все разграбили немцы. Есть еще и провизия и вино. Я сейчас повару скажу.
— А и повар есть?
— Как же, пане, есть; только он, как и я, в подвале сидел, от немцев прятался.
Пока старик ходил за поваром, сервировал стол из остатков уцелевшей посуды, офицеры закурили трубки и расположились в кабинете в приятном ожидании.
Из столовой доносился звон посуды.
Наконец в кабинете появилась фигура дворецкого, приглашавшего офицеров в столовую.
Греков. Томилин и еще двое офицеров и доктор не заставили себя вторично приглашать, прошли в столовую.
Стол был, хоть и разнокалиберно, но мило сервирован, на нем стояло несколько бутылок старого венгерского, быть может, помнившего еще свою красавицу-владелицу, пахло жареным мясом.
— Э, и да ты нас, старина, принимаешь по-королевски?
— А как же, пане, вы не немцы. Немцам мы ничего не давали. Они брали то, что могли найти. А заветных мест мы им не показали.
Офицеры уселись за стол. Старик прислуживал и разливал вина.
— Немножко можно… Немножко.
— Что немножко?
— Вина. Много нельзя. Я и немцам говорил, да они не слушались, а смеялись.
— Над чем смеялись?…
— Да видите ли, пане, вчера пришли немцы. Начали стрелять в картины и требовать вина. Я им и говорю: «Немного можно! Нельзя в этом доме пьянствовать!» А они и говорят: «Отчего нельзя? Мы тебе дадим нельзя…»
— Тень Наполеона будет сердиться, — говорю.
— Какая тень Наполеона? — ты, старик, видно, от старости из ума выжил. Подавай сейчас вино и не рассуждай!
Подал немцам вина. А они напились и в большом зале, где портрет Наполеона висит, начали безобразничать: поют, танцуют… Я опять им говорю:
— Нельзя здесь петь и танцевать!
— Почему нельзя?
— Тень Наполеона будет сердиться!
Расхохотались, варвары, и пригрозили повесить меня.
Всю ночь пьянствовали. Под утро стали укладываться спать. Один из офицеров, молоденький лейтенант, решил устроиться в спальне, где когда-то ночевал сам Наполеон. Меня, папе, оторопь взяла… как же… на той кровати с тех пор никто не спал…
— Что вы делаете? — кричу. — Тень Наполеона не потерпит такого кощунства!
Тут они, пане, обозлились… пристали: «Какая тень, да какая». А какая… Тень эта тут живет. Раз в год, в день смерти пани Валевской, ровно в полночь, в усадьбе появляется тень великого императора. Ходит по парку, останавливается на берегу пруда и долго стоит, скрестив руки на груди; заходит в беседки. А потом входит в дом. Я сам, а мне девяносто два года, за всю долгую жизнь видал только два раза.
— Бредни! — говорят они.
— Нет, не бредни, — говорю им. — Тень Наполеона, хоть и показывается раз в год, но живет у нас постоянно. Поговорите с нашим ночным сторожем Юзефом. Он вам расскажет, как в черные, душные летние ночи из дома в открытые окна несутся иногда тяжелые вздохи, а иногда даже тихий шепот. Тень Наполеона живет в Валевицах всегда! Грозная тень, — говорю им, — потому что она умеет сердиться. — Ого-го-го! — начали они снова смеяться. — Да! да! Умеет и наказывать, — говорю я. Не верят.
— А знаете, пане офицеры, что было здесь много лет назад? — обратился он к Грекову и Томилину.
— Нет, не знаем, расскажи, старина, это интересно.
— И даже немного жутко, — заметил один из офицеров.
— А вот что случилось. Много лет назад, у меня еще были целы все зубы, — пан дзедзиц (помещик) устроил гулянку. Понавез из Варшавы гостей, мужчин и женщин. Началось пьянство. А потом было такое, что стыдно рассказывать: барыни целовались с паном дзедзицем и его приятелями и все были пьяны… А наутро в большом зале все портреты оказались повернутыми к стене.
— Кто их повернул? — накинулся на слуг дзедзиц. Никто не знает. А я знал, но молчал.
На вторую ночь опять гулянка. Опять вино, песни и женщины. «Быть беде», — думаю. Так и случилось. Утром пана дзедзица нашли в кровати мертвым. Лежит, захолодел уже и весь черный, точно ему под кожу черной краски налили. Никто не знал, отчего дзедзиц умер. А я знал, — это тень Наполеона рассердилась.
— Ха-ха-ха — рассердилась… Рассердилась? — спрашивают пруссаки…
— Рассердилась, — говорю, — и на вас рассердится. Вот посмотрите!
— Не каркай, старый ворон, — кричит один, тот самый, что на кровати Наполеона спать собрался. — Немцы никогда не боялись ни самого Наполеона, ни тем более его тени. Чепуха эта тень.
Сегодня утром уехали немцы. Перед отъездом позвали меня и говорят:
— Ну, вот видишь, ничего нам твой Наполеон не сделал! Мы тебе покажем, что немецкие офицеры не боятся тени Наполеона. Что нам Наполеон? Пустой звук! Прощай, старик. И уходи отсюда скорее, если хочешь остаться целым.
И не успели уехать, как целый дождь снарядом осыпал Валевицы. Начался пожар. Мы попрятались в погреба и подвалы, а немцы продолжали громить Валевицы, пока вы их, пане, не прогнали.
— И в самом деле, — воскликнул Томилин. — Зачем было разрушать усадьбу? Кому она мешала? За что они мстили старику и красивой легенде…
— Дикари, — заметил Греков.
Офицеры кончили ужин.
— Пожалуйте, пане, — обратился к ним Станислав, — я вам приготовил комнаты.
И он повел офицеров во вторую половину дома, оставшуюся в неприкосновенности, так как немцы дебоширили в главных апартаментах.
Утром отряд Грекова получил приказ покинуть Валевицы и отойти назад, так как значительные немецкие части подходили к злополучной усадьбе.
Вскоре начала бухать их артиллерия. Слева, справа, впереди каждую минуту, каждую секунду в воздухе вспыхивали белые блики, — это рвалась германская шрапнель. Грохот десятков орудий перешел в сплошной стон, совершенно заглушающий непрерывную ружейную трескотню.
Вечером этого же дня немцы были снова оттеснены.
Есаул Греков опять получил приказ занять Валевицы. И отряд казаков под его командой приблизились к знакомому месту у опушки леса.
Когда отряд остановился на пригорке, к Грекову, глядящему в бинокль, как и накануне, подъехал Томилин.
— Петр Михайлович, — где же усадьба?
— Вот я и сам смотрю: где? На том месте что-то горит…
В это время из кустов выбежал какой-то мужичонка.
Как оказалось потом, один из оставшихся в живых слуг усадьбы Валевицы.
— Матка Возка! Матка Возка! Что они наделали? — причитал он.
Греков смотрел в бинокль, наконец он отвел его от глаз и обратился к причитавшему и испуганному поляку:
— Что это догорает?
— Валевицы, ясновельможный пан, Валевицы. Как только ушли русские сегодня утром, усадьбу заняли немцы.
Их офицеры расположились к доме и начали пьянствовать. А Станислав-дворецкий тихо подкрался и запер все двери, а сам сбежал в подвал. В подвале он еще вчера приготовил много соломы, стружек и поджег все это. Немцы сгорели, сгорел и Станислав.
Вечерело.
И тихо, странно на этом грозном фоне догорала усадьба красавицы пани Валевской, так долго, почти сто лет, хранившая великую тень Наполеона.
Владислав Гр ТАЙНА ПАСХИ 1916 ГОДА
В шестидесяти верстах от Варшавы, в стороне от проезжей дороги на Блоне, стоит старый полуразрушенный замок, принадлежавший когда-то польским магнатам Салатко-Петрище.
Вокруг замка, давно уже заброшенного и нежилого, сплетались легенды и сказки, одна другой таинственней и ужасней, и вряд ли кто из варшавян не слыхал о странной истории петрищевского замка, и редко кто решался проходить мимо него темной ночью, когда старые деревья парка сливались в черную молчаливую стену, за которой пряталась тайна.
Легенда, окутавшая замок, родилась около 100 лет назад, она росла и укреплялась в течение века и молва докатила ее до наших дней…
В истории этого замка странная, загадочная роль предназначена настоящему — 1916 — году, — настоящей Пасхе.
Именно в этом году ждали чего-то от замка, — разгадки той тайны, которая в течении века жила в нем, или — зарождения новой тайны.
Эту легенду автор и передает здесь в том виде, в каком живет она и по сей час среди польских крестьян под Варшавой.
Святая Пасха 1816–1916 гг.
(Варшавское предание)
Около 100 лет назад старый польский магнат Стефан Салатко-Петрище в ночь под Светлый праздник пыткой замучил молодую жену.
Он выколол ей глаза, отрубил язык и ржавыми гвоздями нагую прибил к стене против большого стенного зеркала, чтобы в зале, где был сервирован пасхальный праздничный стол, висело двое: молодая жена и ее отражение…
Народная молва долго искала причины, заставившей мягкого, любящего жену старика превратиться в зверя и палача, и так ни до чего и не доискалась. Но две версии выплыли откуда-то на свет Божий и волной разлились но окрестным местечкам и деревням. Но одной — старый пан казнил молодую жену за измену с холопом; по другой — набожный старик с несомненностью установил, что его жена — ведьма, и решил: лучше опоганить руки свои убийством, чем оставить в доме, где висело старинной работы, ценное, святое распятие, рабыню и любовницу Дьявола…
Молодая пани была замучена и ее молодое тело, окровавленное, с искаженным лицом, сорвали со стены и бросили собакам…
И той же ночью пана нашли у него в покоях задушенным. И то обстоятельство, что окна и двери в его комнаты были накрепко заперты изнутри, дало повод молве искать убийцу в мире Неведомого.
Ведьма отомстила своему убийце и за свою смерть заплатила ему такой же позорной и подлой смертью, смертью собаки!
С этого времени в замке никто не жил. Приехал новый владелец, осмотрел покои, подвалы и парк и на минуту задержался перед взломанной дверью в комнаты старого пана. А на двери была выжжена надпись:
Св. Пасха 1916 год.
Но 1916 год был далеко. А потому надпись эта, которую никто не видал до убийства, ненадолго задержала внимание наследника. Он велел замок заколотить, поручил сторожу Доминику охрану его и укатил за границу.
А через два года умерли оба, — и сам наследник, и сторож Доминик. Оба в одну и ту же ночь оказались задушенными: один — в Лондоне, в гостинице; другой — в сторожке при замке.
Новая владелица, какая-то троюродная племянница задушенного пана, княгиня Мария Ч., в замок не приезжала ни разу, а, живя в Варшаве, распорядилась всю землю вокруг замка продать, а так как на самый замок и сад покупателей не находилось, то — замок так и остался заколоченным и парк заброшенным и диким. Были только наняты два сторожа для охраны усадьбы.
Княгиня тотчас же забыла о своем наследстве. Но через месяц вспомнила.
К ночи неожиданно явился к ней один из сторожей и о чем они говорили вдвоем с глазу на глаз — никто не знает, но кончился разговор этот тем, что сторож зарезал княгиню, заодно перерезав ножом и собственное горло.
Судьба последующих владельцев замка столь же таинственна и необычайна. Все они умирали странной насильственной смертью, и — именно тогда, когда входили в какое-нибудь соприкосновенье с заброшенным замком.
Наконец, последний владелец поместья, Мариан К., живший постоянно в Москве, как-то, будучи по делам в Варшаве, посетил замок. Он внимательно осмотрел комнаты и залы, велел переклеить обои в большой столовой, где была гвоздями прибита «ведьма», перенес зеркало на чердак и отслужил панихиду на могиле старого пана Стефана, похороненного в саду, над прудом. Потом он долго изучал надпись на двери, гласившую «Св. Пасха. 1916 год», и велел дверь эту не трогать.
Потом щедро наградил старика-сторожа и уехал в Варшаву, а оттуда в Москву.
А пять лет назад, в 1911 году, он умер при весьма загадочных обстоятельствах. Ушел из дому и неделю пропадал, а на седьмой день нашли его под Москвой, на большой Курской дороге мертвым. И в тот же день удавился в замке старик-сторож, оставивший непонятную записку:
«Не могу ждать 1916 года. Иду».
Последние пять лет замок стоял пустой, никем не охраняемый и никому не нужный, и кто был его владельцем — никто уже не знал…
С самой той ночи, когда нашли задушенным старого пана, в замке, по словам окрестных крестьян, творилось что-то неладное.
Говорили, что каждую ночь в окнах зажигались огни, что из-за досок, которыми заколочены были двери, несутся крики и стопы, что вокруг замка бродят тени, которые жгут костры в темном парке…
Молва, стоустая, не знающая границ и удержу, плела клубок бесконечных ужасов. И где здесь кончалась фантазия, порожденная суеверным ужасом, и начиналось простое сочинительство — трудно было разобрать.
Но есть факты, опровергать которые может только упрямец, с которыми нельзя не считаться…
Одну ночь в году, в Страстную субботу, когда в Варшаве гудели и перезванивали колокола и на улицах сновали веселые, возбужденные люди, в замке раздавался страшный оглушительный треск, точно трещали старые вековые стены, рушился потолок и хлестали по деревьям парка тяжелые цепи, опоясывающие заглохшую усадьбу…
А наутро несколько деревьев в парковой роще, над прудом, вокруг могилы старого пана Салатко-Петрище, оказывались поваленными.
В первые годы после смерти старого пана и его жены — два дерева. А через два года — после смерти еще двух связанных с историей замка людей — еще два дерева, а потом еще четыре, и так и пошло… Умерло за год еще двое, кем-то задушенных, и число поваленных в ночь Св. Пасхи деревьев увеличивалось на два…
Точно кто-то на деревьях, как на счетах, отсчитывал эти смерти…
И к прошлой Пасхе, в роще, на месте, где похоронен старый пан, распявший жену, осталось всего 8 деревьев…
Пришли немцы. Первые немецкие снаряды снесли трубы старого замка, разворотили стену и сравняли с землей полуразрушенный гнилой павильон в парке у пруда, выбили окна и уложили четыре дерева в роще…
Осталось еще четыре, последних.
В старом замке поселился немецкий штаб. В комнате, где сто лет назад на стене умирала прибитая гвоздями женщина, теперь даются парадные обеды; в покоях, где когда-то задушен был старый пан, принимаются доклады и отдаются приказания… Говорят, что в один из своих наездов в Варшаву замок посетил сам кайзер. Он заинтересовался выжженной надписью на двери и просил, чтобы ее перевели ему…
Народная молва, готовая вое связывать с войной, всегда ищущая злободневности, уже создала новую легенду, новое пророчество…
Последние четыре дерева, которые одни остались сторожить могилу старого пана, — ждут своей очереди:
Это — Вильгельм, Франц-Иосиф, Фердинанд и Магомет-Али…
Александр Рославлев СКАЗ ОБ ОГНЕРЫЧЕ-ЗМЕЕ, О ЗАРУНЕ-ЦАРЕВНЕ И О СЛАВНОМ БОГАТЫРЕ СУХМАНЕ
— Ну, ребята, лезьте на печь сказку слушать.
К печке бочком, язык молчком, уши торчком.
— Все сели?
— Все.
— Сказывать?
— Сказывай.
— Ходит по Руси бабка-догадка, что ни увидит, что ни услышит, все ей вдомек, да в прок.
Раз идет она по полю, а на встречу ей ветер, — бородой метет, посвистывает…
— А видал я, бабка, — говорит ветер, — из кипарисного дерева крепко сбитый крест, и от дождя не гниет и червь его не точит, ни мечом изрубить, ни огнем спалить! Что за диво?
— Диво это — вера русская!
— А видал свечу на горе — горит свеча стрелой-пламенем; уж я дул на нее, дубы свалил, речку вспять погнал, а свеча не погасла! Что за диво?
— Диво это — правда русская!
— А видал я еще мельницу — супротив меня, ветра, крыльями машет, мелют жернова зерно железное, мелют — не стираются, а умóлу гора, да с пригорочками! Что за диво?
— Диво это — сила русская!
— Ну, спасибо, бабка-догадка, полечу за море, всем расскажу.
Это будет присказка, — а сказка-то вот какая:
Ездил по белу-свету на рыжем коне Сухман-богатырь, радовался воле да песни пел: о земле-дарнице и о всякой твари Божией, о звере прыскучем, о птице быстрой, о рыбе рудоперой.
Пригож был с лица Сухман, что месяц после дождика, а о силе его вода с огнем спорили.
Вода говорила:
— Сухман-богатырь силен, как я.
— Нет, — перечил огонь, — как я.
А был-то Сухман сильнее воды и огня.
Ехал Сухман за Койсат-реку.
Едет бором, бору кланяется.
— Здравствуй, старче, шумен бор.
Едет оврагом, оврагу кланяется.
— Здравствуй, сырой, печорный овраг.
Едет по полю, полю кланяется.
— Здравствуй, разгуляй-поле.
И наехал Сухман на гору. Крута гора, высока, железным репьем поросла.
Поклонился Сухман.
— Здравствуй, сила-гора; стала ты мне поперек дороги! Расступись!
Сколько ни было гор, все перед ним расступалися, а эта стоит, не двинется.
Осерчал Сухман, занес кистень.
— Быть тебе, горе, ниже травы.
Только слышит вдруг тихий голос:
— Ударишь по горе и меня убьешь.
Поглядел Сухман вверх, сидит девица, слезы точит, а у ног ее кувшин разбитый.
И такая-то девица пригожая, век бы глядел, очей не сводил.
— Кто ты будешь, краса? О чем плачешь?
— Я Заруна-царевна, несла воду, да кувшин разбила!
— Эка беда!
— Ношу-то я воду Огнерычу-Змею, как приду ни с чем, заревет Огнерыч, от слюны его и камень горит. Крепко лют Огнерыч. Загубил он моих отца с матерью, все царство пожег, а меня в полон взял.
Стал Сухман грозней тучи.
— Попадись он мне, конем истопчу.
— Ах, и кто с ним не бился: Елизар-царевич, Кирбит-богатырь и Чухлан-разбойник, он всех одолел!
Ухмыльнулся Сухман.
— Садись, — говорит, — со мной на коня!
— Догонит нас Огнерыч!
— Не бойся, царевна, догонит, не быть ему живу!
Ступила царевна на камень, а он вниз покатился. Ступила на другой и другой тоже; не пускает царевну гора Огнерыча.
— Не уйти мне от змея, — плачет царевна.
— А ну-ка, летун-поскакун, изловчись. Достанем царевну!
И взъярился конь, в один мах доскочил до царевны. Ухватилась царевна за большую гриву, ни жива ни мертва, и Сухман ее на седло посадил…
Затряслась гора, закидала камнем, а уж конь-то Сухманов, лови, свищи, быстрей сокола, через речку, да в поле…
В те поры Огнерыч лежал в логове, со своим хвостом в прятки играл. Спрячет за спину хвост, шею вытянет и глядит, косится поганым оком, как хвост. Огнерыч от него, между лапами голову тычет…
И сызнова так-то…
А увидел Огнерыч, что гора затряслась, подает ему недобрый знак, припал ухом к земле и крылья сложил.
Слышит конский топот.
— Не умкнул ли царевну кто? — смекает змей. Выполз из логова, глянул за реку, в поле пыль столбом.
Зорок был Огнерыч; что в земле лежит, и то видел.
— Коли так, — рычит, — я тебе, царевна, белу грудь вспорю. Кровь из сердца выпью.
Раскинул крылья, поволок по траве. Повяли травы, ударил хвостом и поднялся…
Летит, шипит…
Оглянулась царевна, с лица побелела, говорит Сухману:
— Змей гонится!
— Так быть ему без головы!
Придержал Сухман коня и за меч схватился.
— Неспособно, царевна, мне будет биться, ты сиди, а я слезу.
А змей уже близко, из ноздрей огонь, зелень-пена из пасти.
Спроворился Сухман, соскочил с коня и пошел навстречу, только змей позамешкался, облетел круг него и под облако.
— Что ты, змей, кружишь ястребом? Аль боишься? — задорит Сухман.
— А гляжу, кого съесть мне наперво, — отвечает змей, — тебя, хвастуна, аль царевну с конем!
— Вот же, зубы сперва поточи о камень! — поднял камень Сухман и лукнул им в змея.
Был хитер Огнерыч, у Фамона-мудреца триста лет учился. А Фамон-мудрец и Смерть обманул, по сю пору живет. Притворился Огнерыч, что попал в него камень. Ударился оземь, лежит, растянулся.
Подошел Сухман, ногой в морду пнул, мечом веко поднял и пожалел змея.
— Пируй, вороны, хватит на долю.
И прочь пошел.
Тут схватил Огнерыч его за плечи, повалил, подмял под себя.
Увидел Сухман — загубил его змей, и кричит царевне:
— Прощай, царевна, погоняй коня!
А царевна ему:
— Люб ты мне, Сухман, лютой смертью помру, а тебя не покину!
Над Сухманом змей извивается.
— Неохотно мне есть тебя. Съел я сто лебедей! бочку меду выпил.
И, ворча, потащил его в логово, а царевна назад пошла.
Идет, причитая:
— Покатися солнце за море, Схоронись на веки вечные, Реки светлые, усохните, Уроните лист, дубы, шатры, Птицы с гнезд своих попадайте, Ты возьми меня, сыра-земля. Как не быть без солнца радуги, Так и мне не жить без милого.Кинул змей Сухмана в яму, а царевну к столбу привязал.
— Полежу, — говорит, — да надумаю, какой мне вас муке предать!
Думал до ночи, а посыпались звезды, что зерно из лукошка, захрапел змей.
Сидит Сухман в яме, горе горюет.
Шел мимо ямы волчий царь.
— А кто нонче в яме? — спрашивает.
— Я, Сухман-богатырь!
— Слыхал про тебя, что сильней ты воды и огня, а змей и тебя одолел!
— Не силою взял он, а хитростью! Помоги мне, волк: сослужи службу!
— Рад бы помочь, да нечем, и мне от змея житья не стало… Сколько съел нас, волков, и счету нет. Хоть остры у нас зубы, а у змея острей.
— Слышно храп-то его… подойдешь, не учует! В головах у него смоленый столб, привязал он царевну к столбу, развяжи.
Призадумался волчий царь, стоит, правым ухом водит.
— Боюсь, не спит.
— Не тебя мне учить, как в полуночи шарить! Хвостом след заметать!
Стало стыдно волку.
— Пойду, попробую!
И с оглядкой, тихой поступью подобрался волк к столбу.
— Не бойся, царевна, послал меня Сухман-богатырь.
Перегрыз ремни и бежал.
А царевна скорей к гнилой яме.
— Кидай хворост в яму, — говорит Сухман.
Стала царевна хворост кидать, и все-то ей помогают, и заяц-куцый, и лиса-пролаза, и белка-острогубка, и мышь-хлопотун, кто сучок, кто охапку.
Живо справились, накидали хворосту по край ямы.
По тому по хворосту и вышел Сухман. Поклонился царевне.
— Спасибо, царевна.
И зверям поклон.
— Спасибо вам, звери, за помочь вашу.
Расправил плечи и молвит змею:
— Будет спать-почивать, Огнерычище, подымайся-ка силой меряться. Погляжу я, лукавый змей, сколь удал ты в честном бою.
Диву дался змей, ощерился.
А Сухман к нему:
— На-кось, ешь меня.
И схватилися.
Змей огнем палит, да Сухману что: он сильней огня.
Змей корежится, извивается, норовит Сухмана на рога поддеть, только ловок Сухман. Поднял змея, к горе прижал, захрястели змеевые кости.
— Ох, — взмолился змей, — отпусти.
— Откупись.
— На дне Скрыни-реки я клад схоронил, бери клад.
— Мало.
— Под Нифот-горой закопал я ларец, в том ларце Фамона кольцо. Поглядишь сквозь него, все на свете узнаешь. Бери кольцо.
— Мало.
— В Тулунь-печоре корец стоит с броней солнцевой, будешь пить ее, не состаришься, бери корец.
— Мало.
Смекнул Огнерыч, что над ним, над змеем, смеется Сухман, из последних сил понатужился, увернулся из-под рук его, полетел, заскулил и с глаза пропал.
— Неладно, царевна, — оказал Сухман, — поколь жив змей, надо ждать беды. Где-то волчий царь, я б его за конем послал.
А волчий царь уж тут, как тут. Воет на голос.
— Ах, Сухман-богатырь, как мне быть теперь. Воротится змей да узнает, что я пособил тебе, всех нас, волков, переловит.
— Не тужи, не вой, сыщи мне коня.
— А какой твой конь?
— Рыжий.
— Мало ль рыжих коней. Трудно будет сыскать.
Крепко думает, правым ухом водит.
— Стой тут, не сходи с места.
И был таков.
Стоит Сухман, дожидается.
Не успело солнце на пядь подняться, застонало поле, заухало, топ, да лихое ржанье, скачут кони со всех сторон и видимо их невидимо, гонят коней серые волки, наперед бежит волчий царь.
— Кличь, свищи, — говорит, — своего коня.
А конь Сухманов и сам бежит, гривой машет.
Сел Сухман на него, посадил царевну.
— Догоняй-ка змея.
И вихрем в поле.
Скачет день, другой, не видать змея, а занялся третий, объявился змей, лежит в овраге да лапу лижет.
И дохнуть не успел, покатилась голова, кровью брызнуло.
Вытер меч о траву Сухман-богатырь и Заруну-царевну за руку взял.
— Без помехи теперь будем жить, царевна, и клад Огне-рыча, и Фамона кольцо, и броня Солнцева, все наше.
Улыбнулась Заруна.
И запел Сухман:
Расцвели цветы, Зазвенели птицы.Сухману с Заруною злат венец, а сказке конец.
Эх, ребята, мало каши ели, душки-то у вас с воробьиный нос. Спросили бы вы бабку-догадку, кто она такая, Заруна-Царевна.
— А кто?
— То-то кто. Русь-матушка.
— А змей-Огнерыч?
— Каждый враг наш.
— А Сухман-богатырь?
— Народ русский.
Так-то, ребята.
Ну, брысь с печи, деду спать время.
Алексей Ремизов РАТНЫЙ ПОЯСОК Народный оберег
Илл. Л. Е.
Аркадий Бухов ИЗ ОБЛАСТИ СУЕВЕРИЯ
Есть два душевных сознания, казалось бы, совершенно противоположных друг другу, взаимно уничтожающих друг друга, но в то же время часто сочетающихся в одной и той же психике, это — вера и суеверие. Больше того, суеверие не может побороть не только вера, но даже культура, которая внешними доказательствами может бороться с нелепостями суеверия.
Я не говорю уже о существовании гадалок, хироманток, предсказателей и т. п., и как раз в такие моменты, когда вся нация начинает жить вдумчивой трезвой жизнью. Я не говорю об амулетах, носимых людьми самых разнообразных умственных способностей и культурного развития. Даже такие прозаические люди, как наши враги немцы, верящие только в хорошо сделанную машину и питательную колбасу, не лишены самого низкопробного суеверия. Ниже вы увидите фотографии с амулетов, снятых с немецких матросов, взятых в плен с крейсера «Блюхер» англичанами… Какие-то петушки, человечки, нелепые фигурки, навешенные с целью защитить их обладателя от плена, смерти и ран. Среди наших темных масс амулеты не в ходу.
Карманный амулет.
Крестьянский парень, идущий на войну, уже знакомую ему по газетам, не верит в то, что останется целым, если навесит на себя медную птичку или оловянного человечка, но для тех, кто остается, нужно изыскивать какое-нибудь средство для предохранения «своего человека» от гибели и неудач.
Шейный амулет.
И вот находятся спекулянты, которые используют темноту в мелких корыстных расчетах. Они выпускают книжки с особого рода заговорами, приноравливая их к войне, отдельными дешевыми лубочными выпусками.
С содержанием этих заговоров я и хочу познакомить здесь читателя, хотя бы ради их вящей курьезности — они взяты из нескольких лубочных брошюр.
Вот заговор:
От свинцовых, медных и каменных пуль
«В высоком терему, в Понизовье, за рекою Волгою, стоит красна девица, стоит-покрашается, добрым людям похваляется, ратным делом красуется. В правой руке держит пули свинцовыя, в левой медныя, а в ногах каменныя. Ты, красная девица, отбери оружия: турецкия, татарския, немецкия, черкесская, русская, мордовския, всяких языков и супостатов; заколоти ты своею невидимою силою ружья вражия. Будут ли стрелять из ружья или из пули — были бы пули не в пули; пошли бы эти пули во сыру землю, во чисто поле. А был бы я ни войне цел и невредим; а была бы моя одежда крепче панциря. Замыкаю свои приговорныя словеса замком, а ключ кидаю в океан-море, под горюч камень алатырь, и как морю не высыхать, камня не видать, ключей не доставать, так меня пулям не убивать, до моего живота им по конец века не доставать!
Карманный амулет.
Вот заговор:
Против меча и сабельных ударов
Кован еси, брат! Сам еси оловян, а сердце твое вощаное, ноги твои каменныя от земли до небес, не укуси меня, отай пес. Оба есмы от земли! Коли усмотрю тя очима своего брата, тогда убоится твое сердце моих очей усмотрения.
Карманный амулет.
Еще заговор:
Против пищалей, стрел и всякого оружия
Есть море железное, на том море железном камень алатырь, на том камне сидит муж, железный царь; высота его от земли до небеса, заповедает своим железным посохом на все четыре стороны — от востока до запада, от юга до севера, стоит подпершись, заказывает своим детям: укладу ли красному и железному, каменному и простому, и проволоке — железу литому, стали и меди красной и зеленой, свинцу и олову, чугуну и серебру и ядрам: подите вы, ядра каменныя и железныя, в матерь свою, землю, мимо меня раба Божия (имярек), а стрелы строганыя в древо — в дерезу и в сосну, и в яблонь, и в рябину, и в черное дерево, а вы, перья, в птицу, в свою матерь, а из нея в рыбу, а рыба в море».
Кроме специальных заговоров, есть и общие, как например:
Вообще от ратных орудий
Летит орел из-за Хвалынского моря, разбросал кремни и кремницы по крутым берегам, кинул громову стрелу во сыру землю. И так отродилась от кремня и кремницы искра, от громовой стрелы полымя, а как выходила грозная туча и как проливал обильный дождь, что им покорилась и поклонилась селитра порох смирным-смирнехонъко. Как дождь воды не пробил, так бы меня (такого-то) и моего коня искры и пули не пробивали, тело мое было бы крепче белого камня. И как от воды камни отпрядывают и пузыри вскакивают, так бы от ратных орудии прядали мимо меня стрелы и порох-селитра. Слово мое крепко.
Специально от ружей новых систем есть такой заговор:
Заговор от ружья
На море на океане, на острове на Буяне, гонит Илья пророк на колеснице гром с великим дождем: над тучей туча взойдет, молния сияет, гром грянет, дождь порох зальет. Пена изыде и язык костян. Как раба-рабица N мечется, со младенцем своим не разрежается, так бы у него, раба N, бились и томились пули ружейныя и всякого огненного орудия. Как от кочета нет яйца, так от ружья нет стрелянья. Ключ в небе, замок в море. Аминь (трижды).
Немного, конечно, найдется грамотных людей, кому были бы нужны эти заговоры, но раз есть люди, издающие такие книги, очевидно, есть и читатель для них… Единственная мера борьбы с ними — заговоры против глупых книг…
Николай Руденко ЖЕЛТАЯ КРАСАВИЦА
Илл. автора
Вы говорите, что война ужасна. Ужасна морем крови, ужасна извергаемыми из ее грозной пасти грудами человеческих обломков?
— Вы совершенно правы.
— Но все-таки война — замечательная вещь. Побывав в ее железных когтях, многое начинаешь ценить значительно выше, чем делал это до тех пор, на многое начинаешь смотреть спокойнее и проще.
Возьмите хотя бы современную культуру. Ложась ежедневно на мягкую постель, обедая в хорошем ресторане, вы знаете только десятую часть цены этих прелестей. Даже меньше того. Вы так привыкли к комфорту и удобствам, что совершенно не умеете их ценить. Совсем другое дело, когда волны культуры охватят человека после скитания по боевым полям, после длинного периода жизни в самых первобытных условиях. Уверяю вас, что даже лампа — простая кухонная лампа, сменившая, наконец, свечу, — покажется тогда перлом совершенства.
Возьмите, с другой стороны, смерть с ее мрачными аксессуарами. Ведь мысль о ней пугает мирного обывателя, а зрелище траурной процессии способно надолго испортить ему настроение. Но вы даже представить себе не можете, как просто, как спокойно начинаешь смотреть в глаза смерти, когда встречаешься с ней по несколько раз в день. Около вас падают, корчатся и умирают; вас даже забрызжет вылетевшим мозгом или хлынувшей кровью, но вы не обращаете на это ровно никакого внимания.
Кончается бой. Павших собирают, стаскивают в общую могилу. Перед вами сотни неподвижных голов, рук и ног, быстро исчезающих под падающими комьями, но вам так же жутко, как при виде щей, закипающих в походной кухне…
Многие ли из вас отважатся пройтись глухой ночью за город, перелезть через ограду кладбища и погулять среди пристанища бренных останков человека?
— Не думаю!
— Недаром повседневщина видит подвиг в поступке какого-нибудь взбалмошного юнца, рискнувшего прибить ночью записку к условленному кресту. Как вам понравится, что то же кладбище, мимо которого вы стараетесь пройти возможно быстрее, силясь направить мысли в другую сторону, война может сделать приятным и желанным? А, между тем, война очень способна на такие шутки…
Вы, конечно, знаете Манчжурию по рисункам, по описаниям и понаслышке. Это почти сплошная нива, усеянная острыми стеблями сжатого гаоляна и почти лишенная деревьев. Трудно представить себе, как стремились в этой стране войска расположиться на незапаханных и усаженных деревьями кладбищах, где они находили тень и сухую гладкую почву.
Вы думаете, что близость страшных мертвецов, лежащих на небольшой глубине с загадочно темнеющими глазными впадинами и оскаленными зубами, вселяла в кого-нибудь беспокойство и трепет?
— Ничуть не бывало.
— В самые глухие ночи из расставленных по могилам палаток несся один только крепкий, раскатистый храп…
И это далеко не все. Какое впечатление произведет на вас гроб с уложенным в него мертвецом, найденный среди поля? Вы в состоянии ли будете равнодушно вывернуть содержимое, а из досок наколоть щепок для костра, на котором будет кипятиться ваш чай, сделать из них стол и скамью в вашем жилище, сколотить из них дверь?
— Сомневаюсь…
— Но война толкнет и на подобные поступки. В силу какого-то обычая китайцы оставляют часть своих мертвецов непогребенными, укладывая их в огромные, стоящие среди поля деревянные гробы, обложенные сырым кирпичом и соломой. Вам странно и жутко, но в периоды недостатка в дереве войска набрасывались на эти сооружения, пропитанные испарениями тления и хладнокровно употребляли их для своих надобностей…
Да, замечательная вещь — война. Однако, и она, несмотря на способность притупить человеческую впечатлительность до высших пределов, все-таки вполне не застраховывает от таинственного и непонятного…
* * *
В один из ясных зимних дней меня потянуло погулять по окрестностям. Война уже кончилась, и расположенные по деревням войска ждали отъезда на родину.
Странное впечатление производил на русского человека зимний манчжурский пейзаж. Мороз, от которого коричневато-серая земля дала широкие трещины, резкий ветер, и вместе с тем почти полное отсутствие снега. Лишь еле-еле насыпан он между бороздами полей, едва заметен на неровностях крыш. Январь на исходе, а по твердым как камень дорогам катятся с шумом повозки, взметая, как в середине лета, клубы легкой пыли.
Оставив в стороне дорогу, я пошел по пахоти к вершине отдаленного холма. На нем копошилась какая-то группа. Подойдя ближе, я увидел слишком обычное зрелище. Несколько бородатых запасных солдат уже разобрали кирпич и солому, скрывавшие огромный китайский гроб, и начали сдвигать тяжелую крышку.
От нечего делать останавливаюсь, закуриваю папиросу и равнодушно жду результата работы, чтобы взглянуть на содержимое размалеванного кедрового саркофага.
Вот крышка снята. Нагнувшись вперед, я невольно роняю папиросу от неожиданности. В гробу — разодетая в пеструю шелковую ткань, окруженная исписанными бумажными свертками, лежала, как живая, молодая китаянка.
Китайские женщины вообще очень непривлекательны. Но на этот раз передо мной лежала красавица, поразительная красавица, даже с точки зрения европейца.
Всматриваясь в замечательно гармоничные черты лица усопшей, обрамленного фантастической прической, я вдруг и с каким-то жутким чувством уловил в нем не одну только человеческую привлекательность. В изгибах губ змеилась странная, совсем дьявольская улыбка. Мгновениями даже казалось, что губы живы, что они как бы извиваются, а одновременно с ними вздрагивают и темные нити непомерно длинных ресниц.
Однако, я быстро оправился. Трудно было сразу озадачить офицера, привыкшего смотреть с полнейшим хладнокровием на сотни, тысячи мертвецов.
«Должно быть, мнимо-умершая», — мелькнуло у меня в голове, и я решительно притронулся к слегка нарумяненной щеке трупа, к рукам, к груди.
Нет… Тело оказалось холодным, закоченевшим, видимо, промерзшим насквозь. Смерть несомненна… Но откуда берется ее дьявольская, живая улыбка, это непонятное вздрагивание век?.. Да, я не ошибаюсь! Губы, действительно, шевелятся, ресницы, действительно, вздрагивают!..
Чтобы несколько подобрать нервы, я достал новую папиросу и искоса взглянул на лица солдат. Мне не хотелось, чтобы они угадали мое замешательство. Но что это?.. Все бледны, все глаза расширены в безграничном ужасе. Значит, не мне одному страшно, не я один нахожусь под впечатлением чего-то непонятного и жуткого.
«Никак, братцы, ведьма», — вдруг хрипло вырвалось из какой-то бороды.
«Ведьма, ведьма», — дико закричали остальные, и в ту же секунду раздался топот десятка ног, бегущих во весь дух по промерзлой пахоти.
— Что за вздор, — еще раз попробовал я взять себя в руки. — Разве в наш реальный век может быть речь о ведьмах? Просто какое-то недоразумение. И, собрав всю свою волю, я нагнулся к самому лицу мертвой красавицы.
Вот тут-то и случилось нечто, заставившее меня проваляться полтора месяца в нервной горячке. Еще спасибо войне! Не притупи она заранее мою впечатлительность, мы, наверное, не имели бы удовольствия беседовать…
Вас интересует, что я увидал?
Знаете ли, я увидал медленно раскрывающиеся глаза, огромные, глубокие, как бездна, и отливающие каким-то зеленоватым пламенем.
Я увидел губы, переставшие дьявольски улыбаться, а потянувшиеся ко мне в страстном призыве поцелуя…
В то же время мой слух уловил фразу на китайском язы-же, которая каким-то чудом стала мне мгновенно понятна.
«Я пойду за тобой…»
Меня нашли в бессознательном состоянии, в нескольких верстах от места происшествия…
Когда я выписался из госпиталя, Манчжурия была одета в весенний наряд. Зеленели редкие деревья, зеленела нежная травка вдоль дорог и по берегам рек. Наш полк уже собрался уезжать и весело упаковывался.
Впечатление пережитого во мне улеглось, и я даже с некоторой иронией вспоминал желтую красавицу. Наверно, я имел в тот день неосторожность выпить за обедом лишнюю рюмку, а солдаты, как представители простого народа, сделались жертвами суеверия. Возможно ли, чтобы мертвая улыбалась и говорила?!..
Конечно, нет!..
Руководимый желанием убедиться на месте, как мало реального было во всем случившемся, я снова иду к знакомому холму. Ярко светит солнце, в голубом небе заливаются жаворонки. Природа начинает жить полным темпом, требуя полноты жизни и от всех своих составных частей.
Вот и гроб, унылый, тихий. Спокойно подхожу к нему и смело заглядываю в середину. Пусто. Только слегка шелестят от дыхания ветерка листы покрытых письменами рукописей.
Где же она, прекрасная и страшная красавица, так сильно покачнувшая мою нервную систему?.. Оглядываюсь кругом.
Неподалеку, в овраге, пестреют какие-то лохмотья. Подхожу и вижу несколько обглоданных костей среди обрывков вышитого шелка. Это бродячие собаки вытащили труп и уничтожили остатки красивого тела.
Вот и череп.
Как некогда Олег, наступаю на белеющую кость и уже открываю рот, чтобы процитировать звучные стихи Пушкина, как вдруг мой взгляд приковывается к длинной пряди черных волос.
Нагибаюсь и протягиваю руку, чтобы поднять этот последний остаток былой очаровательницы, и мгновенно вздрагиваю, как от громового удара.
Мертвая прядь, неподвижно лежащая в стебельках первой травы, подымается навстречу моим пальцам, прикасается к ним, обвивает их…
А мой слух, мой так скептически настроенный слух, ловит несущуюся откуда-то снизу, должно быть, из черепа, роковую фразу:
«Я пойду за тобой…»
На этот раз я не заболел, а с бешенством стряхнул с пальцев черные волосы и с проклятием вернулся домой.
Через неделю поезд нес меня в Россию. Разбирая чемодан, я нашел на самом дне, как бы притаившуюся среди белья, черную прядь.
Я выбросил ее в окно, но к вечеру опять нашел в кармане шинели.
Тогда я обвязал ее вокруг японского патрона и начал терпеливо ждать широкой матушки-Волги. Когда поезд медленно дополз до середины моста, я вышел на площадку вагона и, широко размахнувшись, швырнул патрон в реку. Он шлепнулся, вскинув серебряные брызги, и скрылся в глубине. У меня отлегло от сердца.
Вряд ли вы сумеете объяснить мне, как это произошло, но, купив на тульском вокзале газету, я нашел в ней все ту же длинную, черную прядь…
* * *
Вы как-то спрашивали меня, отчего я — молодой и красивый — систематически уклоняюсь от брачных уз. Тогда я не ответил вам, отделавшись какой-то шуткой, но сегодня буду более откровенен.
Всему причиной опять-таки она, таинственная желтая красавица.
Вы перестанете улыбаться, когда я расскажу вам про две свои попытки свить милое семейное гнездышко.
Мой первый роман завязался задолго до Манчжурии. Я знал ее еще институткой, почти ребенком. На моих глазах она переходила из класса в класс, и с каждым годом все теплее, все светлее становились наши отношения.
Нас разлучила война. Я оторвал ее, рыдающую, от своей груди и бросился в вагон, низко надвинув папаху.
Все время мы переписывались, но я, конечно, скрыл от нежной души Нины причину своей нервной болезни. По возвращении из Манчжурии, мы немедленно начали готовиться к свадьбе.
Она веселилась, как стрекоза в солнечных лучах, я был бесконечно счастлив ее счастьем, ее любовью.
Всего за несколько дней до свадьбы, Нина забежала с матерью на мою холостую квартиру. Пили чай. Веселились, болтали, строили те милые, воздушные замки, которые кажутся такими возможными при свете любви и молодости.
Начало темнеть, и я приказал денщику зажечь на письменном столе лампу.
Как все женщины, а тем более любящие, Нина была очень любопытна.
«Открой твой письменный стол! Я хочу посмотреть, что там делается».
Какое-то страшное предчувствие ворвалось вдруг в мое сердце. Я невольно побледнел.
«Ты, видимо, имеешь от меня какие-то секреты», — сразу разнервничалась Нина. — «Отчего ты бледнеешь?»
Я молчал.
«Открой сейчас же все ящики… Я хочу все знать, все, все!..»
«Тебе нечего знать, мой котенок, я никого не любил, кроме тебя. Клянусь, чем хочешь!»
«А это что», — как-то слабо вскрикнула девушка, пошарив между бумагами, и во весь рост упала на пол.
В руке Нины была зажата длинная прядь черных волос…
Как тяжело, как невыносимо тяжело было мне следить за развитием болезни горячо любимой невесты. Она таяла, как свеча. Ужаснее всего было то, что она не желала видеть меня, не желала выслушать моих оправданий.
Да и что путного мог я ей сказать? Разве бы она поверила всей этой странной, загадочной истории?..
Наконец, положение Нины сделалось безнадежным.
Ее милая старушка-мать нарушила запреты дочери и позвала меня. Как сейчас вижу полутемную комнату с заставленной лампой, белую кровать и выступающие на ней контуры исхудавшего дорогого тела.
Нина была в забытье. Мы долго сидели со старухой, изредка перебрасываясь шепотом короткими фразами. Но вот измученная бессонницей старая женщина задремала.
Вдруг я почувствовал, что в комнате находится еще кто-то посторонний, что ко мне прикован чей-то тяжелый, притягивающий взгляд.
Я обернулся.
На стуле в углу, подобрав под себя ноги, сидела она — страшная желтая красавица. В полумраке я различал с поразительной ясностью ее губы, змеившиеся дьявольской улыбкой, я видел ее глаза, ярко вспыхивавшие зеленоватым огнем.
В то же время я услыхал шевеление на кровати. Нина очнулась и в свою очередь впилась расширенными зрачками в таинственный силуэт.
«Это она… твоя! Зачем она сюда явилась?..»
— Прочь, проклятая, — зарычал я нечеловеческим голосом и, схватив стул, ринулся в угол.
Желтая красавица исчезла…. но вместе с ней улетела и нежная душа моей дорогой Нины…
Вас интересует вторая попытка? — Извольте.
Эта попытка кончилась не менее трагически.
Недавно. Всего около года назад. Не скажу, чтобы я опять любил. Меня, вернее, потянуло к семейной жизни, к домашнему очагу, к деткам. В мои годы подобное притяжение впервые начинает намечаться и действует довольно сильно. Она — она любила меня, и этого было достаточно.
Как и в первый раз, свадьбу не откладывали. Сборы и переговоры быстро кончились, день бракосочетания наступил.
Вот я на паперти церкви в ожидании невесты. Вот показывается и карета. Подъезжает. Останавливается.
Открывается дверца, и моя будущая жена в белоснежном наряде легко выпрыгивает на панель.
Но тут с невероятной быстротой происходит нечто ужасное. Как из-под земли, перед мордами лошадей вырастает опять она, проклятая желтая красавица!
Из людей, кроме меня, ее не видал никто, но ее прекрасно увидели лошади. С диким храпом они рванулись назад, взвились на дыбы и шарахнулись в сторону.
Карета мгновенно перевернулась. Когда ее подняли, под ней лежал бездыханный труп в белоснежном подвенечном наряде…
Я безумно зарыдал и начал вытирать глаза… неизвестно какими судьбами оказавшейся в кармане длинной прядью черных волос…
Как же после всего этого могу я снова думать о браке?.. Как я могу сомневаться, что и в третий раз поперек моего пути не станет загадочный желтый призрак?..
А вы сомневаетесь?
Нет, наконец, и вы, по-видимому, утратили способность сомневаться.
Николай Каразин АНГЕЛ СМЕРТИ
Илл. автора
ой затих.
От рассвета до глубокой ночи гремели выстрелы; седою пеленою смрадного дыма затянуло окрестности и в этом дыму, врассыпную и сплошными, тяжелыми массами, двигались тысячи «серых» и «синих», истребляя друг друга…
Весь день!.. С рассвета, — до глубокой ночи…
Тьма наступила и разняла истомленных бойцов: «синие» ушли далеко туда, — в глубину предгорий; «серые» назад, в ту синеющую, лесную даль… Ни те, ни другие не сочли себя победителями — никто не признал себя побежденным… спорное поле осталось за павшими…
Тьма наступила… тьма победила!.. мертвое достояние мрака!..
Страшная тишина сменила гром боя… Снежные тучи подвинулись с гор, резкий холодный ветер завыл в кустарных зарослях, шевеля гривами павших коней, лохмотьями одежды убитых… И мнится — будто дышат во тьме… пробуждаются трупы…
Тихий стон страданья слышен в завываниях леденящего ветра.
Стынут тела, замерзают кровавые лужи… Работу свинца и железа кончает беспристрастный мороз, нет в нем ни злобы, ни сострадания… равны для него и «серые» и «синие».
Томительно долго тянется зимняя ночь… грустная здесь — веселая и светло-радостная там, где не гремели выстрелы, где люди живут в миру, куда не раз предсмертною мыслью проникали — и еще живые и поверженные — бойцы…
Святая ночь Рождества, ночь мира и привета. Ночь, когда, при виде сверкающей огнями елки и радостных детских лиц, смягчается самое суровое черствое сердце, забывается горе и злоба… Зане — это ночь Благодати…
Здесь же, в этой адской долине, ночь невыносимой скорби и страданий. Ночь последнего испытания. — Ночь гнева Господня!..
Блаженны — убиенные… Счастливы уснувшие навек!.. И сколько здесь тех, кто засохшими устами, коснеющим языком молил Бога о смерти…
Томительно долго тянется зимняя ночь!
Вот — приподнялся один… чуть-чуть, на локоть только… и громко застонал от боли… мутным взором старается всмотреться — что там кругом?.. где он?.. где наши?..
— Братцы!.. Братцы!.. оставили…
Тоскливо забилось очнувшееся сердце, будя энергию жизни… Молнией пронеслось воспоминание дня…
«Идут… палят… бегут… падают… штыки… ура!., командир свалился… носилки… снова бегут… мечутся „синие“, мелькают красные фески в кустах, дым застилает очи — душит чрезмерно усталую грудь… редеют ряды… стали… упал и он…»
И все потемнело, все стихло разом… ни боли… ни малейшего страдания… А теперь?!.. зачем теперь эти муки?!.. оставили… бросили… один… один!..
Нет! не один… Вон, да близко как!.. вон еще, прямо в упор на него уставились два страшных глаза… черное, как уголь, лицо тоже отделилось от снега… так же невыносимое страдание положило печать на него — и страх смешался с печатью скорби…
Это «синий» проснулся и заметил врага… почудилось, что тот крадется тихо к нему, беспомощному, умирающему — и невольно потянулась рука за оружием… скользит слабая рука по ружейному прикладу, а нет силы поднять…
— Что же, добивай… — шепчут воспаленные уста «синего».
— Какой страшный!.. — шепчет и серый, — что же — добей! скажу спасибо…
Каждый произнес это по-своему, а оба поняли друг друга, и грустная улыбка скользнула по лицам и «серого», и «синего»…
Улыбнулись и рассеялся страх… подвинулись ближе друг к другу…
— Что, больно?.. — спросил серый. — Куда попало?..
— Тяжело?.. — спросил синий. — Где болит?..
И снова оба поняли… Один показал на свои беспомощно волочащиеся ноги, другой на грудь, на изорванную штыками расшитую куртку…
— Попить бы, — проговорил «синий», просительно глядя на жестяную флягу у пояса «серого».
— Пусто, брат… поглотаем-ка снегу… — ответил серый.
— Ох, тяжко!..
— Тяжко и мне… Смерть подходит…
И оба замолкли, снова пали головами на землю…
Время идет… Холод все крепче, да крепче…
— Жив еще?.. — опять приподнялся серый.
Видит — а синий привстал в половину тела, обеими руками оперся, жадно глядит куда-то, поверх этого конского трупа, — поверх бугра, где безобразным скелетом торчит разбитое колесо…
— Огонь!.. свет!.. — шепчет он ясно… словно крикнуть пытается…
Опять по-своему говорит, а «серый» понял. Тоже видит светлую точку и растет эта точка — будто костер вдали ярким пламенем разгорается…
— Ползем!
— Ползем!
Плечо к плечу сошлись «серый» и «синий» — пытаются помогать друг другу… стонут, вскрикивают даже от боли — ползут… ползут… Да вдруг оба стали и вопросительно смотрят друг на друга…
— Бивак!! Свои ли? А ну как чужие… враги?!.
И снова оба печально улыбнулись своему страху.
— Что ж, поползем! Авось, Господь милостив — допустит?
— Ползем… Аллах без конца милосерд…
А сил больше нет, последние попытки бесплодны, немощно разбитое тело, — словно земля сама озлилась на беглецов, крепко за них уцепилась и держит… Слабее и слабее бьется сердце, мутится взор… А странно — все исчезает из глаз: и этот раздутый бок палого коня, и эти чьи-то ноги, и рука, сжатая в кулак, что видна была из-за пригорка, и это разбитое колесо, и заиндевевшая щетина кустов — все затянуло предсмертным туманом, а огонь, — желанный огонь… все ближе и ближе! все яснее и яснее кажется… Не они к нему — сам он, плавно скользя над землею, плывет им навстречу…
Неслышно веют легкие белые крылья… Окутанное прозрачным облаком, приближается к ним светлое видение — чаша в руках… Словно легкое пламя колышется над чашею, озаряя и дивный лик, и дивные руки…
И оба — «серый» и «синий» — коснулись устами краев этой чаши.
Тотчас же исчезло видение…
Но оно унесло с собою все страдания, все боли — страх и смятение, — сменив их отрадным и вечным покоем…
Д-р Кузнецов ВОЙНА И ТАИНСТВЕННОЕ (Из воспоминаний)
Весною 1854 года, во время начавшейся уже с Турцией войны, профессор анатомии харьковского университета, заведовавший хирургической клиникой — Наранович — предложил всему пятому курсу вопрос: кто записался желающим поступить военным врачом?
Когда же ординатор ответил ему, что только трое, то профессор упрекнул студентов за их равнодушие к нуждам армии в такое время, когда патриотизм во всей России проявляется с такою силою.
Советовал всем нам подумать о предложениях правительства, призывавшего теперь врачей на очень выгодных условиях.
Речь профессора подействовала и, после долгих совещаний, почти весь пятый курс, за исключением, кажется, четырех человек, подал прошение о поступлении в военную службу.
С марта месяца начались усиленные экзамены, почти без антрактов.
Во время этой-то суеты и приготовлений к экзаменам забегаю я к своему товарищу Р., бывшему в то время у студента Савича: они оба наскоро сказали мне, как о новинке, о том, что при прикосновении двух или трех человек руками к тарелке или столу, эти предметы начинают двигаться, стучать и стуком отвечают на заданные вопросы. Конечно, я принял это за шутку.
Р. подал прошение о принятии его военным врачом на службу, но не иначе, как в гвардию.
Мы смеялись над таким его желанием, совсем, по нашему мнению, неисполнимым.
Тогда он со своим братом взялись за тарелку, и, когда тарелка скоро закружилась под их руками и стала боком над столом, они поставили такое условие: тарелка должна стукнуть 5 раз, если нет — 3 раза.
Тарелка отчетливо стукнула 5 раз.
Потом Р. предложил вопрос, какой он вынет билет на экзамене физиологии, назначенном на завтра.
Прочитать весь курс, по краткости времени, было невозможно.
Я положил на тарелку и свои руки.
Тарелка простучала 17 раз.
Мы вместе прочли со вниманием 17-й билет раза два и на другой день явились на экзамен, откровенно говоря, очень мало знакомые с физиологией.
Вызвали меня; я вынимаю 8-й и 17-й билеты.
На 8-й вопрос я ответил не особенно бойко, но на 17-й так основательно и с таким знанием, что профессор, оставшись вполне доволен моим изложением, остановил меня и тотчас же вызвал Р., прося его продолжать взятый мною 17-й билет, а через 4 недели получилось распоряжение о зачислении всех нас, согласно нашим прошениям, и студент Р. получил назначение в гвардию, где состоял еще и в недавнее время дивизионным врачом, как я случайно узнал это из списка врачей, помещенного в медицинском календаре.
Было ли предсказание тарелки простою случайностью или в этом незначительном явлении было проявление какой-то силы, нам совершенно неизвестной, — тогда осталось для меня вопросом, т. к. я потом никогда не наблюдал ни вертящихся тарелок, ни столов.
Я просился врачом в кавалерию действующей армии и был назначен в уманский графа Никитина полк (Чугуевский), бывший уже в походе, и который я уже догнал в Ананьеве и затем вместе с полком прибыл в Одессу незадолго пред ее бомбардированием и взрывом английского парохода «Тигр».
Одно время полк стоял недели две или три в городе Баску, в Молдавии, где лагерем за городом расположились два полка 8-й пехотной дивизии, пришедшие из-под Силистрии в самом жалком виде.
В единственной гостинице с утра до поздней ночи была невообразимая толкотня офицеров всякого рода оружия; там велась открытая игра в банк на больших столах с передвигающимися кучами золота.
Держал банк всегда молодой поляк, а отец его в полу-турецком костюме — старик с большими польскими усами, держался всегда в стороне, сидел и курил, поглядывая на игру.
Говорили, что у него в широком поясе находятся запасные деньги на случай, если банк, заложенный его сыном, будет сорван.
В гостинице стоял постоянный говор, смех, шутки, всякие рассказы, слухи, новости, — все исходило оттуда.
Нужно заметить, что ни журналов, ни газет мы из России не получали. Да и газет-то, кроме «Северной пчелы» и «Русского инвалида», в России тогда не было.
Один раз я, сидя там, слышу рассказ пожилого пехотного офицера о том, что вчера он в подвальном этаже полуразрушенного каменного дома видел удивительную ворожею-цыганку, которая с изумительною точностью рассказала ему главные обстоятельства его прошлой жизни, никому, кроме его, не известные, и предсказала ему, что где-то далеко при сильной пальбе из больших пушек, в дыму, она видит много красивых мундиров, и что он будет ранен и ему отрежут правую ногу.
Лицо офицера было когда-то ранено в скулу, на которой виден был большой шрам, отчего нижнее веко глаза было как бы выворочено, и потому лицо имело неприятное, нелегко забываемое выражение.
На другой день, вечером, вместе с двумя офицерами и старшим полковым врачом — покойным Григоровичем, мы отправились гулять по городу и отыскали эту цыганку, которая с двумя девочками, 8-ми и 13-ти лет, очень хорошенькими и почти голыми, и седым стариком сидели в подвальном этаже, на земле, вокруг потухавшего костра, и пекли картофель на ужин.
Мерцающий огонь угасающего костра, при дыме в верхней части комнаты со сводами, придавал этой картине оригинальный таинственный характер.
Цыганка очень плохим русским языком потребовала с желающих гадать по 2 эрмалыка (турецкая серебряная монета, около рубля).
Я и доктор положили деньги на ладонь руки и просили не говорить прошлого, а только будущее.
Она что-то выпила из маленькой бутылочки, взяла меня, потом доктора за руку, смотрела долго на руку, в глаза, лицо, потом вперила взгляд на потухающие угли и, как бы про себя, держа мою руку, начала, раскачиваясь, тихо говорить отрывистыми фразами:
«Скоро больной будешь, крепко больной, здоров будешь. Далеко, далеко вновь больной будешь крепко. Много мертвых видишь. Здоров будешь. Счастлив будешь, но богат не будешь. Жить долго будешь, марушку возьмешь в России, счастлив будешь, домой придешь, богат не будешь».
Потом взяла доктора Григоровича также за руку, не отводя глаз от углей, начала ему говорить, что «он скоро, скоро болен будет, но живой. А далеко, далеко на степу смерть придет. Домой не придешь. В степу помрешь. Не один помрешь — много там мертвых будет».
Спустя неделю доктор Григорович, потом и я, живший вместе с ним, заболели сильнейшей дизентерией, от которой мы едва не умерли.
В полку же эта болезнь развилась эпидемически, в самой тяжелей форме, и мы потеряли из полка около 30 человек умерших из 200 лежавших в госпитале больных.
Возвратился полк потом в Одессу, где и оставался всю зиму, а весною 1855 г. двинули нас, во время сильной холеры (шедшей из Крыма к Одессе), в Крым, но остановили около Перекопа в с. Каланчаке. Оттуда меня командировали в Никопольский военный временный госпиталь для замещения должности ординатора, которых пред моим прибытием умерло уже четверо.
В Никополе, где половина домов была наглухо забита по случаю смерти всех обывателей, я перенес страшный тиф с возвратом его, с бубонами под мышками, но каким-то чудом остался жив, а старший врач Григорович умер от тифа в пустынном степном ауле в Крыму, вместе с начальником 6-й дивизии г. Ланским и дивизионным адъютантом Косоговым, и похоронены в безлюдной степи.
Из полка же, не бывшего ни разу в деле и всю зиму проведшего в пустынных маленьких, брошенных татарами аулах, в постоянных разъездах пред Евпаторией, не осталось и половины людей, так что, при возвращении из Крыма, полк, прибывший туда в составе 16 рядов во взводе, т. е. около 35 человек, вышел оттуда в Чугуев, имея во взводе только человек по 15–12.
Прошло много лет после войны.
В 1869 году я ехал за границу и на станции Орел, около буфета, столкнулся с пехотным, видимо, отставным офицером, на костылях и деревяшке.
Резкий характерный шрам на правой щеке с вывороченным веком сразу напомнили мне офицера, рассказывавшего в Баску, в гостинице, о ворожее-цыганке и ее предсказаниях.
Я обратился к нему с вопросом, помнит ли он пребывание в Баску, гостиницу там и рассказы его о цыганке.
Он не знал меня, потому что тогда нас никто не представил, и я слышал рассказ его издали.
Поэтому он очень удивленно спросил меня, почему я все это знаю? И затем прибавил:
— Да, батюшка, предсказание проклятой цыганки сбылось все, как она говорила! Меня ранили в ногу во время штурма Севастополя, и вот приходится калекою страдать всю жизнь. Чудеса, батюшка! Как мне это забыть! Да вы-то почему знаете? — еще раз удивленно спросил он меня и успокоился только тогда, когда я объяснил ему, что я случайно был в гостинице Баску и, сидя к нему спиною за другим столиком, слышал его рассказ товарищам, и на другой день вместе с доктором отыскали цыганку и гадали на будущее.
— И что же? — торопливо спросил он.
— Да, и нам сделанные предсказания ее сбылись. Я был два раза очень опасно болен и остался жив, вернулся домой, женился, счастлив, как она предсказала. А бедный мой старший доктор умер в безлюдной, дикой Крымской степи, как она говорила, и домой бедняга не вернулся.
Сергей Бекнев ГИБЕЛЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА (Аэрофантазия)
I
«13-го июня 1912 года 2-й воздушной дивизии в полном составе ее крейсеров с их разведчиками быть готовой к отправлению. Полет назначается в 6 ч. утра. Цель полета: бомбардировка „аэролитными“ минами неприятельской крепости К., защищающей столицу.
Для бомбардировки иметь на каждом крейсере по 3 комплекта мин, которые и выбросить, расположившись над крепостью в сплошной колонне, крейсер от крейсера на расстоянии двух радиусов сфер поражений, производимых на земле взрывами аэролитных мин…»
Так гласит один из пунктов секретного приказа по 2-й воздушной дивизии.
Вот когда впервые пришлось столкнуться с действительностью воздушной эскадре, да еще при таких выгодных для нее условиях, как полное отсутствие воздушного флота у противника.
Все участники набега были возбуждены, легкая победа обеспечена, один такой решительный рейд… полная паника противника… и, конечно — капитуляция. Накануне лихорадочно готовились к полету; были приняты все возможные меры против пушек, стреляющих по дирижаблям.
Гондолы последних в своих наиболее жизненных местах были бронированы особой «скользкой» броней, заставлявшей рикошетировать неприятельские снаряды.
Все крейсера имели двойные газовые оболочки, между которыми находился особый газ, вырывавшийся из отверстия при попадании в дирижабль зажигательных снарядов, отчего горевшие снаряды мгновенно тухли. Все было предусмотрено, проверено и ровно в 6 ч. утра дивизия, поднявшись на высоту и скрывшись за облаками, понеслась к цели.
Эскадра взяла направление к морю, над которым и продолжала свой полет.
Моторы работали прекрасно, скорость развивалась предельная, дул слабый встречный ветер.
Автоматические приборы, соединенные с двигателями, точно показывали место нахождения кораблей над поверхностью земли по особым картам, имевшимся на командирском крейсере, где и был установлен ориентировочный прибор.
Оставалось до цели около 150 километров, как вдруг на авангардном дирижабле подняли сигнал «остановка».
Неуместность подобного сигнала была всем очевидна. С командирского корабля немедленно передали приказание: «Продолжать путь в том же направлении».
Ответ был: «Невозможно, моторы не действуют».
Сейчас же авангардный дирижабль был выведен из строя для исправления моторов, причем его ветром отнесло несколько назад и моторы внезапно начали опять работать, но в это же самое время второй дирижабль остановился и поднял совершенно непонятный сигнал:
«Моторы исправны, хода нет».
Происходило что-то непонятное; от неизвестной причины моторы быстро останавливались, вращения винтов не происходило, и все дирижабли сносило ветром на некоторое расстояние, где моторы опять без всяких исправлений начинали работать…
Начальник дивизии приказал всем подняться выше на 500 метров и попробовать перейти преграды, но результат был тот же.
Тогда эскадра круто повернула вправо и около часа она свободно неслась в новом направлении, после чего был подан сигнал: «Взять прежний курс».
Через несколько минут опять повторилась остановка.
Начальнику дивизии осталось испытать последнее средство; он приказал двум лучшим аэропланам-разведчикам № 2 и № 4 попытаться полным ходом прорвать таинственную завесу.
Оба разведчика были обречены почти на верную смерть, но смутная надежда проскочить сквозь препятствие их подбадривала и со страшной быстротой №№ 2 и 4 ринулись на завесу.
Все с тревогой следили за ними.
Но вот один за другим оба аэроплана быстро начали падать; видимо, и их постигла та же участь, моторы остановились.
Помочь им не было никакой возможности, и на глазах всей эскадры оба судна скрылись в тумане, чтобы погибнуть в волнах расстилавшегося внизу моря.
Это была серьезная потеря, потеря двух лучших аэропланов с их храбрыми командирами.
Никто не мог себе дать ясного отчета, в чем дело?
Внезапные остановки всех поразили… Начиналась чувствоваться неуверенность в своих силах… Настроение становилось тревожным…
Эскадра была остановлена и начальник дивизии обратился к командирам судов по беспроволочному телефону с просьбой каждому высказать свое мнение.
Ответа ни от кого не последовало.
Никто ни мог объяснить происходившее. Только командир авангардного дирижабля инженер-майор фон Энте просил разрешения немедленно прибыть к начальнику дивизии.
Разрешение было дано, и фон Энте на своем разведчике № 1 прибыл к дирижаблю генерала.
Генерал встретил фон Энте далеко не любезно.
— Что вам угодно, майор? зачем вы прибыли лично, точно не могли со мной переговорить по телефону? Даром время теряете, — проговорил скороговоркой начальник дивизии, но Энте знал нрав генерала, а потому немедля отрапортовал ему:
— Ваше превосходительство, я догадываюсь, что это за сфера, может быть, мне удастся ее уничтожить.
Генерал сразу повеселел.
— Говорите скорей, спасайте всех нас, иначе мы не исполним возложенного на нас поручения.
Тут фон Энте стал торопливо докладывать генералу:
— Я думаю, что перед нами сферическая поверхность, центр ее в крепости К., которой эта сфера и обязана своим происхождением. Не знаю точно, что это за сфера, но она мне кажется похожей на сильное поле магнитов, в котором затруднено вращение стальных предметов и, если только мое предположение верно, то и средство против роковой сферы найдено: я хочу заключить мотор в коробку из мягкого железа, которое поглотит, вернее, разъединит линии поля, и мотор будет вращаться совершенно свободно, передавая движение деревянным винтам. Разрешите мне испробовать это на моем разведчике № 3, на котором я проникну внутрь сферы, затем помощью магнитной стрелки определю направление радиусов сферы и в фокусе найду станцию, на которую и брошу свой запас аэролитных мин.
Генерал недоверчиво покачал головой, но ничего не возразил.
Протянув руку майору, он сказал:
— С Богом.
И они расстались.
Еще отправляясь к командиру и зная, что разрешение не может быть не дано, майор приказал немедленно начать работу на разведчике № 3, и к моменту его возращения на свой дирижабль разведчик был уже готов.
Заняв на нем место, майор фон Энте поднял сигнал к отправлению… и стрелой бросился на преграду…
Все были поражены и в душе считали храброго майора безумцем.
Но что это?.. По расчетам, он должен был уже достигнуть преграды и начать свое нападение, а разведчик все удалялся и удалялся…
Наконец, сомнения не было: майору удалось проникнуть внутрь сферы…
…Общий радостный крик приветствовал эту первую победу.
Между тем, майор, ободренный своим успехом, легко определил местонахождение станции и, пользуясь тем, что неприятель всецело возложил свою защиту на действовавшую сферу, внезапно опустился над самой станцией, куда и бросил запас своих мин.
Раздался оглушительный взрыв.
А майор в это время уже несся навстречу своей эскадре.
По дороге фон Энте приказал испробовать запасной мотор без оболочки; мотор работал превосходно.
Сфера была уничтожена.
Подлетая к эскадре, майор заметил в последней большое движение: все дирижабли выстраивались в боевой порядок… Опять радостное настроение охватило эскадру… Майор занял свое место на дирижабле и первым в авангарде направился на крепость К., теперь совершенно беззащитную, за ним следовала полным ходом вся дивизия.
II
Оставим эскадру продолжать свой путь и, пока еще крепость К. не уничтожена, перенесемся туда и посмотрим, что там происходило за несколько времени до начала военных действий.
Однажды в штаб крепости явился молодой офицер и просил доложить командиру о своем желании лично переговорить с ним об одном очень важном и секретном открытии, сделанном на днях этим офицером.
Но ведь известно общее отношение к различным изобретателям; поэтому весьма понятно смущение молодого человека, когда ему назначили прием в тот же день.
Не в его пользу было и то обстоятельство, что неоднократно за свое доверие подобным изобретателям многие пострадали.
Все это очень озабочивало юношу, который верил в свое открытие, верил той пламенной верой, ради которой и живут истинные изобретатели…
Перед комендантом молодой офицер начал развивать свою теорию уничтожения дирижаблей путем устройства пункта, похожего на станцию беспроволочного телеграфа, излучающего особую энергию и образующего как бы сферу, заставляющую все вращающиеся моторы останавливаться.
Таким образом, все дирижабли и аэропланы, попавшие в эту сферу, вследствие остановки двигателей, неминуемо должны сделаться либо игрушкой силы ветра, либо силы тяжести…
Теория была красиво изложена, юноша говорил увлекательно и так доверчиво смотрел на сидевшего перед ним генерала, что последний решил испытать: может быть, этот изобретатель даст что-нибудь действительно полезное.
— Хорошо, — сказал он, — я согласен вам помочь; откровенно говорю, вы мне понравились, и я беру на себя выхлопотать вам субсидию.
Юноша просиял.
— Ваше превосходительство, я многого не прошу: пока разрешите мне устроить лабораторию на одном из фортов, и в ней я буду работать на пользу своей родины… Я надеюсь… больше того — я уверен, что мое открытие даст ей силу и защиту от самого сильного флота…
Генерал подошел к юноше и ласково похлопал его по плечу:
— Не очень увлекайтесь, поручик, а лучше работайте, работайте и работайте… Трудящиеся люди нам нужны, ой как нужны… Лабораторию я вам дам. Если же вам еще что-нибудь понадобится — обращайтесь ко мне.
С этими словами комендант отпустил молодого изобретателя. Юноша ног под собой не чувствовал от радости: мечты его сбывались… Ему казалось, что все воздушные флоты уничтожены… что он является центром обороны всей страны… и с такими мыслями он с лихорадочным рвением принялся за работу.
После целого ряда попыток и опытов была наконец устроена и оборудована на одном из фортов станция, названная станцией А, которая действительно останавливала все вращающиеся моторы в своем районе, но во время работ по устройству этой станции молодому поручику пришла новая идея, основанная на следующем: из двух одинаковых взрывчатых веществ, одно детонирует (взрывается на расстоянии) при взрыве другого, что объясняется одинаковой характеристикой колебаний; раз это так, то, несомненно, возможно сделать такой прибор, который послал бы в известном направлении колебания соответствующей характеристики данного взрывчатого вещества и тогда встречающееся на пути подобных волн взрывчатое вещество той же характеристики будет, конечно, детонировать.
Увлеченный этой идеей, поручик на другом уже форте оборудовал еще станцию, станцию Б, которая могла взрывать на расстоянии все взрывчатые вещества, характеристика которых была известна, причем при взрыве опытного количества испытуемого вещества прибор настраивался сам собой и после этого мог уже посылать в желаемом направлении соответствующие колебания.
Днем и ночью юноша работал на станции В.
Многие взрывчатые вещества были испытаны, характеристики их составлены, и весь вопрос сводился к тому, чтобы добыть в достаточном количестве для опытного взрыва образец вещества, применяемого соседней державой к своим воздушным, минам; но это был секрет, добыть который, несмотря ни на что, не удавалось.
Вот в каком положении застает крепость К. начало военных действий.
Мы видели, что станция А действовала прекрасно до тех пор, пока не были сделаны на моторы предохранительные кожухи, благодаря которым майор фон Энте мог на близком расстоянии своими аэролитными минами ее совершенно уничтожить.
В момент взрыва молодой изобретатель, находясь в лаборатории станции Б, был занят составлением характеристики одного взрывчатого вещества.
Несколько предшествовавших ночей, проведенных в работе, настолько его утомили, что он делал над собой усилие, чтобы не заснуть.
Раздавшийся оглушительный взрыв его встряхнул, и он мгновенно бросился к распределительной доске, где автоматически указывались характеристики каждого взрываемого вещества, по которому настраивалась станция.
Тут он увидел, что произошел взрыв состава, не имевшего еще на станции своей характеристики, и что приборы уже настроились на соответствующее число колебаний…
В это же время ему дали знать по телефону, что станция А уничтожена неприятельскими минами, брошенными с проникшего неизвестно как в защитную сферу аэроплана противника, и что больше этой сферы не существует, а значит, гибель крепости неизбежна, ибо вдали на нее направляется миноносная воздушная эскадра.
Поручик в волнении отвечал, что пока он жив, крепость вне опасности, только пусть ему доносят обсервационные пункты о приближении неприятеля.
Вскоре стали поступать донесения о проходе эскадры в виду различных пунктов.
Наконец она вошла в район действия станции Б.
Юноша повернул рычаг взрывной машины, и последняя начала посылать в требуемом направлении волны, колебания которых теперь как раз соответствовали колебаниям взрыва «аэролита».
Через несколько минут было получено донесение, что на неприятельской эскадре, по-видимому, произошел ряд взрывов и она, охваченная пламенем и дымом, начала быстро опускаться в море; было замечено также, что один находившийся значительно впереди дирижабль, видимо, неповрежденный, повернул обратно.
Известие о таком блестящем действии его изобретения, в связи со страшным утомлением, так подействовало на измученного поручика, что он как сноп упал на стоящий тут же диван и заснул крепким, здоровым богатырским сном.
III
В штабе Северной армии состоялся экстренный доклад майора фон Энте о трагической гибели 2-й воздушной дивизии от внезапного взрыва аэролитных мин, бывших на дирижаблях.
Из всей эскадры только дирижабль майора остался цел потому, что запас его мин был сброшен ранее для уничтожения станции сферы торможения моторов в крепости К.
Майор подробно доложил об обнаруженной им сфере, о средстве борьбы с ней, доложил об уничтожении этой сферы и победоносном полете эскадры до того момента, пока случайный взрыв одной из аэролитных мин не заставил всех остальных, бывших сравнительно недалеко, взорваться и таким образом погубить всю эскадру.
Доклад майора носил скорее характер прерывистого рассказа, перебиваемого иногда слушающими: слишком нервно все были настроены, и тяжела была для всех подобная совершенно неожиданная неудача.
По окончании доклада к майору фон Энте подошел один из присутствовавших и спросил:
— Майор, а вы не думаете о возможности взрыва аэролита эскадры на расстоянии противником?
Майор сделал жест рукой, ясно показывающий всю несостоятельность подобного заявления.
Да и действительно, состав аэролита держался в строжайшем секрете, и никто не мог его узнать, а значит, предложенный вопрос не заслуживает особого внимания.
На этом дело и кончилось.
Ночью в 4 часа командующему Северной армией было доложено, что его немедленно желает видеть майор фон Энте.
Последний был принят.
— Ваше превосходительство, — начал он свой доклад, — эскадра погибла не от случайного взрыва, а от воли противника: когда я бросил свои мины и произвел взрыв, то этого было достаточно, чтобы противник мог определить характер взрывов нашего аэролита и на этом основании организовать детонацию на расстоянии. Я не могу этого доказать, но осмеливаюсь просить ваше превосходительство экстренно приказать снять все аэролитные мины с первой воздушной дивизии, выступающей с той же целью сегодня в 6 часов утра.
Генерал пристально смотрел на Энте; последний был бледен, как полотно, но не смотря на это продолжал:
— Ваше пр-во, я настаиваю на исполнении моей просьбы, не посылайте вторую эскадру на верную гибель. Эскадра не должна лететь вовсе, ибо без мин цель ее полета совершенно отпадает.
Остановите немедленно назначенный полет, — пусть эти дирижабли послужат нам для полевой войны, где они нужнее. Прошу вас еще, разрешите мне на моем корабле участвовать в назначенной на завтра разведке.
Генерал молчал и нервно барабанил пальцами по столу, наконец позвал адъютанта и приказал немедленно отменить назначенный вылет эскадры. В просьбе майору лететь в рекогносцирующем отряде генерал отказал наотрез:
— Вы нам слишком нужны, ваше дело — это дело борьбы с теми средствами, которые выдвигает противник в защиту от нашего воздушного флота. Работайте в этом направлении, придумывайте и помогайте нам.
В ваше распоряжение открывается неограниченный кредит из специального фонда.
Можете избрать себе где и какую угодно лабораторию, я немедленно прикажу передать ее в ваше полное распоряжение на все время войны. То же приказание будет мною отдано и относительно избранных вами двух заводов, изготовляющих воздухоплавательные машины. Кроме того, я вас представил к производству в полковники.
Завтра жду подробного вашего доклада.
Майор фон Энте вышел от генерала с сознанием исполненного долга. Первая дивизия была спасена, безумно было ее посылать, после выяснившегося, на верную гибель, а майор был уверен теперь, что взрыв произошел не случайно!
На следующий день майор, прибывший с докладом, был встречен генералом словами:
— Поздравляю вас полковник, ну, что нового? Избранная фон Энте лаборатория политехникума, находящегося в г. Б., и два больших завода были предоставлены молодому полковнику со всеми необходимыми средствами.
Здесь начались работы по снабжению аэропланов особыми электродвигателями системы фон Энте, приводимыми во вращение без проводов помощью станции, находящейся на земле.
Эта идея обещала громадную будущность: аэропланы не должны были больше брать с собою запасы горючего, опасность взрыва уничтожалась, уход за двигателем упрощался, капризный бензиномотор заменялся гораздо более постоянным электродвигателем; все говорило в пользу этой идеи и полковник работал над ее осуществлением, быстро подходя к блестящему концу.
Между тем, назначенная 1-й воздушной дивизии стратегическая разведка была выполнена столь быстро, что неприятель не успел ей чем-нибудь противодействовать в большом масштабе.
Правда, стрельба по некоторым из дирижаблей была произведена из особых пушек, имевших возможность стрелять под большими углами возвышения, но без серьезных результатов.
Тут впервые получили применение снаряды с выкидывающимися ножами, разрывающими оболочку шара, но эти разрывы были слишком малы, чтобы потеря газа была значительна, а кроме того, имевшиеся в каждом дирижабле вертикальные перегородки, делившие его на части, не позволяли выходить всему газу, а давали возможность потерять только весьма незначительное количество, находившееся в отдельном отсеке, которое нисколько не влияло на дальнейший полет, ибо парализовалось соответствующим выливанием водяного балласта.
Стрельба горящими снарядами тоже не дала результатов, — препятствовали двойные оболочки с негорючим газом, во-первых, и отсутствие кислорода для образования гремучей смеси, во-вторых.
Самым неприятным для эскадры моментом было появление ее в сфере пушек, стрелявших снарядами, дававшими дымовые траектории, значительно облегчавшие пристрелку. Но, благодаря быстроте хода, эскадра ушла без потерь.
Аэропланы оказались совершенно неуязвимы для артиллерийского огня; бросаемые с них снаряды производили, по-видимому, больше моральное впечатление, хотя об этом судить было трудно ввиду значительной высоты и быстроты хода разведчиков.
Сведения, добываемые во все время разведки, сообщались немедленно по радиотелеграфу со звучащей искрой, дававшему возможность одновременно работать с нескольких разведчиков, на центральную станцию, где все эти сведения группировались для доклада главнокомандующему армиями.
Таким образом, стали вполне известны все передвижения противника, соответственно чему и были приняты решения, которые оставалось только привести в исполнение. Благодаря имевшимся в распоряжении полковника фон Энте заводам с запасом почти готовых аэропланов, ему удалось весьма быстро осуществить свои идеи, результатом чего явилась небольшая воздушная флотилия электро-разведчиков, вполне оправдывавшая возлагаемые на него надежды. На каждом аэроплане производилась регулировка количества энергии, поглощаемой электромотором, что позволяло двигаться с любой скоростью, причем имелся особый прибор-мультипликатор, дававший возможность работать двигателю на значительном удалении от станции.
Задача, возложенная на эту флотилию, состояла в некоторых детальных разведках, необходимых для более полного освещения положения противника. Эти детали служили дополнением к произведенной удачно большой разведке и вносили в нее необходимые в силу течения времени поправки.
IV
Обнаружившая наше расположение разведка противника заставила всех вспомнить о нахождении в крепости К. изобретателя-поручика, и его немедленно вытребовали по телеграфу, причем ему было приказано в кратчайший, по возможности, срок оборудовать защиту нашего расположения от неприятельского воздушного флота.
Поручик был в отчаянии, да и было отчего: у него под руками не было ни одного средства… Необходимо было все имеющееся у него в крепости К. перевозить сюда. Больших трудов ему это стоило, но наконец удалось изготовить подобие особых мортир, дававших при стрельбе особые восходящие вихревые токи воздуха, которые были совершенно незаметны для аэропланов, но попадая в которые, они непременно должны были перекидываться назад (опрокидываться) и падать на землю.
Против дирижаблей была им же устроена еще раньше станция, излучающая электрическую энергию, обращавшуюся в сфере водорода в тепловую и таким образом воспламенявшую последний. Эта станция была доставлена из кр. К. в кр. Б., находившуюся хотя и во 2-й линии, но более центрально по отношению к театру войны.
Из-за удавшейся и во время не предупрежденной стратегической разведки противника нам приходилось менять все предположения, что осложняло и мобилизацию и развертывание войск.
Теперь под прикрытием сделанных двух завес — можно было вое закончить до появления противника и даже представлялась невидимому возможность перехода в наступление, что, впрочем, весьма многими не одобрялось и почему шел раздор, значительно мешавший быстрому и решительному образу действий. Но, несмотря на все, обход, назначенный в этом защищенном пункте, должен был состояться и именно там, где неприятель этого не ожидал. Боялись только внезапного появления воздушного флота, который легко мог бы обнаружить предполагаемый обход и тогда, обрушением на этот фланг крупных сил, противник мог не только его парализовать, но сразу приобретал себе значительный перевес.
Движение наше прикрывалось, как выше упомянуто: против дирижаблей — зоной электроволновой станции, воспламеняющей на расстоянии водород; против аэропланов-разведчиков вихревыми токами воздуха.
В ставке командующего армией находился прибор, указывающий на появление в его сфере неприятельского аэроплана, нарушавшего сейчас же стройность получаемых им колебаний.
Стоял душный день… Парило…
Внезапно получилось на приборе отклонение стрелки, показывающее, что где-то вблизи находятся в атмосфере несколько аэропланов. Но, пока они приблизились к вихревой завесе, прошло достаточно времени.
С момента появления их в поле зрения биноклей за ними начали следить.
Вихревая завеса ждала своих жертв, молчаливая и невидимая… Неприятельские разведчики, наскочившие на нее, были внезапно опрокинуты, ибо не успели принять никаких мер, и начали падать на землю… Остальные, видя подобную катастрофу, повернулись назад и скрылись из виду.
Отправленные тотчас же к месту катастрофы автомобильные команды привезли остатки аэропланов и показали нечто совершенно необычайное — на разведчиках не было бензиномоторов, а находились электродвигатели без всяких проводов.
Узнавши об этом, поручик воскликнул:
— Вот осуществление моей идеи!.. Я не мог провести ее в жизнь только из за недостатка технических средств, а мы могли бы иметь такие аэропланы; более того, у нас имелись бы управляемые с земли разведчики!.. Но мне негде было работать, у нас не было соответствующих заводов!
Видя уход аэропланов, оставшихся невредимыми, все вздохнули свободнее, рассчитывая, что те больше не вернутся, а значит, задуманное передвижение удастся, ибо с места поворота аэропланов, благодаря далеко устроенной завесе, нельзя было раскрыть нашего расположения.
Через некоторый промежуток времени прибор дал опять отклонение; значит, аэропланы опять в его сфере, хотя присутствие их в бинокль обнаружить не удалось.
Между тем, прибор все более и более начинал отклоняться, указывая на уменьшение расстояния до неприятельских разведчиков, которых все-таки нигде нельзя было различить.
Что же это значило?
Вопрос решился только тогда, когда на огромной высоте, по-видимому, значительно выше завесы, обнаружено было несколько точек, двигавшихся выше досягаемости вихревых токов…
Приказано было довести высоту завесы до максимума, но ничего не помогало: точки медленно, но все-таки передвигались по направлению к нашему расположению.
Вихревая преграда была бессильна.
Дело проиграно, ибо аэропланы начали опускаться за преградой…
Внезапно на всех разведчиках показались сильные голубоватые вспышки и аэропланы стали быстро увеличиваться, приближаясь к земле…
Неправильность их полета свидетельствовала о произошедшем с ними несчастье.
Сомнения не могло быть — они падали, пока сильный удар их о землю не заставил всех вздрогнуть.
Что же случилось?
Летевшие на страшной высоте и заряженные одним электричеством аэропланы, спускаясь, попали в сферу противоположную, причем от быстрого разряда сгорели все обмотки электродвигателей, что и повлекло за собой описанную катастрофу.
Разведка не удалась.
Конечно, на эту тему можно было бы фантазировать сколько угодно и заполнить бесчисленное количество страниц, но я позволю себе счесть свою задачу выполненной, если кто-нибудь, прочтя эти заметки, задумается хотя на минуту над прочитанным; если же мне возразят, что все это утопии, никогда не осуществимые… то что же, в оправдание останется сказать: ведь это пока только моя фантазия.
Приложения
С. Об ВОЙНА И СПИРИТИЗМ
Переживаемая в настоящее время страной, исключительная по своим размерам война не могла, конечно, не оставить самого глубокого следа на людской психике. И это с яркой наглядностью сказывается на деятельности спиритов. «Загробные» сеансы уступили свое место военным сеансам, которые по своим результатам представляются чрезвычайно интересными. Вызываемые силой медиума, духи делали подчас такие интересные предсказания, пред которыми бледнеют предсказания самой г-жи де Тэб[14].
Один известный в петроградских кругах медиум рассказывает прямо необыкновенные вещи, наблюдавшиеся за последнее время на разных спиритических сеансах.
Предсказание победы
Так, например, на сеансе в одном из частных кружков, еще в самом начале войны, явился дух величайшего полководца русской армии — Суворова. Вполне естественным желанием спиритов было узнать его мнение относительно результата войны. На это дух-стратегик ответил, что меч Германии к концу войны будет сильно зазубрен и сломан, что сломанных мечей не сливают, а выковать новый меч будет стоить большого труда.
Талисман духа
На сеансе у известного представителя польской аристократии графа Т-ча явился дух индуса Омари, с которым графу приходилось встречаться еще в лондонском спиритуалистическом о-ве, на сеансах с медиумом Стадом. Омар объяснил цель своего, для всех неожиданного посещения, — желание передать графу, как старому другу при жизни, талисман от вражеской силы, представляющий из себя частицу священной ткани из древнего храма индусов. После чего светящаяся тень что-то бережно опустила на середину стола.
Неизвестно, как долго кусочек ткани сохранит свою волшебную силу, но сын графа, которому отец передал талисман, сражается уже пятый месяц и до сих пор остался невредимым, несмотря на то, что разорвавшимся снарядом под ним была убита лошадь.
Возвращение из плена
На одном из сеансов в Петроградском кружке было получено от духа павшего в бою воина сообщение о том, что сестра одной из присутствовавших на сеансе дам, в качестве сестры милосердия отправившаяся на театр военных действий, находится в плену. Единственным утешением было предсказание духа о ее скором возвращении, основанное на том, что, якобы, уже ведутся переговоры об отправке ее в Россию.
По проверке, сообщение оказались совершенно правильным, и к общей радости плененная вскоре вернулась в Петроград.
Рождество
Поручик Ла-ский с ноября месяца находился в пункте, усиленно обстреливаемом неприятелем, и в кружке сильно интересовались его судьбой, о чем долгое время не удавалось получить сообщения. Наконец, на сеансе 26-го декабря было сообщено, что Ла-ский находится в совершенной безопасности. Впоследствии оказалось, что за два дня до наступления праздников рота поручика была отправлена на отдых, и утомленные лишениями воины радостно встретили светлый праздник.
Аноним РОКОВАЯ ДАТА
Уверяют, будто все великие события во все времена были предсказаны заранее баловнями судьбы, обладающими особой чуткостью и способностью провидеть будущее. Так и война 1914–1915 г. В архивах Котерэ сохранилось предсказание, помеченное 1700 г. и гласящее:
Когда кареты будут ездить по дорогам без лошадей.
Когда с одного конца мира можно будет говорить с другим.
В 1914 году Май заговорит о войне.
Июнь решит ее.
Июль ее объявит.
Август увидит слезы на глазах жен и матерей.
Кареты без лошадей — автомобили; по телефону можно говорить через пространство; свидание Вильгельма с эрцгерцогом австрийским состоялось в мае; убийство наследного эрцгерцога — в июне; германская мобилизация началась в июле.
А вот что было напечатано в ежегодном «Альманахе» известной предсказательницы г-жи Тэб, 1912–1913 года.
Мы почувствуем себя в руках Судьбы… Настает час героизма и героев… Сколько красивых жестов, сколько благородной инициативы… С интересами отдельных лиц перестанут считаться. Я вижу несчетное число француженок, склоненных над ранеными и больными, даже и за пределами наших границ самоотверженно пытающихся облегчить страдания своих братьев, сыновей, мужей… Париж в 1914 году будет страшен и велик… армия у границ, Отечество в опасности…
Но это все относится но времени начала войны. Каков же будет, по предсказаниям, ее исход? И одержат ли союзники окончательную победу?
Предсказание колдуньи
…В 1849 г., когда революция свирепствовала в Пруссии и Австрии, Вильгельм I, тогда наследный принц, усмирил беспорядки в герцогстве Баденском. Узнав, что в деревушке Фиенсбург живет колдунья, славящаяся своими предсказаниями, он однажды, осенним вечером, посетил ее и спросил:
— Какая участь ожидает меня?
— Вы будете германским императором.
— В котором году?
Ясновидящая написала цифру года, 1849, потом цифры, ее составляющие, и сложила все вместе:
1849 + 1 + 8 + 4 + 9 = 1871.
— В 1871, — ответила она.
— А в котором году я умру? — пожелал узнать принц.
Колдунья снова написала цифры:
1871 + 1 + 8 + 7 + 1 = 1888.
— В 1888 году, ваше величество.
Будущий Вильгельм I-й, объединитель Германии, очень взволнованный этими двумя предсказаниями, спросил в последний раз: долго ли просуществует германская империя и когда она будет разрушена?
В третий раз ясновидящая сложила цифры:
1888 + 1 + 8 + 8 + 8 = 1913, потом цифры получившегося года — 1 + 9 + 1 + 3 — 1914.
— В 1913-м или в 1914-м.
Годы подтвердили предсказания колдуньи: принесли с собой Садову, войну с Францией, провозглашение Германской империи и смерть старого императора в 1888 г. Пока — колдунья не солгала.
Аноним ПРОРОЧЕСТВО ФРЕДЕРИКА БЕДНОГО
В истории старой монархической Франции остался едва заметный след от таинственного человека, которого Париж того времени знал под именем Фредерика Бедного. Этот француз был немножко философ, немножко колдун, и погиб он в тюрьме, обвиненный в измене королю и в волшебстве.
На самом же деле, это был мечтатель и поэт, человек очень суеверный, впечатлительный и страдающий галлюцинациями. Живи он в наше трезвое время, он, вероятно, либо был бы спиритом, либо теософом, либо сидел бы в сумасшедшем доме…
Его преследовали беспрестанные видения и, на основании бесед со своими загробными посетителями, он предсказывал события задолго до их наступления.
В 1716 году, в марте месяце, он выпустил рукописную книгу, которую распространил… в 7-и экземплярах. Книга была наполнена пророчествами, переплетающимися с какими-то загадками, разрешить которые до сих пор не удалось. Ни одного экземпляра рукописной книги не сохранилось, ни точной копии ее. Но во Франции, в городке Боже, недалеко от Ижера, у некоего Романа отыскались выписки из этой рукописи, которые он выдает за точную и верную копию.
Вот отрывки из этой книги «волшебника» 1716 года.
— «Пройдет всего 200 лет, и наш мир наполнится чужими людьми. Они будут говорить, петь и кричать железными голосами, подобными грому с неба».
— «Ровно через 200 лет, в наш весенний месяц, на земле будет праздник Бога и ангелы Его запоют: „Ты снова с нами, здесь!“ Но голоса ангелов, несущих миру белую радость, заглушат громоподобные крики железных…»
— «Ровно через 200 лет над миром соберется страшная туча, которая погасит на время солнце и повиснет над Парижем тяжелой угрозой.
Я не вижу короля, его нет с нами. И народ один, без солнца и короля, но с именем Франции на знамени, разгонит тучу, пришедшую с востока, и зальет кровью детей своих землю насквозь…
В этой крови задохнется он, последний сын железных и чужих. Пусть мое сердце оживет тогда и забьется в могиле, как живое. Я его видел…»
Книга эта попала ко двору. Автор был схвачен и брошен в тюрьму, где он и умер спустя несколько дней после ареста.
Франция того времени знала немало жертв придворной мнительности, и судьба Фредерика Бедного, написавшего книгу, содержание которой представлялось никому не интересным бредом, мало кого занимала. Его забыли.
Но 200 лет — срок, указанный в рукописи — миновало. И мы, современники, невольно пригоняем пророчества «волшебника» к событиям наших дней. И находим странную связь.
В «весенний месяц на земле будет праздник Бога» — Пасха. И ангелы запоют о воскресенье. Но их голоса заглушат «громоподобные крики железных» — орудия, которые «говорят, поют и кричат железными голосами».
И кровь детей, залившая землю, и туча, собравшаяся над миром, и отсутствие короля Франции, и угроза Парижу с востока — все легко и просто расшифровывается. Остается ждать, чтобы «в крови задохся он, последний сын железных и чужих». И тогда мертвое сердце «волшебника» забьется в могиле, как живое…
Будем ждать.
Аноним ПРИПОДНЯТАЯ ЗАВЕСА Предсказания о войне
Настоящая война за много десятилетий и даже столетий была предсказана монахами, учеными и писателями. Ниже мы приводим цитаты из этих предсказаний, так же, как и предсказания писателей современных, приподнимающая завесу над будущим Европы.
В 1723 году в Пруссии была опубликована рукопись монаха Германа, написанная в 1240 году. Предсказания эти были написаны в ста латинских гекзаметрах и обнимали всю историю Пруссии.
Современное положение Германии усматривают в следующих стихах:
«Наконец скипетр в руках того, который будет последним в этом списке королей. Тогда пастырь обретает свое стадо, а Германия своих королей. Вполне утешившаяся от своих долгих бедствий Марна сожмет в объятиях своих освобожденных от чужеземного ига детей… Воссияет в прежнем блеске духовенство, и овцы не будут больше опасаться зубов — хищного волка».
В старинной книге «Вертоград Струйный» находится такое предсказание:
«Вот что сказано в дневнике отошедшего к праотцам протоиерея Даниила, найденном недавно в подвале храма, в коем он священствовал:
Сколь превратна судьба не только людей, но и царств, всю свою долгую жизнь наблюдал я Божьи планеты и дошел до некоторой степени знанья. Многое сокровенное стало мне открытым…
Галицийская земля искони наследие Московской Руси. Червонная Русь, хотя и стоит сейчас под цесарским скипетром, но придет время, когда она снова воссоединится с своей кровной матерью Россией. Это будет еще не скоро, а все же точно непреложным течением звезд установлено и приметы указаны. Годом воссоединения обозначено то время, когда честный праздник Сретения Господня вместо второго числа фебруария будет праздноваться накануне того дня, а Пасха Господня красная произойдет раньше раннего. Пятьсот лет этого не происходило, и после семь веков прейдут до нового дня такого празднества. Что сие верно и Божьим знамением предопределено, в том обещаюсь я своим иерейским словом и подписуюсь…»
Подобное же предсказание было помещено в одном из духовных журналов за 50-ые годы.
«Из предвидений и изречений отцов и пастырей церкви:
В лето, когда богоносный старец Симеон восприимет на длани свои Предвечного младенца, в преддверие честного праздника, Сретение Господне, а не в самый оный праздник и вруце лета наикратче от дня Святой Пасхи отстоять будет, большие кровопролитные войны обозначатся, сотрясение и падение некиих царств случится, а затем мир на земле на долгое время водворится.
Сие предвидение поведал своим ученикам и ближним честной авва Павел».
За шесть лет до настоящей войны австрийский офицер написал книгу «Quo vadis Австрия», в которой говорит:
«Я вижу пламя на севере, юге, востоке и западе.
Тучи извергают противников, бросающихся на спящую Австрию. И цель их — древний город на Дунае с золотым собором Стефана.
И каждый берет себе часть добычи. Габсбурги же уходят с плачем на чужбину. Таков колец гордого Илиона.
…Много воды еще утечет в Неве ранее, чем священнороссийское государство исчерпает до конца свои огромные людские средства и сможет ими целиком воспользоваться для армии. Но когда наступит это время, Россия окажется в состоянии наводнить Европу бесчисленным количеством батальонов.
Недалеко то время, когда произойдут серьезные события. Сербы соединятся с кроатами и осуществят свои мечты о величии и самостоятельности. Исход этот неизбежен. Может быть, сербы правы, предсказывая нам судьбу Турции, на которую мы так похожи».
Японский генерал Ноги предсказал следующее:
«Я думаю, что мир будет свидетелем великих и ужасных войн. Первая война будет происходить в Европе и ею будет разрешен франко-германский спор и англо-германское соперничество. Столкновение между Францией и Германией решится на равнинах Бельгии. Результат, по моему, не сомнителен: французы разобьют немцев на суше, а англичане — на море. Эта война будет последней войной в Европе. Цивилизованные государства выйдут из этого кризиса настолько истощенными и напуганными, что для них явится необходимым образование коалиции, которая предотвращала бы какие бы то ни было дальнейшие войны. Вторая война будет между Японией и Соединенными Штатами…»
Знаменитый генерал М. Д. Скобелев, в 1882 г., произнес славянской депутации в Париже свою пророческую речь в таких выражениях:
«…Мы не хозяева в собственном доме. Да, чужеземец у нас везде. Рука его проглядывает во всем… Мы игрушки его политики, жертва его интриг, рабы его силы… Его бесчисленные и роковые влияния до такой степени господствуют над нами, что если, как я надеюсь, нам удастся когда-нибудь от них избавиться, то не иначе, как с мечом в руках… И если вы пожелаете узнать от меня, кто этот чужеземец, этот пролаз, этот интриган, этот столь опасный враг русских и славян, то я вам его назову, вы его все знаете — это немец. Повторяю вам и прошу не забывать: наш враг немец. Борьба между славянами и тевтонами неизбежна… Она даже близка… Это будет продолжительная, кровопролитная, страшная борьба; но что касается меня, то я убежден, что в конце концов победят славяне… Могу вас уверить, что, если попробуют тронуть государства, признанные европейскими договорами, хотя б Сербию и Черногорию… О, тогда не вы одни будете драться!».
Как мы видим, пророчество М. Д. Скобелева подтвердилось — Сербия борется не одна.
Валерий Брюсов ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМА О СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ
I
Имя Нострадама или Нострадамуса знакомо, вероятно, всем читателям хотя бы потому, что в 1-й сцене «Фауста» Гете упоминается —
geheimnisvolle Buch Von Nostradamus eigner Hand[15].Большинству известно также, что Нострадам был ученый XVI века, прославившийся своими предсказаниями, из которых некоторые сбылись еще при его жизни. Напротив, вряд ли многие знают, что пророчества Нострадама шли гораздо далее его эпохи, — по скромному его признанию, не более и не менее, как до конца мира, до дня Страшного Суда, — и что иные из них, судя по всему, имеют в виду именно наше время: великую европейскую войну, развивающуюся пред нашими глазами.
Не будем поднимать вопроса, возможно ли, вообще, предвидеть будущее, тем более вперед на несколько столетий. Напомним только, что в биографиях знаменитых прорицателей древнего и нового миров Нострадама, Сведенборга, Аполлония Тианского, Блэка и др. сохранились примеры предвидений, оправдавшихся с поразительной точностью. И, как бы мы ни объясняли эти факты, — еще неисследованной способностью человеческого духа, случайными совпадениями или искусной мистификацией, — не лишены своего интереса предсказания такого авторитета в «пророческом деле», как Нострадам, о таких близких нам событиях, как современная война.
Прежде всего, надо отметить, что Михаил Нострадам Салонский (он жил и погребен в городке Salon de Craux) вовсе не был предсказателем или гадальщиком по профессии. Он родился (14-го декабря 1503 года в Сен-Реми, в Провансе) в очень интеллигентной семье; его дед по отцу был видным математиком, дед по матери — придворным медиком, отец — нотариусом (звание в ту эпоху более значительное, чем теперь). Нострадам учился в Авиньоне, потом слушал лекции в университете в Монпелье, занимался специально медициной и получил степень доктора. С предсказаниями он стал выступать только в 40-х годах, и свое основное сочинение решился издать только в 1555 году. После того, как некоторые из пророчеств сбылись, Нострадам приобрел широкую известность во всей Европе; к нему стали обращаться за советами и частные лица, и государи; короли Генрих II и Карл IX ласкали его, и последний дал ему звание лейб-медика. Нострадам, однако, отказался от жизни при дворе, в Париже, предпочитая свой провансальский городок Салон, где и скончался 2-го июля 1566 года.
Главное сочинение Нострадама озаглавлено: «Les Prophéties de М. Michel Nostradamus» (т. e. «Пророчества»), но за ним утвердилось название «Центурии», «Сотни» (les Centuries), потому что оно разделено на 10 частей, из которых каждая состоит из ста четверостиший. К десяти «Сотням» (из коих VII неполная) присоединяются посвящения, также содержащие пророчества, особые «Предвещания», 58 шестистиший и т. п. Первое издание «Центурий» в Лионе в 1555 г., второе (обычная в ту эпоху контрафакция) — в Авиньоне, в 1556 г. До наших дней не дошло ни одного экземпляра этих двух изданий. Поэтому за editio princeps считается то, которое вышло в 1558 г. в Лионе у издателя Pierre Rigand, и экземпляры которого имеются в Парижской Национальной и др. публичных библиотеках. После того до нашего времени библиографы насчитывают около 100 изданий «Пророчеств». Велико также число комментариев к ним: они начали появляться тотчас после издания самого сочинения и постоянно пополняются новыми. Последними по времени были: Э. Бареста (1840 г.), А. Ле-Пеллетье (1867 г.) и Шарля Никулло (1914 г.). Из книги Никулло (Charles Nicoullaud «Nostradamus», Librairie academique Perrin et C-ie, Paris, 1914) мы и заимствуем большинство сообщаемых нами фактов.
Необходимость в комментариях объясняется трудностью «Центурий» для понимания. Написаны они рифмованными стихами, по-французски, конечно, на языке своего времени, для нас чувствительно устаревшем, но вдобавок с крайним пренебрежением к правилам грамматики. Нострадам произвольно изменяет слова (употребляет, например, много латинских слов во французской форме: pugne — pugna, nave — navus, translaté — translatum, etc.), расставляет их сообразно со своими особыми целями, нисколько не считаясь с требованиями синтаксиса, а главное — постоянно делает самые смелые эллипсы, опуская не только союзы и предлоги, но зачастую и глаголы и предоставляя читателю угадывать взаимоотношение между поставленным рядом существительными.
Кроме того, Нострадам охотно пользуется анаграммами, т. е. словами, составленными из тех же букв, как те, которые, действительно, имеются в виду. Наконец, расположены четверостишия не в хронологическом порядке, а можно сказать, без всякого порядка, словно кто-то нарочно перетасовал их или словно ветер спутал порядок отдельных листков, как случилось, по рассказу Вергилия, с пророчествами Сибиллы Кумской.
К этому надо добавить, что предсказания Нострадама выражены не в форме отвлеченных суждений, а образно, что еще затрудняет их понимание. Такая форма, впрочем, естественна для интуитивных угадываний, в которых должна проявляться деятельность не рассудка, мысли, а особой способности, близкой к творческой. Если когда-нибудь будет разработана психология предвидения, найдут, вероятно, что она родственна психологии сновидений, в которых, как известно, все мысли также обращаются в образы. Шиллер верно отметил эту особенность предчувствий, когда заставил свою Кассандру так пророчить о близкой смерти своего жениха:
Вижу, грозно между нами Тень стигийская стоит[16].Понятно, что трудность понимания «Центурий» отвращала от них читателей. Кроме того, лишь незначительная часть предсказаний Нострадама относилась к его эпохе; большинство имело к виду события грядущих столетий. Современники Нострадама могли видеть исполнение лишь малой части из его пророчеств, и это, естественно, подрывало веру в них. Многие в XVI в. смотрели на «Центурии», как на рифмованный вздор. До нас дошло немало эпиграмм, заменявших в то время журнальную критику, в которых жестоко высмеивался «Салонский пророк». Наиболее известная, приписываемая Жоделлю, основана на игре латинских слов: Nostradamus — имя, и nostra damus — наше даем, т. е. даем свойственное нам:
Nostra damus, cum falsa damus, nam falleree nostrum est; Et, cum falsa damus, nil nisi nostra damus.Читая «nostra damus» в два слова, получаем общую сентенцию:
Наше даем, если ложь говорит, ибо свойственно лгать нам; И, если ложь говорит, именно наше даем.Читая «Nostradamus», как собственное имя, получаем злую эпиграмму:
Мы — Нострадам, если ложь говорит, ибо свойственно лгать нам; И, если ложь говорит, именно мы — Нострадам.II
Однако, ошибочно думать, что предсказания Нострадама вообще так темны и неопределенны, что в них ничего нельзя понять или, вернее, что в них можно вычитать все, что угодно, чем и объясняется мнимое исполнение пророчеств. Если освоиться с языком Нострадама и его приемами изложения, окажется, что четверостишия «Центурий» содержат немало указаний совершенно определенных. В них не только описываются события, которые должны произойти, но иногда указываются даты (не только год, но даже месяц), называются местности и города, приводятся даже имена исторических деятелей, которые должны были родиться спустя столетия после опубликования «Центурий». Полнее всего в «Центуриях» изображена история Франции, родной Нострадаму страны; на втором месте стоят Англия и Италия; события в других европейских странах упоминаются лишь мимоходом, большей частью в связи с историей Франции.
При жизни Нострадама наиболее поразило современников его предсказание о смерти королей Генриха II и Генриха III. Относящееся к ним четверостишие гласило:
Le lyon jeune le vieux surmontera, En champ bellique par singulier duelle; Dans cage d’or les yeux luy crevera, Deux classes une, puis mourir, mort cruelle.То есть: «Лев молодой старого преодолеет, на поле бит-венном в необычайном поединке, в золотой клети глаза ему выколет; (из) двух похоронных звонов (classes = glas, от лат. classicum) — (то будет) первая (une) жестокая смерть, (потому что) потом (предстоит) умереть (такой смертью двоим)».
Это было напечатано в 1555 г. или, если считать два первых издания «Центурий» апокрифическими, по меньшей мере в 1558 г. События же, на которые указывает строфа, совершились 1-го июля 1559 года. Во время празднеств в честь бракосочетания принцессы Маргариты Французской с герцогом Филибертом Эммануилом Савойским был устроен блестящий турнир, на котором граф Монгомери нечаянно ранил Генриха II копьем в глаз, через отверстие золотого шлема, и от этой раны король умер. Вторая «жестокая смерть», на которую намекает четвертый стих, — смерть брата Генриха II, Генриха III, убитого Жаком Клеманом. Второе предсказание выражено очень осторожно, но вряд ли удобно было говорить яснее о предстоявшем цареубийстве.
Позднее огромной известностью пользовалось предсказание Нострадама о славной судьбе Генриха IV.
Au chef du monde le grand Chyren sera…T. e.: «Повелителем всего света станет великий Chyren» и т. д. «Chyren» — анаграмма; переставив буквы, получаем имя Henryc, т. е. Генрих (IV). Далее в четверостишии говорится, что этот Генрих будет одними любим, другим и ненавидим, что его слава вырастет до небес и что достойным ему титулом будет один: Победоносный. Генрих IV родился в 1553 году. Когда писались «Центурии», он был младенцем. Возможно предположить, что прорицатель предсказывал блестящее будущее царственному ребенку, желая польстить его родителям… Труднее объяснить, что Нострадам точно определил год смерти Генриха IV в стихах:
Les armes en mains jusques six cents et dix. Guerres plus loin ne s’estendant sa vie.T. e.: «С оружием в руках, до 600 и 10, войне долее не продлить его жизнь». Генрих IV был убит Равайлаком 13-го мая 1610 года (44 года по смерти Нострадама).
Восторженные комментаторы «Центурий» находят, что далее в отдельных четверостишиях ясно говорится о заговоре Сен-Марса (1642 г.), о могуществе Людовика XIV, причем в четверостишии дана точная дата, 1660 г., как время, когда это могущество вполне определилось; верно изображен характер Людовика XV; описана подробно английская революция (Нострадам вообще был особенно прозорлив относительно революций), казнь Карла I (1643 т.), правление Кромвеля и т. д.; наконец, прослежена шаг за шагом великая французская революция, предречены бегство короля (причем назвал город Варен, где он был задержан), казнь его и королевы, заточение дофина, эмиграция аристократов, Нантские избиения, осада Лиона, тирания Робеспьера, и т. д., и т. д. Было бы долго пересказывать все эти предсказания, и мы остановимся только на одном примере: на изображении судьбы Наполеона I.
Впервые образ Наполеона, по мнению комментаторов, появляется в «Центуриях» в следующем четверостишии:
Un Empereur naistra près d’Italie, Qui à l’Empire sera vendu bien cher; Diront, avec quels henus il se ralie, Qu’on trouvera moins prince que boucher.T. e.: «Некий император родился близ Италии (на Корсике), который империи будет продан очень задорого (будет дорого стоить Франции); скажут (видя), с какими людьми он сближается, что найдешь (среди них) реже принца, чем мясника». Можно согласиться, что эта строфа достаточно точно характеризует Наполеона.
Далее, по толкованию комментаторов, в «Центуриях» говорится, что Наполеон «своим языком» (речами) будет соблазнять громадные армии: (Par sa langue séduira grande troupe); что «его известность еще больше возрастет в восточном царстве», т. е. в Египте (Son bruit au régné d’Orient plus croistra); что «каждый будет трепетать пред его грозной славой» (Son âpre gloire un chacum la craindra); что он будет «из простых солдат и достигнет императорской власти» (De soldat simple et parviendra en empire); что «тирания его продлится 14 лет», т. е., с 1800 г. по 1814 г. (Par quatorze ans tiendra la tyrannie), и что, наконец, «потом будет побежден, прогнан» (après sera vaincu, chassé).
Более подробное описание падения Наполеона комментаторы видят в следующих предсказаниях: «божественное наказание постигнет великого государя вскоре после того, как он сочетается браком», т. е. с Марией-Луизой (Le diven mal Surprendra le grand Prince, — un peu avant aura femma épousé); «орел (орлы Французской армии), теснимый различными знаменами, со всех сторон, будет прогнан другими птицами», т. е. знаменами союзных армий (L’aigle poussé en tout de pavillons — Par autres oyse auix d’entour sera chassé).
Далее, усматривают в «Центуриях» и описание «ста дней»: «Пленный государь (находясь) близ (земли) Италийцев (на о-ве Эльбе), побежденный, — Переедет Генуэзский залив, морем, до Марселя, (Но) великим усилием чужеземцев (т. с. союзных армий) вновь (будет) побежден». (Le captif Prince aux Itales, vaicu, — Passera Gennes par mer jusqu'à Marseille, Par grand effort des forens survaincu). Наконец, следует четверостишие, в котором находят указание на св. Елену: «Великий Государь высадится подле Ниццы, — Великая империя таким образом нанесет себе смертельный удар, — К антиполярным (т. е. к антиподам) отправит своего пленника — По морю Пилль (англичане?) и все затихнет» (Grand Roy viendra prendre port près de Nice, — Le grand Empire de la rnort si en fera, — Aux antipoles posera son genice, — Par mer la Pille, tout esvanouyra). Вычитывают также y Нострадама предсказание, что другого такого государя (как Наполеон) не родится более на земле никогда:
Naistra sur terre aucun aemulateur.Комментаторы видят в «Центуриях» и всю дальнейшую историю Франции: эпоху реставрации, Людовика XVIII, гр. Шамбора, Людовика-Филиппа, польскую революцию, вторую республику, вторую империю, франко-прусскую войну, осаду Парижа и т. д., вплоть до наших дней. Любопытно упоминание о Седане, который, будто бы, назван в анаграмме. В соответствующем месте «Центурий», где идет речь о Наполеоне III, «тени великого государя», стоят не имеющие смысла слова: «dedans lectoyre»; комментаторы переставляют буквы и получают: «Sedan le décroyt», т. е. «Седан его свергает». Кто из современников мог разгадать эту загадку, заданную в XVI в.?
Слабую сторону предсказаний Нострадама составляло до сих пор то, что исполнение их всегда констатировалось post factum. Все комментаторы оказывались неспособными угадать заранее, что именно имел в виду Салонский пророк в той или другой, еще необъясненной строфе. Только после того, как историческое событие совершалось, становилось «прешедшим», и поклонники «Центурий» с восторгом и изумлением открывали, что оно было предречено в одном из четверостиший. Так, толкователи XVIII в. не умели объяснить тех строф, в которых теперь видят подробное и ясное изложение судьбы Наполеона I, и искали в них аллегорий. Напротив, толкователи начала и середины XIX в., в том числе Э. Барест и А. Ле-Пеллетье, относили к Наполеону I строфы, которые позднее были признаны предвидениями событий 1870–1871 гг., напр., применяли ко взятию Парижа союзными войсками в 1814 г. стихи, которые считаются теперь «точным» описанием осады Парижа пруссаками в 1870 г….
В более счастливом положении находимся сейчас мы, — свидетели великой исторической трагедии, которая уже началась, но еще не закончена. Мы можем выбрать в «Центуриях» те четверостишия, которые только могут относиться к современной войне, и затем сравнивать с совершающимися событиями предсказания провидца. Это, кажется, — впервые представляющийся случай проверить фактами оракулы Нострадама, пользующиеся поныне огромным авторитетом в известных кругах (оккультистов).
III
Как мы говорили, четверостишия «Центурий» расположены не в хронологическом порядке предрекаемых событий. Но там и здесь разбросаны в строфах Нострадама указания на точные хронологические даты, позволяющие до некоторой. степени ориентироваться в эпохах, к которым предсказания относятся. Так, определенно на XX век предсказывает Салонский пророк два очень крупных события: во-первых, страшную революцию в Италии, которая по своим ужасам превзойдет великую французскую революцию (эту грядущую итальянскую революцию Нострадам называет: «la libitine» — распутница), и, во-вторых, восстановление монархии во Франции, причем будущий французский государь «явится из Бельгии» и чем-то будет напоминать Фразибула[17] (в «Центуриях» он и обозначается именем «нового Фразибула»). Оба события приурочиваются в предсказаниях, приблизительно, к одному времени, и, как важная для них дата, указывается 1921 г.
В связи с этими событиями стоит в предсказаниях пророчество о какой-то великой войне. Если не ожидать, что на протяжении 6-ти лет, остающихся до 1921 г., произойдет еще одна «великая война», надо предположить, что будущие комментаторы Нострадама (которые, несомненно, еще появятся), должны будут относить это пророчество именно к современной воине. Впоследствии, когда она так или иначе завершится, толкователи «Центурий» постараются, конечно, доказать, что в ней все, черта за чертой, соответствовало предсказаниям. Пока же мы можем, без всяких предвзятых представлений, читать в стихах Нострадама лишь то, что в них, действительно, написано. Воспользуемся таким преимуществом и посмотрим, что именно предрекал Салонский пророк о наших днях.
После строфы, в которой говорится о какой-то победоносной войне, которую будет вести Италия (за неимением лучшего, приходится видеть в этом указание на Триполитанскую экспедицию), Нострадам пишет:
Un peu après non point longue intervale, Par mer et terre sera faict grand tumulte, Beaucoup plus grande sera pugne navale, Feux, animaux, qui plus feront d’insulte.T. e.: «Немного позже, после вовсе недолгого промежутка (времени), на море и на суше произойдет великое смятение; необычайно великой будет морская битва: огни, животные, которые более не оскорбят никого». Все достаточно ясно в этой строфе, пророчащей великую войну с важным морским боем; непонятно только слово «животные», которые «более не будут оскорблять», если только не видеть в этом выражении брань по адресу немцев, предварившую современные бульварные листки.
Далее читаем:
Le grand empire chacun an devoit estre, Un sur les autres le viendra obtenir, Mais peu de temps sera son reigne et estre, Deux ans naves se pourra soustenir.T. e.: «Великая империя (Германия) должна была бы (желала бы) стать (таковой) в один из годов (chacun an); она одна (un) пойдет против ряда других (государств — sur les autres viendra), чтобы этого добиться (le obtenir); но недолгое время продлится ее царствование (или: могущество — son reigne и бытие (estre); (только) два года, при всем старании (naves, стар, слово, — старательный, усердный; лат. — navus), она может продержаться». Согласно этой строфе, европейская война продлится около двух лет; принимая во внимание, что она началась в 1914 г. и длится в 1915, предсказание близко подходит к фактам.
Следующую строфу можно отнести к Вильгельму II.
Premier en Gaule, premier en Roumanie Par mer et terre aux Anglois et Paris, Merveilleux faits par celle grand’ mesnie Violant terax perdra le Norlaris.T. e.: (Чтобы стать) «первым в Галлии (Франции) и первым в Романии (Италии), на море и на суше (он пойдет) на англичан и на Париж; изумительные деяния (будет совершены) этим потомком великих предков (mesnie, стар. Слово, — знатный род, lignée), (но) яростный вождь (violant terax), он потеряет Norlaris». В этой строфе непонятно только слово Norlaris; оно оказывается анаграммой и перестановка букв дает: Lorrains, т. е. лотарингцев, жителей Лотарингии.
Наконец, четвертое четверостишие имеет в виду судьбы Германии или Австрии:
Le grand empire sera tost translaté En lieu petit, qui bien tost viendra croistre, Lieu bien infime d’exigue comté Ou du milieu viendra poser son sceptre.То есть: «Великая империя (Германия или Австрия) будет скоро перенесена (или: превращена) в маленькое место, которое (однако) очень скоро (опять) начнет возрастать, место весьма ничтожное, скудного значения, посредине которого он (Вильгельм II?) водрузит свой скипетр». В комментариях строфа не нуждается.
Таковы четыре предсказания Нострадама о современной воине. В наши дни они кажутся довольно правдоподобными, и не было бы ничего удивительного, если бы их сделал наш современник, какая-нибудь г-жа Тэб. Мы знаем, однако, что эти стихи были уже напечатаны в XVI <в.>, когда, например, пророчество о потере в великой войне края лотарингцев, не могло иметь того смысла, какой оно приобрело через 300 лет, после 1871 г. Недалекое будущее выяснит, насколько стихи «Центурий» окажутся на этот раз в соответствии с историческими событиями. Если, действительно, мы будем свидетелями некоей «великой морской битвы», действительно, война продлится около двух лет, и Германия потеряет Лотарингию, а вдобавок оправдается пророчество о перенесении империи «в маленькое место», где и будет водружен скипетр (чему может соответствовать, например, переход гегемонии в Германской империи из рук Пруссии в руки какого-нибудь малого Германского государства), — можно будет решительно творить о странном совпадении исторических фактов с видениями провансальского медика XVI века.
Варшава.
Мих. Строев ИХ СУДЬБА! Пророчество о гибели Гогенцоллернов
Когда приближающийся конец прусской династии стал для всех ясен и понятен, то из книжных архивов начали извлекать более или менее интересные указания, что нынешние события развиваются по пути, как бы заранее начертанному ясновидцами не только недавнего, но сравнительно отдаленного прошлого.
В нижеследующем очерке автор приводит любопытные «пророчества» о нынешней германской династии.
I
В свое время предсказателями и их предсказаниями о Гогенцоллернах широкая публика интересовалась лишь отчасти, если можно так выразиться — чисто академически, как интересуются предсказаниями астрономов о будущей космической катастрофе. Будет ли и когда — неизвестно.
А тут вдруг оказывается, что катастрофа наступила. Весьма понятен интерес к вопросу:
— Кто и когда предсказывал катастрофу Гогенцоллернов?
— Насколько точны были предсказания?
— Каков характер этих предсказаний?..
II
Человечество никогда не откажется от стремления заглянуть в будущее. Безразлично, каков характер этого заглядывания: поэтический вымысел Уэльса, астрономическая фантазия Фламмариона, загадочные изречения Пифии, подозрительно точные предсказания г-жи де Тэб, гадание на кофейной гуще деревенской знахарки — психологическая сущность во всем одна и та же.
Меняются с веками методы — не меняется сущность. Современные научные методы предсказаний далеко ушли и от дельфийского оракула и от гадания на кофейной гуще. Но и сотни лет тому назад казалось, что разгадка будущего в отношении даже отдельных лиц может быть поставлена на строго научную почву: достаточно, мол, проследить соотношение звезд со днем рождения данного лица — и будущее этого лица, — судьба его может быть заранее определена.
Влиянию звезд на жизнь отдельных лиц верили самые серьезные люди и составлением своих гороскопов занимались многие из тех, именами которых заполнены страницы истории средних веков.
В кабинет астролога входили смиренно грозные властители, не раз потрясавшие тогдашний мир, делавшие судьбу Европы, и с трепетом выслушивали приговор о себе и своей династии. Вера в судьбу? В предначертание? Отчасти да, но только отчасти.
Главное — вера в то, что мир существует и развивается на основании непреложных законов существования и развития. Узнать эти законы, сообразовать свою жизнь и свои поступки соответственно с указаниями этих законов — вот основа всех попыток заглянуть в роковое будущее, начиная с дельфийского оракула и кончая современным научным предвидением.
III
Скромный основатель династии прусских Гогенцоллернов, маркграф Бранденбургский, сам по себе едва ли мог бы мечтать об императорской германской короне не только для себя, но и для своего потомства. Ведь и собственным существованием Бранденбургская марка была обязана не гению первого прусского Гогенцоллерна, Фридриха, а недальновидности польского короля Леопольда, который в борьбе с Литвой не нашел лучшего средства, как пустить между Польшей и Литвой Бранденбургского маркграфа — для защиты границ Польши от литовского племени пруссов. Но прожорливые тевтоны съели не только пруссов: их аппетит пришлось вскоре испытать на себе и самой Польше…
Однако, был человек, предсказавший и появление Гогенцоллернов в Бранденбургском маркграфстве, и будущую Пруссию, и даже современную Германию.
Такое предвидение приписывается монаху Германну, приору одного монастыря в Бранденбурге, жившему в ХII-м веке.
Предсказания Германна, — известные под названием Vaticinium Lehninense, по имена монастыря, в котором жил Германн, — имеют в виду, главным образом, судьбу монастыря и Бранденбурга, находившегося тогда еще не под властью Гогенцоллернов.
И вот, воспевая в звучных гекзаметрах судьбу родного монастыря, прозорливый монах дает целый ряд указаний, в которых комментаторы его сочинений видят ясные намеки на будущую Германию.
IV
Опустим ту часть предсказаний Германна, которая касается скучной истории: появления Гогенцоллернов в Бранденбурге (период 1415–1440 г.г.), соединения Магдебурга, Брандебурга и Пруссии под одной короной (1640–1688 гг.), появления первого короля из династии Гогенцоллернов и первого императора.
Впрочем, о последнем стоить сказать пару слов.
В отношении периода жизни Пруссии от 1797 до 1861 года в предсказаниях Германна сказано:
— В это время народ будет вздыхать в печали и унынии.
Как известно, этот период времени охватывает царство двух прусских властителей: Фридриха-Вильгельма III и Фридриха-Вильгельма IV. Первый из них имел несчастие быть противником великого Наполеона.
Второй имел еще более грозного противника: собственный народ, охваченный революционной бурей 1848 года…
Но по отношению к сыну последнего предсказатель Германн говорит:
— Он получит то, на что никогда не смел бы надеяться, ибо я вижу приближающимся то время, когда соединятся изумительные дары счастья, и сам король не будет знать размера своего нового могущества.
Предсказание это, — замечают комментаторы, — относится к императору Вильгельму I, победителю французов.
Согласно гекзаметрам монаха Германна, период времени от 1861 до 1888 г. явится вершиной блестящего развития Бранденбурга (будущей Пруссии, будущей Германской империи).
После этого Германн говорил:
— Наконец, скипетр попадет в руки того, который явится последним в списке королей…
Мы имеем перед собой, таким образом, первое предсказание относительно трагической судьбы нынешнего властителя Германии…
Но, — скажут, пожалуй, — предсказание о прекращении династии Гогенцоллернов не касается еще непосредственно судеб самой Германии.
Однако, и на этот счет у монаха Германна имеются указания, не оставляющие до своей ясности ни малейшего сомнения.
Он говорит:
— И тогда пастырь соберет свои стада, Германия — своих королей. Бранденбург, вполне утешенный за свои долголетние страдания, берет в свои объятия своих детей, освобожденных от иноземного ига. Древние стены Ленинского монастыря восстановятся.
Слова пророчества, касающиеся Германии и Бранденбурга, объясняются комментаторами так:
— Гогенцоллерны появились на троне Германской империи всего лишь в 1871 году. Говоря о соединении германских королей, монах Германн, очевидно, имеет в виду падение прусской гегемонии и восстановление прежней Германии, свободной в своем национальном развитии от владычества Берлина.
В переводе на современный политический язык это может означать только восстановление самостоятельности отдельных королевств, входящих в состав современной Германской империи.
На этом кончаются знаменитые пророчества настоятеля Ленинского монастыря, монаха Германна, жившего около восьми веков тому назад.
V
Не менее любопытны тик называемые «майнцские пророчества», названные так по вмени монастыря в окрестностях Майнца.
От предсказаний монаха Германна они отличаются прежде всего большей определенностью, охватывая значительно меньший период жизни Германии.
В отношении прошлого «майнцские пророчества» предсказали победоносную войну Германии с Австрией — в 1866 году и с Францией — в 1871 году.
Картина эта принадлежит кисти Вильгельма. Исполненная несколько лет тому назад, картина носит пророческий характер: она изображает морской бой в Гельголанде… Думал ли Вильгельм, что именно здесь разыграются события, которые раз навсегда сокрушат его династию?
К настоящему приурочивают следующие слова «майнцских пророчеств»:
— Эльзас и Лотарингия будут возвращены Франции через срок и пол срока (pour un temps et un demi-temps).
Это объясняют таким образом: со времени франко-прусской войны должно пройти «срок» 30 лет и «полсрока» 15 лет, а всего — 45 лет, и, следовательно, возвращение утерянных провинций приурочивается к (1871 + 45) 1916 году.
В одном пункте «майнцские пророчества» говорят:
— Горе тебе, народ севера, — седьмое поколение твое ответить за свои злодеяния. Горе тебе, народ востока, — ты прольешь невинную кровь и огласишь воздух криками печали. Никогда никто не увидит подобных размеров рати. Никогда никто не услышит более грозного шума.
Речь тут идет, по мнению комментаторов, — о Германии (народ севера) и Австро-Венгрии (народ востока).
О Вильгельме майнцские пророчества говорят еще более определенно:
— Вильгельм, второй по имени, будет последним королем Пруссии. Не будет никаких других наследников, кроме короля Польши, короля Ганновера и короля Саксонии.
Предсказание это по своей ясности не нуждается в комментариях.
Любопытно предсказание относительно длительности войны, которая повлечет за собою падение Гогенцоллернов.
— Три раза, — говорит майнцский прорицатель, — пройдет солнце над головами сражающихся и его не будет видно сквозь облака дыма.
Комментаторы полагают, что прорицатель имеет в виду годичный цикл солнца, т. е., что война продлится три года.
А вот предсказание его же относительно непосредственных результатов победы:
— Наконец, главный военачальник одержит победу. Два врага будут уничтожены. Остатки третьего обратятся в бегство на крайний восток…
«Два врага» — очевидно, Германия и Австрия.
Но кто третий, который побежит на восток?
До октябрьских событий на этот счет можно было всячески гадать.
Теперь участь «третьего» сама выбрала Турция…
VI
Остается еще упомянуть о предсказаниях одной гадалки, сделанных лично Вильгельму I в 1849 году, когда он еще не мог мечтать об императорской короне.
— Какова моя судьба? — спросил Вильгельм.
— Вы будете императором Германии, — ответила гадалка.
На вопрос изумленного Вильгельма:
— В котором году это случится? — гадалка ответила цифрами, расположенными в следующем порядке:
1849
1
8
4
9
---
Итог… 1871 год.
Точно так же был выведен год смерти Вильгельма I:
1871
1
8
7
1
---
1888
И, наконец, последний год существования Германской империи:
1888
1
8
8
8
---
1913
Это предсказание в свое время облетело газеты всего мира. Знают о нем и в Германия…
Как бы ни относиться к подобного рода предсказаниям, — они, во всяком случае, любопытны, как известное стремление человечества раскрыть таинственную книгу судеб.
Предсказаний всяких много, но людям свойственно запоминать только те, которые хотя бы отчасти сбываются.
И тогда интерес к возможности заглянуть в будущее еще более обостряется…
Очевидно, что-то можно угадать, предвидеть, предсказать. Размеры этого «что-то» зависят от способности предсказателя взвесить и измерить те силы «настоящего», которые творят «будущее».
Ибо все в мире управляется и совершается на основании закономерности и причинности явлений…
Аноним МИР, ЗАЛИТЫЙ КРОВЬЮ… Предсказание аббата Иоанна
В добавление к статье М. Строева «Пророчество о гибели Гогенцоллернов» («Аргус», № 21), мы приводим любопытное пророчество тарасконского аббата Иоанна, производящее глубокое впечатление. Латинский оригинал этого предсказания был найден еще в 1900 г. сыном умершего Адриена Пеладана, автора трехтомного труда «О пророчествах».
Пророчество это и тогда поразило молодого Пеладана, но он не придал ему особенного значения. С началом же настоящей войны невольно ему вспомнились пророческие «лапы леопарда» и он решил во что бы то ни стало вновь отыскать рукопись и перевести ее. По мнению Пеладана, брат Иоанн был французским монахом, жившим и написавшим свое пророчество в шестнадцатом веке.
Кайзер-Антихрист
1. Люди! Придет он и заполонит землю злом.
2. Настоящий Антихрист будет одним из монархов. Он будет проповедовать Господа и называть себя посланцем Его.
3. Он будет князем лжи и будет клясться Библией. Он будет называть себя десницей Всевышнего, карающей нечестивых…
4. У него будет только одна рука, но его бесчисленные армии, имеющие девизом «Бог за нас», будут казаться адскими легионами…
5. Долгое время он будет действовать хитростью и предательством. Его шпионы наводнят мир и он будет господином тайн многих повелителей…
6. У него будут теологи, за плату удостоверяющие его справедливость.
7. Война даст ему предлог скинуть маску.
8. Он призовет к оружию всех христиан и магометан, и даже других, очень отдаленных народов. Армии образуются во всех четырех частях света…
Слова христианина — дела дьявола
9. Тогда души людей откроются Ангелами, и через три недели люди поймут, что это антихрист и что они все станут его рабами, если вовремя не стряхнут его власть.
10. Антихрист познается по множеству дел: он будет особенно зверски истреблять священников, монахов, женщин, детей и стариков. Он не будет знать жалости. Он пройдет повсюду с горящим факелом, как это делали варвары, но с именем Христа на устах.
11. Его лукавые слова будут казаться христианскими, но его дела напомнят дела Нерона и его римских предшественников. В его гербе будет орел, как и в гербе его союзника, другого злого монарха.
12. Но этот другой будет христианином и он будет проклят Папой Бенедиктом, который будет избран незадолго до того.
13. Священники и монахи не будут исповедовать и приобщать воинов, так как сами вступят в их ряды, по словам Папы Бенедикта, который речет, что все борющиеся против Антихриста получат прощение и если погибнут, то по следам мучеников пойдут прямо в Царство Небесное.
14. Булла Папы произведет большое впечатление и будет причиной смерти союзника Антихриста.
15. Чтобы победить Антихриста, будет убито так много людей, как не слыхал даже Рим. Усилие понадобится со всех сторон, так как: петуху, леопарду и белому орлу не справиться с черным орлом, если им не помогут остальные молитвами и благожелательством.
16. Никогда еще человеколюбие не будет в такой опасности, так как победа Антихриста будет победой Демона, от которого он исходит.
17. Появится Антихрисг близко к двухсотому году и его армия превзойдет количеством то, что до сих пор воображали.
18. Между его ордами будут христиане, тогда как среди защитников Агнца будут и магометане, и дикие племена!
19. В первый раз Агнец весь покроется кровью, так как во всем христианском мире не будет места, где бы не пролилась кровь. Небо, земля, вода и даже воздух будут красны от крови, так как кровью насытится атмосфера, где встретятся четыре элемента.
20. Черный орел накинется на петуха, который потеряет много перьев, хотя и будет отважно защищаться своими шпорами. Он мог бы погибнуть, если бы ему не помог леопард с его когтями…
21. Черный орел придет из страны Лютера и настигнет петуха неожиданно, совсем с другой стороны, и займет половину его царства.
22. Белый орел, который явится с севера, настигнет черного орла и другого, и пройдет всю землю Антихриста от края до края…
Реки покроют тела
23. Черный орел, будучи силою принужден оставить петуха, чтобы вступить в борьбу с белым орлом и петух будет преследовать черного орла в его землю, где придет на помощь белому орлу.
24. Все битвы, когда-либо происходившие, покажутся ничтожными в сравнении с теми, что произойдут на земле Лютера, так как в то время семь Ангелов будут, изливать огонь с небес на землю нечестивых (образ, взятый из Апокалипсиса), ибо Агнец даст веление уничтожить род Антихриста.
25. Когда Зверь увидит, что он гибнет, его злобе не будет пределов, но его будут терзать: клюв белого орла, когти леопарда и шпоры петуха.
26. Реки покроют массы тел и некоторые потому изменят течение. Только вельможи, военные высшего ранга и принцы крови удостоятся погребения: так как к погибшим от оружия, — прибавятся еще массы, погибшие от голода и чумы.
27. Антихрист несколько раз будет просить о мире, но семь Ангелов, которые поведут за собою трех упомянутых животных, защитников Агнца, заявят, что победа состоится только тогда, когда Антихрист приникнет долу, как приникает солома во время молотьбы!
28. Исполнители суда Агнца, трое животных, не могут остановить войну, пока у Антихриста остается хотя бы часть его войска.
29. Антихрист потеряет свою корону и умрет покинутый всеми. Его царство разделится на двадцать два штата, но ни одно из них не будет иметь ни королевского дома, ни войска, ни флота.
30. Белый орел изгонит полумесяц из Европы, где останутся только христиане. Он же займет Константинополь.
91. Тогда настанет эра мира и процветания для всех без исключения… Войн больше не будет, и каждый народ будет управляться согласно с его волей и тогда воцарится справедливость.
Аббат Иоанн.
Комментарии
Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.
Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.
В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.
Б. Лазаревский. Духовидец
Впервые: Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения. 1916, декабрь.
Б. А. Лазаревский (1871–1936) — беллетрист, мемуарист. Сын историка Украины А. М. Лазаревского. По окончании юридического факультета Киевского университета (1897) служил в Севастополе, позднее во Владивостоке. С 1894 г. много печатался в периодике, до 1917 г. выпустил двумя изданиями 7-томное собр. сочинений. С 1920 г. продолжал лит. деятельность в эмиграции.
Б. Лазаревский. Обещание
Публикуется по авторскому сб. Во время войны (Пг., 1915).
Б. Лазаревский. Бегство
Публикуется по авторскому сб. Во время войны (Пг., 1915).
А. Оссендовский. Тень за окопом
Впервые: Аргус, 1915, № 1.
А. (Антоний Фердинанд) Оссендовский (1876–1945) — польско-русский писатель, ученый, журналист, путешественник и авантюрист, человек с запутанной биографией, автор ряда фантастических и приключенческих произведений на русском и десятков книг на польском языке. Получил всемирную известность благодаря беллетристическо-документальной книге И звери, и люди, и боги (1922) о гражданской войне в Сибири и Монголии и бароне Унгерне.
А. Оссендовский. Услышанные молитвы
Впервые: Лукоморье, 1915, № 41, 10 октября.
М. Криницкий. Мамышан
Впервые: Всемирная панорама. 1916, № 379/30, 22 июля.
«Марк Криницкий» — лит. имя беллетриста и драматурга М. В. Самыгина (1874–1952). Из дворян, выпускник филологического факультета Моек, университета. В студенческие годы сблизился с В. Брюсовым, в 1895 г. выпустил первый сб. рассказов В тумане. В 1897–1913 гг. преподавал русскую словесность и историю в Туле, Иваново-Вознесенске, Коломне и Рязани. До революции опубликовал множество рассказов, очерков, повестей и романов, заработав репутацию полубульварного писателя. В советские годы писал агитационные пьесы и повести; роман Брат мой Каин (1928) о революции и Гражд. войне был резко встречен критикой. В последние десятилетия жизни страдал психическим заболеванием, скончался в психоневрологич. клинике г. Горького.
В. Белов. «Кому что суждено…»
Впервые: Зеркало жизни. 1915. № 18.
В. М. Белов (ок. 1890–1930?) — беллетрист, журналист. В 1910-х гг. сотрудничал в Ниве, Солнце России, Синем журнале, Биржевых ведомостях и др. изданиях. Участник Первой мировой войны в чине подпоручика, награжден двумя Георгиевскими крестами, на основе фронтовых впечатлений опубликовал три книги. В 1920 г. нелегально перешел с семьей эстонскую границу, основал и редактировал в Ревеле газ. Свободное слово, занимая сменовеховские позиции. В 1922 г. был выдворен из Эстонии, в 1926 г. из Латвии за просоветскую деятельность. По некоторым сведениям, в 1930-х гг. был расстрелян в СССР как белогвардеец.
А. Бухов. Машина неизвестного старика
Впервые: Всемирная панорама. 1914. № 280/35, 29 августа.
А. С. Бухов (1889–1937) — беллетрист, юморист, сатирик, фельетонист, до революции сотрудник и известнейший автор журн. Сатирикон и Новый сатирикон. С 1920 г. в эмиграции, издавал и редактировал в Литве газ. Эхо (1920–1927). После возвращения в СССР в 1927 г. публиковался в советских сатирических изданиях; по собственным заявлениям на допросах, был осведомителем ОГПУ-НКВД. В 1937 г. был арестован и расстрелян «за шпионскую деятельность». Реабилитирован в 1956 г.
В. Воинов. «Странный» дневник
Впервые: Синий журнал. 1915. №№ 46–47.
В. В. Воинов (1882–1938) — поэт-сатирик, прозаик. Учился в Екатеринославском горном училище, работал на шахтах Донбасса, в 1906 г. вследствие аварии потерял кисть левой руки. Литературную карьеру начал в 1904 г. в газ. Приднепровский край, с 1909 г. в Петербурге, сотрудник журн. Сатирикон, Новый сатирикон. После революции сотрудничал в ленинградской прессе, в 1926-29. заведовал ред. журн. Пушка. Автор фельетонов, сатирических стих., литературных пародий, рассказов, романа Чертово колесо (1916).
Г. Северцев-Полилов. Человек с голубым бриллиантом
Впервые: Мир приключений. 1915. № 5, с подзаг. «Посмертный рассказ».
Г. Т. Полилов (1839–1915) — беллетрист, драматург, переводчик, очеркист, мемуарист. Выступал под псевд. Северцев, Ю. Чаев. Неудачливый предприниматель и антрепренер, подвизался как оперный певец на сценах небольших театров Италии и Венесуэлы, пробовал себя и как танцор. С конца 1880-х гг. занялся литературным творчеством, широко публиковался в периодике (в т. ч. как газетный корреспондент), выпустил до 100 книг в различных жанрах. В некоторых произведениях Северцева-Полилова встречаются мистические и фантастические мотивы.
Г. Северцев-Полилов. Под чужой личиной
Впервые: Мир приключений. 1914. № 12.
А. Барченко. «Экстренным рейсом»
Впервые: Мир приключений. 1915. № 8.
А. В. Барченко (1881–1938) — писатель, оккультист, парапсихолог-любитель, человек со многими темными пятнами в биографии. Сын елецкого нотариуса, учился в Казанском и Юрьевском университетах, в 1905-09 гг. путешествовал в качестве матроса и рабочего, в т. ч. за границей, до 1911 г. занимался хиромантией. С 1911 г. публиковал в периодике научно-популярные очерки и репортажи, напечатал фант, романы Доктор Черный и Из мрака (1913, 1914)? книгу рассказов. После революции работал в ин-те Бехтерева, в нач. 1920-х гг. проводил изыскания на Кольском п-ове, был связан с подпольными эзотерическими кружками и позднее ОГПУ; эта его деятельность окружена множеством фантастических домыслов. Был арестован в мае 1937 г., обвинен в создании контрреволюц. организации и шпионаже и расстрелян в апреле 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
В. Кохановскии. Последняя встреча
Впервые: Всемирная панорама. 1916. № 370/21, 20 мая.
B. Кохановский (?-?) — беллетрист, в 1910-х гг. публиковал рассказы в иллюстрированных журналах.
Л. Никулин. Изменник
Впервые: Синий журнал. 1914, № 38.
Л. В. Никулин (наст. фам. Олькеницкий, 1891–1967) — поэт, прозаик, драматург, журналист. Сын актера и антрепренера. Окончил коммерческое училище в Одессе, учился в Сорбонне, в Московском коммерческом институте. Дебютировал как поэт и сатирик в одесской прессе. В 1921-22 гг. был на дипломатической работе в Афганистане, в 1930-х гг. работал в редакции Правды. Во время Второй мировой войны — военный корреспондент на различных фронтах. Автор приключенческих, исторических, автобиографии. романов, пьес, сб. стихов и т. д.
Л. Гумилевский. В лесах Полесья
Впервые: Война: (прежде, теперь и потом). 1915, № 64, ноябрь.
Л. И. Гумилевский (1890–1976) — писатель, журналист. Уроженец Саратова. Дебютировал (как поэт) в 1910 г. Автор романов (в том числе вызвавшего резкую критику официальных советских кругов Собачьего переулка, 1927), рассказов, фантастической и этнографической прозы, наиболее известен своими написанными для серии «ЖЗЛ» биографиями.
Л. Гумилевский. Бред
Впервые: Женщина. 1915, № 4.
А. Грин. Железная птица
Впервые: Женщина. 1915, № 1, с подзаг. «Рождественский рассказ».
А. С. Грин (наст. фамилия Гриневский, 1880–1932) — прозаик, поэт, автор сотен стихотворений, рассказов, ряда романов, крупнейший в русской лит-ре 1900-х — 1920-х гг. представитель самых различных направлений фантастики от хоррора до неоготики и неоромантики, недооцененный писатель с испорченной советскими благоглупостями репутацией.
А. Грин. 382
Впервые: Женщина. 1915, № 3, без подписи. Авторство уст. по: Харчев В. В. Поэзия и проза Александра Грина. Горький, 1975.
Д’Альг. Черная маска
Впервые: Журнал для хозяек. 1916, № 1.
Д. Дорин. Странный случай
Впервые: Лукоморье. 1914, № 21.
И. Потапенко. Страшные грибы
Впервые: Мир приключений. 1914. № 12.
И. Н. Потапенко (1856–1929) — писатель, драматург, плодовитейший и популярнейший беллетрист 1890-1900-х гг. Получил духовное образование, учился в Новороссийском и Петербургском университетах и Петербургской консерватории. Начал активно публиковаться в 1890-е гг. и вскоре печатался во множестве журналов, выпускал по тому собрания сочинений в год. Известен как приятель А. П. Чехова, прототип Тригорина в чеховской «Чайке» и любовник Л. С. Мизиновой, а также отец ее рано умершей дочери. Несмотря на падение читательского интереса, продолжал активно публиковаться и в предреволюционные, и в 1920-е гг.
Вл. Одинокий. Легенда
Впервые: Синий журнал. 1915, № 8, с подзаг. «Очерк».
Псевдонимом «В. Одинокий» пользовался поэт и драматург В. А. Дмитриев (1872 — не ранее 1925), однако нельзя определенно утверждать, что именно он является автором этого текста.
В. Гр. Тайна Пасхи 1916 года
Впервые: Синий журнал. 1916, № 15.
А. Рославлев. Сказ об Огнерыче-змее
Впервые: Война: (прежде, теперь и потом). 1916, № 71, январь.
А. С. Рославлев (1883–1920) — поэт, прозаик, публицист, автор более двух десятков кн. (среди которых романы, сб. рассказов, поэтические сб.) и многочисленных публикаций в периодике. После революции вступил в РКП(б), редактировал в Новороссийске газ. Красное Черноморье и основал Театр политической сатиры. Скончался от тифа в Краснодаре.
А. Ремизов. Ратный поясок
Впервые: Аргус. 1917, № 5.
А. М. Ремизов (1877–1957) — выдающийся стилист, мастер «плетения словес» и сказа, оригинальный художник-график и один из наиболее склонных к фантастическому писателей Серебряного века. Выходец из московской купеческой семьи. Окончил Александровское коммерческое училище. В 1896 г., будучи студентом естественного отд. математического факультета Московского ун-та, был арестован за участие в студенческих волнениях, провел 6 лет в ссылке на Севере России. Активно печатался с 1905 г. С 1921 г. в эмиграции (Германия), с 1923 г. и до самой смерти жил в Париже.
А. Бухов. Из области суеверия
Впервые: Всемирная панорама. 1915, № 305/8, 20 февраля, под псевд. «Л. Аркадский».
Источники всех приведенных А. Буховым заговоров без труда обнаруживаются в соответствующих работах русских фольклористов XIX в.
Н. Руденко. Желтая красавица
Впервые: Огонек. 1914, № 32, 10 (23) августа.
Н. Каразин. Ангел Смерти
Публикуется по авторскому сб. Мои сказки (СПб., 1895).
H. Н. Каразин (1842–1908) — видный художник-баталист, график, иллюстратор и плодовитый писатель. Окончил 2-й Московский кадетский корпус, участвовал в подавлении польского восстания, Среднеазиатских походах, как военный корреспондент-иллюстратор — в Сербско-турецкой и Русско-турецкой войнах, в 1870-х гг. принимал также участие в научных экспедициях в Центральную Азию. В числе его многочисленных произведений, нередко рисующих жизнь в Средней Азии, встречается и короткая фантастическая проза.
Д-р Кузнецов. Война и таинственное
Впервые: Война: (прежде, теперь и потом). 1915, № 57, октябрь.
С. Бекнев. Гибель воздушного флота
Публикуется по сб. В мире новых ощущений: Рассказы (СПб., 1911).
С. А. Бекнев (ок. 1875 — после 1944) — военный и гражданский инженер. Родился в семье военного, в 1909 г. был капитаном, в 1913 г. подполковником в саперном батальоне. Автор работ по военному применению авиации.
С. Об. Воина и спиритизм
Впервые: Всемирная панорама. 1915, № 305/8, 20 февраля.
Аноним. Роковая дата
Впервые: Всемирная панорама. 1915, № 307/10, 6 марта.
Аноним. Пророчество Фредерика Бедного
Впервые: Синий журнал. 1916. № 16.
Аноним. Приподнятая завеса
Впервые: Журнал-копейка (Пг.). 1915, № 359/49, декабрь.
В. Брюсов. Предсказания Нострадама о современной воине
Впервые: Биржевые ведомости. № 14841, 14 мая (утренний вып.). Полностью статья републикуется впервые (публ. С. Шаргородского).
Вождь русского символизма, поэт, прозаик, критик, литературоведа В. Я. Брюсов (1873–1924) всю жизнь испытывал обостренный интерес к оккультизму — который считал научной дисциплиной — и, в частности, к различного рода предсказаниям и пророчествам; в нач. 1900-х гг., к примеру, эти «предсказательные» интересы вылились в увлечение гримуаром Arbatel de magia veterum, кот. Брюсов «заразил» и Вяч. Иванова.
М. Строев. Их судьба!..
Впервые: Аргус. 1914. № 21.
Аноним. Мир, залитый кровью…
Впервые: Аргус. 1914. № 22.
Так наз. «пророчество» или «предсказание» аббата Иоанна, одно из самых известных в европейской антигерманской коалиции «пророчеств» эпохи Первой мировой войны, очевидно, принадлежит перу французского писателя и видного оккультиста Ж. Пеладана (1858–1918); именно Пеладан опубликовал данный текст в Le Figaro (1914, 10, 17 сент.). Пеладан утверждал, что его отец, журналист, католический фундаменталист и оккультист А. Пеладан (1815–1890), много писавший о видениях и пророчествах, получил копию рукописи от монаха одного из монастырей близ Тараскона, каковой в свою очередь получил ее от некоего ученого аббата.
Указатель произведений, помещенных в томах I-Х антологии «Фантастика Серебряного века»
Аверченко А.
Экзекутор Бурачков V, 247
Адамович Г.
Вологодский ангел VIII, 8
Мария-Антуанетта VIII, 19
Айлев Н.
Призраки VI, 169
Ал.
Дом с чертовщиной V, 228
Александрович Н.
Интервью с чертом V, 286
Анзимиров В.
Ужасное пробуждение VI, 307
Анучин В.
Вечный скиталец IX, 77
Подземное царство IX, 72
«Чертов палец» IX, 64
Архипов Н.
Статуй V, 313
Балета
Мистическое ожерелье V, 221
Барятинский В.
Письма с Марса VII, 261
Бахметьев А.
Враг V, 130
Белецкий П.
Чертово городище IX, 130
Белов В.
«Летучий голландец» V, 194
Блюм А.
Республика «Северный полюс» VII, 323
Богданов А.
Бессмертный Фриде III, 31
Остров Мессалины III, 46
Брусянин В.
Белый волк IX, 97
Вечная могила IX, 108
Кто первый запел колыбельную песню? IX, 91
Чертова невеста IX, 116
Брюсов В.
Рассказы Маши, с реки Мологи… IX, 173
Будищев А.
Болото IV, 296
Бред зеркал IV, 279
В разгар святок IV, 306
Сон после боя IV, 66
Черный ангел IV, 289
Бунин И.
Железная шерсть X, 77
Бухов А.
Ночное унижение V, 290
О нечистой силе V, 307
Тайна смерти IV, 145
Чертова правда V, 298
В.
На Марс! VII, 272
Василевский И.
Декадентские рассказы III, 325
Вознесенский А.
Та, которую я люблю III, 7
Воинов В.
Ход больших чисел II, 36
Тайна адвоката Кука II, 21
В-ский А.
Дневник Андре VII, 241
Гарин С.
Заклятия I, 248
Горбунов А.
Тайны леса IX, 86
Гордин В.
Грустная свадьба V, 54
Двое V, 59
Страх V, 50
Городецкий С.
3974 II, 110
В замке королевы Карин VIII, 114
Геоскоп Казна II, 96
Голубая вуаль II, 145
Обещание II, 117
Портрет умирающей II, 137
Скала II, 104
Страшная усадьба II, 169
Тайная правда II, 128
Гофман В.
Осеннее умирание III, 12
Умер III, 9
Громадов П.
Черный дог VI, 135
Гусев-Оренбургский С.
Тайна старого дома II, 238
Темная сила IX, 155
Давыдов H.
Тарантас-призрак II, 211
Де Рок-Казбеков И.
Ноев ковчег VII, 231
Дембовецкий В.
Жаворонок Скифии IV, 39
Дмитриевич П.
13 VI, 148
Доганович А.
Ожившая плоть VII, 63
Дорошевич В.
Через 100 лет после смерти III, 319
Дунин А.
Леший VIII, 79
Таинственное II, 301
Тайна коллер-мейстера Брауна VIII, 48
Дымов О.
Находка III, 315
Д.-Энш Н.
Мухи V, 64
Евдокимов И.
Складень IX, 182
Ежов Н.
Голоса из могилы IV, 320
Елачич де Бужим Г.
Часы Адама бен-Адама I, 312
Емельянов-Коханский В.
В аду IX, 307
Коварная панна IX, 308
Месть IX, 302
Ночь под Ивана Купала IX, 320
Страшное наказание IX, 323
Журомская А.
Женщина из саркофага I, 28
Зайкин П.
Проклятый замок VI, 8
Зарин А.
Тайна I, 182
Термоген IV, 8
Зарин-Несвицкий Ф.
Кошмар II, 256
Ложа Хирама IV, 162
Тайна графа Девьера II, 272
Зозуля Е.
Дом доктора Катапульты VII, 16
Живой архив VII, 29
Иванов Г.
Ализэр IV, 105
Губительные покойники IV, 84
Квартира № 6 IV, 96
Пассажир в широкополой шляпе IV, 92
Приключение по дороге в Бомбей IV, 110
Трость Бирона IV, 132
Ивнев Р.
Екатерининские часы I, 297
Измайлов А.
Букинист VI, 213
Гомункул VI, 278
Досуги сатаны V, 259
Книга семи печатей VI, 202
Кто он? VI, 287
Пьяный яд VI, 264
Хиромантик VI, 235
Odor mortis VI, 250
К.
Как я был лилипутом VI, 185
Карпов Н.
«Белый генерал» IV, 36
Колдунья IX, 146
Корабль-призрак IV, 27
Таинственный аэроплан IV, 32
Карпов П.
Анархисты IX, 203
Заповедь Солнца IX, 218
Отшельник IX, 121
Киселев Н.
Видение VI, 174
Колдун I, 256
Реклама VI, 181
Спасена! I, 263
Князев В.
Нечистая сила IX, 164
Королев А.
Ужас VI, 154
Корш В.
Женщина-призрак V, 232
Крючков Д.
…Как на Руси гнус пошел IX, 239
Мураш премудрый IX, 233
Рачий царь IX, 228
Серебряные животики IX, 225
Кузмин М.
Из писем девицы Клары Вальмон… X, 8
Тень Филлиды X, 26
Лазаревский Б.
Бессмертие VIII, 257
Двойная старуха VIII, 236
Кладбище VIII, 249
Птица VIII, 266
Часы I, 283
Леман Б.
Из книги, написанной золотыми… I, 323
Обман I, 10
Преступление Уатэ 1, 19
Ленский В.
Ночь северной весны X, 278
Страшная квартира V, 112
Судьба II, 49
Эллоли X, 269
Леонидов О.
Московские масоны IV, 151
Линский А.
Кровавый костер III, 176
Лович В.
Рука королевы VIII, 97
Лукаш И.
Последние Страны Голубых III, 26
Черноокий вампир III, 21
Requiem III, 23
Льдов К.
Ретроскоп V, 40
Мазуркевич В.
Ложа правой пирамиды IV, 204
Марков Н.
Мирта и Серапион X, 26
Минцлов С.
Атлантида I,105
Последние боги I, 133
Тайна стен I, 115
Мирович А.
Ящерицы III, 14
Эльза III, 17
Мирский Б.
Заседание египетской ложи IV, 157
Легенда Таврического дворца V, 224
Мирэ
В безлунную ночь V, 13
Два гнома V, 8
Проповедник смерти V, 28
Рамбеллино V, 32
Черная пантера V, 20
Михайлов Д.
Ярчук VI, 144
Морозов Н.
В мировом пространстве VII, 90
Эры жизни VII, 77
Мурр К.
Кровавые призраки V, 239
Нагродская Е.
Воспоминания X, 246
Галера Петра Великого X, 185
Материнская любовь II, 183
Невеста Анатоля X, 188
Он X, 205
Роковая могила X, 260
Немирович-Данченко В.
Черный рыцарь VIII, 148
Фавн в Гиперборейском лесу VIII, 175
Никольская В.
Видение IV, 72
Никонов Б.
Легенда о фортепиано VI, 87
Легенда старого замка VI, 26
Лунный свет VI, 55
Страшная книга VI, 191
Обручев В.
Сказание об Атлантиде I, 89
Олигер Н.
Путешествие Нарады III, 102
Ольшанский Г.
Лесной спрут II, 7
Окунев Я.
Жители небес VII, 8
Ордынцев-Кострицкий М.
Черный маг I, 234
«Per aspera ad astra» I, 34
Оссендовский А.
Ложа Священного Алмаза IV, 241
Ночь в храме Амо-Джан-Нин IV, 257
Сочельник в старом замке VI, 19
Первухин М.
Гонимые боги 1,149
Загадка Айроло 1,162
Морская царевна 1,155
Розабелла 1,169
Таинственное ожерелье V, 212
Перельман Я.
Завтрак в невесомой кухне VII, 115
Плотников М.
Божьи олени IX, 38
Шунгур IX, 57
Потапенко И.
Китайское счастье II, 59
Тайна профессора Редько II, 79
Потапенко Н.
Комната с привидением V, 121
Пресс А.
Феи солнечного луча III, 126
Реутский Б.
Сосед VI, 124
Царица Земли VI, 118
Розенкноп М.
Ганнаккуллу VI, 103
Легенда о разбитом рояле VI, 97
Рославлев А.
Анчутка IX, 285
Дровосек IX, 266
Клопы и крысы IX, 272
Козлиные сказки IX, 288
Лапоть IX, 275
Три дуба IX, 278
Сидень-посидень IX, 282
Сказочки IX, 295
Чертова телега IX, 269
Рубакин Н.
Бомба профессора Штурмвельта VII, 287
Садовской Б.
Двойник X, 103
Ламия X, 86
Леший X, 81
Ильин день X, 92
Муха V, 58
Сазонов М.
Сердце королевы VIII, 106
Сар-Диноил
Изида III, 113
Фея вод III, 117
Свентицкий А.
О злом Вортигерне, о мудром Мерлине… VIII, 137
Сон Артура VIII, 130
Светлов В.
Ангел Смерти IV, 55
Хоровод X, 33
Северцев-Полилов Г.
Гриф II, 229
Вещее… IV, 50
Драгоценный переплет I, 197
Кровавый цветок I, 214
Роковой опал V, 200
У колдуньи I, 222
Севский В.
Игнатов бугор IX, 137
Селиванов А.
Костры на вершинах III, 180
Семенов Б.
Таинственный рулевой V, 189
Скиталец
В склепе IV, 313
Слезкин Ю.
Леший X, 72
Полудница X, 66
Сказка о наслаждении и тихом счастье X, 54
Соколов-Микитов И.
Бедовое IX, 257
Лесовое IX, 250
Соль Земли IX, 244
Соловьев Д.
Смерть шамана IX, 29
Старый Курц
Выходец V, 146
Тан-Богораз В.
Из романа «Завоевание Вселенной» III, 66
Ночной поход III, 76
Татищев Л.
Башня Сильвио V, 44
Толстой А. Н.
Портрет VIII, 199
Сатир VIII, 180
Старая башня VIII, 190
Фавн VIII, 317
Толстой Л. Л.
Необитаемая усадьба II, 220
Толстой Н. А.
Последний человек из Атлантиды I, 81
Топорков А.
Геката II,312
Трилицкий В.
Расплата V, 152
Тухолка С.
Атлантида I,74
Уманов-Каплуновский В.
Тень человека X, 178
Унковская А.
Как я увидела дом своего сна III, 168
Устругова В.
Кот посхимился IX, 263
Федоров А.
Мертвая зыбь V, 170
Призрак V, 161
Федоров Н.
Вечер в 2217 году VII, 42
Федорченко С.
Бес да инок IX, 179
Форш О.
Медведь Панфамил III, 155
Индийский мудрец III, 141
Пассифлора III, 148
Перед вратами III, 130
Франчич В.
Маленький Нгури X, 148
Портрет VIII, 209
Приключение Бермутова VII, 303
Стась-горбун X, 164
Ходасевич В.
Заговорщики VIII, 219
Иоганн Вейс и его подруга VIII, 213
Цензор Д.
Влюбленный призрак V, 102
Кошмар V, 91
Профессия господина Земба X, 310
Самоубийство V, 75
Счастливая веревка V, 81
Тайна X, 293
Удавленники VI, 160
Чапыгин H.
Кричащие часы I, 303
Числов А.
История одного интервью VII, 233
Ковер-самолет VII, 146
Опыт профессора Парсова VII, 183
Погибшее открытие VII, 122
Чулков Г.
Голос из могилы VIII, 272
Страшный плен VIII, 298
Шелговская В.
Зеркало в черной раме VIII, 37
Шиунов А.
Две императрицы VIII, 89
Шишков В.
Кедр IX, 8
Колдовской цветок IX, 16
Чары весны IX, 12
Шкарин П.
Одиночество III, 91
Энг Н.
Зеркало VI, 298
Черт Данилова V, 278
Юркун Ю.
Двойник X, III
Клуб благотворительных скелетов X, 118
Неизвестная машина X, 141
Побрякушка X, 115
Ярославец В.
Любовь к мертвой VI, 313
Ярцев В.
Из склепа могильного II, 194
Ясинский И.
Браслет последнего преступника III, 297
Лупус Сто Первый III, 221
Камень Астерикс III, 190
Финский нож III, 270
Hyacinthus
Жизнь или сон? III, 107
Примечания
1
…Нестеровская святая — Речь идет о религиозных картинах художника М. В. Нестерова (1862–1942).
(обратно)2
…Гаршиновскими «Записками рядового Иванова» — т. е. повестью В. М. Гаршина (1855–1888) Из записок рядового Иванова о походе 1877 года (1887, первая публ. под загл. Из воспоминаний рядового Иванова, 1883).
(обратно)3
…«эклерируют» — т. е. осветят, от фр. éclairer.
(обратно)4
…«Messageries Maritimes» — крупнейшее французское пароходное общество, просуществовало с 1851 до 1977 г.
(обратно)5
…русского «Добровольца» — т. е. парохода российского судоходного общества «Добровольный флот».
(обратно)6
…гибели «Лузитании» — британский трансатлантический лайнер «Лузитания» был торпедирован германской подводной лодкой 7 мая 1915 г. у берегов Ирландии, что привело к гибели 1,198 из 1,962 пассажиров и членов экипажа.
(обратно)7
Feuer! — Огонь! (нем.).
(обратно)8
…Мума и Помри — Мум (точнее, Мумм, Mumm) и Помри (Pommery) — марки шампанского.
(обратно)9
…чемоданов — «Чемодан» — в годы Первой мировой войны разговорное наименование крупнокалиберных снарядов.
(обратно)10
«Развороченные черепа»… — Имеется в виду изданный «Интуитивной Ассоциацией Эгофутуризм» во главе с И. Игнатьевым (Казанским) альманах (СПб., 1913).
(обратно)11
«А Марья стояла и стыла…» — Цит. из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный Нос» (1862–1864) с искажением имени героини («Дарья»).
(обратно)12
…Гейен-зи-цурюк… Зобальд, ви меглих! — Возвращаемся… Как можно скорее! (нем).
(обратно)13
…пани Валевской — Речь идет о польской графине Марии Валевской (1786–1817), любовнице Наполеона и матери его сына графа А. Колонна-Валевского (1810–1868), сделавшего блестящую политическую карьеру при Наполеоне III. Описанная в рассказе усадьба Валевице (изначально родовое поместье мужа Валевской) сохранилась до наших дней.
(обратно)14
…г-жа де Тэб — французская хиромантка, предсказательница Анна Викторина Савиньи (1845–1916); ее псевдоним «Madame de Thèbes» букв, означает «Фивская». Держала салон в Париже и регулярно выпускала на Рождество популярные альма-хи со своими предсказаниями событий грядущего года. «Пророчества» мадам де Тэб также широко публиковались в прессе, особенно в годы Первой мировой войны.
(обратно)15
…geheimnisvolle Buck… Hand — У Гёте букв, «таинственная книга, собственноручно написанная Нострадамусом» (нем.).
(обратно)16
Вижу, грозно между нами… — Цит. из стих. Ф. Шиллера «Кассандра» (1802) в пер. В. Жуковского.
(обратно)17
…Фразибула — Фразибул (Фрасибул) — тиран Милета в VII–VI вв. д. н. э., аристократ, захвативший власть.
(обратно)



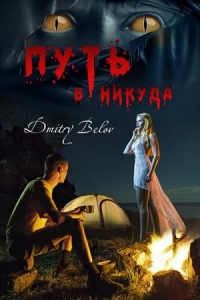
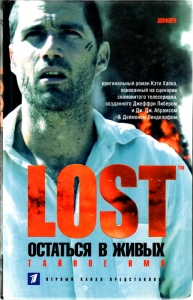

Комментарии к книге «Машина неизвестного старика», Борис Александрович Лазаревский
Всего 0 комментариев